5 ТЕОРИЯ ЭПИЧЕСКОГО ТЕАТРА
7 ПРОТИВ ТЕАТРАЛЬНОЙ РУТИНЫ
БОЛЬШЕ ХОРОШЕГО СПОРТА!1
Наша надежда основывается на спортивной публике.
Наш глаз косится — мы не скрываем этого — на огромные цементные горшки, наполненные пятнадцатью тысячами человек всех классов и всех обличий, самой умной и самой порядочной публикой в мире. Здесь вы найдете пятнадцать тысяч человек, которые платят большие деньги и получают причитающееся на основе здорового регулирования спроса и предложения. Они не могут ожидать честного поведения там, где дело идет к старости. Испорченность нашей театральной публики происходит оттого, что ни театр, ни публика не имеют представления о том, что же здесь должно происходить. Во дворцах спорта люди, покупая билет, точно знают, что им будет показано; когда они занимают свои места, там происходит то, чего, они ждали, а именно: тренированные люди приятнейшим для них образом демонстрируют свою особенную силу с тончайшим чувством ответственности и все же так, что приходится верить, будто делают они это главным образом ради собственного удовольствия. У старого же театра сегодня нет больше своего лица.
Непонятно, почему бы и театру не иметь своего «хорошего спорта». Если выстроенные для театральных целей здания, которые все равно уже стоят и пожирают арендную плату, рассматривать просто как более или менее пустующие помещения, в которых можно было бы заняться «хорошим спортом», то, несомненно, и из них можно было хоть что-нибудь выколотить для публики, которая действительно сегодня зарабатывает сегодняшние деньги и сегодня ест сегодняшнюю говядину.
8 Разумеется, могут сказать, что есть еще и такая публика, которая ждет от театра не «спорта», а чего-то другого. Однако мы просто-таки ни разу не заметили, чтобы публика, наполняющая сегодня театры, хотела хоть чего-нибудь. Косное нежелание публики отказаться от своих старых, унаследованных от дедов мест не следовало бы выдавать за свежее изъявление воли.
От нас принято требовать, чтобы мы творили не только «на потребу». Но я все же полагаю, что художник, даже если он работает на пресловутом чердаке, за закрытыми дверьми, ради будущих поколений, даже он ничего не сумеет сделать, если ветер не наполнит его парусов. И ветер этот должен быть ветром именно его времени, а не ветром будущего. Это отнюдь не объясняет, как пользоваться таким ветром (ведь известно, что при ветре можно плыть и против него, но нельзя плыть без ветра или с ветром завтрашним), и вполне вероятно, что художник будет еще далек от достижения своего максимального эффекта сегодня, хотя и поплывет под сегодняшним ветром. Было бы совершенно неверно доказывать наличие или отсутствие в той или иной пьесе контакта со своим временем одним лишь сегодняшним впечатлением от нее. С театрами же дело обстоит совсем по-другому.
Театр без публики — это нонсенс2. Следовательно, наш театр — нонсенс. Если у театра сегодня еще нет контакта с публикой, то это происходит оттого, что он не знает, чего от него хотят. Он разучился делать то, что некогда умел, но если бы и умел еще, то это уже не захотели бы смотреть. Однако театр все еще неуклонно продолжает делать то, чего уже не умеет и чего уже не хотят. Во всех этих хорошо отапливаемых, красиво освещенных, поглощающих уйму денег импозантных зданиях и во всей той чепухе, которая в них предлагается, нет ни на грош удовольствия. Ни один театр не смог бы пригласить нескольких людей, славящихся тем, что находят удовольствие в изготовлении пьес, посмотреть свои спектакли в надежде, что эти люди ощутят потребность написать пьесу для этого театра. Они тотчас увидят, что удовольствия здесь не добиться никаким путем. Здесь нет ветра в парусах. Здесь нет «хорошего спорта».
9 Возьмем, например, актера. Я не хочу сказать, будто у нас меньше талантов, чем в другие времена; но я не думаю, чтобы когда-либо были такие затравленные, используемые в преступных целях, одержимые страхом, искусственно подстегиваемые труппы актеров, как наши. А ни один человек, делающий свое дело без удовольствия, не может рассчитывать на то, что оно кому-то понравится.
Разумеется, вышестоящие сваливают все на нижестоящих, а охотнее всего нападают на безобидные чердаки. Народная ярость обращается против этих чердаков: пьесы, мол, никуда не годятся. На это можно возразить, что пьесы, если они написаны, например, просто лишь с удовольствием, уже должны быть лучше театра, их ставящего, и публики, их смотрящей. Вы просто не узнаете пьесы, если она пройдет через такую мясорубку. Если мы придем и скажем: «Мы, как публика, все представляли себе иначе; мы, например, за элегантность, легкость, сухость, конкретность», то театр наивно ответит: «Предпочитаемые вами, дорогой господин, страсти не живут ни под одним смокингом». Как будто и «отцеубийство» нельзя совершить элегантно, деловито, так сказать, классически совершенно!
Но вместо подлинного умения нам под видом интенсивности предлагают просто конвульсии.
Вы больше не в состоянии вывести на сцену особенное, то есть достопримечательное. Актером, с самого начала находящимся под властью неосознанного стремления ни в коем случае не упустить публику, овладевает такой неестественный порыв, что выглядит это так, будто поднять руку на своего отца — это самое обычное дело на свете. Но одновременно заметно, что такая игра ужасно изнуряет его. А человек, утомляющийся на сцене, если он хоть чего-нибудь стоит, утомляет и всех людей в партере.
Я не разделяю взглядов тех людей, которые жалуются, что приостановить быстрый закат Запада почти невозможно. Я думаю, что есть такая масса достопримечательных тем, достойных восхищения типов и достойных познания знаний, что, подними мы всего-навсего хороший спортивный дух, пришлось бы строить театры, если бы их не было. Однако самая большая надежда сегодняшних 10 театров — это люди, уходящие из театра после спектакля через парадный и через служебный подъезды: они уходят недовольными.
6 февраля 1926 г.
О ПОДГОТОВКЕ ЗРИТЕЛЯ
1
Одной из основ нашего восприятия искусства является мнение, будто великое искусство воздействует непосредственно, прямо, от чувства к чувству; будто оно перепрыгивает различия между людьми и, напротив, сплачивает людей тем, что, будучи само незаинтересованным, выключает и интересы наслаждающихся искусством. Поскольку в настоящее время такое воздействие уже не достигается ни с помощью старого, ни с помощью нового искусства, то либо приходят к заключению, будто великого искусства сегодня не существует (и это фактически общее мнение), либо бывают вынуждены или, скажем, считают себя вправе не предъявлять этого требования большому искусству. Что и наблюдается.
2
Большое искусство служит большим целям. Если вы хотите установить, насколько крупно какое-либо художественное произведение, то спросите: каким большим целям оно служит? У эпох без больших целей нет и большого искусства.
3
Каких целей? Духовных (поскольку их можно свести к целям материальным).
4
В нашу эпоху есть довольно много слоев людей, у которых совершенно различные цели и которые, соответственно, совершенно по-разному реагируют и духовно. Если бы сегодня вершилось большое искусство, то оно заранее могло бы быть предназначено лишь одному из 11 этих слоев; тогда оно служило бы целям этого слоя и только этот слой стал бы реагировать на него. Но при любых ли обстоятельствах станет этот слой реагировать на искусство?
5
Нет.
«МАТЕРИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ»3
1. УМИРАЕТ ЛИ ДРАМА
Если вы спросите стодвадцатилетнего старика, есть ли смысл в жизни, то он — особенно, если жил плохо, — скажет: мало.
Времена, которые возятся с таким ужасным хламом, как «художественные формы» (к тому же других времен), не смогут ничего достичь ни в драме, ни в какой-либо области искусства вообще. Поколению должно быть довольно стыдно, если к его концу возникает вопрос, окупается ли вообще такой труд, как затраченный им? И мы, обладающие все же большим и здоровым театральным аппетитом, должны признаться (и этим вызвать неудовольствие), что, например, такая дешевая и беспомощная штуковина, как гипсовый рельеф под названием «Ирод и Мариамна»4, удовлетворять нас больше не может. Но, чтобы люди более поздней даты рождения вообще отказались от театра или чтобы он вообще опротивел им, это маловероятно.
4 апреля 1926 г.
2. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
Существует большая всесторонняя заинтересованность в том, чтобы не делалось ничего вполне нового. Эта заинтересованность царит во всех тех областях у людей, которые хорошо себя чувствуют при старых порядках и при старом ходе дел. Понятно, что у тех, кто не хочет больше чего-то старого, преобладает мнение, что наихудшим выражением этого старого являются те, кого оно вполне устраивает.
12 3. МАТЕРИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
Поскольку римляне умели писать, а древние вандалы нет, то о предприятиях последних имеются исключительно римские данные. Если исходить из них, то приходишь к мнению, что эти вандалы были одержимы невероятным эстетическим фанатизмом; они выступали против определенного направления в искусстве или по меньшей мере испытывали непреодолимое отвращение ко всякому искусству вообще. Я не верю, чтобы это было так. По-моему, в худшем случае это было озорством. Однако иной раз вандалы использовали старые вещи главным образом как материал. Дерево, например, способно давать огонь, а резьбы на нем вандалы не замечали. (Такого понимания искусства, которое понадобилось, например, немцам, чтобы выбрать для обстрела Реймский собор5, у тех людей наверняка не было.) Этим я хочу сказать, что вандалы относились к древнему культурному достоянию просто дерзко. Пусть в более высоком смысле это говорит не в нашу пользу (с высоких позиций мы вообще поначалу Предстаем в неприглядном свете), что мы оцениваем вандализм не с эстетической точки зрения, а просто хотим извлечь из него урок. Он таков: до материальной ценности вещи без дерзости не добраться.
Но объяснимся же, наконец, и останемся несимпатичными! Недавно я в двух словах разделался с монументальным произведением Геббеля «Ирод и Мариамна» и причислил его к старому хламу (само собой разумеется, старый хлам обладает для меня большой притягательной силой; разобранные, наполовину сломанные дрожки мне много милее, поскольку они являются материалом).
Непосредственно вслед за этим в одном литературном журнале кто-то в достойной форме выдвинул против Геббеля тщательно подобранные литературные аргументы. Я хотел бы подчеркнуть, что происходило это самым серьезным образом и что этого человека следовало бы расстрелять. Я сам давным-давно собирался поставить «Ирода и Мариамну». Само собой разумеется, что при этом я имел в виду только ее чисто материальную ценность, то есть, скажем, грубую канву действия, правда, вероятно, без последнего акта. Дерзость моя исходила 13 из следующей моей позитивной установки. Совершенно безразлично и ни для кого не имеет значения, если в ближайшие пятьдесят лет будет господствовать другая точка зрения на безразличного всем Фридриха Геббеля, чем в предыдущие пятьдесят лет. Зато крайне важно, что какая-то вредная почтительность, какой-то бесцеремонно грубый пиетет публики мешают использовать материальную ценность его сделанных уже однажды работ. Например, в пьесе «Валленштейн» — чтобы не пройти, не задев за живое и некоторых еще не задетых мною читателей — помимо ее музейной пригодности, есть еще отнюдь не малая материальная ценность; в ней недурно организован исторический сюжет, а если правильно сократить большие куски текста и придать им другой смысл, то в конце концов и «Валленштейн» окажется пригодным. То же самое с «Фаустом». Как же строить репертуар, если такие вещи уничтожаются с помощью аргументов и отклоняются в целом? С другой стороны, как мы дошли до того, что эти написанные для других театров и обороняемые не известными нам аргументами, но явно талантливые памятники прежних взглядов на искусство мы принимаем как кота в мешке, попросту снимая с себя всякую ответственность перед своими современниками?
4
Впрочем, буржуазия, которая взяла на себя столь разносторонние обязательства, что, как правило, нужно обладать очень верной хваткой, чтобы уловить соответствующие ее делам взгляды, на практике всегда прикрывала вандализм. Предводителем сегодняшнего вандализма на театре является превозносимый прессой режиссер Л. Йесснер6. С помощью хорошо продуманных ампутаций и эффектных комбинаций многих сцен он придает новый смысл классическим произведениям или по крайней мере их частям, старое содержание которых театр уже не доносит. Значит, при этом он использует материальную ценность пьес. Вопрос собственности, который у буржуазии — даже в делах духовных — играет большую (крайне комическую) роль, в упомянутом случае регулируется тем, что пьеса с помощью генетивус поссесивус7 приписывается тому, кто в возмещение эпитета 14 «смелый» взвалил на себя ответственность. Так «Фауст» Гете превращается в «Фауста» Йесснера, а это в моральном отношении приблизительно соответствует литературному плагиату. Ведь если не хотят допустить даже возможности использования в постановках лучших немецких театров отрывков из наших классиков на манер плагиата, то, естественно, нельзя допускать и вырубку органических частей произведений, поскольку если рассматривать по-буржуазному — это хищение, независимо от того, используются ли вырубленные или сохранившиеся части. Такое не вызывающее опасений практическое применение нового, коллективистского понятия собственности — одно из немногих, но решающих преимуществ буржуазного театра перед литературой. (О бесспорных заслугах нескольких писателей на ниве плагиата я лучше поговорю тогда, когда мои собственные заслуги станут несколько значительнее.)
О «НАРОДНОМ ТЕАТРЕ»8
1
Если поговорить с человеком из «Народного театра», то прежде всего услышишь о стольких-то тысячах членов, о стольких-то представлениях такого-то произведения, и при этом он полагает, что этим уже что-то сделано. Все это оправданием служить не может. «Народный театр» никогда не начинал. А должен был бы начать. Он всего лишь продолжал старый, отставший театр на другой лад и стал сегодня не чем иным, как бесполезным распределителем театральных билетов между своими членами, зависящими от милости и немилости какой-то комиссии. А что может сделать какая-то комиссия? Ничего! Если бы «Народный театр» захотел сегодня что-то предпринять, начать заново, то мог бы, например, создать театральную лабораторию, в которой актеры, авторы и режиссеры работали бы так, как это доставляет им удовольствие, без определенного намерения. А каждый захотевший туда попасть мог бы посмотреть и лабораторию и спектакли на экспериментальной сцене. Наилучшие и наиболее успешные результаты переносятся затем 15 на большую сцену. При этом «Народный театр» решительно ничем не рисковал бы. Ведь это дело обеспечено его членами. Но он ни на что не отваживается, у него нет смелости.
Июнь 1926 г.
2. ТЕНДЕНЦИЯ «НАРОДНОГО ТЕАТРА» ЧИСТОЕ ИСКУССТВО
В эти дни, в связи с большим впечатлением, произведенным одним революционным спектаклем, в «Народном театре» снова проявились тенденции чистого искусства. Правда, сам «Народный театр» имеет столько же прав на звание театра, сколько, скажем, этнографический музей. Он остается заведением Ашингера, проявлявшим, до сих пор некоторую добрую волю. Правда, одной доброй воли мало, но теперь это к тому же и злая воля. То, что господа Нестрипке и Нефт9 против революции, это совершенно понятно, но когда они хотят уверить, будто они за чистое искусство, то это неописуемо смешно. Если бы эти люди были за чистое искусство или за революцию, то не только на искусстве, но даже на революции можно было бы поставить крест. Всегда, когда наступает такое идеальное состояние, как у нас сегодня, когда на сцене недостает таланта, а в зрительном зале интереса, перед нами появляется обычный коммерческий театр с тенденцией к чистому искусству.
Говорят, что Пискатор проявил тенденцию10. А другие люди, ставившие там спектакли? Разве они не проявляли тенденции? Можно было бы спокойно сказать, что они ничего не показали, если бы не пришлось сказать, что тенденция была все же показана. Они проявили отчетливую тенденцию к оглуплению публики, к опошлению молодежи, к подавлению свободной мысли. Они уверяют, будто не представляют никакой партии? Нет, они представляют партию лентяев и дураков! А это очень мощная партия. Опираясь на кучку классиков и предводительствуемая несколькими чиновниками, она может творить, что ей заблагорассудится. Они принимают искусство за нечто такое, чему ничто повредить не может. С их точки зрения, спектакль можно исправить, если вырезать из него часть фильма (что для одного искусство, то для другого дешевка). Я очень высокого мнения о постановках 16 Пискатора. Но если бы в них содержалась одна-единственная тенденция: изгнать господ, которые управляют «Народным театром» и придерживаются мнения, будто у бобов и художественных произведений не должно быть тенденции, то одно это было бы уже свидетельством художественной воли. Однако, высказывая все это, я полагаю, что отношение «Народного театра» ко всякому живому театру не следует считать удивительным. Разумеется, «Народный театр» против искусства и против революции, а поскольку средства производства в его руках, то в своем помещении он будет легко прижимать к стенке живой театр. Но все, кто за живой театр, перестанут поддерживать «Народный театр». Большой эпический и документальный театр, которого мы ждем, не может быть создан «Народным театром» и не может быть им предотвращен.
КАК ИГРАТЬ КЛАССИКОВ СЕГОДНЯ?11
Когда в не слишком гнилую эпоху загнивает какое-то не слишком гнилое дело, то все находящиеся при этом живые люди считают своей обязанностью способствовать еще большему загниванию, дабы как можно скорее это дело похоронить. Действительно, сегодня наиболее жизнелюбивые люди, имеющие дело с театром, в своей деятельности ограничиваются почти исключительно тем, что портят театр. Я думаю, если начнут разыскивать тех людей, которые — помимо моды — повинны в (неудержимом!) падении этого театра, то добровольно явятся с повинной все же очень немногие — кроме нас. Мы считаем себя самым выдающимся образом причастными к этому падению. Одной лишь постановкой нескольких наших пьес сделано уже многое. Целые комплексы тем дореволюционного театра, да еще целая готовая психология и почти все относящееся к мировоззрению стали для большей части актеров и меньшей части публики просто невыносимы. (После постановки «Разбойников»12 Пискатор сказал мне, что ему хотелось добиться, чтобы люди, уходя из театра, заметили, что сто пятьдесят лет13 — это не мелочь.) Не говоря уже об их саботируемой условиями загнивания творческой деятельности, благодаря которой в старом театре было пробуждено 17 чувствительно его ранившее опасное желание новых и авантюрных ходов мысли, само присутствие в зрительном зале нескольких молодых людей действовало на старый театр просто раздражающе. Видя эти несимпатичные и недовольные физиономии, выражавшие отвращение целого поколения к устаревшим мыслям, театр во время исполнения своего обычного, проверенного на успех репертуара приходил в невыразимо отрадную неуверенность, которая получала передышку в совершенно бессмысленном экспериментировании и таком сумасбродстве, которое при прежних порядках считалось бы просто непристойным. Были сделаны открытия, и я думаю, что их будут делать и впредь. Но любопытны открытия, сделанные на склоне лет. Люди, как бы зацепившись за последний сук, изобретают все больше и больше, и преимущественно пилы. Они могут выдумывать, что им заблагорассудится, но в конце концов все равно получается пила; они могут как угодно владеть собой, но их тайное желание слишком сильно, и неожиданно они замечают, что подпиливают свой собственный сук. Каждая постановка совершенно старой и, следовательно, уже бесконечное время — то есть с того момента, когда она не была еще старой — ни разу не провалившейся пьесы оказывалась смертельным прыжком, совершающимся на глазах затаившей дыхание публики. При всем этом старый классический репертуар — независимо от того, что с ним вытворяли ради хоть какого-то освежения, чем и доконали его окончательно, — оказался все же достаточно хрупким и изрядно потраченным молью. В старой его форме его поистине нельзя было отважиться предложить взрослым читателям газеты. Действительно пригодной оставалась лишь сама тема. (Известные классические пьесы, чистая материальная ценность которых недостаточна, в нашу эпоху уже невыносимы.) Однако для упорядочения и для действенности этого материала потребовались новые точки зрения. А позаимствовать их можно было только в современной продукции. С помощью политической точки зрения можно было бы какую-нибудь классическую пьесу превратить в нечто большее, чем наслаждение воспоминаниями. Есть и другие точки зрения: их можно найти в современной продукции. Говоря без обиняков, я считаю, что нет ни малейшего смысла 18 ставить пьесу Шекспира, пока театр не в состоянии производить впечатление современной продукцией. Здесь не помогут никакие обходные пути. Нечего надеяться, что из новейших пьес можно будет просто выковырять какие-то точки зрения, чтобы затем применить их к старым, пьесам; таким путем их не отыскать. Мне видится в мрачном свете будущее тех, кто хочет уклониться от жестких требований нетерпеливого времени.
25 декабря 1926 г.
ТЕАТРАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 1917 – 1927 ГОДОВ14
Сегодняшний театр — это явление чисто временное. Суждение о нем было бы уже неверным, если бы мы приписали ему хоть какое-то желание иметь дело с вещами духовными, то есть с искусством. В действительности он хочет иметь дело только с публикой, о которой у него нет четкого представления и которая состоит из людей либо теряющих наивность, едва они переступают порог театра, либо никогда ею не обладавших. И театр отчаянно пытается удержать эту публику, все дальше и дальше идя ей навстречу, что очень трудно, ибо невозможно узнать, в чем же нужно уступать этой публике, поскольку у нее вообще нет никакого аппетита. Возможно, что, кроме того, на таком пути потакания публике театр надеется отыскать и стиль. То есть стиль в данном случае означал бы своего рода навыки обращения с публикой. Если публику, играющую столь большую роль для театра, не рассматривать в классовом отношении, то как сокровищницу нового стиля ее, разумеется, следует отклонить.
Я допускаю, что человек, питающий страсть к театру, сегодня не может больше относиться серьезно к старому типу посетителя театра. А чтобы дождаться нового типа, ни на мгновение нельзя забывать, что типу этому надлежит еще научиться ходить в театр, что, следовательно, соглашаться с первыми его требованиями бессмысленно, поскольку требования эти будут чистейшим недоразумением. (Правда, у негров существует новый способ использования бритвенных приборов — вешать их на шею, но такой способ не приведет к существенному улучшению бритвенных приборов.)
19 Я не верю, что утверждения некоторых новейших режиссеров, будто они предпринимают определенные изменения в классических пьесах по желанию публики, могут опровергнуть тот факт, что публика всячески стремится увидеть новейшие пьесы в как можно более старой форме. Тем не менее, обязавшись не обращать больше внимания на публику, у которой, как он установил, нет желаний, режиссер берет на себя еще одно обязательство — рассматривать старые произведения старого театра просто как материал, игнорировать их стиль, предать забвению их авторов и всем этим произведениям, созданным для других эпох, навязать стиль нашей эпохи.
Показав, что ни новым стилем, ни новыми определяющими точками зрения он не располагает, режиссер должен искать этот стиль не у себя в голове, а в драматической продукции данного времени. Он обязан постоянно обновлять свои опыты, которые должны привести к созданию большого эпического и документального театра, соответствующего нашей эпохе.
16 мая 1927 г.
НЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ ЛИ НАМ ЭСТЕТИКУ?15
Дорогой господин Икс.
Если я попросил Вас высказать суждение о драме с точки зрения социологии, то произошло это оттого, что я ожидаю от социологии ликвидации сегодняшней драмы. Как Вы сразу же поняли, социология должна была выполнить простую и радикальную функцию: она должна была привести доказательство того, что у этой драмы нет больше прав на существование, а у всего, что сегодня или в дальнейшем будет строиться на тех предпосылках, которые дали однажды возможность появиться драме, у всего этого будущего нет. У драмы — как выразилась бы социология, в оценке которой мы, надеюсь, сходимся, — нет больше социологического пространства. Ни одна другая наука, кроме Вашей, не располагает достаточной свободой мышления, всякая другая слишком заинтересована и замешана в увековечении общего уровня цивилизации нашей эпохи.
Вы не станете отдавать дань общераспространенному суеверию, будто какая-то драма собиралась удовлетворить 20 вечные человеческие аппетиты, так как в действительности она всегда пыталась удовлетворить только один вечный аппетит — смотреть драму. Вы знаете, что другие аппетиты сменяются, и знаете почему. Вы, социолог, следовательно, единственный, кто, не боясь усмотреть упадок человечества уже в отказе от одного из его аппетитов, готов подтвердить, что великие шекспировские драмы, основа нашей драмы, сегодня не производят уже впечатления. Эти шекспировские драмы предвосхитили те триста лет, за которые индивидуум развился в капиталиста, и оказались преодоленными не тем, что следует за капитализмом, а им самим. Нет смысла говорить о послешекспировской драме, поскольку она вся без исключений значительно слабее, а в Германии, из-за латинских влияний, и вовсе выродилась. Защищает ее еще только местный патриот.
Избрав социологическую точку зрения, мы сможем понять, что по части литературы мы увязли в болоте. При известных условиях мы сможем привести эстетов к признанию того, что утверждает социолог, а именно — что нынешняя драма плоха. Но нам не удастся отнять у них надежду, что ее можно исправить. (Эстету ничего не стоит признать, что такое «улучшение» драмы он может себе представить только как результат заимствования совершенно старых ремесленных приемов, «улучшенного» построения сцены в старом смысле, «улучшенного» мотивирования ради тех зрителей, которые привыкли к добрым старым мотивировкам, и т. д.) Видимо, на нашей стороне будут одни социологи, если мы скажем, что драму эту уже никогда не улучшить и что мы требуем ее ликвидировать. Социолог знает, что существуют такие ситуации, когда уже никакие улучшения не помогают. Шкала его оценок расположена не между отметками «хорошо» и «плохо», а между отметками «правильно» и «неправильно». Если драма «неправильна», он не станет ее хвалить, будь она «хороша» (или «прекрасна»), и он один останется глух к эстетическим прелестям постановки, которая неправильна. Он один знает, что в ней неправильно; он не релятивист, интересы его жизненны, ему не доставляет никакого удовольствия умение доказывать все: просто он хочет отыскать то единственное, что стоит доказывать. Он отнюдь не 21 берет на себя ответственности за все, он отвечает только за одно. Социолог — наш человек.
Даже тогда, когда из нее вытекают похвалы, эстетическая точка зрения несправедлива к новой продукции. Это доказывается беглым обзором чуть ли не всех мероприятий в пользу новой драматургии. Даже там, где критика руководствовалась и верным инстинктом, она смогла найти в эстетическом словаре лишь немного убедительных доводов в пользу своей положительной оценки и информировала публику совершенно неудовлетворительно. Но прежде всего она оставила без всяких практических указаний театр, который вдохновляла на постановку таких пьес. Так новые пьесы служили в конечном счете всегда только старому театру, отсрочивая его гибель, от которой они все же зависят. Положение новой продукции непонятно тому, кто ничего не знает об активной вражде между этим поколением и всем предшествовавшим и кто по-обывательски думает, будто и это поколение хочет всего-навсего выдвинуться и завоевать уважение. У этого поколения нет ни желания, ни возможности завоевать театр с его публикой, чтобы в этом театре и перед этой публикой исполнять улучшенные или только более современные пьесы; но у этого поколения есть обязательство и возможность завоевать театр для другой публики. Новая продукция, которую все больше и больше дает большой эпический театр, соответствующий данной социологической ситуации, понятна и по содержанию и по форме прежде всего тем, кто эту ситуацию понимает. Она не будет удовлетворять старую эстетику, она уничтожит ее.
Обязанный Вам этой надеждой, Ваш
Брехт.
2 июня 1927 г.
ЧЕЛОВЕК ЗА РЕЖИССЕРСКИМ ПУЛЬТОМ16
Та режиссура, которая у нас сейчас есть, вероятно, слишком хороша для правильных постановок хороших старых пьес. Но она наверняка недостаточна для постановки пьес новых. Разумеется, это ее задача — преподносить старые пьесы так, чтобы они казались новыми, но фактически театр сегодня довольствуется усилиями по постановке наших новых пьес на старый манер. Даже 22 лучшие из режиссеров все еще исходят из того, что для наших пьес хватит и доброго старого стиля, использованного великолепными новыми умами. Они и не думают переучиваться. А между тем перед ними стоит задача огромной трудности: повысить театр до уровня науки и исполнять репертуар перед такой публикой, которая привыкла к лучшей обстановке, где ее не решаются потчевать чистыми иллюзиями.
В самом деле, сегодня существует тип режиссера, который, ввиду несостоятельности драматической продукции, стал своими силами, то есть как придется, представлять публике такие темы, по поводу которых драматургам сказать нечего. Такой род режиссуры не может быть разборчивым в средствах: прежде всего он пользуется, естественно, несметным множеством средств. Если по этой причине он, вероятно, и не сумел бы поставить новые пьесы большого формата на действительно высоком уровне, то все же он наверняка лучше всего работает на новую драматургию. Он разжевывает темы, он избавляет средних людей от их публичного самолюбования, он тренирует зрителей и самое главное — уничтожает старый реакционный театральный стиль, который сегодня неограниченно господствует на театре в прямой связи с политической реакцией.
Январь 1928 г.
БЕСЕДА ПО КёЛЬНСКОМУ РАДИО17
Хардт18. … Почему социология?
Брехт. Дорогой господин Хардт, окажись вы сегодня в театре, где все начинается в восемь часов, то — будь это «Эдип», «Отелло», «Возчик Геншель» или «Барабаны в ночи» — примерно в половине девятого вы уже почувствуете известную нравственную угнетенность; но самое позднее в девять часов у вас появится желание непременно и тотчас же выйти на улицу. Желание это появляется не потому, что показываемое вам, скажем, не совсем хорошо, но и в том случае, если оно совершенно. Просто оно неправильно. Тем не менее практически из зала вы не выходите; ни вы, ни я и никто; да и теоретически очень трудно возразить против такого театра, поскольку вся наша эстетика, то есть все наше учение о 23 прекрасном, нам в этом совершенно не помогает. С помощью одной эстетики предпринять что-либо против существующего театра мы не можем. Чтобы ликвидировать этот театр, то есть чтобы его упразднить, убрать, сбыть с рук, уже необходимо привлечь науку, подобно тому как для ликвидации всевозможных суеверий мы также привлекали науку. Причем в нашем случае это должна быть социология, то есть учение об отношении человека к человеку, следовательно, учение о непрекрасном. Социология должна помочь вам, господин Йеринг, и нам по возможности полностью и поглубже закопать в землю все имеющееся у нас сегодня в драматургии и театре.
Йеринг19. Итак, если я вас правильно понял, вы хотите этим сказать, что так называемая современная драма по сути дела является не чем иным, как старой драмой, а поэтому с ней тоже должно быть покончено. По какой причине? Вы что же, хотите устранить все драмы, занимающиеся судьбой индивидуумов, являющиеся, следовательно, трагедиями личными? Но это бы означало, что вы не считаете пригодным и Шекспира, на котором основывается вся наша сегодняшняя драматургия. Ибо и Шекспир писал драмы индивидуума, трагедии одиночек вроде «Короля Лира», пьесы, которые просто выгоняли человека в одиночество, а в конце показывали его в трагической изоляции. Следовательно, вы оспариваете у драмы всякую вечную ценность?
Брехт. Вечную ценность! Чтобы и вечную ценность захоронить поглубже, нам также необходимо призвать на помощь только науку. Штернберг, как там обстоят дела с вечной ценностью?
Штернберг. В искусстве вечных ценностей нет. У драмы, рожденной в определенном культурном кругу, столь же мало вечных ценностей, как и у эпохи, в которую она создана и которая длится не вечно. Содержание драмы составляют конфликты людей между собой, конфликты людей в их отношениях со всякими институциями. Конфликты людей между собой — это, например, все те конфликты, которые возникают из любви мужчины к женщине. Однако конфликты эти настолько же не вечны, насколько в каждую эпоху культуры отношения мужчины и женщины коренным образом различны. Другие конфликты возникают в отношениях 24 людей ко всяким институциям, например к государству. Но и эти конфликты не вечны; они зависят от того, каков, смотря по обстоятельствам, радиус отдельно взятого человека как одиночки, каков радиус государственного насилия. И поэтому отношения государства к людям, а тем самым и людей между собой опять-таки в различные эпохи культуры абсолютно различны. В древности, когда экономика базировалась на рабстве, они были другими, а поэтому и античная драма в этом пункте для нас не вечна; в современном капиталистическом хозяйстве они иного рода, и опять-таки иными станут они, разумеется, в грядущую эпоху, которая не будет больше знать ни классов, ни классовых различий. О вечных ценностях нельзя говорить именно потому, что мы стоим на рубеже двух эпох.
Йеринг. Не могли бы вы эти общие ваши положения применить конкретно к Шекспиру?
Штернберг. Европейская драма не сделала ни одного шага дальше Шекспира. А он стоял на рубеже двух эпох. То, что мы называем «средневековьем», нашло свое отражение в Шекспире, однако у средневекового человека динамика эпохи уже нарушила установившиеся связи; индивидуум был рожден как индивидуум, как нечто неделимое, незаменимое. И таким образом шекспировская драма стала драмой средневекового человека как человека, все больше и больше открывавшего в себе индивидуума, в качестве которого он и оказывался в драматическом конфликте с подобными ему и с вышестоящими силами. В этой связи важны сюжеты, избиравшиеся Шекспиром для своих больших римских драм. Он не подарил нам ни одной драмы о великих республиканских временах Рима, когда каждое отдельное имя еще ничего не значило, когда коллективная воля просто была решающей — Senatus Роpulusque Romanus; нет, Шекспир избирал эпоху, либо предшествовавшую этой, либо следовавшую за ней. Великую мифическую эпоху, в которой отдельное лицо еще противопоставляло себя массе, как в «Кориолане», и эпоху распадавшейся империи, в экспансии которой уже был зародыш распада (и при этом она выдвигала великих одиночек) — в «Юлии Цезаре» и «Антонии и Клеопатре».
25 Брехт. Да, великие одиночки! Великие одиночки становились сюжетом, а этот сюжет создавал форму таких драм. Это была так называемая драматическая форма, а «драматическая» означает: необузданная, страстная, противоречивая, динамическая. Какой же была эта драматическая форма? Каков ее смысл? У Шекспира это отчетливо видно. На протяжении четырех актов Шекспир разрывает все человеческие связи великого одиночки — Лира, Отелло, Макбета — с семьей и государством и выгоняет его в пустошь, в полное одиночество, где он должен показать себя великим в падении. Это порождает форму вроде, скажем, «облавы на козла»20. Первая фраза трагедии существует лишь ради второй, а все фразы — ради последней. Страсть — вот что держит на ходу весь этот механизм, а смысл его — великое индивидуальное переживание. Последующие эпохи должны будут назвать эту драму драмой для людоедов и сказать, что человека пожирали сначала с удовольствием, как Третьего Ричарда, а под конец с состраданием, как возчика Геншеля, но всегда пожирали.
Штернберг. Однако Шекспир еще олицетворял героическое время драмы и вместе с этим эпоху героического переживания. Героическое прошло, а жажда переживания осталась. Чем больше приближаемся мы к XIX веку и его второй половине, тем более оформленной становится буржуазная драма; круг событий — в драме! — ограничивался в основном отношениями мужчина — женщина и женщина — мужчина. Все возможности, вытекающие из этой проблемы, и стали однажды буржуазной драмой: возвращается ли женщина к своему мужу, уходит ли к третьему, или к обоим, или ни к кому, должны ли мужчины стреляться и кто кого должен убить. Большая часть драм XIX века этим издевательством и исчерпывается. А что же происходит дальше, поскольку в действительности индивидуум как индивидуум, как индивидуальность, как неделимое и незаменимое исчезает все больше и больше, поскольку на исходе эпохи капитализма определяющим снова становится коллектив?
Йеринг. Тогда нужно распрощаться со всей техникой драмы. Неправы те люди театра и критики, которые утверждают, что для того, чтобы в Германии снова 26 прийти к драме, необходимо идти на выучку к парижским драматургам, заняться лишь шлифовкой диалога, улучшением композиции сцен, совершенствованием техники. Как будто эта манера не исчерпана давным-давно Ибсеном и французами, как будто тут вообще возможно какое-либо дальнейшее развитие. Нет, речь идет не о совершенствовании существующей ремесленной техники, не об улучшении, не о парижской школе21. В этом непонятное заблуждение, например, Газенклевера22 и его комедии «Браки заключаются на небесах». Нет, речь идет о принципиально другом виде драмы.
Брехт. Именно. О драме эпической.
Йеринг. Да, Брехт, ведь вы же развили совершенно определенную теорию, вашу теорию эпической драмы.
Брехт. Да, эта теория эпической драмы, во всяком случае, принадлежит нам. Мы попробовали также создать несколько эпических драм. Я написал в эпической технике «Что тот солдат, что этот», Броннен — «Поход на восточный полюс»23, а Флейсер24 свои ингольштадтские драмы. Однако опыты по созданию эпических драм предпринимались уже значительно раньше. Когда они начались? В эпоху великого старта науки, в прошлом столетии. Истоки натурализма были истоками эпической драмы в Европе. На других культурных орбитах — в Индии и Китае — эта более прогрессивная форма существовала еще два тысячелетия тому назад. Натуралистическая драма возникла из буржуазного романа Золя и Достоевского, романа, который опять-таки свидетельствовал о проникновении науки в область искусства. Натуралисты (Ибсен, Гауптман) пытались вывести на сцену новый материал новых романов и не нашли для этого никакой другой подходящей формы, кроме присущей самим этим романам — формы эпической. Когда же их немедленно упрекнули в недраматичности, они тотчас вместе с формой отбросили и сюжеты, так что движение вперед застопорилось, и не столько движение в область новых тем, как казалось, сколько углубление в эпическую форму.
Йеринг. Итак, вы говорите, что у эпической формы есть традиция, о которой, в общем, ничего не знают. Вы утверждаете, что все развитие литературы за пятьдесят 27 лет было устремлено в русло эпической драмы. Кто же, по-вашему, последний представитель этой тенденции развития?
Брехт. Георг Кайзер.
Йеринг. Вот это мне не совсем понятно. Именно Георг Кайзер25, как мне кажется, характерен для последней стадии развития индивидуалистической драмы, то есть драмы, которая диаметрально противоположна драме эпической. Именно Кайзер является драматургом самого короткого дыхания. В угоду стилю он растратил свои темы, а реальность обогнал стилем. Что же можно использовать из этого стиля? Стиль Кайзера — это его личный почерк, это частный стиль.
Брехт. Да, Кайзер тоже индивидуалист. Однако в его технике есть нечто такое, что не подходит к его индивидуализму и что, следовательно, годится нам. Что технический прогресс порой замечают там, где никаких других сдвигов не видно, — это случается не только в драме. Фабрика Форда, если ее рассматривать чисто технически, — организация большевистская, она не подходит буржуазному индивидууму, а скорее годится для большевистского общества. Так, Кайзер ради своей техники уже отказывается от великого шекспировского средства — внушения, которое действует как при эпилепсии, когда один эпилептик заражает эпилепсией всех к ней предрасположенных. Кайзер уже обращается к разуму.
Йеринг. Да, к разуму, но с индивидуалистическим содержанием и даже в заостренно-драматической форме, как в «С утра до полуночи». Но как вы собираетесь отсюда совершить долгий путь к эпической драме?
Штернберг. Этот путь от Кайзера к Брехту короток. Он — не продолжение, а диалектический переворот. Разум, используемый Кайзером, пока еще для противопоставления друг другу одиночных судеб, связанных драматической формой в единый круг событий, этот разум будет сознательно использован Брехтом для развенчивания индивидуума.
Брехт. Естественно, что для позиции дискутирующего наблюдателя чистая эпическая драма с ее коллективистским содержанием подходит больше.
Йеринг. Почему? Сейчас в Берлине идет активная, то есть драматическая драма «Бунт в воспитательном 28 доме» П.-М. Лампеля26. Однако эта драматическая драма вызывает примерно такое же впечатление; публика дискутирует о ней, причем не об ее эстетических ценностях, а о содержании.
Брехт. Э-э! В этой пьесе в дискуссию оказались втянутыми общественные порядки, а именно: невыносимый средневековый режим в некоторых воспитательных домах. Такие порядки должны, естественно, — будучи описаны в любой форме, — вызывать возмущение. Но Кайзер уже ушел значительно дальше. Он уже некоторое время назад сделал возможной совершенно новую позицию театральной публики, холодную позицию заинтересованного исследователя, а это и есть позиция публики эпохи науки. У Лампеля же, разумеется, и речи нет о большом, достойном распространения драматическом принципе.
Йеринг. Вы правы только в последней фразе. В остальном же вы неожиданно утверждаете, будто эпическая драма является вечным принципом, а мы же согласились с доводами господина Штернберга, что вечных принципов не бывает. Как же господин Штернберг отнесется к этому вопросу теперь?
Штернберг. Эпическая драма сможет стать независимой от своих отношений к современным событиям и этим обрести известную продолжительность существования лишь тогда, когда ее центральная позиция станет предвосхищением событий будущей истории. Подобно тому как путь от Кайзера к Брехту смог стать короче, ибо произошел диалектический переворот, эпическая драма тоже сможет обрести продолжительность существования, как только переворот экономических отношений создаст соответствующую ситуацию. Таким образом, эпическая драма, как всякая драма, зависит от развития истории.
Фрагмент
ДОЛЖНА ЛИ ДРАМА ИМЕТЬ ТЕНДЕНЦИЮ?27
Может быть, и не должна, но совершенно очевидно, что имеет. Всякая драма, имеющая не только тенденцию делать деньги, имеет и какую-то другую тенденцию. 29 Что касается прежней «драмы», то ее и тенденцией не спасти от вечного проклятия. Современная драма находится в буквальнейшем смысле слова вне дискуссии, а от будущей пока налицо, пожалуй, только тенденция.
Ноябрь 1928 г.
ПРОТИВ «ОРГАНИЧНОСТИ» СЛАВЫ, ЗА ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЮ
1
Важный вопрос при проведении экспериментов по преобразованию театра — это создание славы.
2
Капитализм развивает такие обычаи, которые, будучи порождены его способом производства или его общественным строем, призваны поддерживать или использовать капитализм, но в то же время отчасти и революционны, поскольку основаны на методах производства хотя и капиталистических, но представляющих собой ступеньку к другим, более высоким методам производства.
Поэтому эти развитые капитализмом обычаи мы должны тщательно проверять на их революционную потребительскую стоимость.
3
Как же рождается литературная или театральная слава сегодня и какой потребительской стоимостью для революционизации обладает этот обычай?
4
В литературе и театре славу распространяет критика (и издатели иллюстрированных журналов). Общественная роль сегодняшней буржуазной критики — это извещение о развлечениях. Театры покупают вечерние развлечения, а критика направляет туда публику. Впрочем, при таком обычае критика представляет отнюдь не публику, как то на первый взгляд кажется, а театр. 30 (Причем это «кажется на первый взгляд» весьма полезно.) Она выуживает публику для театра. Мы уже исследовали в другом месте, почему критика в данном случае больше защищает интересы театра, чем публики. Ответ был вкратце таков: потому что театры являются хозяйственными учреждениями с организацией, контролем, а следовательно, и с возможностями воздействия и социальными привилегиями. Тем не менее критика, разумеется, очень зависит от своей публики: она не имеет права слишком часто рекомендовать такие спектакли, которые на поверку не нравятся ее публике, иначе критика потеряет контакт с ней и перестанет быть для театра такой уж ценной. Мы видим, что имеем дело с большим и сложным хозяйственным устройством и в этом большом хозяйственном устройстве славу делают.
5
Так как мы противоречим обычному идеалистическому взгляду, может показаться, будто мы против такого способа создания славы. Это не так. Такой способ определяется нашей капиталистической системой, сначала он должен быть признан, а потом потребует только выводов. Легко понять, что в такой прочной системе, как наша, на которую влияют столь трудно контролируемые интересы, многого со старым способом создания славы — органическим — не добьешься. Действительно, для приобретения влияния личного вкуса критика теперь уже недостаточно. (Причем, конечно же, под «личным вкусом» нужно понимать знание критиком вкуса своих читателей!) Описывая театральные наслаждения, ожидающие покупателей билетов, как можно заманчивее, сочнее и аппетитнее, критик может оказать театру большие услуги, но влияния на театр он этим все же не приобретет. Если в театре есть руководитель, так же хорошо знающий вкус читателей этого критика (а значит, вкус критика), то критик берлинского Запада — как это имеет место в случае с Рейбаро — не вынесет вообще никакого суждения, а только красочным (как реклама) описанием выделит и сделает заметными отдельных художников. Богатые с критиками этого типа не считаются: они слишком несамостоятельны и 31 слишком зависимы и не могут сделать ни одного шага без публики, не теряя своей ценности для театров. Если уж публике что-то понравилось, то критик может позаботиться о том, чтобы публика и узнала об этом, но он не может подвигнуть театр на то, относительно чего театр еще не уверен, понравится ли это публике, то есть на что-то новое. (Сделай такой критик еще один только шаг, он вообще сосредоточился бы только на той части своей «критики», которая затем публикуется после отдела объявлений, и, значит, с самого начала он работает на это место газеты.) Такому роду критики тоже, конечно, соответствует слава, но слава эта возникает весьма сомнительным образом. Она результат постоянного расчета: кого или что можем мы прославить так, чтобы не только не потерять публику, но и заполучить ее? Можно ли навязать им того-то и того-то? (Причем, «он», «тот-то и тот-то» — величина переменная, а «они» — постоянная.) Таким образом возникает «органическая» слава, и органична она постольку, поскольку что-либо может быть органично в этом обществе; во всяком случае, она отвечает запросам определенного слоя читателей и зрителей, которые ищут развлечения или хотя бы культурных ценностей, и, значит, органична. В противоположность ей нам требуется для революционного искусства
6
организация славы. Что это такое?
7
Для нашей эпохи характерно, что драма должна глубоко проникать в политику: а) в политику театра, б) в политику общества.
8
а) Мы говорим о ликвидации драмы. Нет никакого смысла отпираться от этого, а лучше признать ликвидацию как факт и идти дальше.
б) «Ликвидация драмы» — это внешнее проявление столкновения сцены с драмой, поэзии с обществом. 32 «Написать драму» сегодня — или завтра — уже означает преобразовать театр и его стиль. Это будет продолжаться вплоть до полной революционизации театрального искусства.
9
Продумать, написать или поставить драму означает, кроме того, преобразовать общество, преобразовать государство, контролировать идеологию.
10
Для такой задачи органической славы (как кредита) не хватило бы, но прежде всего ее не удалось бы добыть. Для такой огромной задачи она должна быть организована.
11
Отныне вкус критика не играет роли, поскольку нельзя принимать во внимание и вкус зрителя. Ибо зрителя нужно научить, то есть изменить. И задача не в том, чтобы препарировать для новой формы и новой поэтической школы его вкус, а в том, чтобы он, зритель, сам совершенно преобразился, пересмотрел свои интересы, познал самого себя, перемонтировал себя, а это не вопрос вкуса.
12
Организованная слава — это слава организующая. Она революционна. Она создается с (почти научной) точки зрения: что идет на пользу перегруппировке? Идет ли такой взгляд актера на пользу перегруппировке (или жалованию и посещению театра)? И т. д.
13
У критики, организующей революционную славу, возникает необходимость и возможность практической работы. Ей нечего опасаться такой коррупции, которая угрожает типу кулинарного критика. Ей придется бороться 33 с коррупцией иного рода. Отныне коррупция — это содействие тем экономическим институтам, которые стимулируют реакцию, то есть недостаточное знание собственной деятельности и ее следствий. Возникает возможность «художественной ошибки», похожей на врачебную ошибку в медицине.
ОТРЕЧЕНИЕ ДРАМАТУРГА28
1. СОМЕРСЕТ МОЭМ29 И СУЛЛА30
Англичанин Сомерсет Моэм, написавший свыше тридцати пьес, многие из которых пользовались большим успехом, а некоторые шли по всему миру, заявил в предисловии к своему последнему тому пьес, что намерен навсегда распрощаться «с карьерой драматурга».
Крупные газеты восприняли и подали его заявление как сенсацию, словно это было сообщение железнодорожного магната о том, что он намерен отказаться от своего дела. «Я до конца своих дней не буду больше заниматься продажей пьес». Некоторые сентиментальные писаки даже усмотрели в этих словах решение господина Моэма похоронить себя заживо. Впрочем, поведение прессы удивляет меньше, чем поведение самого Моэма. Очень редко люди, сделавшие карьеру, заканчивают ее сами, по своей воле. Карьера стала своего рода конвейером. Он несет попавшего на него человека, хочет он этого или нет. Но человек почти всегда этого хочет.
Моэм, по-видимому, не хочет. И он вызывает такое же изумление, какое еще сегодня испытывают школьники, читая в учебниках истории о решении римского диктатора Суллы, который будто бы отказался от своего звания в полном расцвете своего могущества. Этому не перестают удивляться и в наши дни.
Все же и в драматургии встречаются подобные случаи. Величайший коллега Моэма — Вильям Шекспир на вершине своей славы целиком ушел в личную жизнь31. Этот поступок также дает повод для величайшего изумления, которое и поныне столь сильно, что некоторые исследователи, оспаривая принадлежность прославленных 34 драм перу актера и режиссера Шекспира, обосновывают свое мнение именно тем, что он внезапно перестал писать, — чего, разумеется, никогда не делают истинные писатели.
2. УТЕРЯН КОНТАКТ СО ЗРИТЕЛЕМ
Моэм констатирует: «Я чувствую, что у меня утерян контакт со зрителем, покровительствующим театру. Это случается рано или поздно с большинством драматургов, и они поступают мудро, когда внимают этому предостережению. Тогда для них самое время уйти из литературы».
Моэм продолжает: «Я делаю это с облегчением. Вот уже несколько лет, как меня все более и более тяготит необходимость удерживаться в рамках драматургических условностей».
Он говорит и о том, как тягостно противостоять искушению и отказаться от многогранного воплощения идеи, к которому манят художника большее знание людей, терпимость и, быть может, мудрость, приобретенные с годами, но которое, увы, неосуществимо из-за драматургических условностей.
Уже обычный реалистический диалог затрудняет передачу духовной сложности современного человека («of the man in the street»). Моэму недостает внутреннего монолога и реплик в сторону.
Сейчас больше и прежде всего нужна «драма души». По мнению Моэма, такое направление навязано драматургам успехами кино.
Драма стала формой искусства, в которой действие — лишь повод для раскрытия внутренней жизни изображенных на сцене людей. Происходящие на сцене всевозможные события позволяют раскрыть душевные движения героя. Впрочем, чем меньше действия, тем более ценна в литературном отношении пьеса. Детектив с его увлекательным сюжетом — не литература.
Романистам проще. Они располагают большими возможностями, и им намного легче показать противоречивость характера своих героев. Но в последнее время наступила перемена, поставившая драматургов в еще более трудное положение. Бальзак и Диккенс еще изображали 35 статичные характеры. Герои оставались почти неизменными на протяжении всего романа. В конце повествования они обладали теми же качествами, что и в начале. Более поздние романисты отошли от этого принципа. Их герои изменяются. Переживания уже не проходят для них бесследно, одни качества у них исчезают, другие появляются. Теперь уже несчастным драматургам не догнать романистов. Им не остается ничего другого, как и дальше создавать «условные иероглифы» ролей и предоставлять самим артистам облечь их в плоть и кровь.
Драматург Моэм отказывается от состязания с романистами и удаляется на покой перед лицом столь прискорбного развития событий.
3. ЗРИТЕЛЬ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ
«Зритель больше не верит в героев, которых ему предлагают», — жалуется Моэм.
Возникает вопрос: не идет ли театр к гибели?
Моэм отказывается так думать. Он достаточно умен и честен, чтобы видеть, что такое стихийно существующее явление, как театр, не может погибнуть, если одно поколение театральных драматургов и зашло в тупик. Он советует театру вернуться к своим истокам и уж, во всяком случае, к его более раннему периоду.
Он говорит: «Великие драматурги прошлого жертвовали правдой ради раскрытия характера и общим правдоподобием действия ради одной ситуации, которую они рассматривали как основу драмы». Современная более или менее натуралистическая драма в прозе отошла от этого. Отказ от стиха и танца, как и отказ от энергично развивающегося действия, сделал театр скучным. Он перестал быть пиршеством зрения и слуха.
Достичь же правдивости в изображении характера так и не удалось, или же ее долго еще не удастся добиться, что, в сущности, одно и то же, а «правдоподобие действия» само по себе не очень действует на зрителя.
Кажется, Моэм в своем пессимизме представляет себе, что драма может иметь будущее лишь при условии, если ради красочности действия и прочих пиршеств 36 слуха и зрения отныне откажутся от правды и правдоподобия.
Остается лишь сомневаться в том, что такое будущее и есть истинное будущее драмы.
4. В ЧЕМ КРОЕТСЯ ОШИБКА
Моэм видит ее в тенденциях современной драмы, что несомненно говорит о прогрессивности его взглядов. Он, так сказать, готов переступить через самого себя. Это немало, и, вероятно, было бы несправедливо требовать от него большего. Ибо нельзя согласиться, что найденный им выход столь же отраден, сколь проницателен его взгляд на ошибочность путей современного театра.
Моэм понял, что зритель ему больше не верит, и испугался этого. А выходом из такого положения явилось бы создание либо драмы, которой вообще не надо было бы верить, либо драмы, которой можно было бы поверить вновь.
По совершенно определенным причинам, рассмотрение которых здесь завело бы нас слишком далеко, мне представляется сомнительным, что в настоящий момент удастся создать драму, которой бы верили. Это не вопрос техники, стиля или точки зрения, как для современной науки — не вопрос новой логики, могут ли быть выдвинуты научные утверждения, имеющие общую значимость аксиомы. Современная наука в целом отказалась от веры. Театру, в его совершенно иной, специфической области, пожалуй, тоже придется от нее отказаться.
Очевидно, остался второй выход: драма, которой не надо верить. Разумеется, это отнюдь не должна быть неправдоподобная, абсолютно фантастическая драма, ничего общего не имеющая с правдой. Просто эта драма не должна рассчитывать только на доверие зрителя и зависеть от него. Иначе говоря, нужна драма, считающаяся с критикой своего зрителя и апеллирующая к ней.
Такого рода драма действительно возникает сейчас. Что есть действие? С этой первичной стихии драмы, всякой драмы, хотелось бы начать разбор. Известно, что уже давно в произведениях самых крупных драматургов 37 подлинное действие на сцене отсутствует. Теперь уже среда, а не отдельный человек, становится героем драмы. Человек лишь реагирует (что создает только видимость действия). В наиболее чистом виде это проявляется в натуралистических шедеврах Ибсена. В пьесах такого рода нечто происходило когда-то и где-то, а сама драма начинается лишь сейчас, раскрывая нам, как некие люди это «расхлебывают». Или же происходит то или иное событие (война, банкротство, совращение с последующей беременностью, преступление), и герои пьесы реагируют на них, справляются с ними или не справляются. Для драматурга важно лишь, чтобы душевная реакция его героя была правдоподобной, ибо иначе судьба героя не трогает зрителя. Если же у зрителя закрадывается сомнение, нельзя ли было поступить иначе, если его жизненный опыт подсказывает ему, что в действительности люди поступают по-другому, тогда власти вымысла приходит конец. И он уже никого не «захватывает».
Фрагмент
38 НА ПУТИ К СОВРЕМЕННОМУ ТЕАТРУ
ГОСПОДИНУ В ПАРТЕРЕ32
Я предполагаю, что за свои деньги вам захочется увидеть у меня кое-что о жизни. Вы захотите, чтобы в поле вашего зрения оказались люди этого столетия, главным образом выдающиеся, меры, принимаемые этими выдающимися людьми против ближних своих, их высказывания в часы опасности, их взгляды и их шутки. Вы захотите принять участие в их карьере и получить выгоду от их падения. И, конечно же, захотите получить хороший спорт. Как все люди этого времени, вы испытываете потребность испробовать в игре свои комбинаторские способности и полны решимости отпраздновать триумф своего организаторского таланта над жизнью, но в не меньшей мере и над моим изображением ее. Поэтому вы и были за пьесу «В чаще»33. Я знал, что вы хотите спокойно сидеть в зрительном зале и произносить свой приговор над миром, а также проверять свое знание людей, делая ставку на того или иного из них на сцене. Вы были обрадованы тем, что так приятно смотреть на холодный Чикаго, ибо показывать, что мир приятен, целиком входит в наши планы. Вы цените участие в некоторых бессмысленных эмоциях, будь то восторг или уныние, которые делают жизнь интересной. Короче говоря, я должен обратить внимание на то, чтобы в моем театре укреплялся ваш аппетит. Если я доведу дело до того, что у вас появится охота закурить сигару, и превзойду самого себя, добившись того, что в определенные, предусмотренные мною моменты она будет затухать, мы будем довольны друг другом. А это всегда самое главное.
25 декабря 1925 г.
39 ОПЫТ ПИСКАТОРА34
1
Если не считать принципиально важной постановки «Кориолана» Э. Энгелем35, то опыты по созданию эпического театра предпринимались только по линии драмы. (Первой из драм, строящих этот эпический театр, была драматическая биография «Ваал»36 Брехта, самой простой — «Американская молодежь» Эмиля Бурриса37, самой покамест незащищенной, поскольку принадлежит автору совершенно другого направления, — «Поход на восточный полюс» Броннена.) Но вот и театр начинает лить воду на эту мельницу: это опыт Пискатора.
Самое существенное в этом опыте заключается в следующем:
Благодаря тому что введение фильма позволяло отделить те части действия, в которых нет столкновения партнеров, звучащее слово оказалось разгруженным и становится абсолютно решающим. Зритель получает возможность самостоятельно рассматривать определенные события, создающие предпосылки для решений действующих лиц, а также возможность видеть эти события иными глазами, чем движимые ими герои. Персонажи, поскольку они больше не обязаны объективно информировать зрителя, могут высказываться свободно: их высказывания будут весомы. Кроме того, преодоление контраста между плоско сфотографированной действительностью и пластичным, произнесенным на фоне фильма словом также можно трюковым образом использовать для неограниченного подъема выразительности речи. Благодаря спокойной фотографической демонстрации подлинного фона патетическое и одновременно многозначное слово приобретает вес. Фильм прокладывает путь драме.
Благодаря фотографированию окружающей среды во всей ее широте говорящие персонажи становятся несоразмерно большими. В то время как окружающую среду приходится сжимать или расширять на одной и той же плоскости — на экране, так что Эверест, например, предстает то маленьким, то большим, персонажи постоянно остаются одного и того же роста.
40 2
В своем спектакле Энгель собрал все исходные моменты для эпического театра. Он преподнес историю о Кориолане таким образом, что каждая сцена существовала сама по себе и только результаты ее использовались для целого. В противоположность драматическому театру, где все устремляется навстречу катастрофе, то есть почти все носит вводный характер, здесь все оставалось неизменным от сцены к сцене. Опыт Пискатора окончательно разделается с прежним положением, если устранит ряд решающих недостатков. (Например, неиспользованный переход от слова к картине, который все еще очень резок, просто увеличивает число находящихся в театре зрителей на число все еще занятых на сцене, стоящих перед проекционным экраном актеров; например, обычный еще и сегодня патетический оперный стиль уничтожающе разоблачается, по-видимому, из-за недостаточной осторожности, прекрасной наивностью сфотографированных машин — технические ошибки, придающие опыту Пискатора тот аромат, без которого невозможен наивный театр.)
Использование фильма как чистого документа сфотографированной действительности, как совести, эпический театр должен еще испытать.
1926
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТРУДНОСТЯХ ЭПИЧЕСКОГО ТЕАТРА38
Театр, который всерьез пытается поставить одну из последних пьес, рискует полностью перестроиться. Публика, таким образом, спокойно наблюдает за борьбой между театром и пьесой, предприятием почти что академическим, требующим от публики, поскольку она вообще заинтересована в процессе обновления театра, только решения: победил ли театр в этой борьбе не на жизнь, а на смерть, или, наоборот, побежден. (Победителем пьес театр может сегодня выйти, пожалуй, лишь в том случае, если вообще избежит риска оказаться измененным пьесой, что ему пока почти всегда удается.) Не влияние пьесы на публику, а только ее влияние на театр — вот что покамест решает дело.
41 Такое положение будет существовать до тех пор, пока театры не выработают тот постановочный стиль, который диктуют и делают возможным наши пьесы. При этом мало найти для наших пьес некий особый стиль, вроде изобретения так называемой Мюнхенской шекспировской сцены39, пригодной лишь для Шекспира; театры должны найти такой стиль, который сделал бы всю покамест еще жизнеспособную часть репертуара по-новому действительной.
Разумеется, полная перестройка театра не должна зависеть от какого-то артистического каприза, она просто должна соответствовать полной духовной перестройке нашего времени.
Известные симптомы такой перестройки духовной жизни до сих пор рассматривались просто как симптомы болезни. В некоторой мере это справедливо, ибо сначала, конечно, обнаруживаются признаки упадка старого. Однако было бы заблуждением принимать эти признаки, например, так называемый американизм, за нечто иное, чем за болезненные изменения, которые вызваны в старом теле нашей культуры духовными влияниями поистине нового толка. И было бы заблуждением вообще не считать новые идеи идеями и вообще не рассматривать их как явления духовной жизни, противопоставляя им театр как бастион духа. Напротив, именно театр, литература, искусство должны создать «идеологическую надстройку» для эффективных реальных преобразований в современном образе жизни.
Так вот, в произведениях новой драматургии театральным стилем нашего времени провозглашается эпический театр. Изложить в нескольких словах принципы эпического театра невозможно. Они касаются — хотя подробно они по большей части еще не разработаны — актерской игры, техники сцены, литературной части театра, театральной музыки, использования кино и т. д. Существенное же в эпическом театре заключается, вероятно, в том, что он апеллирует не столько к чувству, сколько к разуму зрителя. Зритель должен не сопереживать, а спорить. При этом было бы совершенно неверно отторгать от этого театра чувство. Это означало бы то же, что отторгать сегодня чувство, например, от науки.
27 ноября 1927 г.
42 ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП — «ЭДИП»40
1
В эти годы большую драму и большой театр развивает Германия — страна, специализировавшаяся на философии. Будущее у театра — философское.
2
Это развитие протекает не прямолинейно, а отчасти диалектически, противоречиво, отчасти же параллельно, но так быстро, что много этапов пройдено за один-единственный год. Последним из них представляется «Эдип».
3
Этот сезон доказывает влияние Пискатора. С точки зрения театра Пискатор вынес на обсуждение не столько (как это считают) вопросы формы (техника театра), сколько вопросы содержания. Он пронизан ими. Средние театры набрасывались на содержание («Преступник», «Бунт», «Глина в руках гончара»). Было два исключения: «Трехгрошовая опера» и «Эдип». Здесь дважды поднимались вопросы формы.
4
Что касается заботы о содержании — тут не повезло. В этом вопросе — поскольку не хватало Пискатора — не было никакого творческого подкрепления (за исключением «Бунта», спектакля пискаторовской студии, появившегося на свет уже без отца). В этом году продвижение шло по линии большой формы. Последний этап — «Эдип».
5
Заботы о содержании и заботы о форме дополняют друг друга. С точки зрения театра успехи театральной техники являются успехами только тогда, когда 43 они служат реализации содержания; «успехи техники драмы являются успехами только тогда, когда они служат реализации содержания».
6
Относительно большой формы. Большие современные темы нужно видеть в мимической перспективе, они должны обладать жестовым характером. Они должны определяться отношениями людей или групп людей между собой. Однако существовавшая до сих пор большая форма, драматическая, для нынешних тем не подходит. Грубо говоря, для специалистов: сегодняшние темы не раскрываются в старой «большой» форме.
7
Большая форма нацелена на реализацию тем для «вечности». «Типическое» существует и во временной плоскости. Кто пользуется большой формой, тот рассказывает свое содержание грядущим временам так же хорошо или лучше, чем собственному времени.
8
Наша драматическая форма основана на том, что зритель идет в ногу с изображением, вживается в него, может его понять, отождествлять себя с ним. Грубо говоря, для специалистов: пьеса, местом действия которой была бы, скажем, пшеничная биржа, в большой драматической форме написана быть не может. Нам трудно себе представить такое время и занять такую позицию, при которой подобные порядки неестественны, а последующие поколения будут с удивлением рассматривать только эти непонятные и неестественные порядки. Следовательно, какой же должна быть наша большая форма?
9
Эпической. Она должна повествовать. Она не должна верить, что можно вжиться в наш мир, она этого и не должна желать. Темы чудовищны, наша драматургия должна это учитывать.
44 10
Относительно последнего этапа — «Эдипа». Важно: 1) большая форма. Важно: 2) техника второй части («Эдип в Колоне»), где рассказ ведется с большой театральной действенностью. То, что прежде поносилось как лирика, дает здесь театральный эффект. Если здесь и наступает «переживание», то источник его — из области философии.
1 февраля 1929 г.
О ТЕМАХ И ФОРМЕ41
1
Трудности преодолеваются не тем, что их замалчивают. На практике необходимо делать один шаг за другим, теория же обязана видеть весь путь целиком. Первый этап — это новые темы; правда, путь продолжается. Трудность заключается в том, что тяжело совершать работу первого этапа (новые темы), когда уже думаешь о втором (новые отношения людей между собой). Например, выяснение роли гелия еще не дает широкой картины мира; однако роль гелия нельзя выяснить, если голова занята чем-то другим (скажем, чем-то большим, чем гелий). Правильный путь исследования новых взаимоотношений людей проходит через исследование новых тем (брак, болезнь, деньги, война и т. д.).
2
Итак, первое — это определение новых тем, второе — воспроизведение новых отношений. Основание: искусство следует за действительностью. Пример: добыча и использование нефти — это новый комплекс тем, в котором при более внимательном рассмотрении обнаруживаются совершенно новые отношения между людьми. Наблюдается определенное поведение одиночки и массы, явно характерное для комплекса нефти. Однако не это новое поведение породило особый способ использования нефти. Первичным был комплекс нефти, а вторичным — новые отношения. Новые отношения представляют собой 45 ответы, которые дают люди на вопросы, поставленные «темой», они представляют собой решение задачи. Тема (так сказать, ситуация) развивается по определенным законам, в силу простых необходимостей, а нефть создает новые отношения. Последние, как уже сказано, вторичны.
3
Уже определение новых тематических областей стоит новой драматической и театральной формы. Можем ли мы говорить о деньгах ямбом? «Курс марки, позавчера на пятьдесят, сегодня уже на сто долларов, завтра выше и т. д.» — разве это годится? Нефть противится пяти актам пьесы, сегодняшние катастрофы протекают не прямолинейно, а в виде циклических кризисов, «герои» меняются с каждой новой фазой, они заменимы и т. д.; кривая действий усложняется неверными действиями, судьба уже не является единой силой, теперь скорее можно наблюдать силовые поля с противоположно направленными токами, в группах держав заметно не только движение друг против друга, но и внутри групп и т. д. и т. д. Уже для инсценировки простой газетной заметки далеко не достаточно драматической техники Геббеля и Ибсена. Это отнюдь не триумфальная, а печальная констатация истины. Объяснить сегодняшний персонаж, сегодняшнее событие чертами и мотивами, которые годились во времена наших отцов, невозможно. Мы помогали себе (временно) тем, что вообще не исследовали мотивов (например, «В чаще городов», «Поход на восточный полюс»), чтобы по крайней мере не приводить мотивов неверных, и показывали события просто как феномены. По-видимому, некоторое время нам придется изображать персонажи без характерных черт, тоже временно.
4
Все это, то есть все эти вопросы, касается, разумеется, лишь серьезных усилий по совершенствованию большой драмы, которую сегодня далеко не тщательно отделяют от посредственной развлекательной драмы.
46 5
Сориентировавшись в какой-то мере в темах, мы можем перейти к отношениям, которые сегодня стали неслыханно сложными и упростить которые можно только с помощью формы. Однако достичь этой формы можно лишь полнейшим изменением целенаправленности искусства. Только новая цель рождает новое искусство.
Эта новая цель — педагогика.
31 марта 1929 г.
ПУТЬ К БОЛЬШОМУ СОВРЕМЕННОМУ ТЕАТРУ42
1. НЕДОВЕРЧИВОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
Если рассмотреть путь, который мог бы привести от нынешнего театра к действительно большому и действительно современному театру, он кажется таким долгим и трудным, что людей, собравшихся пойти по нему, хочется спросить не столько о состояний их головы, сколько о том, каковы у них мышцы ног. Прежде всего нужно выяснить, вполне ли они убеждены в длительности этого пути. Сразу обнаружится, что лишь немногие доросли до понимания этого насущнейшего из вопросов. Ибо буржуазия, грубо определяющая театр своими производственными отношениями, не видит больше долгого пути, она ничего не ожидает от предприятий, рассчитанных на слишком долгий срок. У этого класса, который явно не без злобности, но и наверняка не только по злобе приносит в жертву огромные человеческие силы, чтобы сохранить свое ненадежное статус кво (только чтобы постоянно улучшать свои знаменитые машины, только для того, чтобы они в один прекрасный день, после какого-нибудь очередного изобретения, не превратились в железный лом, этот класс должен постоянно заниматься накопительством, что ведет к ужаснейшим и со временем совершенно невозможным жертвоприношениям человеческого материала) — у этого класса, вынужденного постоянно зашивать прорехи, нет уже больше возможности составлять или хотя бы лишь обсуждать принципиально новые планы. Соответственно своей экономической системе вариантов, буржуазия и в своей надстройке предпочитает 47 лишь новые варианты. Из-за этого «новое» приобрело весьма своеобразные и, конечно, весьма сомнительные черты. За новое сходят просто-напросто варианты старого и, что хуже всего, только большее количество вариантов. Такая точка зрения позволяет сразу перейти к повестке дня. В этой форме — в качестве варианта — пожирается, однако, все, и это самое вредное последствие для идеологической надстройки данного состояния общества: такая легкая перевариваемость не является признаком здоровой конституции, а доказывает, что тело уже не может прибавить в весе. Весело и страшно читать в нашей печати скверные отзывы о последней, вероятно, демонстрации буржуазной силы сопротивления — о дейтонском обезьяньем процессе43; эти люди смеются еще над трудностью, которую несколько более здоровый народ усматривает в потрясении одной из своих жизненных основ. Равнодушно и без всяких предчувствий принимают сами они все открытия, которые преобразуют мир; выводы делать уже не им. Однако чего нам беспокоиться об этом пресыщенном и потерявшем аппетит теле: оно все равно погибнет. Нас прежде всего беспокоит та беда, что оно уже не контролирует нашей работы или, вернее, контролирует ее неверно. Как ни трудно в своих работах освободиться от всей буржуазной идеологии, — что может быть достигнуто лишь постоянным контролированием базиса, — еще труднее не пострадать от тех искажений, которым она подвергает наши уже готовые работы. Мир преобразовывался тогда, когда представители чего-то нового страстно стремились сделать выводы. Не нужно ли уничтожить их, раз выводов больше делать нельзя? Возможность работать идеологически зависит сегодня от понимания того, что спрос на наши работы, каков бы он ни был, ничего уже не значит, что путь к осуществлению наших работ необычайно, даже необозримо долог и что это осуществление должно быть организовано.
2. ТЕОРИЯ О ТРАДИЦИИ
В среде обнищавших — традиций нет, есть только действие и противодействие, то есть существуют только реакции. Маятник прыгает то туда, то сюда. Кажется, 48 всем руководит оппозиция; своим существованием она обязана пресыщению. Классика и романтизм, импрессионизм и экспрессионизм — это реакции.
Но если речь идет о действительном, революционном продолжении дела, то традиция необходима. Находящиеся на марше классы и направления должны попытаться привести в порядок свою историю. Им нечего ждать от дифференциаций, им угрожает то мнимое богатство нюансов, которое могут себе позволить господствующие классы и направления, когда уже не обладают ничем другим.
Когда мы, например, из многих тенденций драматической литературы последнего столетия (1830 – 1930) выбираем тенденцию к эпическому изображению, мы делаем это в поисках традиции. Действительно, перенеся на сцену большие буржуазные (французские и русские) романы (правда, как обычно, без выводов в области формы), натурализм привил драме некоторые эпические элементы, и притом против своей воли. Упреки, обращенные как раз против этого («недраматично», «несценично», «нет напряжения» и т. д.), быстро привели к тому, что натурализм отказался от своих собственных тенденций и предал их. (Их не было жаль, хотя мы обязаны им пьесой «Ткачи», которая по своей теме заслуживает все же особого внимания.) Как раз эти упреки нам следовало бы постараться получить и действительно заслужить.
Форма нового коллективистского театра может быть только эпической.
Все это не означает, что тут имеются образцы для подражания. А эта фраза в свою очередь не значит, будто мы отклоняем их по какой-либо другой причине, чем их малая ценность, потому, например, что мы стыдимся каких-либо образцов. Напротив, мы должны заботиться и об образцах. Только их трудно отыскать, а в нашем временном и пространственном окружении их наверняка не найти.
Надо уяснить себе, что презренный страх этой эпохи показаться неоригинальной связан с ее жалким понятием о собственности. Как раз оригинальности нюансов высокоразвитого капитализма не станет оспаривать ни один человек, как-никак благодарный за то, что «обычно» 49 человечество все же другое. Да и «нюансы» эти, кажется, пишут лишь для того, чтобы избежать плагиата. И чем больше похожи друг на друга те, кто не справился с механистической тенденцией своего времени, ничего ей не противопоставив и не предоставив, тем больше они стараются отличиться друг от друга. Действительно, у всех у них без исключения нет образцов, среди их предков нет даже человека. Мы, не задающиеся целью фиксировать трогательные черты одиночки, выдавленные непонятным механизмом, мы, запечатлевающие тип, противостоящий этому механизму и действующий одновременно с ним, не заинтересованы в собственной оригинальности. И в части формы нам прежде всего нужны образцы.
Для обоснования этого сошлемся на «азиатский» образец.
3. «АЗИАТСКИЙ» ОБРАЗЕЦ
Находясь в незримой борьбе с образом мышления нашего читателя, мы вынуждены постоянно разрушать те представления, которые вызываем у него определенными словами и понятиями. Полный перечень всего того, о чем не может быть речи в связи с «азиатским образцом театра», выдал бы наше безнадежно изолированное положение: пишущему ныне почти невозможно удовлетворительно контролировать ассоциации читателя. Очень трудно уже разрушить тот помпезный и экзотический фасад, который обычно возникает перед «духовным» взором не только среднего читателя при слове «азиатский». При этом понятие «экзотический» в эпоху неограниченного империализма уже преодолено: наши купцы давно уже воспринимают японские торговые дома не такими, как наши авторы книг о путешествиях и режиссеры, то есть в виде таинственных закоулков со створчатыми дверями и гонгом. Итак, да будет известно, что и для нас «экзотика» этой «среды» не более привлекательна, чем для наших экспортных фирм. И — во избежание еще одного из многих возможных недоразумений — здесь речь идет не о том, что можно почерпнуть из целого ряда дешевых книг, не об «Азии, в которой нужно прожить тридцать лет, чтобы понять, что ничего понять 50 невозможно». Имеется в виду ни в коем случае не «эта великая Азия», которая «столь велика и недостижима и так бесконечно выше нас», что мы должны отказаться от нее, как от святости Франциска Ассизского; видите, мы не хотим, чтобы нам что-нибудь ложно приписывали. Вы увидите, если мы сами припишем азиатскому театру что-нибудь ложно, то нам это будет куда безразличнее. И хотя нам ничего не известно об этом театре, кроме нескольких фотографий постановок японских драм, нескольких сообщений, скажем, о том, что эти пьесы рассчитаны драматургами на двенадцать часов, что перед сценой ревности поднимаются желтые, а перед сценой внезапного гнева зеленые флаги, кроме «фельетонного» описания токийского зрительного зала, в котором пьют чай и курят, все же мы должны подчеркнуть, что это очень важный образец.
1930
Фрагменты
СОВЕТСКИЙ ТЕАТР И ПРОЛЕТАРСКИЙ ТЕАТР44
1
Чтение немецких театральных рецензий о Мейерхольде производит весьма угнетающее впечатление. Историческое место мейерхольдовского эксперимента среди опытов по созданию большого, более рационального театра представляется коллекционерам впечатлений неинтересным. Таким безразлично, насколько великолепно здесь поставлены на свое место все понятия, безразлично, что здесь существует настоящая теория общественной функции театра. Они совершенно не хотят обсуждать результаты многих дискуссий: они упрямо стоят на своем «переживании».
2
Пожалуй, больше всего раздражал показ англичан в Китае. В пьесе «Рычи, Китай!» русские-де проявляют слишком мало интереса к возможной любезности англичан 51 в частной жизни! Как будто в пьесе о кровавых злодеяниях короля Аттилы45 необходимо особенно останавливаться на том, каким он был приятным ребенком.
Апрель 1930 г.
Фрагменты
ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ46
1. ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ДИАЛЕКТИКА
Согласно распространенной в настоящее время точке зрения — это точка зрения большинства людей, профессионально оценивающих театр и драматургию — в театре нужно сохранять наивность; предполагается, что такой подход возможен. Если театр владеет своим ремеслом, от зрителя-де требуется лишь одно — прийти в театр (а так как критикам за это платят, они всегда приходят). Вообще-то говоря, новый театр не мог бы особенно возражать против наивного отношения зрителя к нему, если бы такое отношение было возможно. Далее мы покажем, что такое отношение невозможно, и объясним, почему именно. Ну, а если оно невозможно, тогда приходится потребовать от зрителя, чтобы он пошел по другому (более трудному) пути и перед тем, как прийти в театр, кое-чему поучился. Он должен быть заранее введен «в курс дела», подготовлен, «обучен». Сама по себе эта подготовка достаточно трудна. Так, например, далее придется говорить о «диалектике», не объясняя того, что же такое диалектика; поскольку диалектика (по крайней мере идеалистическая диалектика) составляет часть не только пролетарского, но и буржуазного образования, автор не без ехидства предполагает знакомство читателя с нею.
Речь также пойдет далее не столько о подробном истолковании современной драматургии, как драматургии диалектической (хотя и этот вопрос ранее никем не освещался), и даже не столько о диалектике ее собственного развития (что могло бы составить задачу подлинной истории литературы), сколько о простейшей попытке показать, какое революционизирующее воздействие оказывает диалектика всюду, куда она проникает, о попытке охарактеризовать ее роль как наилучшего могильщика буржуазных идей и установлений.
52 2
Это важное положение позволяет нам посвятить несколько серьезных страниц той области, которая обычно не требует такого подхода и едва ли оправдывает его, а именно — театру и драматургии.
Итак, с одной стороны, мы имеем такое производство драматургии, которое по своей природе сильнейшим образом затрагивает конкретно существующий театр — его здание, его сцену, его людей, испытывая потребность совершить в этом театре, включая и зрителя, полный переворот (а такая потребность является самой неодолимой из существующих). С другой стороны, имеется такой театр, который требует всего лишь товара, сырья, чтобы превратить его при помощи того аппарата, которым он сам является, в новый товар. С одной стороны, производство, которое, никоим образом не игнорируя традиций, включило в себя достаточно количественных улучшений, чтобы приняться теперь за решительное качественное улучшение всего в целом, производство, которое достаточно решительно следовало за все ускоряющимися преобразованиями социально-политической базы (или шло навстречу этим преобразованиям), чтобы иметь теперь право сделать из этого все выводы. А с другой стороны, — кучка балаганных зазывал, которые ополчаются против произведений, ведущих к неприятным выводам и требующих трудных объяснений, борясь с ними при помощи устарелого и более ни на что не годного идеализма, от которого они еще требуют, чтобы он был последовательным. То, чего эти люди (по чьему поручению они действуют?) ожидают, когда они ждут нового, явилось бы всего лишь вариантом старого; означало бы лишь снабжение их аппарата сырьем для дальнейшего использования этого аппарата; то, с чем они воюют, — это то новое, (преодоленным) вариантом которого является их старое. Они ждут появления новой драмы, потому что их старая драма так же не подходит им, как идеология прежней драмы не подходит к их практике. И поскольку старая драма, «обновления» которой они требуют, была драмой буржуазной, а они суть буржуа, они надеются, что новая драма возродится, как драма буржуазная. Но те великие бюргеры, которые создали 53 великую буржуазную драму, создавали свои произведения отнюдь не для тех мелких бюргеров, которых сами породили, — следовательно, новой буржуазной драме не суждено появиться.
То, что мы назвали диалектической драматургией, безусловно является таковой лишь наполовину; она незаконченна и несовершенна, она нуждается в конкретном осуществлении и не достигает его, ибо другая половина этого двучлена — драматургия, необходимая для осуществления целого, безусловно буржуазная (никак не «пролетарская») по происхождению, а может быть, и по материалу и содержанию, но отнюдь не буржуазная по своему назначению и возможности использования. В буржуазном обществе ее применяют столь же мало, сколь мало применяют там великую материалистическую диалектику в области физики, истории, психологии и экономики.
3
Основная мысль: применение революционной диалектики приводит к марксизму.
Грубый и плоский реализм, который никогда не мог вскрыть глубокую взаимосвязь явлений, становился особенно непереносимым, когда он стремился к трагическому, потому что он при этом отнюдь не изображал, хотя и думал, что делает это, вечную и неизменную природу.
Этот стиль называли натурализмом, потому что человеческую натуру он изображал натурально, то есть неопосредствованно, так, как она сама себя проявляла (во внешнем звучании). Так называемое «человеческое» играло при этом большую роль1*, оно-де было тем, что 54 всех «объединяет» (такого объединения казалось достаточным). Изображение «среды как судьбы» вызывало сострадание — чувство, которое «некто» испытывает, когда не имеет возможности помочь, но по крайней мере мысленно «со-страдает». Среда же рассматривалась как природа, то есть как нечто неизменное и неизбежное.
Однако драматическая форма драмы при этом частично разрушалась — что было важным элементом прогресса в быстро исчезнувшем новаторстве, потому что эти драматурги находились под воздействием великого французского буржуазно-цивилизаторского романа, но главным образом просто потому, что здесь начала повелевать сама действительность.
Чтобы заставить заговорить реальную действительность, нужно было избрать эпическую форму, а это немедленно навлекло на драматургов упрек, что они-де не драматурги, а замаскированные романисты. Можно сказать, что вместе с исчезновением «недраматической» формы снова исчез2* и определенный реалистический материал, или, наоборот: сами драматурги уничтожили собственные попытки.
Прежде чем это движение, которое имело отношение к литературе лишь в той степени, в которой его пьесы создавались людьми литературно одаренными, породило значительные вещи, освоило для театра новый жизненный материал, его зачинатели сами отказались от своих категорических тезисов и посвятили остаток своей жизни тому, чтобы привести в порядок собственную эстетическую систему. Но вместе с «драматической» формой был поколеблен и индивидуум, являвшийся прежде центром драматических произведений. Так как писатели — в этом смысле отчасти под влиянием буржуазной импрессионистической живописи — рассматривали «естественные объекты» не в потоке изменения и не как самодействующие, то есть смотрели на них недиалектически, видели в них куски «природы», мертвые предметы, то они переносили 55 жизнь в изображение атмосферы, ожидали воздействия от того, что заключено «между» словами (причем сниженными), давали зрителю вместо знания — впечатление, превращая «натуру» в объект наслаждения (чем и была порождена законченно бюргерская гастрономическая критика типа критики какого-нибудь Альфреда Керра47 и т. п.) и создавая в известном смысле слова грубую каннибальскую драматургию3*. Чтобы оживить фотографию, которая не производила образного воздействия, чтобы привнести в произведение «воздух» и повысить ценность пьесы, призвали на помощь психологию. Мелкотравчатым фигурам придавалась неслыханно привлекательная внутренняя жизнь. Индивидуум — это нераздельное, распадаясь на свои составные части, породило психологию, которая пустилась в путь по следам этих частей, но не смогла снова собрать из них единую личность. Так вместе с разрушением «драматического» разрушалась и личность.
4. ПУТЬ ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ ДРАМАТУРГИИ
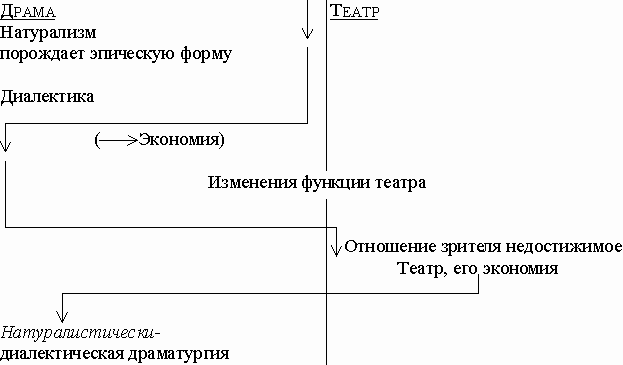
56 Чтобы подвести итоги: натуралистическая драматургия позаимствовала у французского романа жизненный материал и одновременно эпическую форму. Современная же драматургия позаимствовала лишь последнюю (наиболее слабую сторону натуралистической драматургии!), переняв ее как чисто формальный принцип и игнорируя жизненный материал. Вместе с этой эпической формой изображения она восприняла и тот элемент поучения, который уже содержался в натуралистической драматургии, драматургии переживания, но новая драматургия впервые придала ему самостоятельное значение лишь тогда, когда после ряда чисто конструктивных попыток в пустоте она применила эту форму для изображения реальной действительности, что открыло ей диалектику этой действительности (и помогло осознать свою собственную диалектику). Но опыты в безвоздушном пространстве были не только окольным путем к цели. Они помогли открыть роль всей системы жестов. Система жестов и была для нее той диалектикой, которая заключена в драматургии и театре.
Разумеется, это всего лишь схема; она связно изображает ход идеологического процесса, совершенно опуская то обстоятельство, что новые формулировки никоим образом не рождались просто из старых (скажем, путем признания ошибочности старых), а значит, без учета новых «внешних», то есть социально-политических моментов.
5
Послевоенное поколение возобновило свою работу с этой ранее достигнутой позиции. Оно начало вводить диалектическую точку зрения.
Утвердив значение действительности, оно полностью ввело диалектику в ее права. Утверждение действительности означало утверждение ее тенденций. Но утверждение ее тенденций включало в себя отрицание ее существующего облика. Утверждая войну, нельзя было отрицать мировую революцию. Если первая была необходимостью, то только из-за второй. Если империалистический капитализм проводит чудовищную проверку колоссальнейшей концентрации гигантских коллективов, то, значит, она является генеральной репетицией 57 мировой революции! Если он вызывает переселение народов, то оно, видимо, имеет целью великое переселение народов по вертикали в последней классовой битве!
Война показала роль, которую будет играть индивидуум в будущем. Отдельный человек, как таковой, может сыграть действенную роль лишь как представитель многих. «Масса индивидуумов» утратила свою неделимость потому, что была распределена по коллективам. Отдельный человек постоянно включался в коллективы, а то, что начиналось вслед за этим, было процессом, целью которого он сам ни в коей мере не был, процессом, на ход которого он не мог повлиять, процессом, который не оканчивался с его смертью.
Материальное величие эпохи, ее колоссальные технические достижения, могущественные предприятия ее денежных магнатов, даже мировая война, как гигантское «сражение материальных ресурсов», но прежде всего размах шансов на удачу для отдельной личности — вот явления, осознание которых стало краеугольным камнем этой молодой драматургии, полностью идеалистической и полностью капиталистической. Она стремилась показывать мир, как он есть, и признавать его таким, как он существует; а подлинная беспощадность этого мира должна была беспощадно изображаться как его величие: его богом должен был стать «бог вещей, каковы они на самом деле». Эта попытка создать новую идеологию, непосредственно опирающуюся на факты, была направлена против буржуазии, распознанный образ мысли которой (признанный мелким) казался находящимся в резком противоречии с ее образом действий (который принимался за великий). При такой постановке проблемы она сводилась всего лишь к проблеме поколений.
Задача состояла в том, чтобы доказать разумность действительного. Так в этой драматургии возникла в высшей степени странная действительность. С одной стороны, она сознавала преимущественно исторический характер своей задачи. Она видела перед собой великую эпоху и великие образы и изготовляла документальные изображения того и другого. При этом она воспринимала все как движущееся в потоке («Так мы строим большие 58 дома на острове Манхаттан»). Ваал и Александр из «Похода на восточный полюс» рассматривались исторически. Это значит, что не только сам Ваал изображался, как историческая личность, в его изменениях, в его «потреблении», его «производстве» и прежде всего в его действии на окружающих, — его существование в литературе в качестве вполне определенного литературного феномена также воспринималось как исторический факт. Он подвергался историческому «рассмотрению», которое имеет причины и следствия. То, что Ваал делал, и то, что он говорил, было материалом о нем, материалом, свидетельствующим против него; его мышление и его бытие казались идентичными, а его жизненный путь был так представлен на сцене, чтобы интерес к нему ослабевал вместе с тем интересом, который он вызывал у своих собратьев по сцене. (При постановке этой пьесы в Берлине художник Неер сказал: «Для последних сцен я не буду городить ничего сложного. В таком состоянии этот парень уже не может вызывать особенного интереса. Хватит с него и пары досок». И это было абсолютно верно! А для начальных картин он поставил на сцену несколько высоких стен, изобразив на них те персонажи, которые впоследствии должны были вступить в общение с Ваалом — его «жертвы», и сказал при этом: «Вот так-то! Придется ему обойтись этим. Здесь господствует бог вещей, каковы они на самом деле».)
Но действительность, создаваемая подобным образом, лишь очень неполно охватывала внешнюю действительность. Реальные события были лишь скудными намеками на процессы, происходящие в душах. И все это игралось между голыми балками, которые изображали лишь детали того, что они должны были обозначать. В сцене, ремарка которой гласила: «В годы 19… — 19… мы видим…», декорация Неера состояла всего лишь из по-детски нарисованной ландкарты, точнее из намека на ландкарту, так как она не изображала никакой определенной местности, — зато вентилятор приводил ее в колебание.
В спектакле давалось лишь примитивное изображение «поворотов» человеческой судьбы, а все то, что привлекалось из реальных событий, было всего лишь наглядным пособием. Зато много было всяких надписей… 59 Так же обстояло дело и в «Походе на восточный полюс», где несколько скудных событий буржуазной жизни должны были передать действия и высказывания великого образа…
Правда, не следует забывать, что в тот момент, когда театр снова стал местом размышлений, да еще притом размышлений дерзких, из него немедленно выдохлась вонь отвратительной торжественности, созданной в театре натурализмом и экспрессионизмом, и возникла известная веселость, если угодно, даже бесшабашность, которая отчасти основывалась на признании того обстоятельства, что театр вовсе не играет в области мысли той серьезной роли, которую он себе присваивал.
6
Диалектическая драматургия начала с попыток преимущественно в области формы, а не в области содержания. Она избегала психологии и изображения индивидуальности, а состояния превращала в процессы, делая это в подчеркнуто эпической манере. Типичные образы, которые изображались на сцене как можно более остраненно, как можно более объективно (так, чтобы с ними нельзя было сопереживать), выявлялись лишь в их отношении к другим типичным образам. Их поступки демонстрировались не как нечто само собой разумеющееся, а как нечто поражающее: это должно было привлечь внимание зрителя к взаимосвязи событий, к процессам, происходящим внутри определенных групп. Необходимой предпосылкой для этого считался почти научный подход зрителя, который интересуется происходящим, но не включается в него. (Драматурги полагали, что они дают возможность такого подхода.) В итоге это движение поставило себе целью изменение всего театра, в том числе и зрителя. Оно потребовало изменения функции театра, как общественного установления, никак не меньше!
Следует помнить, что речь шла лишь о наступлении в области техники и никоим образом не о каких-либо политических акциях. Все оставалось еще в сфере буржуазного искусства, в том числе и выбор материала. Объективно драматурги видели свою цель в том, чтобы подвергнуть 60 типическое поведение людей этой эпохи новым методам исследования, поначалу все еще целиком оставаясь в рамках существующего общественного устройства, которое принималось как данное и не подлежащее дальнейшему обсуждению. Эта новая драматургия ограничивалась задачей изображения «поворотов человеческой судьбы». Старая (драматическая) драматургия не давала возможности изображать мир таким, каким его воспринимают сегодня уже многие. Ход одной человеческой жизни, типичный для многих, или типичное столкновение между людьми не могли быть показаны при помощи ранее существовавших форм драмы. Новая драматургия постепенно перешла к эпической форме (в чем ей, между прочим, помогли произведения одного из романистов, а именно Деблина48). Так как она рассматривала все «в потоке», она особенно подчеркивала документальный характер этого способа изображения. Зритель должен был входить в театр с такой же внутренней установкой, с какой он привык посещать другие современные мероприятия. Эта установка была, как уже говорилось, своего рода научным подходом. В планетарии и во дворце спорта человек придерживается этого подхода, спокойно взирая на события, все взвешивая и контролируя; это тот самый подход, который позволил нашим техникам и ученым совершить их великие открытия. Только в театре этот интерес должны были вызывать судьбы людей и их поведение. Предполагалось, что современный зритель не хочет безвольно поддаваться какому бы то ни было внушению, не хочет впадать в состояние того или иного аффекта, не хочет терять рассудка.
Он не желает ни опеки над собой, ни насилия, он хочет лишь одного — чтобы ему был предоставлен человеческий материал, чтобы он сам мог организовать его. Поэтому он также любит смотреть на людей, которые находятся в не столь уж легко объяснимых ситуациях, поэтому он не нуждается ни в логических обоснованиях, ни в психологических мотивировках старого театра. Разумеется, тот человек, в котором нет ничего от исследователя, который ищет всего лишь удовольствия, будет считать подобные пьесы неясными, и это именно потому, что они изображают неясность человеческих взаимоотношений. 61 Человеческие взаимоотношения в нашу эпоху неясны. Театр и должен найти ту форму, которая позволяет изобразить эту неясность в наиболее классической форме, то есть эпически спокойную форму.
7. ТЕАТР КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ
8. ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ТЕАТРА
Театр должен быть пересмотрен в целом — не только тексты, не только актеры или даже весь характер постановки, эта перестройка должна вовлечь зрителя, должна изменить его позицию.
Этой перемене в подходе зрителя соответствует то, как изображается человеческое поведение на сцене; мимический материал подчиняется обстоятельствам. Индивидуум перестает быть центром спектакля. Отдельный человек не порождает никаких отношений, значит, на сцене должны появляться группы людей, внутри которых или по отношению к которым отдельный человек занимает определенную позицию; их-то и изучает зритель, притом зритель как масса. Значит, отдельный человек и в качестве зрителя перестает быть центром театра. Он уже больше не частное лицо, которое «удостаивает» театр своим посещением, позволяя, чтобы актеры что-то разыгрывали перед ним, потребляя работу театра; он уже больше не потребитель, нет, он сам должен производить. Спектакль без него, как активного участника, теперь лишь половина спектакля (если бы он был законченным без него, он считался бы теперь несовершенным). Зритель, вовлеченный в театральное действо, сам приобщается к театру. Таким образом, главное происходит теперь не «в нем», но «с ним»; современный театр преобразовал деловое предприятие, существовавшее за счет продажи ежевечернего развлечения, в коллектив покупателей, то есть произвел всего лишь количественную работу. Следующий шаг, — правда, этот шаг направлен против основного характера самого предприятия, — означал бы качественное изменение этого коллектива: исчезла бы его случайность. Теперь можно было бы выдвинуть требование, чтобы зритель (как масса) 62 был приобщен к литературе, то есть специально обучен перед «посещением» театра, специально проинформирован. Здесь уже не каждый забежавший в зал зритель сможет лишь на основании потраченных им денег «понять» происходящее и стать его «потребителем». Оно перестало быть товаром, доступным каждому, кто его пожелает. Сам материал уже объявлен общим достоянием, он «национализирован». Это необходимая предпосылка для изучения; теперь решающей становится формальная сторона, то есть способ использования, она усваивается в форме работы, а именно работы по изучению. Дойдя до этого пункта, мы понимаем, почему обработка существующего материала обозначает облегчение работы, которая должна быть совершена. То обстоятельство, что в этой фазе содержатся почти все элементы, которые ранее существовали в прежних фазах и, будучи подчеркнутыми, характеризовали эти фазы, могло бы побудить того, кто выводит новое из старого вместо того, чтобы выводить старое из нового, смотреть на эту работу, как на чисто эклектическую; это потому, что он не учитывает решающего фактора, состоящего в изменении самих функций театра.
Здесь выявление всей системы жестов, содержащейся в уже известном материале, может помочь и производителю и потребителю правильно определить то поведение, которое и является главным, даже если оно приходит в противоречие с данным материалом. Ясно, что эта функция театра зависит от почти полной общности жизненных интересов всех участников. Неоспоримый примат театра по отношению к драматургии, революционный прогресс техники сам по себе, как примат средств производства перед самим производством (для понимания этого необходимо понимание законов революционной политэкономии), является препятствием для того большого изменения функций театра, которое лишь он — этот примат — делает возможным.
Зрители, к которым обращен призыв проявить не безвольный (основанный на магии, на внушении) подход, а занять оценивающую позицию, немедленно занимали отнюдь не некую общую, стоящую над интересами всех позицию, как того хотела новая драматургия, а политическую позицию. Более того, сами представления перестали 63 казаться простой «выдумкой» нескольких драматургов, они производили впечатление чего-то выражающего молчаливое требование коллектива. Если изменение функций театра благодаря этому начинало казаться возможным, хотя и не в том смысле, в каком этого ожидала новая драматургия, оно становилось тем более невозможным из-за непредусмотренного характера этой возможности. Театр, как нечто предметное, сам становился как предмет преградой на пути этого изменения своих функций.
9. ТЕАТР КАК СРЕДСТВО ПРОИЗВОДСТВА
Буржуазный театр создал технические предпосылки для полного изменения функций театра тем, что он охватывал все более широкую публику, привлекая ее в качестве потребителей на фоне неизбежно расширяющегося рынка, а тем самым разрушил ту салонную клику, которая ранее господствовала в театре.
Его классовый характер помешал ему сделать необходимые выводы. Так, например, он уже давно выражает практически полный атеизм, но не может решиться стать его открытым идеологическим выразителем.
Если бы выяснилось, что театр, как скопление определенных средств производства, не может быть ни преодолен, ни обойден, а факт, исходящий из этого конкретного обстоятельства, заставил бы выдвинуть вопрос об изменении этого общественного установления, а затем и новый (неразрешимый) вопрос об изменении всего того общественного устройства, которое является предпосылкой его существования, — то тогда, и притом не независимо от всего этого, а в ходе этих размышлений и сознательно направленных на это усилий, новая драматургия пришла бы в непредусмотренное энергичное столкновение с действительностью. Рассмотрение вопросов политэкономии подействовало бы на нее, как совлечение покровов с изображений в Саисе49. Она находилась в оцепенении, застыла, как соляной столб. Погруженная в глубокое раздумье, она смотрела на попытки Пискатора, которые как раз начались в это время и которые, как она скоро поняла, можно было причислить к ее собственным опытам: ведь они были гораздо более драматургическими, 64 чем собственно театральными, они были направлены на саму драму, они были драматическими в том новом смысле, который затрагивал театр, как целое. С того времени была открыта субъективность возможной объективности; объективность была понята, как партийность. То, что здесь выявилось как тенденция, было тенденцией самой материи (то же, что бросалось в глаза как тенденция, в худшем случае было лишь временной конструкцией).
1931
Фрагменты
65 О НЕАРИСТОТЕЛЕВСКОЙ ДРАМЕ
ТЕАТР УДОВОЛЬСТВИЯ ИЛИ ТЕАТР ПОУЧЕНИЯ?50
Когда несколько лет назад речь заходила о современном театре, называли театры московский, нью-йоркский и берлинский. Кроме них называли еще, быть может, ту или иную постановку Жуве51 в Париже, Кочрана52 в Лондоне или спектакль «Гадибук» в театре «Габима»53, который, собственно говоря, тоже можно отнести к русскому театру, потому что режиссером спектакля был Вахтангов. Однако, имея в виду современный театр в целом, называли лишь три театральные столицы.
Русский, американский и немецкий театры очень сильно отличались друг от друга, но между ними существовало и сходство: они были современными, то есть вводили новшества в технику постановки я актерской игры. В некотором смысле у них проявлялось и сходство в стиле, — вероятно, потому, что техника международна (не только та область техники, которая необходима непосредственно для сцены, но и та, которая оказывает влияние на сцену, — например, кино), а также потому, что театры эти расположены в крупных развитых городах больших индустриальных стран. В последнее время среди театров капиталистических стран ведущее место занял как будто берлинский театр. Черты, характерные для современного театра, нашли в нем на определенной ступени его развития яркое и пока наиболее зрелое выражение.
Последним этапом берлинского театра, который, как уже говорили, воплотил тенденции развития современного театра в наиболее отчетливой форме, был театр эпический. Все, что называли «современной пьесой», или «сценой Пискатора», или «поучительной пьесой», относится к театру эпическому.
66 1. ЭПИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Термин «эпический театр» казался многим внутренне противоречивым, так как, согласно Аристотелю54, было принято считать, что эпическая и драматическая формы в корне отличны друг от друга. Различие видели; отнюдь не в том, что одна из форм обращена к живым зрителям, а другая пользуется посредничеством книги; такие эпические произведения, как поэмы Гомера или, песни средневековых певцов, были одновременно и театральным зрелищем, а драмы вроде «Фауста» Гете или «Манфреда» Байрона, как известно, наиболее действенны именно как книги для чтения. Различие между драматической и эпической формой уже со времен Аристотеля видели в различии структуры, в различии построения, закономерности которого изучаются в двух разных областях эстетики. Построение это зависело от различных способов, которыми произведение подавалось публике: в одном случае, посредством сцены, в другом — посредством книги; однако независимо от этого существовали еще «драматическое начало» в эпических произведениях и «эпическое начало» в произведениях драматических. В прошлом веке в буржуазном романе развилось немало драматических элементов: например, концентрированность сюжета, а также взаимозависимость отдельных частей. Драматическое начало характеризовалось известной страстностью изложения, резким выделением сталкивающихся, противоборствующих сил. Эпический автор Деблин дал превосходное определение эпосу, сказав, что, в отличие от драматического произведения, произведение эпическое можно, условно говоря, разрезать на куски, причем каждый кусок сохранит свою жизнеспособность.
Здесь не место вдаваться в рассуждения о том, в силу каких именно причин противоречия между эпическим и драматическим, которые казались непреодолимыми, утратили свою безусловность. Достаточно указать на то, что уже благодаря техническим достижениям оказалось возможным ввести в драматическое представление повествовательные элементы. Использование экрана, механизмов и кино усовершенствовало оборудование сцены, и все это произошло в историческую эпоху, 67 когда важнейшие события в человеческом обществе уже нельзя было представить с той простотой, как это делалось прежде; в эпоху, когда люди материализовали движущие силы или подчиняли действующих лиц силам невидимым, метафизическим.
Для того чтобы события общественной жизни стали понятны, необходимо было широко показать зрителю общественную среду во всей ее значительности.
Разумеется, прежняя драма тоже показывала общественную среду, но там среда не являлась самостоятельной стихией; целиком подчиняясь главному герою драмы, она была представлена лишь через реакцию на нее главного героя. Для зрителя это было все равно, что наблюдать бурю, видя не ее самое, а суда, бороздящие воды, и паруса, кренящиеся под напором ветра. Теперь же в эпическом театре общественная среда должна была выступить как элемент самостоятельный.
Сцена стала повествовать. Теперь уже рассказчик не исчезал с исчезновением четвертой стены. Фон тоже принимал теперь активное участие в представляемых событиях, взывая с помощью титров к аналогичным событиям, опровергая или подтверждая высказывания действующих лиц документами, демонстрируемыми на экране; подкрепляя отвлеченные рассуждения конкретными, чувственно ощутимыми цифрами; усиливая пластически выразительные, но незначительные события изречениями и фактами. Актеры тоже перевоплощались не полностью — они сохраняли известную дистанцию между собой и изображаемым персонажем, более того, вызывали в зрителе критическое отношение к персонажу.
Отныне зрителю уже нельзя посредством простого вживания в душевный мир действующих лиц отдаваться своим эмоциональным переживаниям без всякой критики (и, значит, без всяких практических результатов). Все темы и события спектакля подвергаются очуждению. Такому очуждению, которое необходимо, чтобы понять их. А когда люди имели дело с «само собой разумеющимся», они просто отказывались от всякого понимания.
«Обыденное» получило элементы, бросающиеся в глаза. И только так могли стать очевидны законы, причины, следствия. Поступки людей следовало показать 68 такими, но в то же время следовало показать, что они могут быть и совеем другими.
То были большие изменения.
Созерцая переживания героя, зритель драматического театра говорит: «Да, это я тоже уже переживал. И я таков. Это естественно. Так будет всегда. Горе этого человека потрясает меня, потому что у него нет выхода. Это великое искусство: здесь все само собой разумеется. Я плачу вместе с теми, кто плачет, я смеюсь вместе с теми, кто смеется».
Зритель эпического театра говорит: «Этого я бы не подумал. Так делать нельзя. Это в высшей степени удивительно, почти неправдоподобно. Этому надо положить конец. Горе этого человека потрясает меня, потому что у него все-таки есть выход. Это великое искусство: здесь нет ничего само собой разумеющегося. Я смеюсь над теми, кто плачет, я плачу над теми, кто смеется».
2. ТЕАТР ПОУЧЕНИЯ
Сцена стала поучать.
Нефть, инфляция, война, социальная борьба, семья, религия, пшеница, торговля убойным скотом — все это стало предметом театрального представления. Хоры разъясняли зрителю непонятное ему соотношение сил. Киномонтаж показывал ему события во всем мире. Экран демонстрировал статистический материал. Поступки людей подвергались критике вследствие того, что на передний план выступили их скрытые причины. Показывали поступки правильные и неправильные. Показывали людей, которые знают, что делают, и людей, которые не знают этого. Театр стал полем деятельности философов — таких философов, которые стремились не только объяснить мир, но и изменить его. На сцене появилась философия; таким образом, на сцене появилось поучение. А куда же девалось развлечение? Неужели нас снова посадили за школьную парту, снова обращаются с нами, как с неграмотными? Неужели нам снова надо сдавать экзамены, получать аттестаты?
Согласно общепринятому мнению, между понятиями «учиться» и «развлекаться» — огромное различие. Первое, быть может, и полезно, но приятно только второе. 69 Итак, нам нужно защитить эпический театр от подозрения, будто бы это в высшей степени неприятное, безрадостное умственное напряжение.
Собственно говоря, мы можем сказать только одно: отнюдь не обязательно противопоставлять учение развлечению. Противоположность между ними существовала не всегда и не всегда будет существовать.
Несомненно, учение, связанное со школой, с подготовкой к профессии, предполагает немалые трудности. Однако следует обдумать и то, при каких обстоятельствах и во имя какой идеи оно осуществляется.
В сущности, это покупка. Знание — всего лишь товар. Его покупают для того, чтобы потом перепродать. Все, кто вышел из школьного возраста, должны продолжать свое учение, так сказать, втайне от других; ибо человек, признающийся в том, что ему еще надо учиться дополнительно, как бы обесценивает себя в глазах других — оказывается, у него не хватает познаний! Кроме того, польза от учения весьма ограничена факторами, которые не зависят от воли учащегося. Существует безработица, от которой не могут уберечь никакие знания. Гораздо чаще приобретение знаний требует усилий от тех, кому дальнейшее продвижение уже не стоит никаких усилий. Мало таких познаний, которые обеспечивают человеку власть, но немало познаний, которые обеспечиваются властью.
Для различных слоев народа учение играет весьма различную роль. Есть слои, которые не могут представить себе изменение общественных условий; эти условия кажутся им достаточно хорошими. Как бы ни обстояло дело с нефтью, они будут извлекать из нее свои доходы. И еще: они чувствуют себя людьми на возрасте. Впереди у них не так уж много лет. Зачем же им еще тратить время на учение? Они уже произнесли свое последнее слово. Но есть и такие слои, которые еще не вкусили от пирога, которые не довольны условиями жизни, у которых огромная практическая заинтересованность в учении: они во что бы то ни стало хотят разбираться во всем, они знают, что без учения пропадут. Эти люди — самые лучшие и самые жадные ученики. Подобные различия существуют также между народами и странами.
70 Значит, стремление к знанию зависит от многих обстоятельств, и все же существует радостное, захватывающее учение, учение, которое приносит счастье борьбы. Если бы не было такого увлекательного учения, тогда театр по самой природе своей был бы лишен способности учить.
Театр остается театром, даже будучи поучительным, а если он к тому же хороший, тогда он служит и развлечению.
3. ТЕАТР И НАУКА
Но что общего у науки с искусством? Мы отлично знаем, что наука может быть развлекательной, однако не все, что развлекает, может быть представлено на сцене.
Когда я указывал на ту неоценимую службу, которую современная наука (если правильно ее использовать) может сослужить искусству, в особенности театру, я нередко слышал в ответ: искусство и наука — две высокоценные, но совершенно различные области человеческой деятельности. Разумеется, это общее рассуждение совершенно правильно, как и большинство общих рассуждений. Искусство и наука воздействуют совершенно различным образом — это ясно. И все же должен признаться, как бы дурно это ни звучало, что я, как художник, не могу обойтись в своем творчестве без некоторых наук. Это утверждение может возбудить во многих людях сомнение в моих художественных способностях. Они привыкли видеть в поэтах удивительные, чуть ли не сверхъестественные существа, которые с истинно божественной прозорливостью познают явления, для познания коих всем другим нужно затратить множество усилий и труда. Конечно, неприятно признаваться в том, что не принадлежишь к сонму осененных благодатью. Но признаться в этом необходимо. Необходимо также опровергнуть и мнение о том, будто научные усилия, в которых я признался, — лишь простительные побочные занятия, за которые садишься вечером, после рабочего дня. Ведь всем известно, что и Гете занимался естествознанием, и Шиллер — историей, только принято добродушно считать, что это своего рода причуды гения. Я не хочу с порога обвинять их 71 обоих в том, что названные науки им были нужны для поэтического творчества, и, таким образом, как бы прятаться у них за спиной; но про себя должен сказать, что мне науки нужны. И признаюсь, я косо поглядываю на людей, о которых мне известно, что они не стоят на уровне современных научных знаний, то есть, что они «поют как птицы певчие, как на ветке соловей», или так, как представляют себе соловьиное пение. Я не хочу этим сказать, что отвергаю звучное стихотворение о вкусе камбалы или об удовольствиях лодочной прогулки только потому, что автор его не изучал гастрономию или навигацию. Однако я полагаю, что великие и сложные мировые события не могут быть до конца поняты теми, кто не привлекает для познания мира всех необходимых вспомогательных средств.
Предположим, нужно изобразить великие страсти или события, оказывающие влияние на судьбы народов. Подобной страстью в наше время считают, например, стремление к власти. Предположим, поэт, «почувствовав» это стремление, хочет изобразить человека, стремящегося к власти. Как же он изобразит тот в высшей степени сложный механизм, посредством которого в наше время можно завоевать власть? Если его герой — политик, то как делается политика? Если он коммерсант, то как делается коммерция? К тому же есть и такие писатели, в произведениях которых напряженный интерес вызывает не столько устремление к власти отдельных людей, сколько именно коммерция и политика! Как этим авторам приобрести необходимые познания? Едва ли накопят они достаточные познания, если будут только бродить и созерцать мир широко открытыми глазами; впрочем, уже и это значительно лучше, чем если они просто будут закрывать глаза в сладостном безумии. Основать такую газету, как «Фелькишер беобахтер», или такую компанию, как «Стандарт ойл», — Дело весьма сложное, и эти вещи нельзя просто навязать читателю безо всяких объяснений. Для драматурга важной областью является психология. Принято считать, что если и не каждый обыкновенный человек, то поэт, во всяком случае, способен без специального изучения проникнуть в причины, побуждающие человека к убийству, — поэт, «познавая самого себя», должен 72 суметь дать картину душевного состояния убийцы. Предполагается, что в таких случаях достаточно заглянуть к себе в душу, да к тому же ведь существует еще и воображение. По ряду причин я уже не могу питать сладкую надежду на такое удобное и легкое решение вопроса. Не могу и в себе самом обнаружить все те побудительные причины, которые, как явствует из газетных отчетов и научных исследований, удается установить у людей. Как и судья при вынесении приговора, я не могу без дополнительных изысканий составить себе исчерпывающую картину душевного состояния убийцы. Современная психология — от психоанализа55 до бихевиоризма56 — дает мне познания, помогающие совсем по-иному истолковать данный случай, в особенности если я еще приму во внимание данные социологии, а также не позабуду о политэкономии и истории. Могут сказать: но это же очень сложно. Я вынужден ответить: конечно, это сложно. Быть может, мои оппоненты позволят себя убедить и согласятся со мной в одном: имеется немало весьма примитивной литературы. И все же они с большой озабоченностью спросят: не станет ли после этого вечер в театре пугающе сложным и скучным? Отвечу: нет.
Сколько бы в произведении искусства ни заключалось научного знания, оно должно быть полностью преобразовано в искусство. Усвоение его как раз и дает ту радость, которая возбуждается произведением искусства. Во всяком случае, если оно дает не такое наслаждение, какое приносит человеку научное познание, все же известная склонность к глубокому проникновению в сущность вещей, мечта о познании мира необходима, чтобы получить радость от современного произведения искусства в нашу эпоху великих открытий и изобретений.
4. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭПИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ШКОЛОЙ НРАВСТВЕННОСТИ»?
Согласно Фридриху Шиллеру57, театр должен быть школой нравственности. Когда Шиллер выдвинул это требование, ему едва ли приходило в голову, что он, проповедуя со сцены нормы нравственности, отпугнет публику от театра. В его времена публика не возражала 73 против нравственной проповеди. Лишь позднее Фридрих Ницше напал на Шиллера, назвав его зекингенским трубачом нравственности58. Заниматься моралью казалось для Ницше унылым делом. Шиллер же видел здесь нечто доставляющее удовлетворение. Он не знал ничего более увлекательного и приятного, чем проповедь идеалов. Буржуазия в то время занималась тем, что создавала идеи для нации. Устраивать свое жилище, хвалить собственную шляпу, платить по счетам — это в самом деле занятие не очень-то веселое, и именно так Фридрих Ницше столетие спустя смотрел на вещи. Этому Фридриху было не по душе говорить о морали, а потому и не по душе ему был тот, первый Фридрих.
Против эпического театра многие тоже возражали: он, дескать, слишком нравственен. Однако в эпическом театре нравственная проповедь отходила на второй план. Театр стремился не столько проповедовать нравственность, сколько изучать ее. Правда, сначала шло изучение, а затем и неизбежный итог: мораль всей истории. Мы, разумеется, не можем утверждать, что занялись изучением только из чистого желания углубиться в науку, без иного, более ощутимого повода, и что результаты нашего изучения нас совершенно ошеломили. Несомненно, в окружающем нас мире были некоторые мучительные несоответствия, трудно переносимые обстоятельства, и к тому же такие обстоятельства, которые трудно было переносить не только из соображений нравственности. Голод, холод и угнетение трудно переносить не только из моральных соображений. Да и цель наших исследований заключается отнюдь не в том, чтобы возбудить моральные размышления по поводу известных социальных обстоятельств (хотя такие размышления возбудить нетрудно, правда, не у всех слушателей — редко, например, возникают подобные размышления у тех слушателей, которые извлекают выгоду из существующих обстоятельств!); цель наших исследований заключалась в том, чтобы найти средства устранения названных трудно переносимых социальных обстоятельств. Мы вели речь не во имя нравственности, но во имя страдающих. Это, безусловно, совершенно разные вещи, ибо нередко, имея в виду 74 страдающих, философы произносят нравственные проповеди о том, что страдающие должны примириться со своим положением. Такие моралисты считают, что люди существуют для нравственности, а не нравственность для людей.
Так или иначе, из сказанного можно сделать вывод, в какой степени и в каком смысле эпический театр является школой нравственности.
5. ВСЮДУ ЛИ МОЖНО СОЗДАТЬ ЭПИЧЕСКИЙ ТЕАТР?
В стилистическом отношении эпический театр не являет собой чего-либо особенно нового. Характерное для него подчеркивание момента актерской игры и то, что он является театром представления, роднит его с древнейшим азиатским театром. Тенденции к поучению были свойственны средневековым мистериям, равно как классическому испанскому театру и театру иезуитов.
Театральные формы соответствовали определенным тенденциям прошлых эпох и ушли в прошлое вместе с этими эпохами. Современный эпический театр тоже связан с определенными тенденциями. Его нельзя создавать повсюду. Большинство великих наций в наши дни не склонно решать свои проблемы на подмостках. Лондон, Париж, Токио и Рим содержат театры для совсем иных целей. До сих пор условия для возникновения эпического поучительного театра существовали лишь в очень немногих местах и весьма недолго. В Берлине фашизм решительно остановил развитие такого театра.
Кроме определенного технического уровня эпический театр требует наличия могучего движения в области общественной жизни, цель которого — возбудить заинтересованность в свободном обсуждении жизненных вопросов, для того чтобы в дальнейшем эти вопросы разрешить; движения, которое может защитить эту заинтересованность против всех враждебных тенденций.
Эпический театр — самый широкий и далеко идущий опыт создания большого современного театра, и этот театр должен преодолеть те грандиозные препятствия в области политики, философии, науки, искусства, которые стоят на пути всех живых сил.
1936
75 НЕМЕЦКИЙ ТЕАТР ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ59
В первые годы после войны и революции театр в Германии переживал большой подъем. В тот период у нас было больше, чем когда-либо прежде, больших артистов и немало яростно соперничавших друг с другом режиссеров. Тогда мы располагали возможностью ставить почти все пьесы мировой драматургии самых различных эпох, от «Эдипа» до «Дело есть дело»60 и от «Мелового круга»61 до «Фрекен Юлии»62, и все эти пьесы действительно ставились. Однако техническая оснащенность театра и возможности драматургии были столь ограничены, что не позволяли отобразить на сцене, во всяком случае широко, крупнейшие явления современности: бурное развитие гигантской индустрии, классовые битвы, войну, мировую торговлю, борьбу с болезнями и так далее. Разумеется, театр показывал и биржу, и окопы, и больницы, но все это было лишь эффектным фоном для какой-нибудь сентиментальной истории из иллюстрированного журнала, которая могла произойти в любое другое время, хотя в великие эпохи театра она наверняка была бы признана недостойной увидеть свет рампы. Создать театр, способный отображать крупнейшие события современности, удалось далеко не сразу и не без труда.
Прежде всего выяснилось, что театр по своей технической оснащенности остался на том уровне, какого он достиг примерно к 1830 году. Он не был даже электрифицирован. Пискатор — несомненно один из самых выдающихся деятелей театра всех времен — за какие-то несколько лет ввел целый ряд коренных новшеств. Он установил в театре экран. Декорация ожила и сама стала элементом действия. Появилась возможность воспроизводить на заднике разные документы, статистические данные и синхронные события. К примеру, когда на сцене разгорается битва биржевиков из-за албанской нефти, на заднике видны военные суда, уходящие в море, чтобы вынудить нефтяные промыслы прекратить работу. Это был колоссальный прогресс.
Другим новшеством было создание подвижной сцены. Теперь можно было приводить в движение широкие полосы сценической площадки. Таким образом был поставлен 76 «Бравый солдат Швейк»63 и показан его знаменитый поход в Будейовицы.
При постановке пьесы «Берлинский купец»64 сцена была снабжена подъемной площадкой, что позволило помещать отдельные участки сцены на разных уровнях.
Новые средства дали возможность органически включить в спектакль элементы музыки и графики, до сих пор остававшиеся недоступными для театра. Крупнейшие композиторы стали писать музыку для театра, а великий график Георг Гросс65 создал великолепные произведения искусства, которые проецировались затем на экран.
Декорации к пьесам и постановкам Брехта были созданы в основном Каспаром Неером.
Не меньшие изменения претерпела и драматургия. Была выработана новая техника построения пьес. Пьесы стали писать небольшие коллективы людей различных специальностей, в том числе историки и социологи. В серии из семи брошюр — в «Опытах» — была фрагментарно изложена теория неаристотелевской драматургии. К пьесам такой неаристотелевской драматургии относятся «Святая Иоанна скотобоен», «Что тот солдат, что этот», «Круглоголовые и остроголовые» и ряд других. Одновременно началось обучение целого поколения молодых актеров новому, эпическому стилю игры.
Мимическими приемами театр во многом обязан немому кино. Некоторые элементы мимики и жеста снова вошли в арсенал театрального искусства. Чаплин, начавший свою карьеру клоуном, был свободен от груза театральных традиций, и он по-новому изобразил человека и его поведение.
Такое развитие театра и драматургии, а также применение некоторых очень сложных технических приемов привело в конечном счете к более простому изображению великих процессов. Не следует думать, что переплетение интересов на хлебном рынке в Чикаго или в военном министерстве на берлинской Бендлерштрассе менее сложно, чем процессы, происходящие в атоме, — а известно, какие сложные методы необходимы для того, чтобы хоть как-то описать эти процессы. Конечно, и в век науки методы театра, в том числе самого 77 современного, несравненно менее точны, чем методы физики, но и театр должен рассказывать об окружающем мире так, чтобы зритель мог во всем разобраться. Когда Брехт накопил достаточный опыт, ему удалось минимальными средствами передать некоторые значительные и сложные процессы современности. Пользуясь самыми скупыми изобразительными средствами, он сумел поставить «Мать» — эту биографию, неразрывно сплетенную с историей. В это же время известные результаты дала и целая серия экспериментов, которые, хотя в них использовались средства театра, для своей постановки не нуждались в настоящей сцене. Речь идет о педагогических экспериментах, то есть об учебной пьесе.
В течение ряда лет Брехт вместе с небольшой группой помощников, уже вне театра, слишком косного из-за необходимости ежевечерне торговать развлечениями, пытался создать новый вид театрального представления, которое могло бы оказать влияние на духовное формирование самих участников. В своей работе он прибегал к помощи различных сценических средств и имел дело с различными слоями общества. Речь идет о театральных представлениях, которые устраивались скорее для участников, чем для зрителей. Это было искусство прежде всего для его «производителей» и уже затем для «потребителя». Например, Брехт написал несколько поучительных пьес для школ и крохотную оперу «Говорящий “да”», которую смогли поставить школьники.
Музыку к этим пьесам, соответствующую специфической задаче каждой из них, написал Курт Вейль. Учебной была и пьеса Брехта «Полет Линдбергов»66, которая требовала совместной работы школы и радио. По радио передавались оркестровое сопровождение и партии солистов, а школьники целыми классами пели хоры. Музыку к этой пьесе написали Хиндемит67 и Вейль. Она была показана в 1929 году в Баден-Бадене на музыкальном фестивале. Опера «Баденская поучительная пьеса», поставленная в 1930 году, была написана для мужского и женского хора, но в ней предусмотрены также кинокадры и клоунада. Композитором был Хиндемит. Еще одним, двенадцатым по счету, экспериментом 78 явилась пьеса «Мероприятие». В ее постановке приняли участие несколько крупных артистов, а объединенный хор берлинских рабочих насчитывал почти четыреста человек.
КРИТИКА ВЖИВАНИЯ
В ОБРАЗ
(Критика «Поэтики» Аристотеля)
1
Термин «неаристотелевская драматургия» нуждается в пояснении. Аристотелевской драматургией, в отличие от которой противостоящая ей именует себя неаристотелевской, называется всякая драматургия, на которую, распространяется аристотелевское определение трагедии, данное им в основном положении его «Поэтики». Известное требование трех единств мы не считаем этим основным положением, да и сам Аристотель, как установили новейшие исследования, вовсе не делает на нем особого акцента. Нам кажется, что величайший общественный интерес представляет аристотелевское определение цели трагедии, а именно катарсис, очищение зрителя от страха и сострадания путем подражания действиям, возбуждающим страх и сострадание. Это очищение происходит благодаря своеобразному психическому акту вживания зрителя в судьбы и переживания лиц, воспроизводимых на сцене актером. Мы называем драматургию аристотелевской, если это вживание в образ порождено самой драматургией, независимо от того, достигнуто ли оно с помощью вышеупомянутых правил «Поэтики» или без них. Своеобразный психический акт вживания в образ в разные эпохи происходит совершенно по-разному.
2. КРИТИКА «ПОЭТИКИ»
Пока Аристотель (в четвертой главе «Поэтики») рассуждает о радости, которую приносит предельно точное слияние с образом, и основным для этого считает изучение действительности, мы согласны с ним. Но уже в шестой главе он высказывается более определенно и ограничивает для трагедии сферу подражания действительности. 79 Подражать следует лишь действиям, вызывающим страх и сострадание, и, что особенно ограничивает возможности трагедии, — само подражание, по мысли Аристотеля, должно преследовать единственную цель: уничтожение страха и сострадания. Становится очевидным, что подражание актеров своим героям должно вызвать подражание актерам со стороны зрителей; зритель воспринимает художественное произведение посредством вживания в образ актера и уже через образ актера — в образ героя пьесы.
3. ВЖИВАНИЕ У АРИСТОТЕЛЯ
Мы, конечно, не считаем, что восприятие зрителем художественного произведения, его сопереживание в понимании Аристотеля, происходило во времена Аристотеля так же, как это имеет место сейчас, в эпоху высокоразвитого капитализма. Но как бы мы ни понимали катарсис, происходивший в те далекие времена при совершенно чуждых нам обстоятельствах, мы вправе предположить, что у греков в основе катарсиса лежал какой-то вид вживания. Трезвое, критическое, отталкивающееся от реальных жизненных трудностей восприятие зрителя не является основой для катарсиса.
4. ВРЕМЕННОЕ ЛИ ЯВЛЕНИЕ ОТКАЗ ОТ ВЖИВАНИЯ?
Нетрудно предположить, что отказ от вживания, на который наша драматургия вынуждена была пойти, является абсолютно временным актом, который объясняется трудным положением драматургии эпохи высокоразвитого капитализма: ведь современной драматургии приходится изображать реальную жизнь перед зрителем, ведущим острейшую классовую борьбу, при этом она, драматургия, не имеет права ни на йоту смягчать жестокость этой борьбы. Временный отказ от вживания сам по себе еще не говорит против него, по крайней мере, на наш взгляд. Однако маловероятно, чтобы вживание, так же как религия, одной из форм которой оно является, завоевало прежнее положение. Своим упадком вживание несомненно обязано общему упадку и загниванию капиталистического строя, и пережить этот последний вживанию не дано,
80 РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ ТЕАТР И ИЛЛЮЗИЯ68
1
В 1826 году Гете пишет о «несовершенстве английского театра» Шекспира. Он говорит: «Здесь и в помине нет того требования естественности, к которому мы постепенно привыкли благодаря улучшению театральной техники, искусства перспективы и гардероба». Он спрашивает: «Кто согласится нынче на что-либо подобное? При таких условиях драмы Шекспира были очень занятными сказками, но сказками, распределенными между несколькими рассказчиками, которые, чтобы произвести большее впечатление, надевали характерные маски, двигались по мере надобности туда и сюда, приходили и уходили, предоставляя зрителю воображать, что перед ним не пустая сцена, а рай или, если угодно, дворец».
С тех пор как это было написано, техника наших театров улучшалась в течение ста лет, и «требование естественности» привело к такому иллюзионизму, что мы, люди позднего времени, скорее согласились бы смотреть на пустой сцене какого-нибудь Шекспира, чем автора, который не требует, да и не будит воображения. Во времена Гете улучшение техники ради создания иллюзии особых опасений не вызывало, ибо техника эта находилась еще в «младенчестве начал» и была настолько несовершенна, что сам театр все еще оставался реальностью, а воображение и выдумка все еще могли делать из природы искусство. Места зрелищ были еще театрализованными выставками, где постановщики художественно и поэтично воспроизводили тот или иной антураж.
2
Театр буржуазной классики находился в той счастливой промежуточной стадии развития в сторону натуралистического иллюзионизма, когда техника могла дать как раз столько элементов иллюзии, чтобы обеспечить более совершенное воспроизведение природы, но еще не столько, чтобы зритель забыл, что он вообще находится в театре, то есть когда искусство состояло в том, чтобы создать видимость безыскусственности. Без 81 электрической лампочки световые эффекты были еще примитивны; если скверный вкус требовал красок заката, то скверная техника делала это очарование неполным. Подлинный костюм мейнингенцев, обычно пышный, хотя не всегда красивый, все же уравновешивался неестественной речью. Короче говоря, по крайней мере в тех случаях, когда иллюзии не получалось, театр еще показывал себя театром.
Восстановление реальности театра как такового является ныне предпосылкой реалистического отражения социального бытия. При слишком сильной иллюзии в отношении антуража и при «магнетической» манере игры, манере, создающей иллюзию, будто ты оказался свидетелем случайного, «взаправдашнего» события, происходящего вот сейчас, сию минуту, все приобретает такую естественность, что ты уже не даешь воли своим суждениям, своей фантазии, своим реакциям, а покоряешься зрелищу, сопереживаешь его и делаешься объектом «природы». Иллюзия театра должна быть частичной, чтобы в ней всегда можно было распознать иллюзию. Реальность, при всей ее полноте, должна быть изменена уже и художественным ее воспроизведением, чтобы понять, что ее можно и нужно изменить. Отсюда нынешнее наше требование естественности: мы хотим изменить природу нашего социального бытия.
НЕБОЛЬШОЙ СПИСОК НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ И БАНАЛЬНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭПИЧЕСКОГО ТЕАТРА
1
Это искусственная, абстрактная, интеллектуалистская теория, не имеющая ничего общего с действительной жизнью
В действительности она возникла из многолетней практики и неразрывно связана с ней. Пьесы, служащие практическим подтверждением этой теории, шли во многих городах Германии, а одна из них — «Трехгрошовая опера» — была поставлена во всех крупных городах мира. Цитаты из «Трехгрошовой оперы» служили заголовками для политических передовиц, были использованы знаменитыми адвокатами в их речах на суде. 82 Некоторые пьесы были запрещены полицией, а одна получила высшую для драматургии премию — премию Клейста, сама теория эпического театра обсуждалась на университетских семинарах и т. д. Исполнялись эти пьесы как самодеятельными рабочими кружками, так и крупнейшими профессиональными актерами. Существовал также специальный театр на Шиффбауэрдамме, где играли такие артисты, как Елена Вайгель, Неер, Лорре и другие, которые и выработали основные принципы. К этому надо добавить оба театра Эрвина Пискатора, также внесшие свою лепту в разработку отдельных принципов.
2
Нечего выдумывать всякие теории, надо писать драмы. Все остальное не соответствует марксизму
Налицо примитивное смешение понятий идеологии и теории. При этом чаще всего гордо ссылаются на те высказывания Маркса или Энгельса, которые сами относятся к сфере теории. В другой области Ленин определил это как «ползучий эмпиризм».
3
Эпический театр отметает все эмоции. Но ведь нельзя отделять разум от чувства
Эпический театр не отметает эмоции, а исследует их и не ограничивается их «сотворением». В разъединении разума и чувства повинен театр золотой середины, практически вовсе отметающий разум. Его поборники при малейшей попытке привнести в практику театра элементы разума поднимают крик, будто мы собираемся искоренить чувства.
4
Идеи Брехта не новы. Это только так пишется: «Новые идеи Брехта»
Обычно так говорят те, кто нападает на мои идеи отнюдь не потому, что они стары, а у них самих есть идеи поновей. Чаще всего такие высказывания принадлежат 83 людям, ратующим за старые идеи и заинтересованным в том, чтобы и чужие идеи тоже были не новее. В действительности поборники эпического театра постоянно стремятся подтвердить некоторые из своих принципов примерами из истории театра и делают все, чтобы снять налет мнимой новизны, который позволил бы обвинить их в следовании моде. Принцип эпического театра имеет мало общего с эстетикой немецких философов первой половины прошлого столетия. Однако даже эта эстетика (Канта и Гегеля), как указывал и сам Маркс, обычно стоит на голову выше эстетических взглядов «марксистов», которые на деле не знают и не понимают эстетики Канта и Гегеля, не говоря уже об учении Маркса.
5
Мы, американцы (французы, датчане, швейцарцы и т. д.), должны создать свою эстетику, основываясь на наших американских (французских, датских, швейцарских и т. д.) драмах
Швейцарской драматургии не существует, французская существовала в прошлом, американская и датская воспринимаются жителями Европы как чисто европейская. Эпический театр долгое время называли «антинемецким», национал-социалисты считали его просто выродившимся театром. С другой стороны, капитализм — это нечто удивительно интернациональное, и, по общему мнению, он привел к удивительной нивелировке в образе жизни народов разных стран. О том, как можно учиться на чужих ошибках, см. книгу Ленина «Детская болезнь “левизны” в коммунизме».
ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТЕАТРЕ69
Вот уже на протяжении по меньшей мере двух человеческих поколений серьезный европейский театр переживает эпоху экспериментирования. Различные эксперименты не дали пока никакого однозначного отчетливого результата, эпоху эту еще ни в коем случае нельзя считать завершенной. По-моему, эксперименты 84 ведутся по двум линиям, которые порой пересекаются, но могут быть рассмотрены порознь. Обе эти линии развития определяются двумя функциями — развлечения и поучения, то есть театр производил эксперименты, которые должны были усилить его развлекательную сторону, и эксперименты, повышавшие его познавательную ценность.
Что касается развлекательности, то в таком «динамическом», торопящемся жить мире, как наш, прелести ее быстро приедаются. Возрастающему отупению зрителя нужно постоянно противодействовать новыми эффектами. Чтобы развлечь своего рассеянного зрителя, театр должен прежде всего заставить его сосредоточиться. Он должен вырвать его из шумной среды и подчинить своей власти. Театр имеет дело со зрителем, который утомлен, опустошен рационализированным дневным трудом, возбужден всякого рода социальными трениями. Этот зритель убежал из своего собственного маленького мирка, он сидит в зале как беглец. Он — беглец, но одновременно и клиент. Он может прибежать не только сюда, но и куда-нибудь еще. Конкуренция одного театра с другим и театра с кино тоже заставляет предпринимать все новые и новые усилия, чтобы казаться всегда новым.
Глядя, на эксперименты Антуана70, Брама71, Станиславского, Гордона Крэга72, Рейнгардта73, Йесснера, Мейерхольда, Вахтангова и Пискатора, мы видим, что они поразительно обогатили выразительные средства театра. Его способность развлекать безусловно возросла. Например, искусство ансамбля породило необычайно чуткий и эластичный театральный организм. Социальную среду можно обрисовать в мельчайших подробностях. Вахтангов и Мейерхольд позаимствовали у азиатского театра определенные танцевальные формы и создали целую хореографию для драмы. Мейерхольд осуществил радикальный конструктивизм, а Рейнгардт использовал в качестве сцены так называемые естественные площадки74: он ставил «Каждого человека»75 и «Фауста» в общественных местах. Театры на открытом воздухе ставили «Сон в летнюю ночь» прямо в лесу, а в Советском Союзе попытались повторить штурм Зимнего дворца с участием крейсера «Аврора». 85 Барьер между сценой и зрителем оказался сорванным. В рейнгардтовской постановке «Дантона» в Большом драматическом театре актеры сидели в зрительном зале, а в Москве Охлопков посадил зрителей на сцену. Рейнгардт использовал цветочную тропу китайского театра и вышел на цирковую арену, чтобы играть прямо на манеже. Режиссура массовых сцен была усовершенствована Станиславским, Рейнгардтом и Йесснером, причем последний своими лестничными конструкциями возвратил сцене ее третье измерение. Были изобретены вращающаяся сцена и купольный горизонт, был открыт свет. Прожектор принес богатые возможности освещения. Целая световая клавиатура позволила словно волшебством вызывать «рембрандтовский» колорит. Некоторые световые эффекты можно было бы назвать в истории театра «рейнгардтовскими», подобно тому как в истории медицины определенная операция на сердце названа «тренделенбургской»76. Появилось новое проекционное устройство, основанное на принципе рассеивания, и существует новая шумовая режиссура. В актерском искусстве были стерты грани между кабаре и театром, между ревю и театром. Были проведены эксперименты с масками, котурнами и пантомимами. Предпринимались далеко заводящие эксперименты со старым классическим репертуаром. Снова и снова перекраивался и перелицовывался Шекспир. У классиков отняли уже столько характерных черт, что они не сохранили почти ни одной. Мы видели Гамлета в смокинге, а Цезаря в мундире, и по крайней мере смокинг и мундир от этого выиграли и стали респектабельнее. Вы видите, что эксперименты очень не равноценны, и самые броские из них не всегда оказываются самыми ценными, но и наименее ценные не лишены ценности начисто. Например, Гамлет в смокинге — это в отношении Шекспира едва ли большее кощунство, чем обычный Гамлет в шелковых чулках. И то и другое остается исключительно в рамках костюмной пьесы.
В общем, можно сказать, что эксперименты по повышению развлекательности театра отнюдь не оказались безрезультатными. Прежде всего они привели к усовершенствованию машинерии. К тому же они, как сказано, еще не кончились. Более того, они еще не стали всеобщим 86 достоянием, как то свойственно экспериментам других институтов. Новая операция, осуществленная в Нью-Йорке, очень скоро может быть проведена в Токио. С современной техникой сцены этого не происходит. Явная робость художников все еще не позволяет им непринужденно перенимать и разрабатывать результаты экспериментов других художников. Подражание считается в искусстве бранным словом. В этом одна из причин, по которым технический прогресс далеко не таков, каким он мог бы быть. В целом театр далеко еще не доведен до уровня современной техники. В большинстве случаев он все еще беспомощно довольствуется примитивным устройством для вращения сцены, микрофоном и приспособлением из нескольких автомобильных фар. Эксперименты в области актерского искусства также мало используются. Лишь теперь тот или иной актер в Нью-Йорке начинает интересоваться методами школы Станиславского.
Как же обстоит дело с другой, второй функцией, которой наделила театр эстетика, — с поучением? И здесь экспериментируют, и есть определенные результаты. Драматургия Ибсена, Толстого, Стриндберга, Горького, Чехова, Гауптмана, Шоу, Кайзера и О’Нила является драматургией экспериментальной. Это большие опыты по воплощению современности на театре4*.
Мы располагаем социально-критической, «бытовой» драматургией, идущей от Ибсена к Нурдалю Григу77, символической драматургией, ведущей от Стриндберга к Перу Лагерквисту78. У нас есть драматургия, похожая на мою «Трехгрошовую оперу», типа притчи с разрушительным вторжением в идеологию; есть у нас и самобытные формы драмы, разработанные такими поэтами, как Оден79 и Кьель Абелль80, и содержащие — если рассмотреть их чисто технологически — элементы ревю. Порой театру удавалось сообщить некоторые импульсы социальным движениям (таким, как эмансипация женщин, защита законности, борьба за гигиену и даже освободительное движение пролетариата). Надо, однако, 87 сказать, что проникновение театра в социальную жизнь было не особенно глубоким. Это была действительно, как отмечалось критикой, более или менее поверхностная симптоматология социальных явлений. Подлинные общественные закономерности не вскрывались. К тому же эксперименты в области драматургии в конце концов привели к почти полному разрушению фабулы и образа человека. Поставив себя на службу социально-реформистским устремлениям, театр лишился многих своих художественных средств воздействия. Не без основания, хотя часто с весьма сомнительными аргументами, жалуются на опошление художественного вкуса и притупление чувства стиля. Действительно, в результате разнообразных экспериментов в наших театрах получилось какое-то вавилонское столпотворение стилей. На одной и той же сцене, в одном и том же спектакле играют актеры совершенно различной техники. В фантастических декорациях играют натуралистически. Сценическое слово оказалось в самом печальном состоянии: ямб читается как будничная речь, рыночный жаргон ритмизируется и т. д. и т. д. Настолько же беспомощным оказывается современный актер по отношению к жестикуляции. Жестикуляция должна быть индивидуальной, а оказывается всего лишь произвольной; она должна быть естественной, а оказывается всего лишь случайной. Один и тот же актер пользуется жестикуляцией, пригодной для цирка, и мимикой, разглядеть которую из первого ряда партера можно только в бинокль. Итак, распродажа стилей всех эпох, совершенно недобросовестная конкуренция всех возможных и невозможных эффектов! Поистине, сказать, что нет никаких успехов, нельзя, но и сказать, что они обошлись даром, тоже невозможно.
Теперь я подхожу к той фазе экспериментального театра, в которой все упоминавшиеся выше усилия достигли своего самого высокого уровня и тем самым кризиса. На этой фазе все как положительные, так и отрицательные явления этого большого процесса проступили наиболее отчетливо. Итак, усиление развлекательности наряду с развитием техники иллюзии, повышение познавательной ценности и упадок художественного вкуса.
88 Самую радикальную попытку придать театру поучительность сделал Пискатор. Я участвовал во всех его экспериментах, и среди них не было ни одного, который бы не преследовал цели повысить поучительную ценность театра. Речь шла о том, чтобы он непосредственно овладел большими комплексами современных тем, таких, как борьба за нефть, война, революция, правосудие, расовая проблема и т. д. Из этого вытекала необходимость полной перестройки сцены. Здесь невозможно перечислить все открытия и новшества, использовавшиеся Пискатором, которые он применял наряду почти со всеми новейшими достижениями техники, чтобы вывести на сцену большие современные темы. Вы, вероятно, знаете о некоторых из этих новшеств, например, о кино, которое превращало застывший задник в нового участника действия наподобие греческого хора; о ленте транспортера, заставлявшей двигаться планшет сцены, благодаря чему можно было в эпической манере показать, например, как идет на войну бравый солдат Швейк. Эти находки до сих пор не использованы интернациональным театром. Электрическое оборудование сцены сегодня почти забыто, вся хитроумная машинерия покрылась ржавчиной, и все поросло травой.
В чем причины?
Необходимо назвать политические причины краха этого в высшей степени политического театра. Усиление политической познавательности столкнулось с возраставшей политической реакцией. Мы же сегодня ограничимся рассмотрением развития кризиса театра в области эстетики.
Сначала эксперименты Пискатора вызвали в театре полнейший хаос. Если они превращали сцену в машинный зал, то зрительный зал превращался в зал собраний. Для Пискатора театр был парламентом, а публика — законодательной корпорацией. Перед этим парламентом наглядно ставились большие общественные вопросы, настоятельно требовавшие решения. Вместо речи депутата по поводу тех или иных невыносимых социальных условий выступала художественная копия этих условий. Сцена задавалась честолюбивой целью — привести свой парламент, публику, в такое состояние, чтобы на основании преподнесенных ему образов, статистических данных, 89 лозунгов он мог принять политические решения. Театр Пискатора не брезговал аплодисментами, но гораздо больше желал дискуссий. Он стремился не только доставить своему зрителю какое-то переживание, но и добиться от зрителя практического решения, активно вторгнуться в жизнь. Для этого все средства были хороши. Необычайно усложнилась техника сцены. У заведующего постановочной частью в театре Пискатора режиссерский план отличался от плана рейнгардтовского так же, как партитура оперы Стравинского отличается от партии певца, аккомпанирующего себе на лютне. Машинерия, установленная на сцене Ноллендорф-театра, была настолько тяжела, что пол сцены пришлось подкрепить железными и цементными стойками, а под ее сводом было подвешено столько машин, что однажды он прогнулся. Эстетические соображения были целиком и полностью подчинены политическим. Долой написанные декорации, если их можно заменить фильмом, заснятым на месте события и обладающим достоверностью документа. Даешь размалеванный картон, если художник, например Георг Гросс, может сказать что-то важное парламенту публики. Пискатор был готов даже в какой-то мере отказаться от актеров. Когда германский кайзер через пятерых адвокатов заявил протест против желания Пискатора поручить воплощение его персоны актеру, Пискатор только спросил, не пожелает ли сам кайзер выступить у него; он предложил ему, так сказать, ангажемент. Короче говоря, цель была настолько важной и большой, что любые средства казались уместными. Созданию спектакля целиком соответствовало и создание пьес. Над ними коллективно трудился целый штаб драматургов, работа которых подкреплялась и контролировалась штабом специалистов, историков, экономистов и статистиков.
Эксперименты Пискатора взорвали почти всю рутину. Они преобразующе вторглись в творческий метод драматургов, в исполнительский стиль актеров, в работу театрального художника. Они стремились к совершенно новой общественной функции театра вообще.
Революционная буржуазная эстетика, основанная великими просветителями Дидро и Лессингом, определяет театр как место развлечения и поучения. Эпоха Просвещения, 90 способствовавшая значительному подъему европейского театра, не знала никакого противоречия между развлечением и поучением. Чистая развлекательность, даже в предметах чисто трагических, казалась всяким Дидро совершенно пустой и недостойной, если она ничего не давала зрителю, а поучительные элементы, разумеется в художественной форме, отнюдь не казались им помехой развлечению, а делали, на их взгляд, развлечение более глубоким.
Если же мы рассмотрим театр нашего времени, то найдем, что оба конструктивных элемента драмы и театра, развлечение и поучение, все больше и больше вступают в острый конфликт. Сегодня между ними уже существует противоположность.
Уже натурализм с его «онаучиванием искусства», обеспечившим ему социальное влияние, несомненно нанес ущерб художественной силе театра, особенно фантазии, тяготению к игре и собственно поэтическому началу. Элементы назидательности явно вредили элементам художественным.
Экспрессионизм послевоенной эпохи воплотил мир как волю и субъективное представление и привел к своеобразному солипсизму. Он был ответом театра на великий общественный кризис, подобно тому как махизм был ответом на него в философии. Он был бунтом искусства против жизни, и мир существовал для него только как причудливое видение, как порождение испуганного ума. Экспрессионизм, весьма обогативший средства театральной выразительности и принесший до сих пор еще не использованный эстетический урожай, показал полную свою неспособность объяснить мир как объект человеческой практики. Познавательная ценность театра свелась к нулю.
Назидательные элементы в спектаклях Пискатора или в постановке «Трехгрошовой оперы» были, так сказать, вмонтированы; они не вытекали органически из целого, а противоречили ему; они прерывали течение спектакля и событий, они срывали вживание, они были холодными душами для сочувствовавших. Я надеюсь, что морализирующие части «Трехгрошовой оперы» и поучающие сонги в какой-то мере и развлекательны, но нисколько не сомневаюсь, что развлечение это иное, 91 нежели в игровых сценах. Характер этой пьесы двойствен, поучение и развлечение в ней еще находятся на тропе войны. У Пискатора на ней находились актер и машинерия.
Мы не будем здесь разбирать тот факт, что при подобного рода зрелищах публика разбивалась по меньшей мере на две враждебные социальные группы, так что единого художественного восприятия не было; это факт политический. Удовольствие от учения зависит от положения данного класса. Художественный вкус зависит от политической позиции, благодаря чему ее можно спровоцировать и принять. Но даже имея в виду только ту часть публики, которая политически идет за спектаклем, мы увидим, как обостряется конфликт между силой развлечения и ценностью поучения. Это совершенно новый способ учиться, который уже не вяжется со старым способом развлекаться. На дальнейшей стадии экспериментов всякое усиление познавательности тотчас приводило к ослаблению развлекательности. («Это уже не театр, а народный университет».) С другой стороны, воздействие на нервы зрителя эмоциональной игрой всегда угрожало познавательной ценности спектакля. (В интересах поучения часто плохих актеров приходилось предпочитать хорошим.) Другими словами, чем больше бывали задеты нервы публики, тем меньше она оказывалась в состоянии воспринимать поучение. Это означает, что чем больше подвигали публику на соучастие, сочувствие, сопереживание, тем меньше замечала она взаимосвязей, тем меньше училась, а чем больше преподносилось поучений, тем меньше доставлялось ей художественного наслаждения.
Это был кризис. На протяжении полувека эксперименты, совершавшиеся почти во всех цивилизованных странах, завоевали театру совершенно новый круг тем и проблем, превратив его в фактор большого социального значения. Однако они привели театр к такому состоянию, при котором дальнейшее развитие познавательного, социального (политического) восприятия должно было разрушить восприятие художественное. С другой стороны, без дальнейшего развития познавательного восприятия все менее достижимым становился художественный эффект. Развился такой технический 92 аппарат и такой стиль исполнения, который скорее мог создать иллюзию, чем передать опыт, скорее опьянить, чем возвысить, скорее заморочить голову, чем просветить.
Чего стоила конструктивистская сцена, если она не была конструктивна социально; чего стоят прекраснейшие осветительные устройства, если они освещают лишь искаженные и ребяческие изображения мира; чего стоит суггестивное актерское искусство, если оно служит лишь превращению X в Y? Что толку в наборе волшебных средств, если они ничего, кроме искусственных заменителей настоящих переживаний, дать не могут? Зачем без конца освещать проблемы, которые всегда оставались неразрешенными? Щекотать не только нервы, но и разум? Останавливаться на этом нельзя было.
Дальнейшее развитие наталкивало на слияние обеих функций: развлечения и поучения.
Если все эти усилия претендовали на социальный смысл, то они в конечном итоге должны были подвести театр к такому состоянию, чтобы он с помощью художественных средств мог набросать образ мира, создать модели человеческого общежития, которые позволили бы зрителю понять его социальную среду и освоить ее разумом и чувствами.
Сегодняшний человек мало знает о закономерностях, управляющих его жизнью. Как существо общественное, он реагирует в большинстве случаев чувствами, но такая эмоциональная реакция расплывчата, не точна, не эффективна. Источники его чувств и страстей столь же захламлены и загрязнены, как и источники его знаний. Живя в быстро меняющемся мире и сам быстро меняясь, сегодняшний человек не обладает картиной этого мира, которая бы соответствовала действительности и на основании которой он мог бы действовать с видами на успех. Его представления о человеческом общежитии искажены, неточны и противоречивы; его образ мира, человеческого мира, таков, что его можно было бы назвать непригодным для использования, то есть с таким образом мира человек освоить этот мир не сможет. Человеку неизвестно, от кого он зависит, он не умеет вторгаться в социальную межнику, а это необходимо, 93 чтобы добиться желаемого эффекта. Знание природы вещей, необычайно и столь изобретательно расширенное и углубленное, без знания природы человека, человеческого общества во всей его совокупности не в состоянии превратить овладение природой в источник человеческого счастья. Оно куда скорее станет источником несчастья. Поэтому великие изобретения и открытия становились лишь все более страшной угрозой человечеству, и сегодня почти каждое новое изобретение лишь поначалу принимается с торжествующим криком, а потом он переходит в вопль страха.
До войны я пережил у радиоприемника поистине историческую сцену: институт физика Нильса Бора81 в Копенгагене давал интервью в связи с ошеломляющим открытием в области расщепления атома. Физики сообщали, что открыт новый, неслыханный источник энергии. Когда корреспондент спросил, возможно ли уже практическое использование опыта, ему ответили: нет, пока еще нет. И тогда корреспондент с чувством величайшего облегчения сказал: «Слава богу! Я в самом деле думаю, что человечество абсолютно не созрело еще для обладания таким источником энергии!» Было очевидно, что он тотчас подумал о военной промышленности. Физик Альберт Эйнштейн не заходит настолько далеко, но все же заходит достаточно далеко, когда в нескольких фразах, предназначенных для будущих поколений как информация о нашем времени (капсула с этим текстом будет зарыта в землю в дни всемирной выставки в Нью-Йорке), пишет следующее: «Наше время богато изобретательными умами, открытия которых могли бы значительно облегчить нашу жизнь. С помощью силы машин мы пересекаем моря, а также используем ее для освобождения людей от всякой утомительной мускульной работы. Мы научились летать и способны с помощью электрических волн распространять наши сообщения и новости по всему свету. Однако производство и распределение товаров совершенно не организовано, отчего каждый живет под страхом исключения из экономического круговорота. Кроме того, люди, живущие в разных странах, через неравномерные промежутки времени убивают друг друга, так что каждый, кто размышляет о будущем, вынужден 94 жить в страхе. Это происходит оттого, что интеллект и характер масс несравненно ниже интеллекта и характера тех немногих, которые производят ценности для общества».
Итак, тот факт, что освоение природы, в котором мы ушли далеко, не приносит людям счастья, Эйнштейн объясняет тем, что люди в общем не научены применять с пользой открытия и изобретения5*. Они слишком мало знают о своей собственной природе. То, что люди слишком мало знают о себе, виною тому, что их знания о природе не приносят им пользы. Действительно, страшное угнетение и эксплуатация человека человеком, кровопролитные войны и всякого рода «мирные» унижения стали уже на всей планете чем-то чуть ли не естественным; однако по отношению к этим естественным явлениям человек, к сожалению, вовсе не так изобретателен и деятелен, как в отношении других явлений природы. Бесчисленному множеству людей, например, большие войны представляются чем-то вроде землетрясений, то есть стихийных бедствий, но в то время как с землетрясениями люди справляются, они не могут справиться с самими собой. Понятно, сколь много можно было бы выиграть, если бы, например, театр да и вообще искусство были в состоянии дать практически полезную картину мира. Искусство, которое сумело бы это совершить, глубоко вторглось бы в общественное развитие; оно перестало бы сообщать всего лишь более или менее смутные импульсы и открыло бы чувствующему и мыслящему человеку мир, человеческий мир для практической деятельности.
Однако проблема эта оказалась во всех отношениях не простой. Уже самое поверхностное исследование показывает, что искусству для выполнения его задачи — возбуждения эмоций, создания определенных переживаний — совершенно не нужны правдивые образы мира, точные картины столкновений между людьми. Оно достигает эффекта и с помощью несовершенных, обманчивых 95 или устаревших образов мира. С помощью художественного внушения, которое оно умеет использовать, искусство придает самым вздорным утверждениям о человеческих отношениях видимость истины. Чем оно сильнее, тем меньше поддаются контролю картины, им созданные. Логику заменяет воодушевление, доводы — красноречие. Правда, эстетика требует определенного правдоподобия изображаемых событий, ибо в противном случае произведение не окажет или почти не окажет воздействия. Но при этом речь идет о чисто эстетическом правдоподобии, о так называемой логике искусства. Поэту разрешено иметь собственный мир, у этого мира собственные закономерности. Если те или иные элементы искажены, то искажены должны быть и другие элементы, и принцип искаженности нужно проводить довольно последовательно, чтобы спасти целое.
Искусство добивается этой привилегии — создавать собственный мир, который может и не совпадать с другим миром, — благодаря одному своеобразному феномену: основанному на внушении вживанию зрителя в артиста, а через него в персонажей и события на сцене. Вот этот принцип вживания мы и рассмотрим.
Вживание — вот краеугольный камень господствующей эстетики. Уже в великолепной эстетике Аристотеля описывается, как катарсис, то есть душевное очищение зрителя, достигается с помощью мимезиса82. Актер подражает героям (Эдипу или Прометею) и делает это с такой убедительностью, с такой силой перевоплощения, что зритель подражает в этом актеру и таким образом начинает обладать переживаниями героя. Гегель, создавший, насколько мне известно, последнюю великую эстетику83, указывает на способность человека испытывать при виде вымышленной действительности такие же чувства, как и при виде действительности подлинной. И вот я хочу сообщить вам, что ряд опытов по созданию практически полезной картины мира средствами театра привел к ошеломляющему вопросу: не следует ли для этого в большей или меньшей степени отказаться от вживания?
Если человечество со всеми его отношениями, действиями, нравами и институтами не рассматривать как нечто незыблемое, неизменяемое и если занять по отношению 96 к нему ту же позицию, Которую вот уже несколько веков люди с таким успехом занимают по отношению к природе, — критическую, рассчитывающую на перемены, нацеленную на овладение природой, — тогда вживание применять нельзя. Вжиться в изменчивых людей, в устранимые обстоятельства, в излечимую боль и т. д. невозможно. До тех пор пока в груди короля Лира горит звезда его судьбы, шока он воспринимается неизменяемым, а действия его изображаются обусловленными самой природой, совершенно неизбежными, предопределенными роком, мы можем в Лира вживаться. Любая дискуссия о его поведении так же невозможна, как для человека X века невозможна была дискуссия о расщеплении атома.
Если между сценой и публикой устанавливался контакт на основе вживания, зритель был способен увидеть ровно столько, сколько видел герой, в которого он вжился. И по отношению к определенным ситуациям на сцене он мог испытывать такие чувства, которые разрешало «настроение» на сцене. Впечатления, чувства и мысли зрителя определялись впечатлениями, чувствами, мыслями действовавших на сцене лиц. Сцена вряд ли могла вызывать иные чувства, допускать иные впечатления, сообщать иные мысли, кроме тех, которые она гипнотически представляла. Гнев Лира на его дочерей заражал и зрителя, то есть, глядя на сцену, зритель мог испытывать только гнев, а не, скажем, удивление или беспокойство, то есть другие чувства. Следовательно, о справедливости гнева Лира судить было нельзя, как нельзя было предсказать возможных его последствий. О нем нельзя было дискутировать, его можно было только разделять. Таким образом, общественные явления выступали вечными, естественными, неизменными и неисторическими феноменами и дискуссии не подлежали. Употребляя слово «дискуссия», я подразумеваю под этим не бесстрастное обсуждение какой-либо темы, а чистый процесс мышления. Речь шла не о том, чтобы сделать зрителя просто-напросто равнодушным к гневу Лира. Избавиться надо было лишь от непосредственного заражения этим гневом. Например: гнев Лира разделяет его верный слуга Кент. Кент избивает слугу неблагодарной дочери, который по ее приказу отказывается 97 исполнить желание Лира. А должен ли зритель нашего времени разделять этот гнев Лира и, внутренне участвуя в избиении слуги, выполняющего приказ, одобрять это избиение? Вопрос был вот в чем: как сыграть эту сцену, чтобы зритель, наоборот, разгневался на гнев Лира? Только такой гнев, который вывел бы зрителя из состояния вживания и ощутить который можно вообще только тогда, когда зритель разрушит гипнотические чары сцены, может быть в наше время социально оправдан. Именно об этом говорил великолепные вещи Толстой.
Вживание — это великое средство искусства эпохи, в которую человек — величина переменная, а среда — постоянная. Вжиться можно только в того человека, в груди которого горит звезда его судьбы, не похожей на нашу.
Нетрудно понять, что отказ от вживания был бы для театра великим переломом, вероятно, самым большим из всех мыслимых экспериментов.
Люди ходят в театр для того, чтобы их захватили, зачаровали, взволновали, возвысили, возмутили, увлекли, освободили, рассеяли, спасли, возбудили, перенесли в другое время, наделили иллюзиями. Все это настолько само собой разумеется, что искусство и определяется тем, что оно освобождает, захватывает, возвышает и т. д. Оно перестает быть искусством, если не делает всего этого.
Следовательно, вопрос стоит так: можно ли вообще наслаждаться искусством без вживания или хотя бы на иной основе, чем вживание?
Что же могло бы служить этой новой основой?
Чем можно было бы заменить страх и сострадание, эту классическую пару, необходимую для получения аристотелевского катарсиса? Если отказаться от гипноза, то к чему можно было бы апеллировать? Какую позицию должен занять зритель в новых театрах, если ему отказать в мечтательно-пассивной позиции, покорности судьбе? Зрителя нельзя уже уводить из его мира в мир искусства, нельзя уже похищать, как ребенка; напротив, его нужно ввести в его же реальный мир с ясной головой. Возможно ли страх перед судьбой заменить, например, жаждой знания, а сострадание — готовностью 98 оказать помощь? Нельзя ли таким путем создать новый контакт между сценой и зрителем, не может ли это стать новой основой для наслаждения искусством? Я не могу описывать здесь ту новую технику построения драмы, построения сцены и актерской игры, опыты с которой мы ставили. Принцип заключается в том, чтобы вместо вживания ввести очуждение.
Что такое очуждение?
Произвести очуждение события или характера — значит прежде всего просто лишить событие или характер всего, что само собой разумеется, знакомо, очевидно, и вызвать по поводу этого события удивление и любопытство. Возьмем снова гнев Лира на неблагодарность его дочерей. Используя технику вживания, актер может представить этот гнев так, что зрителю он покажется самой естественной вещью в мире, и зритель не сможет даже представить себе, как это Лир способен был не разгневаться; зритель будет вполне солидарен с Лиром и, полностью вжившись в него, также впадет в гнев. С помощью же техники очуждения актер изобразит гнев Лира так, что зритель сможет ему удивиться и представить себе другие реакции Лира, а не только его гнев. Поведение Лира будет очуждено, то есть оно будет изображено самобытным, бросающимся в глаза, примечательным, как общественное явление, которое отнюдь не разумеется само собой. Такой гнев человечен, но не общечеловечен; есть люди, которые его не испытают. Не у всех людей и не во все времена испытанное Лиром должно вызывать гнев. Пусть гнев — вечно возможная человеческая реакция, но данный гнев, выражающийся данным образом и вызванный данными причинами, обусловлен определенной эпохой. Следовательно, очуждать — это значит историзировать, изображать события и персонажи как нечто историческое, преходящее. Разумеется, то же самое может произойти и с современниками: их поведение тоже можно представить как обусловленное эпохой, историческое, преходящее.
Что этим достигается? Этим достигается то, что зритель уже не видит на сцене людей не подверженными никаким влияниям и переменам, беспомощными перед судьбой. Он видит: данный человек таков, потому что таковы обстоятельства. А обстоятельства таковы потому, 99 что таков человек. Однако этого человека можно представить себе и не таким, каков он есть, а другим, каким он мог бы стать, и обстоятельства тоже можно представить себе иными, чем они есть. В результате зритель обретает в театре новую позицию. По отношению к картинам человеческой жизни он обретает теперь такую же позицию, какую человек нашего века занимает по отношению к природе. Он и в театре будет воспринимать мир с позиции великого преобразователя, который может вмешиваться в процессы природы и процессы общественные, который не только воспринимает мир, но и совершенствует его. Театр уже не пытается опьянить зрителя, наделить его иллюзиями, заставить забыть собственный мир, примирить с собственной судьбой. Теперь театр открывает ему мир для активных действий.
Техника очуждения разрабатывалась в Германии в новой серии экспериментов. В берлинском театре на Шиффбауэрдамме предпринимались попытки создать новый стиль исполнения. В этом участвовали наиболее одаренные актеры молодого поколения. Речь идет о Вайгель, Петере Лорре, Оскаре Гомолке, Неере и Буше. Опыты нельзя было проводить так методично, как (правда, в другом направлении) в труппах Станиславского, Мейерхольда и Вахтангова (не было государственной поддержки), но зато они проводились на более широком поле, не только в профессиональном театре. Артисты участвовали в опытах, которые ставились в школах, рабочих хорах, любительских кружках и т. д. С самого начала вместе с профессионалами воспитывались и любители. Опыты привели к большому упрощению аппарата, стиля исполнения и тематики.
Речь шла исключительно о продолжении прежних экспериментов, особенно экспериментов театра Пискатора. Уже в последних опытах Пискатора последовательное усовершенствование технического аппарата привело в итоге к тому, что освоенная наконец машинерия сделала возможной прекрасную простоту актерской игры. Так называемый эпический стиль исполнения, выработанный нами в театре на Шиффбауэрдамме, сравнительно быстро раскрыл свои артистические качества, и неаристотелевская драматургия занялась большими социальными 100 темами в больших масштабах. Теперь открылись возможности превращения искусственных танцевальных и групповых элементов мейерхольдовской школы в художественные, а натуралистических элементов школы Станиславского в реалистические. Сценическое слово было объединено с жестикуляцией, а повседневная речь и декламация стихов обрели свою форму на основе так называемого жестового принципа. Было полностью революционизировано оформление сцены. Вольное использование пискаторовских принципов позволило создать поучающую и в то же время красивую сцену. Оказалось возможным ликвидировать как символизм, так и иллюзионизм, а нееровский принцип построения декораций по выявленным на репетициях потребностям позволил театральному художнику извлекать для себя выгоду из игры актеров и влиять на нее. Драматург мог предпринимать свои опыты в постоянном контакте с актером и художником, испытывая их влияние и влияя на них. Одновременно художник и композитор вернули себе самостоятельность и могли поставить на службу теме свои собственные художественные средства: синтетическое произведение искусства выступило перед зрителями в отдельных своих элементах.
Классический репертуар с самого начала являлся базой для многих опытов. Художественные средства очуждения открыли широкий доступ к живым ценностям драматургов других эпох. Благодаря очуждению появилась возможность поставить старые пьесы, развлекая и поучая, без разрушительной актуализации и без музейного отношения к ним.
На современном любительском театре (рабочем, студенческом, детском) особенно плодотворно оказывается освобождение его от необходимости пользоваться гипнозом. Стало возможно провести границу между игрой любителей и профессионалов, не покушаясь на основные функции театральной игры.
На этой новой основе можно было соединить такие разные манеры игры, как, например, труппы Вахтангова и Охлопкова и рабочих трупп. Разнообразнейшие эксперименты последнего пятидесятилетия получили, кажется, базу для их реализации.
101 Однако описать эти эксперименты не так-то просто, а поэтому я здесь просто ограничусь утверждением, что мы надеемся действительно осуществить наслаждение искусством на основе очуждения. Это не так уж и удивительно, поскольку — с точки зрения чисто технической — театры предшествующих эпох уже достигали художественного воздействия с помощью эффекта очуждения, например, китайский театр, классический испанский театр, народный театр эпохи Брейгеля84 и елизаветинский театр.
Является ли этот новый стиль исполнения искомым новым стилем; является ли он законченной, доступной обозрению техникой, окончательным результатом всех экспериментов? Ответ: нет. Это один из путей, по которому пошли мы. Опыты следует продолжать. Проблема эта стоит перед всем искусством, и проблема гигантская. Решение, к которому мы стремились, лишь одно из возможных решений проблемы, которая сводится к следующему: как сделать театр одновременно и развлекательным и поучающим? Как отторгнуть его от торговли духовным дурманом и из очага иллюзий превратить в очаг опыта? Каким путем несвободный, невежественный, жаждущий свободы и знаний человек нашего века, мучимый, героический, унижаемый, изобретательный, изменяющийся и изменяющий мир человек нашего ужасного и великого века сможет обрести свой театр, который поможет ему усовершенствовать себя и мир?
1939
102 НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ АКТЕРСКОЙ ИГРЫ, ВЫЗЫВАЮЩЕЙ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ «ЭФФЕКТ ОЧУЖДЕНИЯ»85
Ниже делается попытка описать технику актерской игры, которая была использована в некоторых театрах [1]6*, чтобы представить зрителю «очужденно» те события, которые ему надлежит показать. Цель техники «эффекта очуждения» — внушить зрителю аналитическое, критическое отношение к изображаемым событиям. Средства — художественные.
Предпосылкой применения «эффекта очуждения» для названной цели является освобождение сцены и зрительного зала от всего «магического», уничтожение всяких «гипнотических полей». Поэтому мы отказались от попытки создавать на сцене атмосферу того или иного места действия (комната вечером, осенняя дорога) [2], а также от попытки вызвать определенное настроение ритмизованной речью; мы не «подогревали» публику безудержным темпераментом актеров, не «завораживали» ее псевдоестественной игрой; короче говоря, мы не стремились к тому, чтобы публика впала в транс, не стремились внушить ей иллюзию, будто она присутствует при естественном, не заученном заранее действии. Как читатель увидит ниже, стремление публики впасть в подобную иллюзию должно быть нейтрализовано определенными художественными средствами [3].
Предпосылкой для возникновения «очуждения» является следующее: все то, что актеру нужно показать, он 103 должен сопровождать отчетливой демонстрацией показа. Представление о некоей четвертой стене, которая якобы отделяет сцену от публики, вследствие чего возникает иллюзия, будто события на сцене происходят в действительности, без присутствия публики, — это представление, разумеется, следует отбросить. При таких обстоятельствах актер в принципе может обращаться непосредственно к публике [4].
Контакт между публикой и сценой обычно устанавливается на почве перевоплощения. Актер целиком сосредоточивает свои силы на стремлении осуществить этот, психологический акт и, можно сказать, видит в перевоплощении основную цель своего искусства [5]. Уже из наших вводных замечаний следует, что техника, которая вызывает «очуждение», диаметрально противоположна технике, обусловливающей перевоплощение. Техника «очуждения» дает актеру возможность не допустить акта перевоплощения.
Однако, стремясь представить определенных лиц и показать их поведение, актеру не следует полностью отказываться от средств перевоплощения. Он использует эти средства лишь в той степени, в какой всякий человек, лишенный актерских способностей и актерского честолюбия, использовал бы их, чтобы представить другого человека, то есть его поведение. Показ поведения других людей происходит ежедневно при бесчисленных обстоятельствах (свидетели несчастного случая показывают вновь подошедшим поведение потерпевшего, шутники имитируют смешную походку приятеля и т. п.), причем лица, показывающие других, не пытаются навязать своим зрителям какую бы то ни было иллюзию. И все же они в известной степени перевоплощаются в изображаемых лиц, усваивая их манеру поведения.
Как сказано, наш актер тоже использует этот психологический акт. Однако в противоположность обычному методу игры, когда акт перевоплощения осуществляется во время самого представления с целью побудить и зрителя перевоплотиться, наш актер будет осуществлять акт перевоплощения лишь на предварительной стадии, во время репетиционной работы над ролью.
Чтобы избежать слишком «импульсивного», беспрепятственного и некритического представления лиц и событии, 104 можно проводить больше, чем это обычно принято, репетиций за столом. Актеру нельзя слишком рано «вживаться в образ», он должен как можно дольше оставаться читателем (не превращаясь в чтеца). Важным приемом является запоминание первых впечатлений.
Актер должен читать свою роль, сохраняя по отношению к ней удивление и стремление возражать. Он должен положить на чашу весов не только ход событий, о которых он читает, но и поступки своего персонажа, о которых он узнает, и все своеобразие этих поступков; он не имеет права считать их заранее данными, такими, которые «не могли бы быть иными», которые «полностью вытекают из характера персонажа». Прежде чем запомнить слова роли, он должен запомнить, чему он удивлялся и по поводу чего возражал. Именно эти моменты должны быть отражены в его исполнении.
Когда актер выходит на сцену, он, показывая, что делает, должен во всех важных местах заставить зрителя заметить, понять, почувствовать то, чего он не делает; то есть он играет так, чтобы возможно яснее была видна альтернатива, так, чтобы игра его намекала на другие возможности, представляла лишь один из допустимых вариантов. Например, он говорит: «Ты за это поплатишься» — и не говорит: «Я тебя прощаю». Он ненавидит своих детей, а это значит, что он их не любит. Он идет вперед налево, а не назад направо. В том, что он делает, должно содержаться и отменяться то, чего он не делает. Таким образом, всякая фраза, всякий жест означают решение; персонаж остается под контролем зрителя, подвергается испытанию. Техническое выражение для этого приема: фиксирование «не — а».
Актер не допускает на сцене полного перевоплощения в изображаемый им персонаж. Он не Лир, не Гарпагон, не Швейк, он этих людей показывает. Он передает их высказывания со всей возможной естественностью, он изображает их манеру поведения, насколько это ему позволяет его знание людей, но он отнюдь не пытается внушить себе (а тем самым и другим), что он целиком перевоплотился. Актеры поймут, чтó именно имеется здесь в виду, если в качестве примера игры без полного перевоплощения привести игру режиссера или другого актера, 105 который показывает какое-нибудь особо трудное место роли. Поскольку речь не идет о его собственной роли, постольку он и не перевоплощается полностью, он подчеркивает техническую сторону игры и сохраняет при этом позицию советующего [6].
Если актер отказался от полного перевоплощения, то текст свой он произносит не как импровизацию, а как цитату [7]. Ясно, что в эту цитату он должен вкладывать все необходимые оттенки, всю конкретную человеческую пластичность; также и жест, который он показывает зрителю и который теперь представляет собой копию [8], должен в полной мере обладать жизненностью человеческого жеста.
При методе игры с неполным перевоплощением способствовать «очуждению» высказываний и поступков представляемого персонажа могут три вспомогательных средства:
1. Перевод в третье лицо.
2. Перевод в прошедшее время.
3. Чтение роли вместе с ремарками и комментариями.
Использование формы третьего лица и прошедшего времени дает актеру возможность соблюдать необходимую дистанцию между собою и персонажем. Кроме того, актер сочиняет ремарки и комментарии к своему тексту и на репетиции их произносит. («Он встал и говорил сердито, потому что был голоден…», или: «Он впервые слышал об этом и не знал, правда ли это…», или: «Он улыбнулся и слишком беззаботно сказал…».) Произнесение ремарок в третьем лице приводит к тому, что обе интонации сталкиваются друг с другом, причем вторая (собственно, текст) подвергается очуждению. Кроме того, «очуждается» и исполнение благодаря тому, что оно фактически осуществляется уже после того, как было предвосхищено и охарактеризовано словами. Использование прошедшего времени отодвигает говорящего на такую точку, с которой он может оглядываться назад, на произносимую им реплику. При этом реплика тоже «очуждается», в то время как точка зрения говорящего отнюдь не нереальна, ибо в противоположность слушателю, актер ведь читал пьесу до конца и потому, зная развязку, может с позиции последствий лучше судить о 106 реплике, чем слушатель, который знает меньше актера и которому данная реплика более чужда.
Благодаря такому комбинированному методу текст «очуждается» на репетициях и в целом остается «очужденным» и после, во время спектакля [9]. Необходимость и возможность варьирования самой манеры произнесения текста следует из непосредственного обращения актера к публике, в зависимости от большей или меньшей значимости той или иной реплики. Примером может служить выступление свидетелей на суде. Подчеркивание персонажами достоверности их утверждений должно быть выражено особыми художественными средствами. Если актер обращается прямо к публике, то это должно быть настоящим, в полном смысле слова, обращением и не может быть «репликой в сторону» или монологом старого театра. Чтобы извлечь из стиха полный «эффект очуждения», актер поступит правильно, если сначала будет передавать содержание стихов обыкновенной прозой, сопровождая ее, по возможности, жестикуляцией, предназначенной для стихотворного текста. Смелая и красивая архитектоника речевых форм «очуждает» текст. (Прозу можно «очуждать», произнося ее на диалекте, родном для данного актера.)
О жесте речь пойдет ниже, однако здесь следует сказать, что все эмоциональное должно быть выражено внешними приемами, то есть соответствующими жестами. Актер должен найти внешнее, наглядное выражение для переживания своего персонажа, по возможности такую манеру поведения, которая выдает происходящие в нем движения души. Соответствующая эмоция должна быть выделена, она должна стать самостоятельной, чтобы ее можно было представить крупным планом. Особое изящество, сила, обаяние жеста способствуют «очуждению».
Большого мастерства в использовании жеста достигло китайское сценическое искусство. Китайский актер добивается «эффекта очуждения» тем, что сам, открыто для зрителя, наблюдает за своими движениями [10].
То, чего достиг актер в смысле жеста, произнесения стиха и т. д., должно быть отработано, на всем этом должна лежать печать завершенности. Должно возникнуть впечатление легкости, как результат преодоления трудностей. Актер должен дать зрителю возможность без 107 труда воспринять его, актера, собственное мастерство, свободное преодоление им технических затруднений. Актер в совершенной форме представляет зрителю событие так, как оно, по его мнению, происходило в действительности или могло произойти. Он не скрывает, что заучил его, подобно тому как акробат не скрывает тренированности своих движений, он подчеркивает, что это его, актера, высказывание, его мнение, его версия данного события [11].
Ввиду того что актер не отождествляет себя с персонажем, которого изображает, он может избрать по отношению к этому персонажу определенную позицию, выразить свое мнение по его поводу и побудить к критике зрителя, который тоже уже не должен перевоплощаться [12].
Позиция, на которую он становится, является социально-критической позицией. Толкуя события и характеризуя персонажи, актер выделяет те черты, которые представляют общественный интерес. Так его игра становится коллоквиумом (по поводу общественных условий) с публикой, к которой он обращается. Он дает зрителям возможность в зависимости от их классовой принадлежности оправдать или отвергнуть эти общественные условия [13].
Целью «эффекта очуждения» является: представить в «очужденном» виде «социальный жест», лежащий в основе всех событий. Под «социальным жестом» мы разумеем выражение в мимике и жесте социальных отношений, которые существуют между людьми определенной эпохи [14].
Формулировка общественного значения события, которая дает обществу ключ к пониманию, облегчается титрами к отдельным сценам [15]. Эти заголовки должны носить исторический характер.
Здесь мы подходим к техническому приему, имеющему решающее значение, — к историзации.
Актер должен изображать всякое событие как историческое. Историческое событие — это событие преходящее, неповторимое, связанное с определенной эпохой. В ходе его складываются взаимоотношения людей, и эти взаимоотношения носят не просто общечеловеческий, вечный характер, они отличаются специфичностью, и они 108 подвергаются критике с точки зрения последующей эпохи. Непрерывное развитие отчуждает нас от поступков людей, живших до нас.
Историк сохраняет дистанцию по отношению к событиям и позициям людей в прошлом; такую же дистанцию должен сохранять и актер — и к событиям и к отношениям современных ему людей. Эти события и этих людей он должен представить нам «очужденно».
События и люди повседневной жизни, непосредственного окружения кажутся нам чем-то естественным, потому что они привычны для нас. «Очуждение» их имеет целью сделать их для нас броскими. Наука тщательно разработала технику сомнения, недоверия к явлениям бытовым, «само собой разумеющимся», никогда не возбуждавшим сомнений; нет никаких причин, чтобы искусство не усвоило этой бесконечно полезной позиции. Такая позиция в науке явилась следствием роста творческих сил человека, и в искусстве она должна возникнуть на той же основе.
Что касается эмоциональной области, то опыты использования «эффекта очуждения» в немецких спектаклях «эпического театра» показали, что и этот метод актерской игры возбуждает эмоции, хотя и эмоции другого рода, нежели вызываемые обычным театром. Критическая позиция зрителя — это позиция, безусловно, эстетическая. «Эффект очуждения» кажется в описании менее естественным, чем в живом воплощении. Разумеется, такой метод игры не имеет ничего общего с ходовой «стилизацией». Главным преимуществом «эпического театра» с его «эффектом очуждения» (единственная цель которого — так показать мир, чтобы вызвать желание изменить его) является как раз его естественность, его земной характер, его юмор и его отказ от всякой мистики, которая испокон веков свойственна обычному театру.
ПРИЛОЖЕНИЕ
[1] «Жизнь Эдуарда II Английского»86 по Марло («Мюнхенер каммершпиле»). «Барабанный бой в ночи» («Дойчес театр», Берлин). «Трехгрошовая опера» (театр на Шиффбауэрдамме, Берлин). «Пионеры из Ингольштадта»87 (театр на Шиффбауэрдамме, Берлин). «Расцвет 109 и падение города Махагони», опера (театр «Курфюрстендам» Ауфрихта, Берлин). «Что тот солдат, что этот» («Штатстеатер», Берлин). «Мероприятие» («Гросес шаушпильхауз», Берлин). «Приключения бравого солдата Швейка» (театр Пискатора «Ноллендорф»). «Круглоголовые и остроголовые» («Риддерзален», Копенгаген). «Винтовки Тересы Каррар» (Копенгаген, Париж). «Страх и нищета Третьей империи» (Париж).
[2] Если в эпическом театре объектом представления становится определенная атмосфера, потому что она объясняет те или иные действия персонажей, то эта атмосфера должна подвергнуться «очуждению».
[3] Примеры механических средств: очень яркое освещение сцены (ввиду того, что сумрак на сцене в сочетании с полной темнотой в зрительном зале скрывает от зрителя его соседа, скрывает его самого от соседа и, таким образом, в большей степени лишает зрителя спокойной трезвости), а также видимость источников освещения.
[4] Обращение актера к публике. Обращение актера к публике должно быть самым свободным и непосредственным. Просто ему нужно кое-что сообщить и представить людям, и позиция просто сообщающего и представляющего должна стать теперь основой всех его действий. В данном случае нет еще никакой разницы, где он это рассказывает и показывает публике, — на улице, в комнате или на сцене, на этих подмостках, специально сооруженных и приспособленных для сообщений и представлений. Что из того, что на нем особый костюм и что лицо его измазано гримом? Почему это так, он может с одинаковым успехом объяснить как до игры, так и после. Но не должно возникать впечатления, будто задолго до этого достигнута договоренность, согласно которой в определенный час некие события должны здесь происходить так, словно они происходят без предварительной подготовки, «естественным» образом; договоренность, которая включает и условие о том, что никакой договоренности якобы не было. Человек появляется перед залом и публично показывает какие-то события, а вместе с тем и самый показ. Актер будет изображать другого человека, но не так, не в такой степени, чтобы казалось, что он и есть тот, другой человек, он не будет стремиться к тому, чтобы он сам, актер, был при этом забыт. Его 110 личность остается такой же обычной личностью, непохожей на других, с присущими ей чертами, которая именно этим похожа на всех тех, кто смотрит на данного актера.
[5] Ср. следующие высказывания известного датского актера Пауля Реумерта:
«… Когда я чувствую, что умираю, когда я действительно это чувствую, тогда это чувствуют и все другие; когда я делаю вид, что сжимаю в руке кинжал и весь исполнен единственного желания — убить этого ребенка, все содрогаются… Все это — проблема работы мысли, вызываемой чувствами, или, если угодно, наоборот: чувство, могущественное, как одержимость, которое превращается в мысль. Если это преобразование удается, тогда оно заразительнее всего на свете и тогда все внешнее абсолютно безразлично…»
Ср. также высказывание Рапопорта в «Работе актера» («Тиэтр уоркшоп», октябрь, 1936)88:
«Для того чтобы найти в себе серьезное отношение к окружающей вас на сцене неправде как к правде, вы должны это отношение оправдать. Найти оправдание вы должны при помощи своей творческой фантазии.
… Возьмите любой предмет, скажем, шапку, положите ее на стол или на пол и постарайтесь отнестись к ней как крысе, как бы поверить сценически в то, что это уже не шапка, а крыса. Чтобы найти серьезное отношение к шапке как к крысе, оправдайте три помощи вашей творческой фантазии, что это крыса, какой величины, какого цвета, чем можно сделать в своем воображении шапку похожей на крысу»7*.
Можно подумать, что это учебник колдовства, однако это учебник актерского искусства якобы по системе Станиславского. Позволительно спросить: неужели метод, обучающий человека внушать публике, что она видит крыс там, где таковых нет, неужели такой метод в самом деле приспособлен для распространения истины? Можно без всякого актерского искусства, лишь применив достаточное количество алкоголя, чуть ли не каждого человека довести до того, что он везде будет видеть если не крыс, то, во всяком случае, белых мышей.
111 [6] Одно из отличных упражнений: актер обучает своей роли других актеров (ученика, актера другого пола, партнера, комика и т. п.). Режиссер закрепляет в это время для него его поведение, поведение обучающего, демонстратора. Кроме того, для актера только полезно, если он видит, как его роль играет другой, и особенно поучительным для него будет исполнение его роли комическим актером.
[7] Цитирование. Обращаясь непосредственно и свободно к зрителю, актер дает своему персонажу возможность говорить и двигаться, он рассказывает. Автор не должен стремиться к тому, чтобы зрители забыли, что текст возникает не как импровизация, что он заучен наизусть и представляет собой нечто неизменное; никакой роли актер не играет, ведь все равно никто не считает, что он рассказывает о самом себе; ясно, что он рассказывает о других. Он вел бы себя точно так же, если бы просто говорил по памяти. Он цитирует то или иное действующее лицо, он является свидетелем на суде. Никто не мешает ему обращать внимание публики на то, что высказывает с полной непосредственностью персонаж, в поведении его есть известное противоречие (если иметь в виду, кто стоит на сцене и говорит): актер говорит в прошедшем, персонаж — в настоящем.
Есть еще и второе противоречие, более важное. Никто не мешает актеру наделить персонаж именно теми чувствами, которые у того должны быть; и сам он при этом не остается холодным, он тоже проявляет свои чувства, но совсем не обязательно, чтобы это были те же чувства, которыми живет его персонаж. Предположим, персонаж говорит нечто такое, что считает истинным. Актер же может выразить и должен уметь выразить, что это — вовсе не истинно, или что высказывание такой истины будет иметь роковые последствия, или что-либо иное.
[8] Актеру «эпического театра» необходимо собирать материала больше, чем это делалось до сих пор. Ему теперь не надо представлять себя королем, ученым, могильщиком и т. д., но он должен представлять именно королей, ученых, могильщиков; значит, ему надо вникать в действительность. В то же время ему необходимо учиться имитировать, что в настоящее время отвергается 112 в школах актерского искусства, потому что имитация якобы «губит самобытность».
[9] Создавая спектакль, театр может разными средствами добиться «эффекта очуждения»: Во время мюнхенского представления «Жизни Эдуарда II Английского» отдельным сценам были впервые предпосланы заголовки, оповещавшие зрителя о содержании. В берлинской постановке «Трехгрошовой оперы» во время пения на экран проецировались названия песенок. В берлинской постановке «Что тот солдат, что этот» на большие экраны проецировались фигуры актеров.
[10] Эту обобщающую, собирательную игру лучше всего наблюдать во время репетиций, которые непосредственно предшествуют спектаклю. На этих репетициях актеры только «обозначают», только намечают мизансцены, только дают намек на жест, только устанавливают интонации. Такие репетиции (их нередко устраивают при замене исполнителя дублером, чтобы ориентировать нового актера) имеют целью всего лишь взаимопонимание; значит, нужно еще представить себе обращение к публике, однако не такое, которое носит характер внушения. Следует понимать различие между игрой внушающей (суггестивной) и убеждающей, пластической!
[11] В своей работе «О выражении ощущений у человека и животных» Дарвин жалуется: изучение конкретных форм затруднено тем, что «когда мы оказываемся свидетелями какого-либо глубокого переживания, наше сочувствие возбуждается с такой силой, что мы забываем вести тщательное наблюдение или это становится для нас почти невозможным». Здесь-то и должен начать свою деятельность художник; состояние самого глубокого волнения он должен уметь представить так, чтобы «свидетель», зритель, сохранил способность наблюдать.
[12] Свобода в обращении актера к своей публике заключается еще и в том, что он не обращается с ней как с некоей единой массой. Он не сплавляет ее в тигле эмоций в какой-то бесформенный слиток. Он не обращается ко всем одинаково, он сохраняет разделения, существующие в публике, более того: он усугубляет их. В публике у него есть друзья и враги, по отношению к одним он дружелюбен, к другим — враждебен. Он становится на чью-либо сторону — не всегда на сторону изображаемого 113 им персонажа; но если он не за него, то он против него, (По крайней мере это основная позиция актера, она тоже должна меняться, должна быть различной по отношению к различным высказываниям персонажа. Возможны и такие положения, когда все остается неразрешенным, когда актер воздерживается от высказывания окончательных суждений, однако он обязан и это отчетливо выразить в своей игре.)
[13] Когда король Лир (действие I, сцена I) в сцене раздела своего королевства между дочерьми разрывает географическую карту, то акт разделения таким образом «очуждается». Внимание зрителя сосредоточивается не только на королевстве — Лир, обращаясь так недвусмысленно с государством, будто с частной собственностью, проливает некоторый свет на основы феодальной идеологии. В «Юлии Цезаре» тираноубийство Брута «очуждается» тем, что Брут, произнося монолог, обвиняющий Цезаря в тиранстве, сам жестоко обращается с рабом, который его обслуживает. Елена Вайгель в роли Марии Стюарт неожиданно использовала распятие, висевшее у нее на груди, кокетливо обмахиваясь им, как веером.
[14] «Эффект очуждения» как явление повседневной жизни. «Эффект очуждения» — явление бытовое, встречающееся постоянно в повседневной жизни; с его помощью люди обычно доводят разные явления до собственного сознания или до сознания других; в той или иной форме его используют во время обучения и на деловых конференциях. «Эффект очуждения» состоит в том, что вещь, которую нужно довести до сознания, на которую требуется обратить внимание, из привычной, известной, лежащей перед нашими глазами, превращается в особенную, бросающуюся в глаза, неожиданную. Само собой разумеющееся в известной степени становится непонятным, но это делается лишь для того, чтобы потом оно стало более понятным. Чтобы знакомое стало познанным, оно должно выйти за пределы незаметного; нужно порвать с привычным представлением о том, будто данная вещь не нуждается в объяснении. Как бы она ни была обычна, скромна, общеизвестна, теперь на ней будет лежать печать необычности. Мы применяем простейший «эффект очуждения», когда спрашиваем кого-либо: «Ты когда-нибудь рассматривал внимательно свои часы?» 114 Спрашивающий меня знает, что я часто смотрю на них, но вопросом своим он разрушает привычное для меня, а потому и ничего уже мне не говорящее представление о часах. Я часто смотрел на них, чтобы установить время, но когда меня настойчиво, в упор спрашивают, то я понимаю, что не смотрел на свои часы взглядом, исполненным удивления, и что они во многих отношениях механизм удивительный. Точно так же обстоит дело и с простейшим «эффектом очуждения», когда деловое совещание открывается словами: «Думали ли вы когда-нибудь о том, что делается с отходами, изо дня в день стекающими из вашей фабрики вниз по реке?» Эти отходы до сих пор весьма заметно стекали по реке: их сбрасывали в воду, используя для этой цели и машины и людей; река от них кажется совершенно зеленой; их уносило водой, и они были очень заметны, но именно как отходы. То были отходы производства, но теперь они сами должны стать производственным сырьем, и взгляд с интересом останавливается на них. Вопрос придал взгляду на отходы «очужденный» характер, в этом и была его задача. Простейшие фразы, в которых употребляется «эффект очуждения», — это фразы с «не — а» (он сказал не «войдите», а «проходите дальше»; он не радовался, а сердился), то есть существовало некое ожидание, подсказанное опытом, однако наступило разочарование. Следовало думать, что… но, оказывается, этого не следовало думать. Существовала не одна возможность, а две, и приводятся обе; сначала «очуждается» одна — вторая, а потом и первая. Чтобы мужчина увидел в своей матери жену некоего мужчины, необходимо «очуждение»; оно, например, наступает тогда, когда появляется отчим. Когда ученик видит, как его учителя притесняет судебный исполнитель, возникает «очуждение»; учитель вырван из привычной связи, где он кажется «большим», и теперь ученик видит его в других обстоятельствах, где он кажется «маленьким». «Очуждение» автомобиля может возникнуть в том случае, если мы, давно уже пользующиеся современной машиной, вдруг сядем в старую фордовскую модель; тогда мы неожиданно снова услышим взрывы: да ведь это двигатель внутреннего сгорания! Мы снова начинаем удивляться, что такая повозка, да и вообще какая бы то ни было повозка, может передвигаться 115 без помощи лошади — словом, мы начинаем понимать автомобиль как нечто чуждое, новое, как конструктивное достижение, то есть как нечто неестественное. Таким образом, в понятие «природа», куда, несомненно, входит и автомобиль, неожиданно включается понятие «неестественного»; теперь оказывается, что природа прямо-таки переполнена неестественными вещами.
Слово «действительно» тоже может служить для целей «очуждения». («Его действительно не было дома; он так сказал, но мы не поверили и посмотрели»; или так: «Мы бы не поверили, что его нет дома, но это действительно так».) Слово «собственно» тоже служит «очуждению». («Я, собственно, не согласен».) Определение эскимоса — «автомобиль — это бескрылый, ползающий по земле самолет» — тоже «очуждает» автомобиль.
Предшествующее рассуждение привело к тому, что самый «эффект очуждения» оказался в известном смысле «очужденным»; мы хотели довести до сознания читателя обыкновенную, повседневно встречающуюся в быту операцию, осветив ее как нечто особенное. Но мы достигли успеха только в отношении тех, кто «действительно» понял, что эффект этот достигается «не» всяким представлением, «а» лишь представлением особого рода: он, «собственно говоря», нечто обычное.
[15] Примеры таких титров: «Маклер Сулливан Слифт показывает Иоанне д’Арк, как дурны бедняки»; «Речь Пирпоята Маулера о бессмертии капитализма и религии» («Святая Иоанна скотобоен»); «Новый Анабазис: Бравый солдат Швейк шагает по направлению к своей части, но не доходит до нее»; «Осуждение тираноубийства солдатом Швейком» («Приключения бравого солдата Швейка»).
Эти титры появляются и перед более длинными сценами. Приведу как пример дополнительного деления сцены, идущей пятнадцать и более минут, титры, использованные во второй сцене пьесы «Мать».
ДИАЛЕКТИКА И ОЧУЖДЕНИЕ89
1
Очуждение как понимание (понимание — непонимание-понимание), отрицание отрицания.
116 2
Накопление неясностей, пока не наступает полная ясность (переход количества в качество).
3
Частное в общем (случай в своей исключительности, неповторимости, при этом он типичен).
4
Момент развития (переход одних чувств в другие чувства противоположного свойства, критика и вживание в образ в неразрывном единстве).
5
Противоречивость (данный человек в данных обстоятельствах, данные последствия данного действия!).
6
Одно понимается через другое (сцена, вначале самостоятельная по смыслу, благодаря ее связи с другими сценами обнаруживает и другой смысл).
7
Скачок (saltus naturae, эпическое развитие со скачками).
8
Единство противоположностей (в едином ищут противоречия, мать и сын — в «Матери» — внешне едины, но они борются друг с другом из-за денег).
9
Практическая применимость знаний (единство теории и практики).
117 ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗА90
1. О МЕТОДЕ ПОСТЕПЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ И ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗА
Актер не должен злоупотреблять фантазией. Переходя от реплики к реплике, постепенно примериваясь к изображаемому персонажу, выискивая в каждой сцене, в каждой фразе, которую он должен произносить или выслушивать по ходу действия, все, что соответствует или, противоречит характеру этого персонажа, актер строит образ. Этот постепенный процесс изучения актер должен прочно запечатлеть в памяти, чтобы в результате он мог показать зрителю весь сложный путь развития образа. Постепенность важна не только для показа тех изменений, которые претерпевает образ в различных ситуациях пьесы, но и для более полного раскрытия этого образа перед зрителем, чтобы сохранить крохотные, но существенные неожиданности, уготованные зрителю и заставляющие его непрерывно делать для себя открытия и менять свой взгляд на вещи. Чтобы помочь в этом зрителю, актеру необходимо хорошо запомнить все те открытия в характере персонажа, которые он сделал, готовя свою роль. Такой постепенный процесс лучше, чем дедуктивный, производный, при котором актер, исходя из беглого, основанного на мимолетном просматривании роли, общего представления об изображаемом персонаже, уже потом ищет в «материале» пьесы основы для создания образа. В результате многое из «материала» остается неиспользованным, многое искажается и потому не дает должного эффекта. Такой способ знакомства с человеком никак нельзя рекомендовать. Поступая так, актер не дает зрителю ни малейшего представления о том, как сам он, исполнитель, пришел к пониманию образа. Вместо того чтобы меняться на глазах у зрителя, он показывает лишь конечный результат изменения, предстает как существо, не подвергшееся и, следовательно, как бы не подверженное никаким воздействиям, как некий обобщенный, абсолютный, абстрактный человек. То суждение, которое можно вынести об этом персонаже, ничего в нем не меняет. Однако такие суждения совершенно бесполезны, и их нельзя допускать. Да в этом случае дело обычно и не доходит до суждений, а лишь до эмоций. Поступая так, актеры, вместо точных данных и полезного 118 представления о персонаже, оставляют какое-то расплывчатое, «увеличительное» воспоминание о нем, так называемый миф. Они дают копию вместо оригинала, они дают воспоминание, вместо того чтобы стать таковым. Чтобы заполнить живым содержанием такую раздутую, неестественно громадную форму, обычно недостаточно ни средств «материала», ни средств исполнителя, и широко задуманное зрелище выливается в обыкновенную халтуру. И тем не менее актеры от природы больше склонны к этому дедуктивному методу, особенно потому, что они очень рано, иногда уже на первой репетиции, могут играть актера, точнее, тот тип актера, который им представляется наиболее достойным подражания и который они особенно хотят играть — даже больше, чем данную конкретную роль. В таких количествах фантазия уже приносит вред. Но при индуктивном, постепенном методе она необходима. Переходя от реплики к реплике, актер, готовящий роль, все время обращается к фантазии, которая вновь и вновь выводит перед его внутренним взором все более определенные и четкие, почти законченные контуры персонажа, который в такой-то и такой-то ситуации мог бы произнести такую-то и такую-то фразу. Но все построения (решения), подсказанные забегающей вперед и потому подчас опрометчивой фантазией, должны быть самым серьезным и объективным образом приведены в соответствие с ситуациями и репликами, которые следуют дальше по ходу действия и которые могут внести в них существенные коррективы. И насколько неправильно поступает актер дедуктивного направления, слишком рано ориентируясь на некий основной тип, настолько разумно действует актер направления индуктивного, опираясь на отдельные «черты». Вся подготовительная работа, сочетающая в себе и фантазию и анализ фактов, направлена на то, чтобы создать конкретный, живой образ, показать его в развитии.
2. МОЖЕТ ЛИ АКТЕР ПОСТЕПЕННЫМ РАСКРЫТИЕМ ОБРАЗА УВЛЕЧЬ ЗРИТЕЛЯ?
Метод постепенного раскрытия образа может показаться мелочным. Актера может тревожить мысль, что таким путем ему никогда не удастся «увлечь» зрителя. 119 Не лишат ли те усилия, которые он затрачивает и результат которых ему даже рекомендуется подчеркнуть в самом образе, не лишат ли они этот образ бесконечно важной видимости отсутствия всяких усилий? Эта тревога идет от неправильного понимания процесса «увлечения». Для того чтобы увлечь, необходимо, чтобы тот, кого надо увлечь, упорствовал, не поддавался увлечению. Успех увлекающего зависит от его способности увлекать и от твердости, упорства того, кого он хочет увлечь. Ту трезвость, которую он хочет превратить в опьянение, он должен прежде создать. Высота подъема заметна по отношению к той плоскости, от которой происходит подъем. Увлекая, нужно увлекательно показать увлекаемому самый процесс увлечения. Это нужно ему по меньшей мере в такой же степени, как самое состояние увлеченности. С другой стороны, увлекающий должен создать впечатление надежности, достоверности, потому что зритель, забывающий в этот момент все на свете, рассчитывает, что на него можно положиться.
3. О ВЫБОРЕ ЧЕРТ
Изучать роль лучше всего постепенно. Но под каким углом зрения, для кого, для какой цели необходимо изучение и построение образа?
Когда актер, готовя роль, пытается с минимальной мерой душевного участия передать поведение персонажа в наиболее удобной для себя манере, сосредоточив основные усилия на поисках выразительных жестов, он благодаря своей готовности к неожиданностям выявляет в отдельных мелких черточках типическое и в то же время специфическое в своем герое. (Готовность к неожиданностям — это техника, причем очень важная для актера, и ею можно овладеть. Поскольку основная задача актера состоит в том, чтобы сделать некоторые вещи поразительными, он должен прежде всего сам поражаться этим вещам.) Тщательно и с интересом (все это манеры, которым можно обучиться, они естественны и необходимы, как движения, которые делает столяр у верстака), причем с интересом даже тогда, когда он ищет в сфере трагического, актер пытается прежде всего объединить 120 черты, противоречащие друг другу. Его задача состоит в том, чтобы совместить все эти черты, привести их в равновесие в характере какого-то определенного, отличного и удобоотличаемого от других действующих лиц персонажа, но ему не позволено ради более удобного соединения этих черт игнорировать отдельные, отчетливо заметные черты, то есть исходить из некоего кажущегося ему главным представления о целом. Именно «непригодные», противоречащие другим черты он должен использовать для создания образа. И как цельная уже и еще полная противоречий личность, он, хотя и подчинен действию и позволяет, так сказать, все с собой делать, но все же не растворяется в действии целиком. Более того, он задерживает ход действия почти в такой же степени, как продвигает его, он идет вместе с действием, то застывая, то плетясь за ним, то даже заставляя тащить себя. Потому что отдельные черты в его поведении взяты не только из данной пьесы, из «мира поэта»; актер (перенося определенную черту из «мира поэта» в другой, а именно реальный, знакомый ему, актеру, мир) придает этой черте особое, выходящее за рамки пьесы и не совсем растворяющееся в ней значение.
Но под каким углом зрения, для кого, для какой цели актер совершает такой постепенный отбор черт? Он выбирает их так, чтобы знание этих черт облегчало ему проникновение в образ. Следовательно, извне, с точки зрения внешнего мира, окружающих, с точки зрения общества. Стало быть, актер ориентируется на объективное поведение персонажа, на те его поступки, которые заметны всем. Но есть еще другая, противоречащая первой возможность поведения персонажа, о которой мы уже говорили и которая также обусловлена классовым положением и обстоятельствами (для показа этой возможности применяется техника альтернативы, намека на другие варианты), но которая у данного персонажа не реализуется: актер должен сделать ее видимой. Итак, «черты» — это в известной мере шахматные ходы фигур, а не просто черты характера (реакция на раздражение), абсолютные и ни от чего не зависящие. Там, где речь идет о чертах характера, необходимо показать их как результат воздействия окружающей среды. Черты имеют 121 общественные причины и общественные следствия. Только построенные из таких черт образы будут реальными, и актер сможет показать их связь с окружающим миром.
4. РАЗЛИЧИЕ, ПОКАЗАННОЕ РАДИ РАЗЛИЧИЯ
Мы уже говорили, что актер не может строить образ только на основании того, как ведет себя изображаемый персонаж в пьесе. Совсем недостаточно разработать образ лишь настолько, насколько это необходимо по ходу действия данной пьесы. В нем должно быть еще что-то конкретное, неповторимое, позволяющее догадываться, что в определенных социальных условиях это лицо может действовать и по-другому. Или же, показывая, что персонаж действует так, а не иначе, актер должен дать понять, что именно это действие может быть совершено людьми совсем другими, не похожими на данное конкретное лицо, то есть он добивается, чтобы можно было сказать: вообще-то так действуют совсем другие люди. Вместе с тем актер не должен преувеличивать это отличие его персонажа от других.
Вывод «До чего же все-таки различны люди!» — весьма однобокий вывод. Сделать его необходимо, когда пытаются отрицать, что для того, чтобы побудить людей к чему-то или дать им побудить к чему-то себя, нужно учитывать особенности каждого. Но этот однобокий вывод иногда преподносится как истина в последней инстанции, а тем самым отрицается, что поведение людей можно заранее предсказать. Как раз изучив их конкретные различия, можно наперед сказать, как они себя поведут, и различия их должны быть истолкованы именно ради этого предсказания. Совершенно неправильно придавать мысли «Как различны люди!» оттенок невозможности такого предсказания и воображать, будто подобные выводы обогащают человека. Те, кто напирает на этот вывод, находят удовлетворение в многообразии, в не поддающейся никаким влияниям силе человека, утверждая, что он может развиваться в самых невероятных направлениях; совершенно беспомощные перед этим плодотворным многообразием, они тешат себя и других (по сути, не ударяя палец о палец) причастностью к этому плодотворному многообразию. Они мельчат человека, 122 чтобы возвеличить человечество. Но это глупый самообман. Потому что в действительности они извиняют тем самым свою собственную подверженность всяким влияниям и полное неумение влиять на других и застывают в изумлении сами перед собой. Как будто человечество не состоит из них самих!
Таким образом, актер должен не фетишизировать мысль о различии людей, а сразу же стараться приблизить вопрос к разрешению: так в чем же конкретно состоит это различие?
5. ИСТОРИЗАЦИЯ
При историческом подходе к человеку обнаруживается, что человек таит в себе нечто двойственное, незавершенное. Он предстает не в одном, а в нескольких обличьях; он хотя и такой, какой он есть, ибо несет в себе черты своей эпохи, но, будучи сыном этой эпохи, он в то же время и другой, если перенести его в иной век, если его формирует другое время. Если он сегодня такой, значит вчера он был другим. Он приобрел то, что в биологии называется пластичностью. В нем сосредоточено многое, что развивалось и может развиваться дальше. Он уже изменился, стало быть, может меняться и впредь. Если же он не может больше изменяться, по крайней мере коренным образом, то и это завершает его облик. Но в действительности о таком состоянии неизменяемости можно говорить только в том случае, если рассматриваются большие общественные формации.
Итак, актеру необходимо придать своему голосу обилие обертонов. Его историзированный человек говорит как бы со многими отголосками, которые нужно представить себе одновременными, но с изменениями в содержании.
6. НЕПОВТОРИМОСТЬ ОБРАЗА
Если, таким образом, характер персонажа показан исторически, как нечто связанное с определенной эпохой и потому преходящее, если этот персонаж, отвечая, дает только один из многих ответов, которые должны резонировать, а другие ответы, которых он сейчас не дает, он мог бы дать при других обстоятельствах, то разве такой 123 образ не означает любого человека? В зависимости от эпохи или классовой принадлежности каждый отвечает по-разному; если человек жил в другое время или еще не так долго или где-то в тени, то он непременно ответит по-другому, но так же определенно, как ответил бы всякий в этом положении и в этот период: как же тут не спросить, нет ли еще других различий в ответе? Где он сам, живой, неповторимый, тот, который не вполне равен себе подобным, находящимся в таком же положении? Сомнений нет, такое неповторимое я должно быть представлено. Тот, чьи реакции мы здесь видим, может показать не только свое я (актера) и ты (зрителя), но в других обстоятельствах. Его изображение как человека определенного класса и определенной эпохи невозможно без изображения его как особого живого существа внутри своего класса и эпохи. Возьмем религиозность какого-то человека, например рабочего. Крупная промышленность в гигантских масштабах расправляется с религиозными представлениями рабочих; но каждый отдельный рабочий в таких вопросах ведет себя очень по-разному. Мы должны попытаться объяснить его позицию, если она отличается от общей позиции, различиями общественного характера, но это может остаться сугубо теоретическим рассуждением, то есть при определенных обстоятельствах у нас может не быть общественных мер, которые сумели бы изменить его позицию и приблизить ее к общей, классовой. На практике (общественная трактовка) в таких случаях мы сталкиваемся с чем-то неподвижным, с амальгамой, которая не поддается нашим инструментам, с чем-то, что нам приходится тащить с собой в наше изображение, что составляет часть этого человека. Обертоны к его ответам будут исходить уже не от него самого в другой ситуации или в другое время, а от других, непохожих на него людей.
ОТНОШЕНИЕ АКТЕРА К ПУБЛИКЕ
1
Отношение актера к публике должно быть совершенно свободным и непосредственным. Он просто хочет что-то сообщить и представить ей, и позиция просто сообщающего 124 и представляющего должна теперь стать основой всех его действий. Тут безразлично, где он сообщает и показывает: на улице, в комнате или на сцене, этой специально отмеренной для сообщений и представлений площадке. Ничего не значит, что он уже в специальном костюме и в гриме; причины этого он может с равным успехом объяснить и до представления и после него. Лишь бы не возникло впечатления, будто уже давно существовала договоренность, что в назначенный час здесь должны произойти некие события, причем произойти так, словно они действительно происходят именно сейчас, без подготовки, «естественным образом»; договоренность, включающая в себя и условие о том, что якобы не было никакой договоренности. Просто кто-то выходит и что-то откровенно показывает публике, в том числе и самый показ. Актер будет изображать другого человека, но не так, не в такой степени, как будто он и есть этот человек, не с намерением заставить зрителя забыть при этом о нем, актере. Личность актера остается такой же обычной, непохожей на других, личностью, со всеми своими чертами, именно этим он похож на тех, кто сидит в зале. Это необходимо сказать, потому что это вовсе не является чем-то обычным. Актер, как правило, не привык непосредственно, даже подчеркнуто прямо обращаться к зрителю с тем, что он делает, смотреть на зрителя прежде, чем он начнет свое представление. Это непосредственное общение, это «Смотри-ка, что теперь делает тот, кого я перед тобой изображаю», это «Ты видел?», «Что ты об этом думаешь?», использованное художником в самых разнообразных оттенках, поможет отбросить все примитивное, застывшее; оно необходимо, оно является основой эффекта очуждения, и никаким другим способом добиться этого эффекта нельзя.
2
Почему актер должен давать зрителю возможность эмоций, если он может дать ему возможность познания?
От актера можно, конечно, требовать, чтобы, испытывая грусть, он заставлял грустить зрителя, но в этом случае актер развяжет лишь фантазию зрителя, вместо того чтобы добавить что-то к его знаниям, а последнее 125 важнее. Могут сказать, что тот, кто что-то переживает, тем самым уже умножает свои знания, но это как раз и нехорошо: пусть зритель лучше научится пренебрегать своими чувствами и узнает чувства других! Даже свои собственные чувства он узнает лучше, если их ему представят как чувства других! Для этого актеру необходимо быть техничным, он обязан показать, что существует и другая возможность поведения (определенного лица в определенных обстоятельствах), не совпадающая с тем, что он в данный момент изображает.
Таким образом, актер должен сразу показать то, что видит в нем каждый из выступающих вместе с ним на сцене, то есть тот, кто не отождествляет себя с ним. Так, например, если актер хочет изобразить испуг, то ему лучше показать попытку преодолеть или скрыть этот испуг. Актер, который действует таким образом, общается со зрителем, вместо того чтобы только «быть».
Создавая образ, актер должен прежде всего знать отношения между данным персонажем и другими людьми.
Это очень важно, потому что в любой группе людей отдельный человек оценивается по тому, как он проявит себя по отношению к этой группе и что сделает для нее, и может только по лицу другого увидеть, какие чувства он в нем пробуждает. Недостаточно только быть. Характер человека определяется его функцией.
Актерское искусство, преследующее эту цель, больше связано со всей совокупностью действий, чем с отдельными приемами. Таким образом, и слова должны быть подчинены совокупности действий.
Если ты показываешь: «Это так», то покажи таким образом, чтобы зритель спросил: «Неужели это так?»
ДИАЛОГ ОБ АКТРИСЕ ЭПИЧЕСКОГО ТЕАТРА
Актер. Я читал ваши сочинения об эпическом театре. Когда я посмотрел вашу маленькую пьесу91 о гражданской войне в Испании, где главную роль играла самая 126 выдающаяся актриса92, представляющая эту новую манеру игры, я, честно говоря, удивился. Удивился, что это настоящий театр.
Я. В самом деле?
Актер. Вам кажется странным, что после чтения ваших сочинений об этой новой манере игры я ожидал увидеть нечто весьма сухое, абстрактное, короче говоря — поучительное?
Я. Меня это не очень удивляет. Ведь учиться нынче не в моде.
Актер. Возможно, вам неприятно это слышать, но я приготовился увидеть нечто, не имеющее ничего общего с театром, не только потому, что вы требуете от театра поучительности, но и потому, что мне казалось, будто вы отнимаете у театра то, что делает его театром.
Я. А именно?
Актер. Иллюзию. Напряжение. Возможность ощутить себя участником того, что происходит на сцене.
Я. А вы чувствовали напряжение?
Актер. Да.
Я. И ощущали себя участником действия?
Актер. Очень мало. Вернее, совсем не ощущал.
Я. И иллюзии у вас не было?
Актер. В сущности, нет. Нет.
Я. И все-таки вы считаете, что это был театр?
Актер. Да, я так считаю. Это меня и удивило. Но подождите торжествовать. Это был театр, но это не было что-то совершенно новое, чего я ожидал после ваших статей.
Я. Таким совершенно новым это было бы, наверное, если бы вообще не было театром, не правда ли?
Актер. Я только говорю, что то, чего вы требуете, совсем не трудно сделать. Кроме исполнительницы главной роли, Вайгель, играли одни любители, простые рабочие, которые никогда раньше не выходили на сцену, а Вайгель — большая актриса, которая, совершенно очевидно, сформировалась в обычном, отрицаемом вами старом театре.
Я. Согласен. Новая манера игры создает настоящий театр. Она позволяет любителям при определенных обстоятельствах играть в театре, если они еще не успели изучить манеру игры старого театра, и позволяет играть 127 в театре артистам, если они уже успели забыть манеру игры старого театра.
Актер. Ого. Я считаю, что Вайгель обладает более чем достаточной техникой.
Я. Мне кажется, она показала не только технику, но и отношение простой женщины, рыбачки, к генералам?
Актер. Конечно, она показала и это. Но и технику тоже. Я считаю, что она не была рыбачкой, она только играла ее.
Я. Но ведь она и на самом деле не рыбачка. Она в самом деле только играла ее. Это же факт.
Актер. Конечно, она актриса. Но если она играет рыбачку, она должна заставить зрителей забыть об этом. Она показала все, что примечательно в рыбачке, но а то же время и подчеркнула, что все это она только изображает.
Я. Понимаю, она не создала иллюзии, что она и есть рыбачка.
Актер. Она слишком хорошо знает, что характерно для рыбачки, что в ней примечательно. И все видели, что она это знает. Она даже старалась специально показать, что она это знает. А настоящая рыбачка ведь не знает, конечно же, не знает, что в ней примечательного. Но если вы видите на сцене женщину, которая все это знает, то она уже не рыбачка.
Я. А актриса, я понимаю.
Актер. Не хватало только, чтобы в каких-то определенных местах она поглядывала на публику, словно спрашивая: «Ну, видите, какая я?» Убежден, она выработала целую технику, чтобы все время поддерживать в публике это чувство, чувство, что она не та, кого изображает.
Я. Могли бы вы охарактеризовать эту технику?
Актер. Если бы она перед каждой фразой думала: «Тогда рыбачка сказала», то фраза звучала бы примерно так, как она звучала у нее. Я имею в виду, что она совершенно отчетливо произносила слова другой женщины, то есть не свои.
Я. Это верно. А почему вы вкладываете ей в уста это «Тогда она сказала»? И почему в прошедшем времени?
Актер. Потому что она столь же явно играла что-то, что произошло в прошлом, то есть у зрителя не было 128 иллюзии, что все это происходит именно сейчас и он непосредственно при этом присутствует.
Я. Но ведь зритель и в самом деле при этом не присутствует. Он и в самом деле не в Испании, а в театре.
Актер. Но в театр ходят ради иллюзии, ради того, чтобы почувствовать, что ты в Испании, раз действие происходит там. Иначе зачем ходить в театр?
Я. Это утверждение или вопрос? Я полагаю, что можно найти и другие причины, чтобы пойти в театр, кроме желания почувствовать себя в Испании.
Актер. Если хочешь быть здесь, в Копенгагене, незачем идти в театр и смотреть пьесу, действие которой происходит в Испании.
Я. Вы можете с таким же успехом сказать, что если хочешь быть в Копенгагене, незачем идти в театр и смотреть пьесу, действие которой разыгрывается в Копенгагене, не так ли?
Актер. Если не испытываешь в театре чего-то такого, чего нельзя испытать дома, то, право же, незачем туда идти.
Фрагмент
МАСТЕРА ПОКАЗЫВАЮТ СМЕНУ ВЕЩЕЙ И ЯВЛЕНИЙ
1
Мастера показывают вещи и явления, показывая их смену, чередование. Нищета становится заметна как проявление упадка или отсталости. Когда в убогой, жалкой обстановке еще сохраняется или, наоборот, появляется что-то хорошее, это уже свидетельство нищеты. Смена отдельных картин должна быть разработана с особой тщательностью. Если поле засыпал песок, то между сценой, где еще нет песка, и сценой, где уже не видно поля, должна быть сцена, где над песком еще высится дерево.
2
Актер. Ты сказал, что актер должен показать смену вещей и явлений. Что это значит?
Зритель. Это значит, что зритель — тоже историк.
129 Актер. Стало быть, ты говоришь об исторических пьесах?
Зритель. Я знаю, что пьесы, действие которых происходит в прошлом, вы называете историческими пьесами. Но вы редко играете их для зрителей, которые являются историками.
Актер. Не объяснишь ли ты мне, что ты понимаешь под словом «историк»? Не собирателей же древностей или ученых? Историк в театре — это, наверняка, что-то совсем другое?
Зритель. Историка интересует смена явлений.
Актер. А как для него играть?
Зритель. Надо показать, что было раньше другим, не таким, как сегодня, и выявить причину этого. Но надо показать также, как прошлое стало настоящим. То есть если вы изображаете королей XVI века, то вы должны показать, что такие характеры, такие личности сегодня вряд ли встречаются, а если встречаются, то вызывают удивление.
Актер. Значит, мы не должны показывать то неизменное, что есть в человеке?
Зритель. Все человеческое проявляется в изменениях. Если это человеческое отделить от его всегда разных проявлений, то возникает безразличие по отношению к форме, в которой мы, люди, живем, и тем самым одобрение той, которую мы в данный момент видим.
Актер. Например?
Зритель. В первой сцене «Короля Лира» старый монарх делит свое царство между тремя дочерьми. Я видел в театре, как он мечом разрубал свою корону натри части. Мне это не понравилось. Было бы лучше, если бы он разорвал карту своей страны на три куска и вручил бы их своим дочерям. Тогда было бы видно, каково приходится стране при таком властителе. Все происшедшее казалось бы очужденным. Зритель задумался бы над тем, что делить между своими наследниками домашнюю утварь или царства — это вовсе не одно и то же. Перед ним возникло бы чужое, давно минувшее, отжившее время, на фоне которого особенно отчетливо обрисовалось бы сегодняшнее. В той же пьесе верный слуга свергнутого короля прибивает неверного. Этим он, по мысли поэта, выражает свою верность. Но актер, который изображал 130 избитого, должен был бы играть не шутливо, а всерьез. Если бы он уполз с переломленным хребтом, то сцена предстала бы в очужденном виде, как это и должно быть.
Актер. А как быть с пьесами, действие которых происходит в наше время?
Зритель. Самое главное как раз в том и заключается, что именно эти современные пьесы необходимо играть исторически.
Актер. Итак, что должно происходить, когда мы изображаем мелкобуржуазную семью нашего столетия?
Зритель. Поведение этой семьи в целом совсем не такое, каким бы оно было в прежние времена, и можно представить себе, что когда-то оно опять-таки будет совсем другим. Таким образом, необходимо показать то специфическое, что характерно для нашего времени: то, что изменилось по сравнению с прошлым, и привычки, которые еще противятся изменениям или уже начинают понемногу изменяться. Отдельный человек также имеет свою историю, которая связана с изменениями в окружающей жизни. То, что с ним происходит, может иметь историческое значение. Иными словами, нужно только показывать то, что имеет историческое значение.
Актер. А сам человек — не становится ли он при этом слишком незначительным?
Зритель. Напротив. Он возвеличивается, когда делаются явными все перемены, происшедшие в нем и благодаря ему. И зритель принимает его ничуть не менее серьезно, чем наполеонов прежних времен. Когда смотришь сцену «Капиталист обрекает такого-то рабочего на голодную смерть», то это по своему значению нисколько не уступает сцене «Поражение Наполеона при Ватерлоо». Такими же выразительными должны быть жесты актеров в этой сцене, так же тщательно должен быть выбран фон.
Актер. Значит, изображая кого-то, я все время должен показывать: вот таким был человек в тот период своей жизни, а вот таким — в этот, вот так он говорит сейчас, а так имел обыкновение выражаться в то время. И при этом я должен подчеркивать, что так обычно говорили или действовали люди его класса или что человек, которого я изображаю, своим поведением 131 или какой-то манерой речи отличается от людей своего класса.
Зритель. Совершенно верно. Когда вы просматриваете свою роль, то прежде всего найдите в ней основные моменты исторического характера. Но не забывайте, что история — это история борьбы классов и что, стало быть, то, что вы выделяете в пьесе, должно быть общественно важным.
Актер. Значит, зритель — это историк общества?
Зритель. Да.
132 О СИСТЕМЕ СТАНИСЛАВСКОГО
ПРОГРЕССИВНОСТЬ СИСТЕМЫ СТАНИСЛАВСКОГО
Во всех исследованиях театрального искусства давно уже считается само собой разумеющимся, естественным и вообще не подлежащим исследованию, что театральное представление становится достоянием зрителя благодаря вживанию. Театральное представление считается просто не удавшимся, поскольку совершенно не воспринимается зрителем, если он не получил возможности вжиться в одного или нескольких персонажей пьесы и в окружающую этот персонаж или эти персонажи среду. Все существующие учения о технике актера или режиссера, в том числе и последняя совершенно стройная система театральной игры русского режиссера и актера Станиславского, состоят почти сплошь из предложений, как добиться вживания зрителя, его идентификации с персонажами пьесы. Система Станиславского является прогрессом уже потому, что она — система. Предлагаемая ею манера игры добивается вживания зрителя систематически, то есть вживание перестает зависеть от случая, каприза или таланта. Ансамблевая игра поднимается на высокий уровень, поскольку на основе такой игры и маленькие роли и более слабые актеры могут содействовать полному вживанию зрителя. Этот прогресс особенно заметен, когда происходит вживание в такие образы пьесы, которые прежде «не играли никакой роли» в театре, в образы пролетариев. Не случайно, например, в Америке системой Станиславского начинают заниматься именно левые театры. Такая манера игры позволяет, по их мнению, достичь недостижимого ранее вживания в пролетария.
При таком положении вещей несколько затруднительно отстаивать мнение, что после ряда разъяснений и 133 экспериментов новейшей драматургии все больше приходится более или менее радикально отказываться от вживания.
КУЛЬТОВЫЙ ХАРАКТЕР СИСТЕМЫ СТАНИСЛАВСКОГО
Изучая систему Станиславского и его учеников, видишь, что вынуждение вживания было сопряжено с немалыми трудностями: добиваться соответствующего психического акта было все трудней и трудней. Нужно было изобретать хитроумную педагогику, чтобы актер не «выпадал из роли» и ничто не мешало контакту между ним и зрителем, основанному на внушении. Станиславский относился к этим помехам очень наивно, только как к чисто отрицательным, преходящим явлениям, которые непременно будут устранены. Искусство явно все больше превращалось в искусство добиваться вживания. Мысль о том, что трудности идут от уже не устранимых изменений в сознании современного человека, не появлялась, и ожидать ее можно было тем меньше, чем больше предпринималось весьма перспективных на вид усилий, которые должны были гарантировать вживание. На эти трудности можно было бы реагировать иначе, а именно — поставить вопрос, желательно ли еще полное вживание.
Этот вопрос поставила теория эпического театра. Она всерьез отнеслась к трудностям, объяснила их происхождение общественными изменениями исторического характера и попыталась найти такую манеру игры, которая могла бы отказаться от полного вживания. Контакт между актером и зрителем должен был возникнуть на иной основе, чем внушение. Зрителя следовало освободить от гипноза, а с актера снять бремя полного перевоплощения в изображаемый им персонаж. В игру актера нужно было как-то ввести некоторую отдаленность от изображаемого им персонажа. Актер должен был получить возможность критиковать его. Наряду с данным поведением действующего лица нужно было показать и возможность другого поведения, делая, таким образом, возможными выбор и, следовательно, критику.
Процесс этот не мог не быть болезненным. Рухнуло гигантское нагромождение понятий и предрассудков, и 134 оно, по меньшей мере как мусор, продолжало лежать на пути.
Трезвое рассмотрение словаря системы Станиславского обнаружило ее мистический, культовый характер. Здесь человеческая душа оказывалась примерно в таком же положении, как в любой религиозной системе; здесь было «священнодействие» искусства, была «община». Зрителей «зачаровывали». В «слове» было что-то мистически абсолютное. Актер был «слугой искусства», правда — фетишем, и притом общим, туманным, непрактичным. Здесь были «импульсивные» жесты, которые требовали «оправдания». Совершавшиеся ошибки были, по сути дела, грехами, а зрители получали «переживание», как ученики Иисуса в троицын день.
Сомневаться в серьезности и честности этой школы не приходится. Это вершина буржуазного театра. Но именно из-за своей серьезности она довела все свои ошибки до крайности. Этот театр, безусловно, находился в оппозиции господствующим классам своего времени, он представлял идеалы молодой буржуазной интеллигенции; правда, юридически политической формой этих идеалов, и притом до весьма позднего времени, была буржуазная демократия.
Новые усилия по переходу к другим манерам игры были энергичны, но, конечно, примитивны, а именно они требовали особой меры мастерства и знаний. Прежде всего они могли доверять только тем мощным общим интересам, которые лежали в основе этих усилий. Особенно поучительны были некоторые поставленные в Германии спектакли эпического стиля, где высококвалифицированные артисты выступали с любителями, правда, у которых были особые, внетеатральные интересы, то есть с политически заинтересованными рабочими. Если артисты предотвращали полное вживание зрителя средствами своей эпической техники, то рабочие делали то же самое не только в силу своей технической неспособности добиться вживания, но главным образом благодаря тому, что их интерес к изображаемым событиям был так очевиден, а зритель так отчетливо чувствовал, что на него хотят повлиять. Это порождало поразительное единство стиля игры, которого при столь разнородных элементах обычно не достигали еще никогда.
135 СТАНИСЛАВСКИЙ — ВАХТАНГОВ — МЕЙЕРХОЛЬД
Буржуазный театр достиг своего предела. Прогрессивность метода Станиславского:
1. В том, что это метод.
2. Более интимное знание людей, личное.
3. Можно показать противоречивую психику (покончено с моральными категориями «добрый» и «злой»).
4. Учтены влияния окружающей среды.
5. Терпимость.
6. Естественность исполнения.
Прогрессивность метода Вахтангова:
1. Театр — это театр.
2. «Как» вместо «что».
3. Больше композиции.
4. Больше изобретательности и фантазии.
Прогрессивность метода Мейерхольда:
1. Преодоление личного.
2. Акцентирование артистичности.
3. Движение в его механике.
4. Окружающая среда абстрактна.
Точка соприкосновения — Вахтангов, вобравший в себя методы двух других как противоречия, но и самый игровой. По сравнению с ним Мейерхольд напряжен, а Станиславский вял; один — имитация, другой — абстракция жизни. Но когда у Вахтангова актер говорит: «Я не смеюсь, а показываю смех», то на показанном им все же ничему не научишься. Если рассматривать диалектически, то Вахтангов — это скорее комплекс Станиславский — Мейерхольд до взрыва, чем синтез после взрыва.
О ФОРМУЛИРОВКЕ «ПОЛНОЕ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ»
Эта формулировка нуждается в объяснении. Усилия актера перевоплотиться в персонаж пьесы вплоть до утраты собственного «я», в последний раз обоснованные теоретически и в упражнениях Станиславским, служат возможно более полной идентификации зрителя с 136 персонажем или с его антагонистом. Само собой разумеется, Станиславскому тоже известно, что говорить о цивилизованном театре можно только тогда, когда эта идентификация не является полной: зритель не перестает сознавать, что он в театре. Иллюзия, которой он наслаждается, осознается им как таковая8*. Идеология трагедии живет этим желанным противоречием. (Зритель должен без реального риска изведать взлеты и падения, он должен хоть в театре принять участие в мыслях, настроениях и поступках высокопоставленных особ, хоть в театре дать волю своим страстям и так далее.) Однако и другая манера игры, не стремящаяся к идентификации зрителя с актером (и называемая нами «эпической»), также не заинтересована в полном исключении идентификации. Чтобы отличать эти две манеры игры друг от друга, «чистые» категории метафизики не нужны. Но так как установить различие все-таки требуется, то заключается оно вот в чем: при обычной манере игры пренебрегают постоянно сохраняющейся сдержанностью зрителя по отношению к перевоплощению, а при эпической манере игры пренебрегают сохраняющимся моментом перевоплощения. Формулировка «полное» показывает тенденцию критикуемой обычной манеры игры.
НЕПОЛНОЕ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ — ЭТО РЕГРЕСС МНИМЫЙ
Здесь, в неполном перевоплощении в персонаж пьесы, есть своего рода регресс. Ведь именно способность к полному перевоплощению считается признаком таланта актера: не удается оно — и все проваливается. Оно не удается детям, когда они играют в театр, и любителям. Что-то ненастоящее чувствуется в их игре сразу же. Разница между театром и действительностью ощущается тогда болезненно остро. Актер не отдается целиком, он 137 что-то оставляет себе. Даже актер, который совершенно сознательно не перевоплощается до конца, и тот вызывает подозрение, что это ему просто не вполне удается. Зритель, который сам «в жизни» вынужден иногда актерствовать, вспоминает свои неудачные попытки сыграть сострадание или гнев, их не испытывая. Разумеется, «чересчур» мешает полному перевоплощению в той же мере, что и «слишком мало»: отчетливо проявленное намерение оказать воздействие — это помеха. По крайней мере три момента уничтожают желаемую иллюзию, когда полное перевоплощение не удается или не предусматривается. Тогда бросается в глаза, что событие совершается сейчас не впервые (оно лишь повторяется), что с самим актером не происходит сейчас того, что с изображаемым персонажем (актер всего лишь референт), что воздействие достигается не естественным образом (его добиваются искусственно). Чтобы продвинуться дальше, нам необходимо признать полное перевоплощение положительным, искусным актом, трудным делом, благодаря которому достигается возможность идентификации зрителя с персонажем пьесы. С исторической точки зрения это было новым приближением к человеку, более интимным проникновением в его природу. И если мы от этого состояния уходим, то уходим отнюдь не полностью; отнюдь не зачеркивая целую эпоху как неправильную и вовсе не отказываясь от ее арсенала художественных средств.
Вероятно, было бы несправедливо приписывать нашему театру просто религиозную функцию. Однако он держится на той же общественной базе, что и религиозность. Известно, что в примитивных религиях содержались важные элементы освоения мира, что религии эти обладали разработанной техникой магии. В великие эпохи искусства в художественных произведениях также сталкиваешься с тенденциями к освоению мира. Но освоение это является, конечно, всегда привилегией определенных классов, даже если оно ограничено очень неразвитыми, по сравнению с нашими, производительными силами. Социальной функцией религий все больше становится воспитание безволия верующих. Соответственно в это же превращается и социальная функция театра.
138 ИЗУЧЕНИЕ
Если для проверки того или иного метода необходимо рассмотреть его результаты, то для изучения чужого метода лучше всего ввести его в собственный труд. Надо взять какую-нибудь свою работу, и даже в том случае, если она давно сделана, часто бывает полезно изучить чужие методы, ибо нередко только тогда осознаешь то, что ты делаешь или сделал. Затем нужно осторожно проверить незнакомое: не пригодится ли оно для решения предстоящих задач, и только потом (потом, хотя весь процесс освоения будет неравномерным) можно, продолжая работу, проверить, нельзя ли с помощью новых художественных средств и взглядов решать совершенно новые задачи.
РАЗВИТИЕ ОБРАЗА93
1
Прежде чем ты освоишь образ пьесы или в нем растворишься, существует первая фаза: ты знакомишься с ним и не понимаешь его. Это происходит при чтении пьесы и на первых аранжировочных репетициях; именно тогда ты упорно отыскиваешь противоречия, отклонения от типического, безобразное в прекрасном, прекрасное в безобразном. На этой первой фазе твой главный жест — покачивание головой; ты трясешь ею, как трясут дерево, чтобы с него упали на землю плоды, которые нужно собирать.
2
Вторая фаза — это вживание, поиск правды образа в субъективном смысле; ты позволяешь ему делать то, что он захочет, как он захочет; к черту критику, пусть общество платит за то, что требуется твоему персонажу. Однако это не прыжок вниз головой. Ты заставляешь свой персонаж реагировать на другие персонажи, на окружающую среду, на особую фабулу простейшим, то есть самым естественным образом. Это накопление происходит 139 медленно, пока все же не приближается к скачку, когда ты вторгаешься в конечный вариант образа, с которым и соединяешься.
3
И вот наступает третья фаза, когда на образ, которым отныне «являешься», ты смотришь извне, с позиций общества, и должен вспомнить недоверие и удивление первой фазы. И после этой третьей фазы — фазы ответственности перед обществом — ты отдаешь свой образ обществу.
4
Вероятно, следует добавить, что при практической репетиционной работе не все проходит в точности по намеченной схеме. Развитие образа совершается неравномерно, фазы часто меняются местами: в чем-то уже достигнута третья фаза, а в другом — вторая и даже первая вызывают еще большие трудности.
ФИЗИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
1
Видимо, теория физических действий является самым значительным вкладом Станиславского в новый театр. Он разработал ее под влиянием советской жизни и ее материалистических тенденций. Вместе с судорожными усилиями, ценой которых актер создавал физический рисунок роли, стали излишними и некоторые методы, облегчавшие эту муку.
2
Метод «физических действий» не составляет для нас в «Берлинском ансамбле» трудности. Будучи убежден, что чувства и настроения установятся потом, Б. постоянно требует, чтобы на первых репетициях актер показывал главным образом фабулу, событие, свое занятие. Он всеми средствами борется против дурной привычки многих 140 актеров использовать фабулу только, так сказать, в качестве незначительной предпосылки для акробатики чувств, подобно тому как гимнаст использует брусья для доказательства своей ловкости. Особенно когда мы слышим высказывания Станиславского последних лет его жизни, у нас складывается впечатление, что Б. примыкает к ним, вероятно, совершенно бессознательно, просто в поисках реалистической игры.
ПРАВДА94
В. Говорят, Станиславский часто кричал актеру во время репетиции из зрительного зала: «Не верю!» Вы тоже часто не верите актерам?
Б. Бывает, но не слишком часто. В большинстве случаев только начинающим и рутинерам. Чаще случается, что я не верю событию, то есть части фабулы. А кроме того, это значило бы утомлять и себя и актеров. И если уж так трудно отыскать правду или, вернее было бы сказать, так легко ей повредить, то еще труднее отыскать общественно полезную правду, а она-то нам и необходима. Зачем публике самая распрекрасная правда, если она не знает, как за нее взяться? Может быть, и правда, что муж, бьющий жену, либо теряет, либо приобретает ее, но стоит ли нам поэтому избивать своих жен, чтобы их приобрести или потерять? Долгое время публику кормили такими истинами, которые не намного дороже лжи и значительно дешевле фантастических выдумок.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В. Станиславский говорит о правдивости чувств отдельного актера.
Б. Знаю. Но, если я не ошибаюсь, и он не верит, будто актер, внимание которого было обращено на фальшь его чувств (вернее, чувств его образа), может сделать их правдивыми одной лишь работой как таковой.
В. А что же необходимо для этого?
Б. Он должен лучше выяснить взаимодействие между собой, своим образом си другими образами. Если он отыщет правду этого процесса, ему будет относительно легко понять и правдиво воспроизвести чувства своего образа.
141 ВОЗМОЖНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Возьмем массовые сцены из спектакля «Процесс Жанны д’Арк»95 в постановке «Берлинского ансамбля».
При разработке отдельных персонажей толпы, наблюдающей, как привозят еретичку, как ее сжигают и так далее, можно было бы сделать еще несколько шагов вперед. Отдельные персонажи уже связаны между собой; например, крестьянская семья с рыбачкой (они знакомы по рынку, где их прилавки стоят друг против друга) или рыбачка с врачом Дюфуром96 (он большой любитель рыбы). Но оттенки можно обогатить. Один человек может быть знаком с другим и поклониться ему, а с кем-то он, хотя и знаком, не поздоровается. Другой может быть очень простужен, но все же он явился, потому что обязан увидеть такое зрелище; третий пришел, чтобы себя показать. И так далее и так далее.
Короче говоря, мы могли бы значительно увеличить и усовершенствовать ту самую анкету о времяпрепровождении и биографии персонажей, которую Станиславский составляет и для массовых сцен. Но, идя по этому пути, можно дойти до предела, когда группа на сцене перестает быть pars pro toto97, представляющую собой массу, а превратится в вырванную из толпы, настоящую, то есть случайную кучку людей с типичными и нетипичными, но в любом случае не показательными мнениями и отзывами о великой героине сопротивления. Тогда бы в театре увидели группу людей, какую можно встретить в жизни, но тогда зритель узнал бы не больше и чувствовал бы не сильнее, чем в жизни. Такое исполнение оказалось бы натуралистическим. Это не было бы похоже на исполнение Московского Художественного театра, но отклонять метод анкеты лишь потому, что он может привести к натуралистическим решениям, нельзя. Напротив, этот метод нужно изучить и использовать, ибо самое существенное можно извлечь лишь из той массы существенного и несущественного, какой нам предстает Жизнь. Чаще всего наши театры прибегают к стилизации, не вглядевшись в действительность, которую предстоит отразить, и в результате получаются формалистические спектакли, искажающие действительность и низводящие 142 формы художественные до кухонных форм, с помощью которых можно формировать любое тесто на один и тот же манер. Тогда крестьяне становятся отражениями не настоящих крестьян, а театральных пейзан.
ВЖИВАНИЕ98
В связи с подготовкой конференции, посвященной Станиславскому, Б. пригласил к себе домой режиссеров, работников литературной части и нескольких актеров. Он разложил на столе литературу о Станиславском и спросил актеров, что им о нем известно.
Хурвиц. Я читала его «Секрет успеха актера»; книга вышла только в Швейцарии и там получила это неверное, по-моему, название. Многое мне показалось тогда несколько экзальтированным, но я нашла и такие места, которые сразу же показались мне очень важными, и кое-чем я пользовалась годами. Станиславский говорит, что нужно находить совершенно конкретные представления для изображения чувств, напрягая для этого воображение. И делается это совершенно самостоятельным путем. Но ведь вы, Брехт, против вживания?
Б. Я? Нет. Я за него на определенной фазе репетиций. К нему нужно только еще кое-что добавить, а именно: отношение к образу, в который вы вживаетесь, его общественную оценку. Вчера я предложил вам, Гешоннек, вжиться в образ кулака. Мне казалось, что вы играли только критику образа, а не сам образ. И Вайгель, когда она сегодня села у кафельной печки и мерзла изо всех сил, наверно, тоже вжилась в образ.
Данеггер99. Можно мне записать это и при случае сказать, когда об этом зайдет речь? Вы ведь знаете, вас упрекают в том, что вы совершенно отрицаете вживание и вообще не терпите на сцене цельного человека.
Б. Пожалуйста. Но тогда прибавьте к этому, что вживание кажется мне недостаточным для постановки, исключая, пожалуй, натуралистические пьесы, в которых создается полная иллюзия натуры.
Данеггер. Но Станиславский довольствовался вживанием или, более того, требовал полного вживания и для реалистического спектакля.
143 Б. Из публикаций, которые мне были доступны, такого впечатления у меня не создалось. Он беспрерывно твердит о том, что называет сверхзадачей пьесы, и требует все подчинять идее. Мне кажется, Станиславский часто подчеркивал необходимость вживания только потому, что видел презренную привычку некоторых актеров играть на публику, дурачить ее и так далее, вместо того чтобы сосредоточиться на воплощении образа, который нужно сыграть, и на том, что Станиславский так строго и нетерпеливо называет правдой.
Гешоннек. Да на спектакле полного вживания никогда и не происходит. Подсознательно всегда думаешь о публике. Это как минимум.
Вайгель. Ведь играешь для зрителей человека, который отличен от тебя. Таков факт, и почему мы не должны сознавать его? Что же касается слов Гешоннека «это как минимум», то как я могу в роли Кураж, например, в финале, когда мои спекуляции стоили мне жизни последнего моего ребенка, сказать фразу: «Надо опять торговлю налаживать», если не буду лично потрясена тем, что человек, которого я играю, не обладает способностью извлекать уроки?
Б. Наконец, вот еще что. Если бы дело обстояло по-другому, то как мог бы я сказать вам, Гешоннек, чтобы в заключительной картине «Кацграбена» вы играли кулака совсем огрубленным, почти как карикатуру, как того хочет писатель?
ЧЕМУ НАРЯДУ С ПРОЧИМ МОЖНО ПОУЧИТЬСЯ У ТЕАТРА СТАНИСЛАВСКОГО?
1. Поэтическая суть пьесы
Даже натуралистические пьесы, которые должен был ставить театр Станиславского в соответствии со вкусом того времени, приобретали в его постановках поэтические черты; он никогда не впадал в плоский репортаж. У нас же, в Германии, даже классические пьесы часто лишаются всякого блеска!
144 2. Чувство ответственности по отношению к обществу
Станиславский учил актеров общественной значимости игры на театре. Искусство не было для него самоцелью, но он знал, что на театре никакой цели нельзя достичь без искусства.
3. Ансамбль звезд
В театре Станиславского были одни звезды — большие и маленькие. Он показал, что игра одного актера может достичь наибольшего эффекта только в игре всего ансамбля.
4. Важность ведущей линии и деталей
Московский Художественный театр вносил в каждую пьесу богатую мыслями концепцию и массу тонко разработанных деталей. Одно ничего не стоит без другого.
5. Обязательство быть правдивым
Станиславский учил, что актер должен подробнейшим образом изучать самого себя и людей, которых он хочет воплотить на сцене, и что одно вытекает из другого. Не заслуживает внимания публики то, что не почерпнуто актером из наблюдений или не подкреплено наблюдениями.
6. Созвучность естественности и стиля
В театре Станиславского прекрасная естественность соединялась со значительностью. Как реалист, он никогда не пугался изображения безобразного, но изображал его очаровательно.
7. Воплощение противоречивой действительности
Станиславский понимал сложность и дифференцированность общественной жизни и умел их воспроизводить, не теряясь в них. Во всех его постановках вскрывается самая суть.
8. Самое важное — люди
Станиславский был убежденным гуманистом и как таковой вел свой театр по пути социализма.
9. Значение дальнейшего развития искусства
Московский Художественный театр никогда не почивал на лаврах. Для каждой постановки Станиславский развивал новые художественные средства. Из его театра выходили такие значительные художники, как Вахтангов, которые со своей стороны развивали искусство своего учителя совершенно независимо от него.
145 «МАЛЫЙ ОРГАНОН» И СИСТЕМА СТАНИСЛАВСКОГО
П. На конференции о Станиславском Вайгель назвала несколько сходных моментов в ваших требованиях к актеру и требованиях Станиславского. А в чем вы видите различия?
Б. Различия начинаются на довольно высокой ступени реалистического воплощения образа актером. Речь идет о том, чем должно быть занято сознание актера во время игры, что оно должно сохранить, что должно в нем происходить. Как мне представляется, Станиславский дает ряд способов, с помощью которых актер выключает собственное сознание и заменяет его сознанием воплощаемого им человека. По крайней мере так понимается система теми, кто нападает на «Малый органон». В «Малом органоне» описывается такая манера игры, при которой полного растворения в роли не происходит, и излагаются причины, почему до этого доводить не следует.
П. Правильно ли, по-вашему, понимают Станиславского?
Б. Откровенно говоря, я не могу об этом судить. Произведений Станиславского опубликовано мало, а за четыре десятилетия его работы на театре его учение претерпело значительные изменения, судя по нескольким переведенным у нас книгам его учеников. По крайней мере важная составная часть его теории, то, что он называет «сверхзадачей», указывает, по-видимому, на то, что он сознавал ту проблему, которой занимается «Малый органон». Ведь актер и в самом деле оказывается на сцене и артистом и персонажем пьесы одновременно, а это противоречие должно отражаться в его сознании: оно, собственно, и оживляет образ. Это поймет любой диалектик. Выполняя сверхзадачу, актер и у Станиславского опять-таки объективно представляет отношение общества к данному персонажу.
П. Но как можно было дойти до такого упрощения системы, когда утверждают, будто Станиславский верит в мистическое перевоплощение на сцене?
Б. А как можно было дойти до такого упрощения «Малого органона», когда утверждают, будто он требует на сцене бледных созданий, рожденных в реторте, схематических 146 порождений мозга? Ведь каждый может убедиться, что Пунтила и Кураж на сцене «Берлинского ансамбля» — это полнокровные, полные жизни люди? В отношении Станиславского неверное впечатление возникло, вероятно, потому, что он застал такое актерское искусство, которое с великих вершин скатилось до штампов, особенно у средних актеров. Поэтому он был вынужден подчеркивать все то, что вело к созданию полнокровных, противоречивых, реальных образов.
П. А как обстоит дело с «Малым органоном»?
Б. Он пытается добиться партийности в воплощении человека на сцене. Но, разумеется, человека полнокровного, противоречивого, реального.
П. Значит, вы считаете различие незначительным?
Б. Ни в коем случае. Все, что я до сих пор утверждал, имеет целью лишь препятствовать вульгаризации проблемы и показать, на какой высокой стадии реалистического воплощения появляются эти противоречия. Выработка противоречивого характера исполнения в «Малом органоне» требует от актера довольно-таки нового подхода к роли. Физические действия, если воспользоваться термином Станиславского, служат уже не только реалистическому построению роли; они становятся главным ориентиром роли — в виде фабулы. Это нужно очень тщательно продумать, речь идет об очень важном шаге. Правда, такую перестройку вряд ли можно произвести и даже просто начать, пока полагают, будто достаточно лишь сделать выбор между полнокровным и обескровленным театром. Об этом не думают те, кто стремится к реалистическому театру.
СТАНИСЛАВСКИЙ И БРЕХТ
П. Недавно вы назвали те черты вашего метода работы, которые совпадают с методом Станиславского. А как обстоит дело с теми, которые не совпадают?
Б. Относительно легче назвать черты совпадающие, чем Не совпадающие, поскольку обе системы (будем в дальнейшем оба метода именовать так, чтобы в каждом из них можно было установить внутреннюю связь между отдельными элементами) имеют, собственно говоря, 147 разные исходные точки и затрагивают различные вопросы. Их нельзя, как многоугольники, просто «накладывать» одну на другую, чтобы обнаружить, чем они отличаются друг от друга.
П. Разве ваша «система» не касается метода работы актера?
Б. Не главным образом, не как исходной точки. Станиславский, ставя спектакль, главным образом актер, а я, когда ставлю спектакль, главным образом драматург.
П. Но ведь Станиславский тоже подчиняет актера драматургу?
Б. Верно. Но он идет от актера. Для него он изобретает этюды и упражнения, ему он помогает при создании правдивых человеческих образов. С другой стороны, вы можете и от меня услышать, что все зависит от актера, но я целиком исхожу из пьесы, из ее потребностей и требований.
П. Итак, у театра две различные системы, с различными, но пересекающимися кругами задач?
Б. Да.
П. Могли бы, по-вашему мнению, эти системы дополнять друг друга?
Б. Я полагаю, да; но до тех пор, пока мы не познакомимся с системой Станиславского ближе, я предпочитаю выражаться осторожно. По-моему, эта система нуждается, во всяком случае, еще в одной, которая обслуживает круг задач моей. Чисто теоретически ее, вероятно, можно вывести из системы Станиславского. Разумеется, я не знаю, будет ли созданная таким образом система походить на мою.
П. Может быть, вы лучше проинформируете о том, выиграет ли что-нибудь актер, работающий по вашему методу, от освоения метода Станиславского?
Б. Полагаю, что да.
П. Но ему, вероятно, понадобится и что-то другое, чего он не сможет почерпнуть из системы Станиславского в готовом виде?
Б. Возможно.
П. Возьмем такой вопрос, как партийное отношение — оправдание.
Б. С точки зрения драматурга, это противоречие диалектического рода. Как драматургу, мне нужна способность 148 актера к полному вживанию и полному перевоплощению, которую Станиславский впервые разбирает систематически; но, кроме того и прежде всего, мне нужно дистанцирование от образа, которое, будучи представителем общества (его прогрессивной части), должен разработать актер.
П. Как это выражается в обеих системах?
Б. У Станиславского есть, если я правильно понимаю, сверхзадача. У меня вживание…
П. … которое учит вызывать Станиславский…
Б. … встречается на другой фазе репетиций.
П. Значит, вашу систему, исходя из системы Станиславского, можно было бы описать как систему, касающуюся сверхзадачи?
Б. Пожалуй.
149 ХУДОЖНИК И КОМПОЗИТОР В ЭПИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ
ОБ ОФОРМЛЕНИИ СЦЕНЫ В НЕАРИСТОТЕЛЕВСКОМ ТЕАТРЕ100
1. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАДАЧА ОФОРМИТЕЛЯ И ДЕКОРАЦИЯ В ГЛУБИНЕ СЦЕНЫ
В драматургии неаристотелевской (то есть основанной не на принципе вживания в роль), которая стремится показать жизнь человеческого общества через управляющие ею законы, для несхожих во многом видов драм (исторического, биографического, иносказательного) все же разработаны некоторые общие методы оформления сцены. Общность этих методов основывается на отрицании всеми этими видами драм полного вживания в роль и тем самым на отрицании такого оформления сцены, которое создавало бы исчерпывающую иллюзию. Среда, рассматриваемая любой другой драматургией лишь как «внешний мир», для неаристотелевской драматургии играет более важную и совсем иную роль. Внешний мир уже не является только обрамлением. Наши познания о «взаимосвязи между природой и человеком» как о явлении общественном, исторически изменяющемся, совершающемся в процессе труда, определяют характер отображения нами внешней среды. Воздействие человека на природу постоянно усиливается. А это должно найти свое отражение в оформлении сцены. Кроме того, каждая постановка в каждом отдельном виде драматургии ставит абсолютно новую, совершенно конкретную общественную задачу, в решении которой 150 должен принять участие и оформитель, тщательно продумывая и анализируя все оформление постановки с точки зрения его целесообразности и действенности. Показывая московским работникам умственного и физического труда колхозное строительство в пьесе «Разбег»101, Охлопков преследовал иную общественную задачу, требующую иного оформления сцены, чем изображение демагогического аппарата национал-социалистов в пьесе «Круглоголовые и остроголовые» (Брехт, Кнутсон102), поставленной в Копенгагене в 1936 году, или же изображение военного саботажа мелких буржуа в пьесе «Приключения бравого солдата Швейка» (Пискатор, Брехт, Гросс), показанной в Берлине в 1929 году перед публикой совершенно другого классового состава. Так как для каждой новой пьесы необходимо полностью перестраивать сцену, то есть каждый раз конструировать декорации на всю глубину сцены, то справедливо ввести понятие «строитель сцены», которое вообще-то применяют к тому, кто строит сцену как таковую, то есть подмостки, на которые ставится декорация, обычно неизменные от спектакля к спектаклю. Строителю сцены приходится, смотря по обстоятельствам, заменять пол транспортером, задник — экраном, боковые кулисы — орхестрой. Ему приходится превращать потолок в движущуюся платформу и даже думать о переносе игровой площадки в середину зрительного зала. Его задача — показать мир.
Строитель сцены ничего не должен ставить на раз и навсегда закрепленное место, но и не должен беспричинно менять или передвигать что-либо, ибо он дает отображение мира, а мир изменяется согласно законам, открытым далеко не полностью. Однако развитие мира видит не один строитель сцены, но и те, кто следит из зала за его изображениями, и важно не только видение мира самим строителем сцены, но и то, насколько оно помогает зрителю разобраться в этом мире. А значит, строителю сцены нужно помнить о критическом взгляде зрителя, и если зритель таковым не обладает, то задача строителя сцены — наделить им зрителя. Ибо строитель сцены всегда должен помнить о том, какое это великое дело — показывать людям мир, в котором им приходится жить.
151 2. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ, АКТЕРЫ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ СЦЕНЫ
Если относительно общественной задачи постановки строитель сцены придерживается одного мнения с режиссером, драматургом, композитором и актером, помогает каждому из них и использует в своей работе их поддержку, то из-за этого работа его вовсе не должна целиком растворяться в «едином художественном произведении», в сплаве всех художественных элементов постановки. При тесной взаимосвязи с другими формами искусства он благодаря разграничению элементов, так же как и другие художники, в известном смысле сохраняет в своей сфере творческую самостоятельность. Взаимодействие искусств становится тогда живым; противоречивость составных элементов не сглаживается. Строитель сцены, владея особыми изобразительными средствами, располагает определенной свободой в своем понимании авторского текста. Представление может прерываться демонстрацией графических изображений или кинофильмов9*.
О строителе сцены можно сказать, что он работает в согласии с остальными творцами спектакля, если, к примеру, музыкальные инструменты10* и актеры становятся для него составными элементами оформления сцены. В известном, смысле актеры для строителя сцены — самые важные элементы декорации. Далеко не достаточно выбрать лишь место для актера. Если все оформление сцены состоит из одного дерева и трех человек или из одного человека и одного дерева и еще двух человек, то дерево как таковое еще не является оформлением сцены, вернее говоря, ни в коем случае не должно быть им. Расстановка актеров — это один из элементов оформления сцены и, следовательно, главная задача строителя сцены. Если строитель сцены испытывает трудности в своей работе с актерами, то он попадает 152 в положение художника, пишущего на исторические темы, который запечатлевает на полотне лишь мебель и реквизит, после чего другой художник приписывает к стульям людей, а к повисшим в воздухе мечам — руки.
3. ОФОРМЛЕНИЕ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ (ИНДУКТИВНЫЙ МЕТОД)
Обычно размещение декораций на сцене производится до начала репетиций, «чтоб начать их было можно», при этом основное внимание уделяется тому, чтобы декоративное оформление было выполнено живо, создавало у зрителей определенное настроение, передавало местный колорит, а на события, которые должны разыграться на сцене, обращают так же мало внимания, как на выбор почтовой открытки с видом во время путешествия. В лучшем случае это позволяет создать выигрышный фон для игры актеров, но не для какой-то конкретной группы актеров, а для актеров вообще. Если же декорации и создаются для конкретной группы актеров, то они предназначены лишь для первой сцены, которая играется в данном сценическом «пространстве». Даже если режиссер еще до начала репетиций точно определил расстановку и перемещения актеров, — кстати, это метод весьма неудачный, — он обычно поддается искушению сохранить выбранное для первой сцены «пространство» и для всех остальных сцен, ибо с такой расстановкой связано, либо ему кажется, что связано, определенное режиссерское решение. Такой режиссер подсознательно исходит также из того, что с человеком в повседневной жизни может многое стрястись и в одной и той же комнате: не переделывает же он специально свою квартиру, прежде чем устроить, скажем, сцену ревности. Поступая так, режиссер лишает себя всех преимуществ многодневной совместной работы самых различных людей и с самого начала получает застывшее, не гибкое сценическое пространство, которое уже не могут изменить никакие перемещения актера по ходу игры. Название «сценическая картина», употребляемое в немецком языке для описанных выше декораций, выбрано очень метко, так как оно раскрывает все недостатки таких сценических 153 построений. Не говоря уже о том, что в зрительном зале найдутся лишь считанные места, откуда сценическая картина будет открываться во всей своей полноте, а со всех других мест она предстает перед зрителем в более или менее деформированном виде, игровая площадка, скомпонованная как картина, не обладает ни пластичностью, ни пространственной протяженностью, хотя и претендует на них. Хорошая сценическая площадка получает свое завершение в процессе игровых перемещений актеров. Значит, лучше всего, если декорация будет достроена в ходе репетиций. К такому методу никак не могут привыкнуть наши театральные декораторы, считающие себя художниками и утверждающие, что обладают своим «видением», которое будто бы необходимо воплотить, причем они редко считаются с актерами, так как их «сценические картины» и без актеров смотрятся якобы так же хорошо или даже еще лучше.
Хороший строитель сцены продвигается в своей работе медленно, он экспериментирует. Ему очень помогают творческие наметки, основанные на доскональном изучении пьесы, на взаимополезных обсуждениях со всеми остальными членами театрального коллектива, причем особую ценность имеет обсуждение особой общественной задачи, раскрыть которую призвана данная постановка. При этом собственные представления строителя сцены о постановке должны отличаться широтой и гибкостью. Он постоянно проверяет их по результатам актерских репетиций. Намерения и пожелания актеров для него ключ к творческим открытиям. На репетициях он изучает, сколь велики возможности актера, и в нужный момент приходит им на помощь. Чтобы добиться желаемого эффекта, хромающему человеку для передвижения по сцене требуется больше места, какой-нибудь случай издали воспринимается как комический, а вблизи — как трагический и т. д. С другой стороны, и актеры помогают строителю сцены. Если строителю сцены необходимо сделать роскошный стул, то он будет казаться дорогим, если актер церемонно внесет его и поставит с величайшими предосторожностями. Если это кресло судьи, то особого эффекта можно достигнуть, посадив, к примеру, судью маленького роста в огромное кресло, в котором он буквально утонет. Строитель сцены в состоянии 154 обойтись значительно более скупыми средствами, если определенные элементы оформления войдут составной частью в игру актеров; в свою очередь актеры с помощью строителя сцены в состоянии избежать многих трудностей.
В зависимости от общего декоративного оформления, выбранного строителем сцены, нередко как-то меняется смысл реплик, а игра актеров обогащается новыми жестами.
Когда, например, в шестой сцене первого акта «Макбета» король и его свита восхищаются замком Макбета, а зритель видит довольно убогое строение, то в этих словах звучит не только доверчивость короля, но и доброта и вежливость, и сильнее подчеркивается недальновидность короля, неспособного разгадать мучительные сомнения своего военачальника.
Часто актерам бывает приятно работать по эскизам, изображающим какое-то важное событие. Это приносит им пользу потому, что позволяет перенять определенные позы, а также потому, что это событие, получая художественное воплощение, приобретает особую значимость и неповторимость, так сказать, «становится знаменитым». Это событие приняло определенную форму, и теперь можно подвергнуть ее критическому анализу. Известную пользу могут принести также эскизы, которые актеры набрасывают сами.
Так работает хороший строитель сцены — то следуя за актерами, то обгоняя их, но неизменно в тесном контакте с ними. Игровую площадку он оформляет лишь постепенно, экспериментируя так же, как и актеры, и всегда ища что-то новое. Ширма и стул — это уже очень много. И уже очень трудно хорошо поставить ширму и стул. Они должны стоять не только удобно для актера, но и гармонично по отношению друг к другу и при этом должны «играть» сами по себе.
Большинству строителей сцены свойствен недостаток, который художники называют грязной палитрой. Это означает, что уже на палитре все краски перемешались. Такие люди забыли, что такое нормальный свет и что такое основные цвета. Поэтому вместо того, чтобы оттенить все контрасты, они их смазывают и раскрашивают воздух. Художники знают, как это много, когда 155 рядом с группой людей на бельевой веревке висит голубая скатерть, и как мало к этому можно добавить.
Иногда бывает очень трудно выделить основные признаки. Они должны удовлетворять требованию функциональности.
Как мало мы задумываемся над функцией вещей, показывает следующий пример. В пьесе «Круглоголовые и остроголовые» надо было показать две крестьянские семьи за работой. В качестве орудия труда мы выбрали колодец. Хотя в пьесе один из крестьян бросает реплику:
«Тянем, аж лена пошла изо рта, —
У арендатора нет лошадей.
Сам себе лошадь ты — и ни черта…» —
и хотя в ней много говорится о бедственном положении безлошадных крестьян, ни драматургу, ни режиссеру, ни строителю сцены, ни зрителю не пришло в голову, что когда достаешь воду из колодца, лошадь вообще не нужна. Куда разумнее было бы показать самую примитивную сельскохозяйственную машину, которую вместо лошадей обслуживали бы люди. А всякий такой просчет влечет за собой довольно серьезные последствия. В данном случае работа выглядит «естественной», неизбежной, фатальной. Хочешь, не хочешь, а выполнять ее надо, вопрос лишь в том, кто ее должен делать. И зритель при этом думает о людях, а никак не о лошадях. В результате тяжкий труд не воспринимается как лишний, чем-то заменимый, внимание зрителя не приковывается к источнику зла.
Важное значение имеет и выбор материала для оформления сцены11*. Материалы следует выбирать обычные, 156 не добиваясь при этом чрезмерного их разнообразия. Искусство не должно добиваться определенной имитации всеми средствами. Материалы должны воздействовать на зрителя сами по себе.
Над ними нельзя совершать насилия. Нельзя требовать от них «перевоплощений», чтобы, скажем, картон казался полотном, дерево — железом и так далее. Канаты, железные рамы, хорошо обработанное дерево, полотно и так далее, удачно смонтированные, обнаруживают свою самобытную красоту.
Строитель сцены обязан, впрочем, учитывать и то, какое действие его игровая площадка будет оказывать на самих актеров. Декорации и предметы реквизита могут быть двухсторонними, однако не только та сторона, которая видна зрителю, но и другая, обращенная к актерам, также должна иметь эстетически удовлетворительный вид. Эти декорации отнюдь не должны создавать у играющего иллюзию, будто он находится в реальном мире, а призваны подтвердить ему, что это настоящий театр. Верные пропорции, красивый материал, оформление, выполненное с большим вкусом, умело подобранный реквизит ко многому обязывают актера. Совсем не безразлично, как маска выглядит изнутри, является ли она произведением искусства или нет.
Ничто не должно быть для строителя сцены установленным раз и навсегда — ни место действия, ни привычное использование сценической площадки. Лишь в этом случае он подлинный строитель сцены.
Только следуя в своей работе за развертыванием действия, строитель сцены может определить, поспевает ли он в своем оформлении за автором или опережает его. Строитель сцены поступает правильно, когда оформляет спектакль с помощью подвижных элементов — не только потому, что это удобно актерам и ему самому, но и по той причине, что так он в состоянии, постоянно экспериментируя, вносить в декорации чисто технические улучшения. Он сооружает сцену из отдельных, самостоятельных 157 и подвижных частей. Дверная рама должна стать таким же неотъемлемым «участником» репетиции, как сам актер, который всячески обыгрывает ее по ходу действия. Только в этом случае дверная рама будет показана со всех сторон, обретет собственную сценическую жизнь и значимость, а это позволит показать ее в целом ряде комбинаций с другими элементами декорации. Она, дверная рама, играет одну или сразу несколько ролей, так же как и любой другой актер. Ее, этой дверной рамы, право и обязанность — поражать, удивлять зрителя. Она может быть и статистом, и главным исполнителем. Кстати, крепления разборной оконной рамы, будь то канаты или штатив, не следует прятать; они должны придавать декорации большую строгость линий. Это же относится к лампам и музыкальным инструментам. Участки сцены, где расставлены различный реквизит и подвижные элементы, также лучше всего показать отчетливо, с тем чтобы они рельефно выделялись.
Разумеется, такая компоновка сцены требует от актеров соответствующей превосходной игры. Если же декорации достигают известной изысканности и законченности, а игра далека от столь высокого уровня, тогда страдает весь спектакль. Это происходит и в том случае, когда в работе оформителя отчетливо видна мысль, а в игре актеров ее нет. Тогда уж лучше плохое оформление сцены.
ПРИЗНАКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Наши подвижные элементы мало-помалу приобрели признаки общественных процессов, когда мы дали их в качестве орудия актерам, изображающим эти общественные процессы; при создании этих подвижных элементов мы принимали в расчет все общественные факторы, которые могли обусловить и объяснить поведение наших героев.
Наше изображение места дает зрителю больше, чем если бы он увидел подлинное место действия, потому что наше изображение содержит те признаки общественных процессов, которых недостает подлинному месту, во 158 всяком случае, там эти признаки не проявляются столь отчетливо. С другой стороны, наше изображение дает зрителю меньше, чем если бы он сам увидел подлинное место, ибо мы отказываемся от видимости.
Для жилищ пролетариев характерны теснота, духота, они мало пригодны для отдыха и в них всегда гнездятся болезни; для всего этого надо отыскать характерные признаки. Легко понять, что такого рода поиски таят в себе некоторые трудности. Входящий в такое жилище посетитель не сразу обнаруживает наиболее существенные признаки. Они становятся заметны, лишь если долго пробудешь там или даже останешься жить. Во всяком случае, они далеко не всегда проявляются отчетливо.
В то время как капитализм со столь очевидным успехом превратил леса и холмы в предметы купли-продажи и втянул их в крупную игру общественных сил, его художники все еще придавали даже предметам, явно являвшимся продуктами деятельности общества, естественный характер, иначе говоря, изображали дома, стулья и даже церкви как частицу природы. К размерам жилища относились как к размерам естественной известняковой пещеры, размытой морским прибоем. Девять из десяти пней были уже просто-напросто отходами древесины, не использованными в производственном процессе, остатками срубленных деревьев, а стулья по-прежнему рассматривались лишь как места для сидения, словно обыкновенные пни. Конечно, взятый сам по себе стул едва ли является ярким признаком для выявления определенных человеческих отношений и общественных процессов, но, составляя вместе с другими предметами обстановку жилья, он уже становится точным признаком определенного действия общественных сил, вещественным свидетельством эксплуатации и социального угнетения.
Материальный результат труда утрачивает связь с производственным процессом, скрывая следы своей общественной природы. В чистом виде он служит оправданию не только самого производства, но и способа производства, понимаемого как механический акт. Раз нужен стул, нужен и капитализм.
159 Своеобразие классовой борьбы в ее «недраматических» фазах, когда ее острота затушевана, вызывает необходимость добиться на сцене такого изображения, которое помогло бы обнажить длительно и скрыто действующие факторы. Представьте себе, что люди снимают квартиру, возможно, им грозит выселение, и нужно, чтобы зритель увидел, долговые книги, в которых записано, за какую мебель уплачено ко дню свадьбы и сколько еще осталось уплатить к моменту локаута.
Женщину, которая садится на стул, чтобы взять на колени ребенка, едва ли можно изобразить как женщину, которая садится на предмет стоимостью в пять марок, если он новый и является продуктом товарного производства, основанного на эксплуатации. Но как бы ни были неуместны попытки особо выделить признаки такого происхождения и роли обычного стула, ими все же нельзя пренебрегать. Эти признаки снова могут приобрести активное значение, если, к примеру, хозяину нужно продать этот стул или же он разбивает его на куски. Кто хоть раз видел, с каким жестом отчаянья женщина, привыкшая считать каждую копейку, собирает стул, который сломал в гневе ее муж, бросив его, например, в нее самое, тот сразу поймет, о чем идет речь.
Улица есть результат взаимодействия общественных факторов (строительство, транспорт, торговля, людское жилье). Ее признаки — также признаки этих факторов. Мы вольны в наших постановках к признакам реальной улицы (признакам определенных общественных явлений) добавить признаки общественных явлений, которых нельзя увидеть на реальной улице, но которые позволяют зрителю представить себе происходящие там общественные процессы. (К примеру, можно указать цены на квартиры или привести статистику смертности.)
Эти штрихи становятся признаками определенных мест (фабричных дворов, комнат), и тем самым они одновременно становятся признаками определенных общественных явлений (производства товаров, жилищных условий).
160 Нам нет необходимости менять взгляд на вещи, чтобы задаться вопросом, какова сама улица; она должна присутствовать на сцене и тогда, когда сама по себе не играет никакой роли. Желая непосредственно помочь игре наших исполнителей, мы воздвигали разные декорации, но в своей совокупности они не должны изображать реальную улицу. Зачем нам нужна улица? Она нужна нам постольку, поскольку на улице наши герои не вели бы себя иначе.
Мы выиграли сценическое пространство, дав людей в движении, мы их социально обозначили (наши герои действовали как бы внутри общественных процессов). Наши подвижные элементы все больше и больше становились признаками общественных процессов.
Экспериментируя с размером и видом дверной рамы, мы изменяли ее в зависимости от изменения актеров. Эта рама уже сама по себе может воссоздать определенную обстановку или же благодаря ей эта обстановка воссоздается актером. Больший или меньший размер двери еще мало о чем говорит, ибо бывают богатые квартиры с маленькими дверьми и бедные жилища с большой входной дверью. Лишь в сочетании с другими признаками размер двери о чем-то нам говорит. Качество дерева, хорошее оно или плохое, дорогих сортов или дешевых, на расстоянии трудно определить, но зато можно ясно увидеть его окраску. Дверь может вести и в квартиру знатных особ, но постепенно разорившихся и социально деградировавших. Эта дверь хотя и будет из драгоценного дерева, но ее выдаст окраска, которая к тому времени либо облупится и потрескается, либо будет подновлена дешево и безвкусно. Или, к примеру, замок; в домах, где нечего украсть, он будет самым простым, и так далее и так далее.
НЕБОЛЬШОЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ МОЕМУ ДРУГУ МАКСУ ГОРЕЛИКУ
1
У современного драматурга (или театрального художника) значительно более сложные отношения со своим зрителем, чем у торговца с его покупателями. Но даже 161 покупатель не есть явление раз навсегда данное, неизменное, полностью изученное, и потому он отнюдь не всегда бывает прав по отношению к торговцу. Определенные вкусы и привычки могут быть привиты покупателю искусственно, иной раз их надо лишь обнаружить. Фермер никогда не подозревал, что ему нужна или может понадобиться машина Форда. В этом столетии бурное экономическое и социальное развитие быстро и до основания меняет и самого зрителя, непрестанно требуя от него новых типов мышления, чувств и поведения. Кроме того, Hannibal ante portes103 — у ворот театра стоит новый класс.
2
Обострившаяся классовая борьба рождает в нашем зрителе настолько разные интересы, что он больше не в состоянии воспринимать искусство одинаково и спонтанно. Поэтому художник не может рассматривать стихийный успех как истинный критерий ценности своего произведения. Но и угнетенный класс он не может безоговорочно признать судьей последней инстанции, ибо вкус и инстинкт этого класса подавлены.
3
В такое время художнику приходится делать то, что нравится ему самому, в надежде, что он сам и является идеальным зрителем. До тех пор пока художник прилагает все усилия к тому, чтобы бороться вместе с угнетенными, стремится познать и отстаивать их интересы и творить для них, вынужденное одиночество еще не замыкает его в башне из слоновой кости. Но в наше время лучше уж башня из слоновой кости, чем голливудская вилла.
4
Серьезную путаницу порождает стремление подать некоторые истины в виде подслащенных пилюль; оно равносильно стремлению представить торговлю наркотиками более нравственной под тем предлогом, что вместе 162 с наркотиком потребителю преподносится истина: но, во-первых, он может ее не заметить, а во-вторых, очнувшись от дурмана, мгновенно ее забудет.
5
Способы, какими достигаются на Бродвее или в Голливуде напряженность и определенный эмоциональный эффект, возможно, и искусны, однако служат они лишь тому, чтобы побороть ужасную скуку, которую вызывает у любого зрителя бесконечное повторение лжи и глупости. Эта «техника» применяется и совершенствуется с единственной целью — пробудить у зрителя интерес к вещам и идеям, которые отнюдь не служат его интересам.
6
Театр паразитирующей буржуазии оказывает определенное нервное воздействие, которое никак нельзя сравнить с чувствами, пробуждаемыми искусством в эпохи расцвета. Этот театр порождает иллюзию, будто воспроизводит случаи из действительной жизни, чтобы сильнее подхлестнуть примитивные инстинкты, вызвать туманно-сентиментальные настроения у зрителя душевно искалеченного, которому вместо недостающих ему духовных переживаний предлагают жалкий суррогат. Достаточно беглого взгляда, чтобы понять, что этот результат может быть достигнут и путем искаженного отображения подлинной жизни. Многие художники даже убеждены, что соответствующего духу времени «эстетического переживания» можно добиться только с помощью подобных искаженных отображений действительности.
7
В противовес этому следует понять, что у людей существует естественный интерес к определенным событиям, лежащий совершенно вне сферы искусства. Этот естественный интерес может быть использован искусством. Существует и спонтанный интерес к самому искусству, 163 иначе говоря, к способности отображать действительную жизнь, причем фантастически, индивидуально и произвольно, то есть в манере данного художника. Напряженный интерес к действительности и к тому, как передал ее художник, существует сам по себе, и его не надо вызывать искусственно.
8
Защищать традиционный театр можно, лишь отстаивая явно реакционное положение «театр есть театр» или «драма есть драма». При этом понятие драмы ограничивают пришедшей в упадок драмой паразитической буржуазии. Молния Юпитера в маленьких ручках Л. Б. Майера. Возьмите «конфликт» в елизаветинской драматургии, сложный, изменяющийся, большей частью безличный, всегда неразрешимый, и поглядите, во что он превратился сейчас как в современной драме, так и в современных постановках елизаветинских драм. Сравните роль вживания в образ тогда и сейчас! Какое противоречивое, прерывистое сложное действие в шекспировском театре! То, что нам выдают сегодня за «вечные законы драмы», это весьма современные законы, изданные Л. Б. Майером и «Гилд-Тиэтр»104.
9
Путаница по поводу неаристотелевской драмы возникла из-за смешения «научной драмы» с «драмой века науки». Пограничные столбы между искусством и наукой не всегда остаются на месте, задачи искусства могут быть взяты на себя наукой, и наоборот, и все же эпический театр остается театром, иными словами, театр остается театром, становясь эпическим.
10
Только враги современной драмы, поборники ее «вечных законов» могут утверждать, что современный театр, отвергая вживание в роль, тем самым отказывается от эмоций. В действительности современный театр отверг лишь подержанный, устаревший субъективный мир чувств и прокладывает пути новым многогранным социально-продуктивным эмоциям нашего века.
164 11
О современном театре следует судить не по тому, насколько он удовлетворяет привычные запросы зрителей, а по тому, как он их изменяет. У театра следует спрашивать не о том, придерживается ли он «вечных законов драмы», а в состоянии ли он художественно справиться с законами, по которым совершаются великие социальные события нашего столетия. И заботить театр должно не то, что интересует зрителя при покупке билета, иначе говоря, не то, чего он ждет от театра, а интересуется ли этот зритель реальными проблемами мира.
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУЗЫКИ В ЭПИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ105
В эпическом театре музыка применялась при постановке следующих пьес (речь идет только о моих собственных): «Барабанный бой в ночи», «Жизнь асоциального Ваала»106, «Жизнь Эдуарда II Английского», «Махагони», «Трехгрошовая опера», «Мать», «Круглоголовые и остроголовые».
В первых пьесах музыка использовалась в ее самых популярных формах; это были песни или марши, причем эти музыкальные номера почти всегда как-то мотивировались натуралистически. И тем не менее введение музыки в драму произвело переворот в традиционных формах: драма стала менее тяжеловесной, как бы более элегантной; театральные зрелища приблизились к эстрадным представлениям. Музыка пошатнула в драме устои, с одной стороны, импрессионизма с его узостью, серостью и монотонностью, с другой — экспрессионизма с его маниакальной односторонностью уже тем, что внесла разнообразие. В то же время благодаря музыке возродилось то, что давно уже казалось похороненным, а именно «поэтический» театр. Музыку к этим первым постановкам я писал еще сам. Пять лет спустя для второй постановки комедии «Что тот солдат, что этот» в Берлинском Государственном театре драмы ее написал уже Курт Вейль. Тогда-то музыка к пьесе и стала произведением искусства (самостоятельной ценностью). В этой комедии есть элементы клоунады, и 165 Вейль вмонтировал туда серенаду, исполнявшуюся во время демонстрации диапозитивов Каспара Неера, а также военный марш и песню, куплеты которой исполнялись во время перемены декораций при открытом занавесе. А тем временем стала складываться теория разъединения элементов драмы.
Самой большой удачей эпического театра была постановка «Трехгрошовой оперы» в 1928 году. В ней впервые музыка использовалась по-новому. Самое яркое новшество заключалось в том, что музыкальные номера четко выделялись из всего действия. Это подчеркивалось даже внешне — небольшой оркестр помещался у всех на виду, прямо на сцене. Во время исполнения сонгов менялось освещение — свет падал на оркестр, а на задник проецировались названия отдельных номеров, например «Песня о тщете человеческих усилий» или «Песенка, с помощью которой Полли дает понять родителям, что она действительно вышла замуж за бандита Макхита», — и актеры выходили для исполнения музыкального номера на авансцену. Там были дуэты, терцеты, сольные номера и финальные хоры. Те музыкальные номера, которые по своему строю напоминали балладу, по содержанию были философско-морализаторскими. В пьесе показывалось близкое родство духовного мира почтенных буржуа и бандитов с большой дороги. Показывалось, в том числе и средствами музыки, что эти бандиты разделяют ощущения, эмоции и предрассудки среднего буржуа и театрального зрителя. Например, нужно было доказать, что приятно живется лишь тому, кто богат, если даже ему и приходится отказаться от «высших» принципов. В одном из любовных дуэтов говорилось, что ни внешние обстоятельства, ни социальное происхождение, ни имущественное положение не должны бы влиять на выбор супруга! В одном из терцетов выражалось сожаление по поводу того, что ненадежность житейских обстоятельств на нашей планете мешает человеку уступить своей природной склонности к добру и честной жизни. Самая нежная и задушевная любовная песня пьесы описывала постоянство и нерушимость сердечных уз сутенера и его невесты. Возлюбленные умиленно воспевали свое уютное гнездышко — публичный дом. Таким образом, музыка, именно благодаря 166 тому, что взывала лишь к чувствам слушателей и не брезговала ни одним из обычных возбуждающих наркотиков, содействовала разоблачению буржуазной морали. Она играла роль доносчицы, подстрекательницы и сплетницы, роющейся в чужом грязном белье. Эти сонги приобрели большую популярность, некоторые заимствованные из них строчки фигурировали в передовых статьях и речах. Их разучивали под аккомпанемент фортепьяно или с пластинок, — словом, так, как обычно заучивают арии из оперетт.
Сонг такого рода возник, когда я предложил Вейлю просто написать новую музыку к нескольким уже имевшимся сонгам для музыкального фестиваля 1927 года в Баден-Бадене, где должны были исполняться одноактные оперы. Вейль до тех пор писал довольно сложные, главным образом психологизированные вещи, и, согласившись положить на музыку более или менее банальные тексты сонгов, он мужественно порвал с предрассудками, которых придерживалось большинство серьезных композиторов. Использование современной музыки в сонгах принесло несомненный успех. В чем же заключалась принципиальная новизна самой этой музыки, если отвлечься от необычного ее использования?
В центре внимания эпического театра находятся взаимоотношения людей, имеющие общественно-историческое значение (типичность). Он выдвигает на передний план сцены, в которых взаимоотношения людей показаны так, что становятся очевидны социальные законы, управляющие ими. При этом необходимо находить практичные определения соответствующих процессов, то есть такие, пользуясь которыми можно активно воздействовать на эти процессы. Следовательно, цели эпического театра сугубо практические. Он показывает изменяемость человеческих взаимоотношений, зависимость человека от определенных политических и экономических условий и в то же время его способность к изменению их. Например: сцена, в которой один нанимает троих для какой-то незаконной операции («Что тот солдат, что этот»), в эпическом театре должна прозвучать так, чтобы взаимоотношения этих четырех можно было бы представить себе и иначе, то есть либо представить себе такие политические и экономические 167 условия, при которых эти люди заговорили бы иначе, либо такое отношение этих людей к данным условиям, которое также заставило бы их заговорить иначе. Короче говоря, зрителю предоставляется возможность оценить человеческие взаимоотношения с общественной точки зрения, и сцена приобретает социально-исторический смысл. Следовательно, зритель должен быть в состоянии сравнивать между собой различные нормы человеческого поведения. С точки зрения эстетики это значит, что особое значение приобретает общественный смысл действий актеров. Актеры должны научиться доносить до зрителя социальный подтекст сценического действия. (Само собой разумеется, что речь идет о сценическом рисунке роли, имеющем социальную значимость, а не просто об актерской технике.) Принцип индивидуальной выразительности актерской игры как бы заменяется принципом общественной выразительности.
Это равнозначно настоящему перевороту в драматургии. Искусство драмы и в наше время все еще следует рецептам Аристотеля и стремится к так называемому катарсису (духовному очищению зрителя). В аристотелевской драматургии развитие действия ставит героя в такие положения, в которых обнажаются сокровенные глубины его души. Все изображаемые на сцене события преследуют одну и ту же цель: ввергнуть героя в конфликт с самим собой. Пусть это звучит кощунственно, но мне кажется полезным сравнить все это с бурлесками на Бродвее, где публика, вопя свое «Take it off»107, заставляет девушек, постепенно обнажаясь, выставлять свое тело напоказ. Индивидуум, обнажающий сокровенные глубины своей души, выдается, конечно, за «человека вообще». Дескать, каждый (в том числе и зритель) тоже неминуемо подчинился бы давлению изображенных на сцене обстоятельств, так что практически при постановке «Эдипа» зрительный зал якобы оказывается битком набит маленькими Эдипами, а при постановке «Императора Джонса»108 — императорами Джонсами. Неаристотелевская драматургия не стала бы изображаемым на сцене событиям придавать обобщающее значение неотвратимой судьбы, а человека представлять беспомощной, — несмотря на красоту и значительность слов и поступков, — игрушкой в ее руках, наоборот, 168 она присмотрелась бы поближе к этой «судьбе» и разоблачила бы ее как дело рук человеческих.
Все эти рассуждения могли бы показаться выходящими за рамки анализа нескольких маленьких сонгов, если бы эти сонги не были (правда, еще очень маленькими) ростками нового современного театра или не характеризовали бы роли музыки в этом театре. Общественную значимость музыки этих сонгов вряд ли удастся обрисовать иначе, как путем выяснения общественной значимости всех нововведений. Практически общественно значимая музыка — это такая музыка, которая дает возможность актеру выявить основной общественный подтекст всей совокупности сценических действий. Так называемая «дешевая» музыка — особенно на эстраде и в оперетте — уже довольно давно приобрела черты общественной значимости. «Серьезная» музыка, напротив, все еще цепляется за лиризм и блюдет индивидуалистическое самовыражение личности.
Опера «Расцвет и падение города Махагони» продемонстрировала применение новых принципов в довольно значительном объеме. Пользуюсь случаем заметить, что музыка Вейля к этой опере, на мой взгляд, не представляет собой образца общественно значимой музыки в чистом виде, но в ней много общественно значимых партий — во всяком случае, достаточно, чтобы являть собой серьезную угрозу для оперы обычного типа, которую в ее нынешнем виде можно назвать чисто кулинарной оперой. А в опере «Махагони» кулинаризм стал темой, причины чего я подробно изложил в «Примечаниях к опере». Там разъясняется также, почему обновление оперы в условиях капиталистической действительности невозможно. Любые нововведения приводят здесь лишь к разрушению оперы как таковой. Попытки композиторов, например, Хиндемита и Стравинского, обновить оперу неизбежно разбиваются о механизм оперных театров. Опера, драматический театр, пресса и другие мощные механизмы идеологического воздействия проводят свою линию, так сказать, инкогнито. В то время как они уже с давних пор используют людей умственного труда (в данном случае — музыкантов, писателей, критиков и т. д.), — причастных к их доходам, а значит, в экономическом смысле и к их власти, в социальном 169 же отношении уже пролетаризировавшихся, — лишь для того, чтобы насыщать чрево массовых зрелищ, то есть используют их умственный труд в своих интересах и направляют его по своему руслу, сами-то люди умственного труда по-прежнему тешат себя иллюзией, что весь этот механизм функционирует лишь благодаря плодам их умственной деятельности и представляет собой производное явление, не оказывающее никакого влияния на их труд, а, наоборот, лишь испытывающее на себе его влияние. Это непонимание своего положения, господствующее в среде музыкантов, писателей и критиков, имеет серьезные последствия, на которые слишком редко обращают внимание. Ибо, полагая, что владеют механизмом, который на самом деле владеет ими, они защищают механизм, уже вышедший из-под их контроля, — чему они никак не хотят поверить, — переставший быть орудием для производителей и ставший орудием против производителей, то есть против самой их продукции (поскольку оно обнаруживает собственные, новые, не угодные или враждебные механизму тенденции). Творцы становятся поставщиками. Ценность их творений определяется ценой, которую за них можно получить. Поэтому стало общепринятым рассматривать каждое произведение искусства с точки зрения его пригодности для механизма, а не наоборот — механизм с точки зрения его пригодности для данного произведения. Если говорят: то или иное произведение прекрасно, то имеется в виду (хоть и не говорится): прекрасно годится для механизма. Но сам-то этот механизм определяется существующим общественным строем и принимает только то, что укрепляет его позиции в этом строе. Можно дискутировать о любом нововведении, не угрожающем общественной функции этого механизма также и в позднекапиталистический период, а именно — позднекапиталистическому развлекательству. Не подлежат дискуссии лишь такие нововведения, которые направлены на изменение функций механизма, то есть изменяющие его положение в обществе, ну хотя бы ставящие его на одну доску с учебными заведениями или крупными органами гласности. Общество пропускает через механизм лишь то, что нужно для воспроизводства себя самого. Поэтому оно примет лишь такое «нововведение», 170 которое нацелено на обновление, но не на изменение существующего строя, — хорош ли он или плох, Люди искусства обычно и не помышляют о том, чтобы изменить механизм, ибо полагают, что он находится в их власти и лишь перерабатывает плоды их свободного творчества, а следовательно, сам по себе изменяется вместе с их творчеством. Но их творчество отнюдь не свободно: механизм выполняет свою функцию с ними или без них, театры работают каждый вечер, газеты выходят столько-то раз в день, и они принимают только то, что им нужно; а нужно им просто определенное количество материала12*.
Какую опасность представляет собой механизм, показала постановка «Матери» на нью-йоркской сцене. Театр «Юниен» по своему политическому направлению существенно отличался от театров, ставивших оперу «Махагони». И тем не менее механизм оказался верен себе и своей функции одурманивания публики. В результате этого не только сама пьеса, но и музыка к ней были искажены, и воспитательный смысл ее в значительной степени был утерян. В «Матери», более чем в какой-либо другой пьесе эпического театра, музыка сознательно использовалась для того, чтобы заставить зрителя осмысливать происходящее на сцене, как о том говорилось выше. Музыку Эйслера никак не назовешь простой. Она довольно сложна, я никогда не слышал более серьезной музыки. Но она удивительным образом способствовала упрощению сложнейших политических проблем, решение которых для пролетариата жизненно необходимо. Общественная значимость музыки к небольшой сценке, опровергающей обвинения в том, что коммунизм означает всеобщий хаос, сводится к тому, что она мягко, ненавязчиво заставляет внимать голосу разума. В сценке «Хвала ученью», связывающей проблему захвата власти пролетариатом с проблемой приобретения им необходимых знаний, музыка придает действию героическое и в то же время непринужденно 171 жизнерадостное звучание. Точно так же и заключительный хор «Хвала диалектике», который с легкостью мог бы быть воспринят сугубо эмоционально, как песнь торжества, благодаря музыке удерживается в сфере рационального. (Часто приходится сталкиваться с ошибочным утверждением, что эта — эпическая — манера исполнения начисто отказывается от эмоционального воздействия; на самом деле природа вызываемых ею эмоций лишь более ясна, они возникают не в сфере подсознательного и не имеют ничего общего с дурманом.)
Кто полагает, что массам, поднявшимся на борьбу с разнузданным насилием, угнетением и эксплуатацией, чужда серьезная и вместе с тем приятная и рациональная музыка как средство пропаганды социальных идей, тот не понял одной очень важной стороны этой борьбы. Однако ясно, что воздействие такой музыки в значительной степени зависит от того, как она исполняется. Если уж и исполнители не овладеют ее социальным смыслом, то нечего надеяться, что она сможет выполнить свою функцию — вызвать у зрительской массы определенное единое отношение к действию. Чтобы наши рабочие театры могли справиться с поставленными перед ними задачами и Исчерпать открывающиеся перед ними возможности, потребуется огромная воспитательная работа и серьезная учеба. Зрители этих театров также должны с их помощью многому научиться. Нужно добиться того, чтобы механизм рабочего театра, в отличие от буржуазной театральной машины, не выступал в роли распространителя наркотического дурмана.
К пьесе «Круглоголовые и остроголовые», которая, в отличие от «Матери», обращается к «более широкой» публике и в большей степени учитывает чисто развлекательные потребности зрителей, Эйслер написал музыку в форме сонгов. И эту музыку тоже можно в известном смысле назвать философской. Она также избегает наркотического воздействия, главным образом благодаря тому, что решение музыкальных проблем связывает с ясным и четким подчеркиванием политического и философского смысла стихов.
Из сказанного, вероятно, ясно, насколько трудны задачи, которые ставит перед музыкой эпический театр.
172 В настоящее время «прогрессивные» композиторы все еще пишут музыку для концертных залов. Одного взгляда на публику этих залов достаточно, чтобы понять, насколько безнадежной была бы попытка использовать в политических или философских целях музыку, оказывающую такое воздействие. Ряды заполнены людьми, ввергнутыми в состояние своеобразного опьянения, совершенно пассивными, ушедшими в себя, обнаруживающими все признаки сильного отравления. Неподвижный, пустой взгляд показывает, что эти люди, безвольные и беспомощные, находятся целиком во власти стихии своих эмоций. Пот, струящийся то их лицам, свидетельствует о том, какого напряжения стоят им эти эксцессы. Даже самый примитивный гангстерский фильм в большей степени апеллирует к рассудку своих зрителей. Здесь же музыка выступает как «фатум». Чрезвычайно сложный, абсолютно непостижимый фатум этой эпохи жесточайшей, сознательной эксплуатации человека человеком. У этой музыки чисто кулинарные устремления. Она совращает слушателя на путь наслаждения, иссушающего своей бесплодностью. И никакими ухищрениями не убедить меня в том, что ее общественная функция иная, чем у бурлесков Бродвея.
Нельзя не заметить, что в среде серьезных композиторов и музыкантов ныне уже зарождается движение, направленное против этой вредоносной общественной функции. Эксперименты, предпринимаемые в сфере музыки, приобретают постепенно значительный размах; и не только в подходе к своему материалу, но и в деле привлечения новых слоев потребителей новейшая музыка неустанно ищет новые пути. Тем не менее остается целый ряд задач, которые она еще не в силах решить и над решением которых даже не задумывается. Например, совершенно канул в прошлое жанр музыкального эпоса. Мы совершенно не знаем, как исполнялись когда-то «Одиссея» и «Песнь о Нибелунгах». Наши музыканты не умеют уже писать музыку для вокального исполнения крупных эпических произведений. Обучающая музыка тоже предана забвению, а ведь было время, когда музыка применялась даже для лечения болезней! Наши композиторы в основном предоставляют трактирщикам изучать производимое их музыкой 173 воздействие. Одним из немногих результатов подобных исследований, с которыми мне довелось познакомиться за последние десять лет, было замечание некоего парижского ресторатора по поводу того, как под воздействием различных видов музыки меняются заказы посетителей. Он полагал, что ему удалось установить, какие напитки заказывают при исполнении музыки тех или иных композиторов. В самом деле, театр много выиграл бы, если бы композиторы умели писать музыку, оказывающую на зрителя в какой-то степени точно определяемое воздействие. Это очень облегчило бы задачу актеров; особенно желательно было бы, например, чтобы актеры могли строить рисунок роли в направлении, противоположном настроению, созданному музыкой. (Для пробной работы над пьесами возвышенного стиля имеется даже вполне достаточно готовых музыкальных произведений.) В немом кино было предпринято несколько попыток использовать музыку для создания вполне определенных настроений. Я слышал интересную музыку Хиндемита и прежде всего Эйслера. Эйслер писал музыку даже к самым обычным развлекательным фильмам, причем очень серьезную музыку.
Но звуковое кино, этот процветающий поставщик захватившего весь мир наркотического дурмана, вряд ли станет продолжать эксперименты такого рода.
По моему мнению, наряду с эпическим театром поучительные пьесы также открывают перспективы для современной музыки. К некоторым пьесам этого типа Вейль, Хиндемит и Эйслер написали исключительно интересную музыку. (Вейль и Хиндемит совместно — музыку к радиопостановке для школьников «Полет Линдбергов»; Вейль — к школьной опере «Говорящие “да”»; Хиндемит — к «Баденской поучительной пьесе о согласии»; Эйслер — к «Мероприятию».)
К сказанному нужно добавить, что создание запоминающейся и доступной для понимания музыки зависит отнюдь не только от доброй воли, но в первую очередь от умения и знаний, а знания можно приобрести только при постоянном общении с народными массами и другими коллегами по профессии, но не в кабинетном уединении.
174 «МАЛЫЙ ОРГАНОН» ДЛЯ ТЕАТРА
«МАЛЫЙ ОРГАНОН» ДЛЯ ТЕАТРА109
ВВЕДЕНИЕ
В этой работе ставится вопрос, как следовало бы сформулировать эстетическую теорию, основанную на вполне определенном методе ряда театральных постановок, уже действительно осуществляющихся на протяжении нескольких десятилетий. В отдельных теоретических высказываниях, полемических выступлениях и чисто технических указаниях, которые публиковались в виде примечаний к пьесам автора этих строк, проблемы эстетики затрагивались только мимоходом, им не придавалось особого значения. Определенный вид сценического искусства расширял и ограничивал свое общественное назначение, отбирая и совершенствуя свои художественные средства. Этот вид искусства раскрывался и утверждался в эстетической теории либо тем, что отбрасывал предписания господствующей морали или господствующих вкусов, либо тем, что использовал их в своих интересах — в зависимости от боевой ситуации. Так, например, в защиту наших стремлений к общественно-политическим тенденциям приводились примеры общественно-политической тенденциозности общепризнанных произведений искусства, которая оказывалась незаметной именно потому, что это были общепризнанные тенденции. Нами отмечалось как признак упадка, что в современной продукции искусства выхолащивается все, что достойно познания, а те торговые предприятия, которые продают вечерние развлечения, опустились до уровня буржуазных заведений, торгующих наркотиками. При виде лживого изображения общественной 175 жизни на театральных подмостках, в том числе и на тех, где господствовал так называемый натурализм, мы поднимали голос, требуя научной точности изображения, а наблюдая безвкусные упражнения гурманов, готовящих «лакомства для глаз и души», мы во весь голос требовали той красоты, которая присуща логике таблицы умножения. Наш театр с презрением отверг культ прекрасного, который подразумевал неприязнь к учению и пренебрежение пользой, тем более что культ этот уже не создавал ничего прекрасного. Возникло стремление создать театр эпохи науки, и когда тем, кто вынашивал эти планы, становилось уже трудно отбиваться от газетно-журнальных эстетов с помощью понятий, заимствованных или украденных из цейхгауза эстетики, тогда они просто грозили «превратить средства удовольствия в средство обучения и перестроить известные учреждения из развлекательных зрелищ в органы гласности» («Примечания к опере»), то есть покинуть тем самым царство удовольствия. Эстетика — наследство развращенного паразитирующего класса — находилась в таком жалком состоянии, что театр мог приобрести уважение и свободу действий, лишь отказавшись от своего имени. Однако и театр эпохи науки, который мы осуществляли, был все же театром, а не наукой. Накопление новшеств проходило в таких условиях, когда не было практических возможностей эти новшества показать, — в годы нацизма, во время войны. Именно поэтому теперь необходимо попытаться проверить, какое место занимает этот вид сценического искусства в эстетике, или, во всяком случае, хотя бы наметить очертания его эстетической теории. Ведь было бы слишком трудно представить себе, например, теорию сценического очуждения вне определенной эстетики.
Сегодня возможно создать даже эстетику точных наук. Уже Галилей говорил об изяществе определенных формул и об остроумии опытов. Эйнштейн приписывает чувству прекрасного еще и склонность к изобретательству, а исследователь в области атомной физики Р. Оппенгеймер110 хвалит ту позицию ученого, которой «присуща красота и соответствие месту, занимаемому на земле человеком».
176 Итак, — вероятно, ко всеобщему сожалению, — мы отказываемся от нашего намерения покинуть царство удовольствий и, к еще большему всеобщему сожалению, объявляем наше новое намерение — обосноваться в этом царстве. Будем же рассматривать театр как место для развлечения, то есть так, как это положено в эстетике, но исследуем, какие именно развлечения нам по душе!
1
«Театр» — это воспроизведение в живых картинах действительных или вымышленных событий, в которых развертываются взаимоотношения людей, — воспроизведение, рассчитанное на то, чтобы развлекать. Во всяком случае, именно это мы будем в дальнейшем подразумевать всякий раз, говоря о театре — как о старом, так и о новом.
2
Чтобы охватить область еще более широкую, сюда можно было бы добавить и отношения между людьми и богами, но, поскольку для нас важно определение только самого основного, можно обойтись и без богов. Если бы мы даже и предприняли такое расширение, все же сохранило бы силу определение, согласно которому наиболее общая задача учреждения, именуемого «театр», — это доставлять удовольствие. И это самая благородная задача «театра» из всех, какие нам удалось установить.
3
С давних времен задача театра, как и всех других искусств, заключается в том, чтобы развлекать людей. Это всегда придает ему особое достоинство; ему не требуется никаких иных удостоверений, кроме доставленного удовольствия, но зато оно обязательно. И если бы театр превратили, например, в рынок морали, это отнюдь не было бы для него повышением в ранге. Напротив, скорее пришлось бы беспокоиться о том, как бы такое превращение не принизило театр. А именно это и произошло бы, если бы из морали не удалось извлечь удовольствие, притом именно удовольствие непосредственно 177 чувственного восприятия, отчего, впрочем, и сама мораль только выигрывает. Не следует приписывать театру также поучительности — во всяком случае, театр не учит ничему практически более полезному, чем то, как получать телесное или духовное наслаждение. Театр должен иметь право оставаться излишеством, что, впрочем, означает, что и живем мы для изобилия. Право же, менее всего требуется защищать удовольствие.
4
Таким образом, ту задачу, которую древние, согласно Аристотелю, возлагали на свои трагедии, не следует считать ни более возвышенной, ни более низменной, чем она есть в действительности. Она заключается в том, чтобы развлекать людей. Когда говорят: театр вырос из культовых обрядов, это означает только то, что он стал театром именно потому, что вырос, то есть перестал быть культовым. Он получил в наследство от мистерий отнюдь не их культово-религиозную задачу, а только их назначение — доставлять удовольствие. Аристотель называл катарсисом очищение посредством страха и сострадания либо очищение от страха и сострадания; это очищение само по себе не являлось удовольствием, но оно вызывало удовольствие. Требовать или ожидать от театра большего, чем он может дать, значит только принижать его истинные задачи.
5
Даже пытаясь различить высокие и низменные формы удовольствия, вы мало чего достигнете перед лицом неумолимой правды искусства, которое хочет проникать и на высоты и в низины и хочет, чтобы ему не мешали, если только оно доставляет этим удовольствие людям.
6
Однако действительно имеются слабые (простые) и сильные (сложные) виды удовольствия, доставляемого театром. Последние, то есть сложные, с которыми мы имеем дело в великой драматургии, достигают все более 178 высокого напряжения, подобно самому интимному телесному сближению в любви; они многообразны, богаче впечатлениями, противоречивее и плодотворнее.
7
В каждую историческую эпоху были свои виды удовольствия, и они различались между собой в зависимости от различий в общественной жизни людей. Управляемый тиранами демос эллинского цирка необходимо было развлекать по-иному, чем придворных феодального князя или Людовика XIV. Театр должен был создавать иные изображения общественной жизни людей; иной была не только жизнь сама по себе, но и ее изображение.
8
В зависимости от того, чем и как именно можно и нужно было развлекать людей в конкретных условиях общественной жизни, следовало менять пропорции образов, по-иному строить коллизии. Чтобы доставить удовольствие, приходится совершенно по-разному рассказывать. Например, эллинам — о власти божественных законов, всем нарушителям которых — даже невольным — грозит неотвратимая кара; французам — о том изящном самоопределении, которого требует от сильных мира сего свод придворных законов долга и чести; англичанам елизаветинских времен — о самосозерцании непокорного и свободного нового индивидуума.
9
Всегда нужно иметь в виду, что удовольствие, доставляемое самыми различными изображениями, никогда не зависело от степени сходства изображаемого с изображенным. Неправильность и даже явное неправдоподобие почти или совсем не мешали, если только неправильность обладала определенным смысловым единством, а неправдоподобие — однородностью. Достаточно было одной лишь иллюзии, которая возникает из необходимости развивать именно данную фабулу, иллюзии, которую могут создавать любые поэтические и театральные 179 средства. Мы сами охотно отвлекаемся от такого рода несоответствий, когда, любуясь, например, душевным очищением героев Софокла, или самопожертвованием в драмах Расина, или неистовством безумцев Шекспира, стараемся усвоить прекрасные и великие чувства главных героев этих историй.
10
Ведь среди тех разнородных изображений значительных событий, изображений, созданных еще в эллинские времена и развлекавших, зрителей, несмотря на всяческие неправильности и неправдоподобия, и доныне сохранилось поразительно большое число таких, которые продолжают развлекать и нас.
11
Отмечая в себе способность наслаждаться изображениями, созданными в самые разные эпохи, способность, которая вряд ли была доступна детям этих могучих эпох, не следует ли нам предположить, что и мы все еще не открыли специфических удовольствий нашей собственной эпохи — того, что составляет специфику ее развлечений?
12
Наслаждение, которое доставляет театр нам, вероятно, слабее того, что испытывали древние, хотя формы их общественной жизни и нашей все же еще достаточно сходны для того, чтобы мы вообще были способны получить какое-то наслаждение от театра. Мы осваивали древние произведения с помощью сравнительно нового вида восприятия, а именно вживания; но так мы мало что можем от них получить. И поэтому наша потребность в наслаждении большей частью питается из иных источников, чем те, которые так щедро служили нашим предшественникам. И тогда мы обращаемся к красотам языка, к изящному развитию фабулы, к таким частностям, которые вызывают у нас уже вовсе новые, своеобразные представления, — короче, мы пользуемся дополнительными, побочными элементами древних 180 творений. А это как раз те поэтические и сценические средства, которые скрывают неправдоподобие сюжета. Наши театры уже не могут или не хотят внятно пересказывать эти древние сказки, или даже более новые — шекспировские, — то есть не могут или не хотят правдоподобно представлять их фабулы. Но вспомним, ведь фабула — это, по Аристотелю, душа драмы. Все более и более раздражает нас примитивность и беспечность в изображении общественной жизни людей, притом не только в древних произведениях, но и в современных, если их создают по старым рецептам. Вся система доставляемых нам удовольствий становится несовременной.
13
Неправдоподобие в изображении взаимодействий и взаимоотношений между людьми ослабляет удовольствие, получаемое нами в театре. Причина этого: мы относимся к изображаемому иначе, чем наши предшественники.
14
Дело в том, что, когда мы ищем для себя развлечений, дающих то непосредственное удовольствие, какое мог бы доставить нам театр, изображая общественную жизнь людей, мы не должны забывать о том, что мы — дети эпохи науки. Наука совершенно по-новому определяет нашу общественную жизнь и, следовательно, нашу жизнь вообще, — иначе, чем когда бы то ни было.
15
Несколько сот лет назад отдельные люди, жившие в разных странах, но тем не менее согласовывавшие свою деятельность, провели ряд опытов, с помощью которых они надеялись раскрыть тайны природы. Сами эти люди принадлежали к тому классу ремесленников, который сложился тогда в достаточно уже окрепших городах, но изобретения свои они передавали другим людям, которые практически использовали их, заботясь при этом о новых науках лишь постольку, поскольку рассчитывали получить от них личную выгоду. И вот 181 ремесла, которые в течение тысячелетий оставались почти неизменными, начали вдруг необычно интенсивно развиваться сразу во многих местах, связанных конкуренцией. Большие массы людей, собранные в этих местах и по-новому организованные, представляли собой огромную производительную силу. А вскоре человечество открыло в себе такие силы, о масштабах которых оно ранее не смело даже мечтать.
16
Получилось так, словно человечество только теперь сознательно и единодушно принялось делать звезду, на которой оно ютится, пригодной для жизни. Многие из составных частей этой звезды — уголь, вода, нефть — превратились в сокровища. Водяной пар заставили служить средством передвижения; несколько маленьких искр и дрожание лягушечьих лапок помогли обнаружить такие силы природы, которые создавали свет и несли звуки через целые материки… По-новому смотрел человек вокруг себя, приглядываясь ко всему, с тем чтобы обратить себе на пользу то, что он видел уже давно, но никогда раньше не использовал. Окружающая его среда преображалась все больше с каждым десятилетием, потом с каждым годом, а потом уже почти с каждым днем. Я пишу эти строки на машинке, которой в то время, когда я родился, еще не существовало. Я перемещаюсь благодаря новым средствам передвижения с такой скоростью, которой мой дед и вообразить себе не мог, — в те времена вообще не знали таких скоростей. И я поднимаюсь в воздух, что не было доступно моему отцу. Я успел поговорить со своим отцом с другого континента, но взрыв в Хиросиме, запечатленный движущимся изображением, я увидел уже вместе с моим сыном.
17
Новые научные методы мышления и мировосприятия все еще не проникли в широкие массы. Причина этого кроется в том, что, хотя науки очень успешно развиваются в области освоения и покорения природы, тот класс, который обязан им своим господствующим положением, — 182 буржуазия, — препятствует научной разработке другой области, все еще погруженной во мрак, а именно — области взаимоотношений людей в ходе освоения и покорения природы. Великое дело, от успеха которого зависели все, осуществлено; однако те новые научные методы мышления, которые позволили покорить природу, не применяются для того, чтобы выяснить взаимоотношения людей, осуществляющих это покорение. Новое видение природы не помогло еще по-новому увидеть общество.
18
И правда, распознать взаимоотношения людей в настоящее время стало действительно труднее, чем когда-либо. То огромное общее дело, в котором они участвуют, все больше и больше разделяет их. Рост производства вызывает рост нищеты и бедствий, эксплуатация природы приносит выгоду лишь немногим — тем, кто эксплуатирует людей. То, что могло служить общему прогрессу, обеспечивает лишь преуспевание одиночек, и все большая часть производства используется, чтобы выпускать средства разрушения для «великих» войн. И в дни этих войн матери всех народов, прижимая к себе детей, с ужасом смотрят на небо, ожидая появления смертоносных изобретений науки.
19
Сегодня люди бессильны противостоять своим собственным творениям так же, как в древности были бессильны противостоять стихийным бедствиям. Буржуазия, обязанная науке своим возвышением, которое она превратила в господство, использует науку лишь в своих корыстных интересах и ясно отдает себе отчет в том, что научное исследование буржуазного производства означало бы конец господству буржуазии. Поэтому новая наука, которая изучает человеческое общество и первоосновы которой закладывались лет сто назад, была окончательно обоснована в борьбе порабощенных против поработителей. С тех пор элементы научного духа проникли и в низы, в новый класс, в класс рабочих, 183 чья жизнь связана с производством. И с его позиций видно, что великие катастрофы современности являются делом рук господствующего класса.
20
Однако задачи науки и искусства совпадают в том, что и наука и искусство призваны облегчить жизнь человека; наука занимается источниками его существования, а искусство — источниками его развлечения. В грядущем искусство будет находить источники развлечения уже непосредственно в области по-новому творческого, производительного труда, который может значительно улучшить условия нашего существования и, став наконец свободным, сам по себе сможет быть величайшим из всех удовольствий.
21
Если мы хотим отдаться этой великой страсти производительного труда, то как же должны выглядеть наши изображения общественного бытия людей? Какое именно отношение к природе и обществу является настолько плодотворным, чтобы мы, дети эпохи науки, могли воспринимать его в театре как удовольствие?
22
Такое отношение может быть только критическим. Критическое отношение к реке заключается в том, что исправляют ее русло, к плодовому дереву — в том, что ему делают прививку, к передвижению в пространстве — в том, что создают новые средства наземного и воздушного транспорта, к обществу — в том, что его преобразовывают. Наше изображение общественного бытия человека мы создаем для речников, садоводов, конструкторов самолетов и преобразователей общества, которых мы приглашаем в свои театры и просим не забывать о своих радостных интересах, когда мы раскрываем мир перед их умами и сердцами с тем, чтобы они переделывали этот мир по своему усмотрению.
184 23
Однако театр может занять такую свободную позицию только в том случае, если он сам включается в наиболее стремительные потоки общественной жизни, если он сам присоединяется к тем, кто с наибольшим нетерпением стремится к значительным изменениям. Помимо всего прочего, уже одно только желание развивать наше искусство в соответствии с современностью должно увлечь наш театр эпохи науки на окраины, чтобы там он распахнул двери перед широкими массами, перед теми, кто создает много, а живет трудно; им должен предоставить театр полезное развлечение, посвященное великим проблемам, которые так важны для них. Возможно, им будет нелегко оплачивать наше искусство, возможно, они не сразу поймут этот новый вид развлечения, и нам, вероятно, придется многому поучиться, чтобы понять, что именно им нужно и в каком виде, но мы можем быть уверены, что привлечем их интерес. Эти люди, которые, кажется, так далеки от естественных наук, далеки от них лишь потому, что их удаляют от них искусственно. И для того чтобы освоить естественные науки, им надо сначала самим развить новую науку об обществе и применить ее на деле. Именно поэтому они-то и являются подлинными детьми эпохи науки. И театр эпохи науки не сможет двигаться вперед, если они не подтолкнут его. Театр, который находит источник развлечения в труде, должен сделать труд своей темой и особенно ревностно стремиться к этому именно теперь, когда почти всюду один человек мешает другому проявлять себя в общественной жизни, то есть обеспечивать себе существование, развлекаться и развлекать. Театр должен активно включиться в действительность для того, чтобы иметь право и возможность создавать наиболее действенное отражение этой действительности.
24
Только при этом условии театр сможет максимально приблизиться к тому, чтобы стать средоточием просвещения и органом гласности. Театр не может оперировать научным материалом, который непригоден для развлечения, 185 но зато он волен развлекаться поучениями и исследованиями. Театр подает как игру картины жизни, предназначенные для того, чтобы влиять на общество, и перед строителями этого общества проходят события прошлого и настоящего, представленные театром таким образом, чтобы те чувства, размышления и побуждения, которые извлекают из современных и исторических событий самые страстные, самые мудрые и самые деятельные из нас, могли стать услаждающим развлечением. Строители общества получат удовольствие от мудрости, с какой решаются проблемы, от гнева, в который с пользой может перерасти жалость к угнетенным, от уважения к человечности, то есть к человеколюбию, — словом, от всего того, что доставляет наслаждение также и тем, кто создает постановки.
25
И это позволяет театру предоставить зрителю возможность насладиться современной моралью, которая определяется производительной деятельностью. Делая критику — этот великий метод производительной деятельности — предметом развлечения, театр не имеет никаких обязательных моральных задач, но зато очень много возможностей. Даже антиобщественные силы, если они значительно и живо представлены на сцене, могут стать предметом развлечения. Эти силы часто обнаруживают и разум и многообразные способности, действующие, однако, разрушительно. Ведь даже наводнение может доставить удовольствие видом свободного и величавого потока, если только люди уже с ним справились, если стихия покорилась людям.
26
Но для того чтобы осуществить это, мы не можем оставить современный театр таким, каков он есть. Войдем в одно из театральных зданий и посмотрим, как там воздействуют на зрителя. Оглядевшись по сторонам, можно заметить фигуры, почти застывшие в довольно странном состоянии. Кажется, что их мускулы напряжены в необычайном усилии или, наоборот, находятся в полном изнеможении. Они едва замечают друг друга, 186 они собрались вместе, но словно бы спят и к тому же видят кошмарные сны. В народе говорят, что так бывает, если заснешь лежа на спине. Правда, глаза у них открыты, но они не смотрят, а таращатся, и не слушают, а вслушиваются. Они смотрят на сцену так, словно они заколдованы. Это выражение возникло в средние века, в эпоху ведьм и господства церковников. Ведь и смотреть и слушать — значит действовать, подчас и то и другое оказывается увлекательной деятельностью, но эти люди, кажется, уже не способны ни к какой деятельности, напротив, с ними самими делают что-то другие. Такое состояние отрешенности, в котором зрители кажутся одержимыми неопределенными, но сильными ощущениями, становится тем глубже, чем лучше работают актеры. А так как нам это состояние не нравится, то хочется, чтобы актеры были как можно хуже.
27
А сам изображаемый на сцене мир, клочья которого служат для возбуждения этих настроений и переживаний, создается такими скудными и убогими средствами (малая толика картона, немного мимики и крохи текста), что приходится только восхищаться работниками театра, которые умеют с помощью столь жалких отбросов действительности воздействовать на чувства своих зрителей куда сильнее, чем смогла бы воздействовать сама действительность.
28
Во всяком случае, не следует ни в чем винить работников театра, так как те развлечения, за создание которых они получают деньги и славу, не могут быть созданы с помощью более достоверных изображений действительности. А свои недостоверные изображения они не могут преподносить каким-либо иным, менее магическим способом. Мы видим их способность изображать людей; особенно удаются им злодеи и второстепенные персонажи — тут у артистов особенно ощутимо конкретное знание людей. Но главных героев приходится изображать в более общих чертах, чтобы зрителю было легче отождествлять себя с ними. Во всяком случае, 187 все элементы должны быть взяты из какой-либо ограниченной области, чтобы каждый сразу мог оказать: да, это так и есть, потому что зритель хочет испытать совершенно определенные эмоции, уподобиться ребенку, который, сидя на деревянной лошади карусели, испытывает чувство гордости и удовольствие оттого, что едет верхом, что у него есть лошадь, оттого, что он проносится мимо других детей, чувство необычайного приключения — будто за ним гонятся или он догоняет кого-то, и т. п. Для того чтобы ребенок все это пережил, не имеет большого значения ни сходство деревянного коня с настоящей лошадью, ни то, что он движется все время по одному и тому же небольшому кругу. Так и зрители — они приходят в театр только затем, чтобы иметь возможность сменить мир противоречий на мир гармонии и мир, который им не очень знаком, — на мир, в котором можно помечтать.
29
Таким мы застаем театр, где хотим осуществлять свои замыслы. До сих пор этот театр отлично умел превращать наших друзей, исполненных надежд, тех, кого мы называем детьми эпохи науки, в запуганную, доверчивую, «зачарованную» толпу.
30
Правда, в последние примерно пятьдесят лет им стали показывать несколько более верные изображения общественной жизни, а также персонажей, восстающих против определенных пороков общества или даже против всего общественного строя в целом. Интерес к этому зрителей был настолько силен, что они некоторое время терпеливо мирились с необычайным обеднением языка, фабулы и духовного кругозора, — свежее дыхание научной мысли заставило почти забыть о привычном очаровании всего этого. Но эти жертвы не оправдали себя. Усовершенствования изображений действительно повредили одному источнику Удовольствия и не принесли пользы другому. Область человеческих отношений стала видимой, но не ясной. Чувства, возбуждавшиеся старыми (магическими) средствами, оставались старыми и сами по себе.
188 31
Потому что и после этого театр все еще оставался местом развлечения для класса, который ограничивал научную мысль областью естествознания, не рискуя допустить ее в область человеческих отношений. Но и та ничтожная часть театральной публики, которую составляли пролетарии, неуверенно поддержанные немногочисленными интеллигентами — отщепенцами своего класса, — тоже еще нуждалась в старом, развлекающем искусстве, облегчавшем их привычную, повседневную жизнь.
32
И все же мы продвигаемся вперед! Хоть так, хоть этак! Мы явно ввязались в борьбу, что ж, будем бороться! Разве мы не видим, что неверие движет горы? Разве недостаточно того, что мы уже знаем, что нас чего-то лишают? Перед тем-то и тем-то опущен занавес: так поднимем же его!
33
Тот театр, который мы теперь застаем, показывает структуру общества (изображаемого на сцене) как нечто независимое от общества (в зрительном зале). Вот Эдип, нарушивший некоторые из принципов, служивших устоями общества его времени, — он должен быть наказан; об этом заботятся боги, а они не подлежат критике. Одинокие титаны Шекспира, у каждого из которых в груди созвездие, определяющее его судьбу, неукротимы в своих тщетных, смертоносных стремлениях, в своей безумной одержимости. Они сами приводят себя к гибели, так что к моменту их крушения уже не смерть, а жизнь становится отвратительной, и катастрофа не подлежит критике. Везде, во всем — человеческие жертвы! Это же варварские увеселения! Мы знаем, что у варваров есть искусство. Что ж, создадим свое искусство, иного рода!
34
Долго ли еще придется нашим душам под покровом темноты, покидая нашу «неуклюжую» плоть, устремляться к сказочным воплощениям на подмостках, чтобы 189 участвовать в их возвышенных взлетах, которые «иначе» нам недоступны? Разве это можно считать освобождением, если мы в конце всех пьес, благополучном только в духе времени (торжество провидения, восстановление порядка), спокойно наблюдаем расправу, столь же сказочную, как и сами эти воплощения, караемые за возвышенные свои взлеты как за низменные грехи? Мы вползаем в «Эдипа», потому что там все еще действуют священные запреты и незнание их не избавляет от кары. Или, скажем, мы проникаем в «Отелло», потому что ревность доставляет и нам, что ни говори, немало волнений, и все зависит от права собственности. Или в «Валленштейне», который требует от нас свободного и честного участия в конкуренции — ведь иначе она попросту прекратится. Такое же состояние привычной одержимости возбуждают и пьесы вроде «Привидений» и «Ткачей», хотя в них все же проявляется общество, хотя бы как «среда», и в большей мере влияет на возникающие проблемы. Но так как нам навязываются чувства, понятия и побуждения главных героев, то об обществе мы узнаем не больше того, что можно сказать о «среде».
35
Нам нужен театр, не только позволяющий испытывать такие ощущения и возбуждать такие мысли, которые допустимы при данных человеческих отношениях, в данных исторических условиях, но также использующий и порождающий такие мысли и ощущения, которые необходимы для изменения исторических условий.
36
Эти условия необходимо охарактеризовать во всей их исторической относительности, а значит, полностью порвать со свойственной нам привычкой лишать различные общественные формы прошлого их отличительных особенностей, в результате чего все они начинают в большей или меньшей степени походить на современное нам общество. Получается, будто черты, присущие нашему обществу, существовали извечно, но в таком случае оно тоже приобретает характер чего-то вечного и 190 неизменного. Мы же считаем, что специфические исторические черты всегда существуют и постоянно изменяются, а следовательно, и наш общественный строй тоже можно показать строем преходящим. (Этой цели, конечно, не может служить тот местный колорит или фольклор, который используется в наших театрах именно затем, чтобы подчеркнуть тождественность поведения людей в различные эпохи. О необходимых для этого театральных средствах мы скажем позднее.)
37
Если мы заставляем наших персонажей действовать на сцене согласно побуждениям, исторически совершенно определенным, различным для различных эпох, то мы тем самым затрудняем вживание в них. Тогда зритель не может просто почувствовать: «Вот и я действовал бы так же», он в лучшем случае может сказать: «Вот если бы я жил при таких обстоятельствах…» И если мы будем играть современные пьесы так же, как исторические, зрителю может показаться, что обстоятельства, в которых он сам живет и действует, так же необычайны; с этого и начинается критика.
38
Не следует, однако, представлять себе (и соответственно изображать) «исторические условия» как некие темные (таинственные) силы; ведь они создаются и поддерживаются людьми (и люди же их изменяют). Исторические условия проявляются именно в том, что происходит на сцене.
39
Ну, а если исторически обусловленная личность отвечает в соответствии с изображаемой эпохой и если бы в другие эпохи она отвечала по-другому, — не значит ли это, что она тем самым оказывается человеком вообще? Да, в зависимости от времени и классовой принадлежности ответы каждый раз должны быть иными. Если бы данный человек жил в другую эпоху или не так долго, 191 или просто хуже, он несомненно отвечал бы в каждом случае по-иному, но тоже вполне определенно и абсолютно так же, как всякий другой человек в его положении и в его время. Не значит ли это, что могут быть еще и другие ответы? Но где же оно, это живое и неповторимое существо, не похожее ни на кого из себе подобных? Совершенно очевидно, что художественный образ должен сделать его зримым, а произойдет это тогда, когда это противоречие станет образом. Исторически достоверное изображение будет несколько эскизным; вокруг более разработанного центрального образа будут лишь намечены все прочие сюжетные линии. Или представим себе человека, произносящего где-нибудь в долине речь, в которой он либо то и дело меняет свои суждения, либо высказывает противоречивые утверждения так, что отголоски, эхо изобличают противоречия.
40
Такие образы требуют особого метода игры, которая не препятствует свободе и ясности мышления зрителя. Он должен быть в состоянии, так сказать, непрерывно производить мысленные перестройки в конструкции, отключая общественно-исторические движущие силы или заменяя их действием других сил. Актуальным отношениям сообщается тем самым некоторая «неестественность», вследствие чего актуальные движущие силы также теряют естественность и неприступность.
41
Это можно сравнить с тем, как гидростроитель способен увидеть реку одновременно и в ее действительном русле и в том воображаемом, по которому она могла бы течь, если бы наклон плато или уровень воды были иными. И так же, как он мысленно видит новый поток, так социалист мысленно слышит новые речи батраков в деревнях, раскинутых вдоль этой реки. Вот так должен был бы и наш зритель увидеть на сцене события из жизни этих батраков со всеми подобающими случаю предположениями и отголосками.
192 42
Метод актерской игры, который в промежутке между первой и второй мировыми войнами применялся в виде опыта в театре на Шиффбауэрдамме в Берлине для создания подобных изображений, основывается на эффекте очуждения. Осуждающее изображение заключается в том, что оно хотя и позволяет узнать предмет, но в то же время представляет его как нечто постороннее, чуждое. Античный и средневековый театры очуждали своих персонажей, используя маски людей и животных; азиатский театр и сегодня еще применяет музыкальные и пантомимические эффекты очуждения. Эти эффекты, разумеется, препятствуют непосредственному эмоциональному вживанию в образы, однако их техника скорее в большей, а не в меньшей степени основывается на гипнотическом внушении, чем техника, которой добиваются эмоционального вживания в образ. Общественные функции древних приемов очуждения были совсем иными, чем у нас.
43
Древние приемы очуждения полностью исключают возможность посягательства зрителей на то, что представлено, изображая его чем-то неизменным. Новым методам не свойственна никакая нарочитая причудливость. Только ненаучному взгляду кажется причудливым, диковинным то, что незнакомо. Новые приемы очуждения должны только лишать видимости обычного, устоявшегося те явления и события, которые определяются общественным строем, ибо эта видимость обычного, устоявшегося предохраняет их сегодня от всяких посягательств.
44
То, что долго не подвергалось изменениям, кажется неизменным вообще. На каждом шагу мы сталкиваемся с явлениями, казалось бы, настолько само собой разумеющимися, что разбираться в них считается излишним. То, что люди испытывают сообща в своей жизни, они принимают за жизненный опыт человечества. Ребенок, живя среди стариков, от них и учится. Он принимает все явления такими, какими они ему представлены. 193 А если кто-нибудь дерзал пожелать что-либо сверх ему данного, то это уже исключение, и если бы даже он сам отождествлял «провидение» с тем, что сулит ему общество, — это могучее сборище существ, ему подобных, — то он воспринимал бы это общество как неделимое целое, которое представляет собой нечто большее, чем простую сумму составляющих его частей, и воздействовать на которое невозможно. Но и в таком случае эта недоступная воздействию сила оставалась бы для него издавна достоверно знакомой, а разве можно не доверять тому, что уже давно достоверно? Для того чтобы множество явно достоверных, известных явлений представились человеку столь же явно сомнительными, ему необходимо развить в себе тот очуждающий взгляд, которым великий Галилей наблюдал за раскачиванием люстры. Оно удивило его как нечто совершенно неожиданное и необъяснимое; благодаря этому он и пришел к открытию неведомых прежде законов. Именно такой, столь же трудный, сколь и плодотворный, взгляд театр должен пробуждать и развивать у своих зрителей, изображая общественную жизнь людей. Необходимо поразить зрителей, а достичь этого можно с помощью технических приемов очуждения того, что близко и хорошо знакомо зрителю.
45
Какая же техника актерской игры позволяет театру применять для создания образов метод новой науки об обществе — метод диалектического материализма? Этот метод, стремясь познать общество в развитии, рассматривает общество в его внутренних противоречиях. Для этого метода все существует лишь постольку, поскольку общество изменяется и тем самым вступает в противоречие с самим собой. Это относится также и к тем чувствам, мыслям и поступкам, в которых каждый раз проявляется та или иная форма общественного бытия людей.
46
Нашу эпоху, когда осуществляются такие многочисленные и разнообразные изменения в природе, отличает стремление все понять, чтобы во все вмешаться. В человеке, говорим мы, заложено многое, а стало быть, от 194 него многого можно ожидать. Человек не должен оставаться таким, каков он есть, и его нельзя видеть только таким, каков он есть; его надо видеть и таким, каким он мог бы стать. Мы должны исходить не только из того, каков он есть, но также из того, каким он должен стать. Это не значит, однако, что мне надо просто поставить себя на его место, наоборот, я должен поставить себя лицом к лицу с ним, представляя при этом всех нас. Поэтому наш театр должен очуждать то, что он показывает.
47
Для того чтобы достичь «эффекта очуждения», актер должен забыть все, чему он учился тогда, когда стремился добиться своей игрой эмоционального слияния публики с создаваемыми им образами. Не имея цели довести свою публику до состояния транса, он и сам не должен впадать в транс. Его мышцы не должны быть напряжены; ведь если, например, поворачивать голову, напрягая шейные мышцы, то это движение «магически» влечет за собой движение взглядов и даже голов зрителей и тем самым ослабляет любое размышление или ощущение, которое должен был бы этот жест вызвать. Речь актера должна быть свободна от поповской напевности и тех каденций, которые убаюкивают зрителя так, что он перестает воспринимать смысл слов. Даже изображая одержимого, актер сам не должен становиться одержимым, потому что тогда зрители не смогут понять, чем же именно одержим изображаемый им персонаж.
48
Ни на одно мгновение нельзя допускать полного превращения актера в изображаемый персонаж. Такой, например, отзыв: «Он не играл Лира, он сам был Лиром», был бы для нашего актера уничтожающим. Он обязан только показывать изображаемый персонаж, вернее, не только «жить в образе». Это, разумеется, не означает, что если он изображает страстного человека, то сам должен оставаться равнодушным. Однако его собственные ощущения не должны быть обязательно тождественны ощущениям изображаемого им лица, чтобы и ощущения 195 публики не стали тождественны основным ощущениям персонажа. Зрителям должна быть предоставлена полная свобода.
49
Поскольку актер появляется на сцене в двойной роли — и как Лафтон111 и как Галилей (ведь Лафтон, создавая образ, не исчезает в создаваемом им образе Галилея), такой метод исполнения назван «эпическим». Это означает лишь то, что подлинный, живой процесс исполнения не будет впредь маскироваться: да, на сцене находится именно Лафтон, который показывает, каким он представляет себе Галилея. Восхищаясь его игрой, зрители, конечно, все равно не забыли бы о Лафтоне, даже если бы он и ревностно добивался перевоплощения. Но тогда он не донес бы до зрителей своих собственных мыслей и чувств, — они полностью растворились бы в образе. Образ завладел бы его мыслями и чувствами, все звучало бы на один лад, и этот образ он навязал бы и нам. Чтобы предотвратить такую ошибку, актер должен и сам акт показа тоже осуществлять как художественное зрелище. Вот один из вспомогательных сценических приемов, которым можно воспользоваться: чтобы выделить показ персонажа как самостоятельную часть нашего представления, мы можем сопроводить его особым жестом. Пусть сам актер курит, но всякий раз, прежде чем показать очередное действие вымышленного персонажа, откладывает сигару. Если при этом не будет спешки, а непринужденность не покажется небрежностью, то именно такой актер предоставит нам свободу самостоятельно мыслить и воспринимать его мысли.
50
Нужно внести в передачу образа актером, кроме того, еще одно изменение, которое тоже «упрощает» представление. Актер не должен обманывать зрителей, будто на сцене находится не он, а вымышленный персонаж; точно так же он не должен обманывать зрителей, будто все происходящее на сцене происходит в первый и в последний раз, а не разучено заранее. Шиллеровское разграничение, по которому рапсод повествует только о том, что 196 уже прошло, а мим действует только в настоящем13*, теперь уже не так правильно. В игре актера должно совершенно явственно сказываться, что «ему уже в самом начале и в середине известен конец» и потому он должен «оставаться совершенно свободным и спокойным». В живом изображении повествует он о своем герое, причем осведомлен он обо всем куда лучше, чем тот, кого он изображает. И все «сейчас» и «здесь» он применяет не как мнимые представления, определенные сценической условностью, а как то, что отделяет настоящее от прошлого и от иных мест, благодаря чему становится явной связь между событиями.
51
Особенно важно это при изображении событий, в которых участвуют массы, или при показе значительных изменений окружающего мира, как, например, войн и революций. Тогда зрителю можно представить общее положение я общий ход событий. Он может, например, слушая, как говорит одна женщина, мысленно слышать и то, что она скажет ему через две недели и что говорят об этом другие женщины где-то в другом месте. Это было бы возможно, если бы актриса играла так, будто эта женщина уже прожила определенную эпоху до конца и говорит, вспоминая, зная дальнейшее, говорит самое важное из того, что нужно было сказать об этой эпохе в данный изображаемый момент, потому что важно в этой эпохе лишь то, что оказалось важным впоследствии. Такое очуждение личности как «именно данной личности» и «именно данной личности именно сейчас» возможно лишь тогда, когда не создается иллюзии, будто актер — это и есть персонаж, а то, что происходит на сцене, — это и есть изображаемое событие.
52
Для этого пришлось отказаться и еще от одной иллюзии — будто каждый на месте изображаемого героя действовал бы так же. Вместо «я делаю это» уже получилось «я сделал это», а теперь нужно из «он сделал это» получить «он сделал именно это и только это». Подгоняя 197 поступки к характеру, а характер к поступкам, идут на слишком большое упрощение; тут уж не покажешь тех противоречий, которые в действительности существуют между поступками и характерами людей. Нельзя демонстрировать законы развития общества на «идеальных случаях», так как именно «неидеальность» (то есть противоречивость) неотделима от развития и от того, что развивается. Нужно только — но это уже безусловно, — создать как бы условия для экспериментальных исследований, то есть такие, которые в каждом случае допускают возможность и прямо противоположного эксперимента. Ведь все общество представляется нами так, словно каждое его действие — это эксперимент.
53
Если на репетициях «вживание» актера в образ и может быть использовано (но в постановке его следует избегать), — то лишь как один из многих методов наблюдения. Этот метод, столь неумеренно применяемый в современном театре, полезен на репетициях, поскольку он помогает создавать тонкий рисунок образа. Однако самым примитивным способом вживания в образ является тот, когда актер просто спрашивает себя: а что бы я делал, если бы со мной произошло то-то и то-то? Как бы я выглядел, если бы я сказал это или поступил так? — вместо того чтобы спрашивать: как говорил это человек, которого я слышал, видел ли я, как делал это тот, которого я видел? Из таких наблюдений можно создать новый образ, с которым могло бы произойти не только то, что представляют на сцене, но и многое другое. Единство образа достигается именно тогда, когда его отдельные свойства изображают в их противоречии.
54
Наблюдение — основной элемент сценического искусства. Актер наблюдает других людей, и когда он подражает им всеми своими мышцами и нервами, это для него одновременно и процесс мышления. Но при одном только подражании можно показать в лучшем случае лишь то, что понадобится. А этого недостаточно, так как все, что подлинник высказывает о себе, он произносит 198 слишком тихо. Чтобы от простого повторения прийти к образу, актер смотрит на людей так, словно они разыгрывают перед ним свои роли, словно они рекомендуют ему обдумать их действия.
55
Нельзя создавать образы, не имея о них определенных суждений и не преследуя определенных целей. Не зная, нельзя показывать. Но как узнавать в каждом случае, что именно достойно знания? Если актер не хочет быть ни попугаем, ни обезьяной, он должен обладать современными знаниями, понимать условия и закономерности общественного бытия, а для этого он должен принимать непосредственное участие в борьбе классов. Кое-кому это может показаться унизительным, так как для них искусство — если гонорар обеспечен — категория высшего порядка. Однако решающие для человечества события определяются борьбой, которая ведется на земле, а не в заоблачных высях, во «внешнем» мире, а не в умах людей. Никто не может стоять над борьбой классов, потому что никто не может стоять над людьми. Общество не может быть представлено одним всеобщим рупором, пока оно расколото на классы, борющиеся между собой. Поэтому для искусства беспартийность означает только принадлежность к господствующей партии.
56
Поэтому выбор своей точки зрения является другой, — весьма значительной частью искусства актера, и этот выбор должен быть совершен за пределами театра. Как преобразование природы, так и преобразование общества является освободительным процессом, и именно радость освобождения должен передавать театр эпохи науки.
57
Пойдем дальше и рассмотрим еще, например, как с этой точки зрения актер должен читать свою роль. Особенно важно при этом, чтобы он ее не слишком быстро «схватывал». Пусть он даже сразу подберет самые естественные интонации для своего текста и самую 199 удобную манеру произносить его, все равно он обязательно должен рассмотреть само содержание текста как нечто не совсем естественное, должен подвергнуть его сомнению и сопоставить его со своими взглядами по общим вопросам, а также предположить, какие возможны иные высказывания на ту же тему; словом, он должен действовать как человек, которому все это в диковинку. Это необходимо не только для того, чтобы он не завершил создание образа слишком рано, еще до того, как он уже высказал все, а главное, воспринял высказывания других персонажей, — потому что тогда пришлось бы еще дополнительно начинять образ всякой всячиной. Прежде всего это нужно, чтобы внести в создание образа четкое противопоставление «не — а», от которого зависит очень многое, если нужно, чтобы зрители, представляющие в театре общество, могли вынести из показа событий определенное убеждение: на эти события можно повлиять. К тому же каждый актер должен не ограничиваться восприятием только того, что доступно ему как нечто «общечеловеческое», а стремиться к тому, что ему еще недоступно, к особенному, специфическому. И все свои первые впечатления, трудности, возражения и недоумения актер должен запомнить вместе с текстом, чтобы при окончательном оформлении образа они не утратились, не «растворились», а, напротив, сохранились и оставались приметными, так как и создаваемый образ я все прочее должно не столько убеждать зрителей, сколько поражать их.
58
Обучение актера также должно идти совместно с обучением других актеров, а его работа над ролью — совместно с их работой над своими ролями. Потому что наименьшая общественная единица — это не один, а два человека. Ведь и в жизни мы создаем себя во взаимодействии с другими.
59
Одним из скверных обычаев нашего театра является то, что ведущий актер, «звезда», выделяется еще и потому, что заставляет всех других актеров прислуживать 200 себе: персонаж, изображаемый им, оказывается устрашающим или мудрым потому, что исполнитель этой роли вынуждает своих партнеров изображать персонажей, трепещущих от страха или почтительно внемлющих герою. Хотя бы для того, чтобы предоставить это преимущество всем участникам и тем самым содействовать раскрытию фабулы, актеры должны были бы на репетициях иной раз Меняться друг с другом ролями, и тогда персонажи получали бы друг от друга то, что каждому из них нужно. Полезно бывает для актера посмотреть свою роль в исполнении дублера или в другой постановке. При исполнении женской роли мужчиной (или наоборот) резче выступают черты пола, трагическая роль, сыгранная комедийным актером, приобретает новый аспект. Участвуя в разработке образов противников своего персонажа или хотя бы заменяя исполнителей этих ролей, каждый актер обеспечивает себе прежде всего ту решающую общественную точку зрения, руководствуясь которой он и показывает создаваемый им образ. Барин лишь настолько барин, насколько ему позволяет быть им его слуга.
60
К тому времени, когда данный образ попадает в среду других образов пьесы, он уже претерпел бесчисленные обработки, и артист должен помнить все, что он мог узнать о нем или предположить из текста роли. Но всего больше он узнает о себе из того, как с ним будут обращаться другие персонажи пьесы.
61
Сферу, определяемую позициями, которые различные персонажи занимают по отношению друг к другу, мы называем сферой сценически выразительного поведения. Осанка, речь и мимика определяются тем или иным общественно значимым поведением. Персонажи могут друг друга бранить, хвалить, поучать и т. п. К позициям, которые занимает один человек по отношению к другому, относятся и такие на первый взгляд сугубо личные проявления, как, например, выражение физической боли или религиозности. Такая выразительность 201 поведения в большинстве случаев сложна и противоречива настолько, что ее уже нельзя передать одним словом, и усиливая изображение, актер должен стараться ничего не утратить, и, наоборот, усилить весь комплекс характерных особенностей персонажа.
62
Актер овладевает образом, который он представляет, критически следуя за всеми его проявлениями, а также за проявлениями противоборствующих ему всех иных персонажей пьесы.
63
Чтобы понять суть сценически выразительного поведения, проследим начальные сцены одной из моих новых пьес — «Жизни Галилея». Желая рассмотреть, как именно происходит взаимное освещение различных проявлений персонажа, допустим, что речь идет уже не о самом первом знакомстве с пьесой. Действие начинается с утреннего умывания сорокашестилетнего героя. То и дело он прерывает свое занятие, чтобы порыться в книгах и прочесть мальчику Андреа Сарти лекцию о новой солнечной системе. Но разве ты, артист, играющий сейчас эту сцену, не должен помнить о том, что в конце пьесы семидесятивосьмилетний Галилей будет спокойно ужинать после того, как этот же самый ученик навсегда покинет его? К тому времени он изменится куда ужаснее, чем это могли бы сделать только годы. Он будет жрать с неудержимой жадностью, не думая уже ни о чем другом; он постыднейшим образом откажется от своего призвания учителя, словно от тяжкого бремени, а ведь некогда он так небрежно глотал молоко и с такой жадностью спешил обучить мальчика. Но разве он пьет молоко и впрямь небрежно? Разве в том наслаждении, которое он испытывает и от молока и от умывания, нет определенной связи с его новыми мыслями? Не забывай, что и в мышлении для него заключено сладострастие. Хорошо это или дурно? Советую тебе изображать его действительно хорошим; ведь во всей пьесе ты не обнаружишь ничего, что свидетельствовало бы о вредности для общества такого рода мышления, да к тому же ты и сам, я 202 надеюсь, отважный сын эпохи науки. Но помни отчетливо: из-за этого совершится еще много ужасного. Помни, что именно из-за таких особенностей своего мышления этот человек, приветствующий новую эпоху, в конце концов будет вынужден вступить с ней в поединок, эпоха же его с презрением отвергнет, хотя и унаследует все его достояние. Что же касается лекции, тут уж решай сам, действительно ли у него так переполнено сердце, что он не может молчать и готов объяснять все каждому, хотя бы и ребенку, или именно этот ребенок должен своей сообразительностью и любознательностью возбудить в нем желание поделиться знаниями. А может быть, они оба не могут удержаться: один — от вопросов, другой — от ответов. Такое братство тем более примечательно, что позднее оно будет жестоко разрушено. Впрочем, демонстрацию движения земли тебе придется проводить в спешке — ведь за это тебе не платят, а с приходом незнакомого состоятельного ученика время ученого уже приобретает цену золота. Хотя новый ученик и не любознателен, заниматься с ним нужно — ведь Галилей беден и поэтому должен, горько вздыхая, сделать выбор — предпочесть богатого разумному. Так как ему нечему обучать новичка, он ухитряется сам у него поучиться — узнает о телескопе, изобретенном в Голландии. Таким образом, он все же извлекает пользу из этой помехи своим утренним занятиям. Приходит ректор университета. Ходатайство Галилея о повышении жалованья отклонено: университет не хочет платить за физические теории столько же, сколько он платит за богословские, и требует от Галилея, который занимается таким в общем-то неприбыльным делом, как исследования, чтобы он сделал что-нибудь практически полезное. Уже по тому, как Галилей предлагает свой трактат, ты можешь убедиться, что он привык к отказам и попрекам. Куратор замечает, что республика обеспечивает свободу исследований, хотя и мало платит за них. Галилей возражает, что ему мало толку от такой свободы, если нет свободного времени, которое может обеспечить только хорошая оплата. Ты поступишь правильно, если не воспримешь его нетерпение как этакое барство — ведь он же действительно беден, и этого нельзя упускать из виду, потому что вскоре ты застигнешь его 203 за размышлениями, которые требуют известной мотивировки. Он — провозвестник новой эпохи научных истин — прикидывает, как надуть республику и вытянуть у нее деньги, предложив ей телескоп как свое изобретение. Ты с удивлением обнаружишь, что в этом новом изобретении он видит только возможность добыть деньги и исследует телескоп лишь затем, чтобы его присвоить. Но уже в следующей сцене ты обнаружишь, что, продавая это чужое изобретение Венецианской синьории и даже произнося при этом недостойную лживую речь, он в действительности уже почти забывает о деньгах, так как обнаружил, что телескоп может иметь не только военное, но и астрономическое применение. Таким образом, товар, который его вынудили произвести (теперь мы вправе назвать это именно так), обнаружил высокое качество, полезное для тех самых исследований, которые ученому пришлось прервать, чтобы произвести этот товар. И когда он во время церемонии, явно польщенный незаслуженными почестями, намеками говорит другу-ученому о своих чудесных открытиях (кстати, не упускай из виду и того, как театрально он это делает), им владеет значительно более глубокое волнение, чем то, которое возбуждалось расчетами на вознаграждение. Но если его обман оказывается и не очень значительным, все же он показывает, что этот человек способен пойти легким путем и применять свой разум как для высоких, так и для низменных целей. Ему предстоят трудные испытания, а разве любая уступка совести не облегчает новой уступки?
64
Анализируя такого рода представления о жестах, артист осваивает образ тем, что осваивает фабулу. Только исходя из нее, то есть из всего конкретно определенного развития событий, артист может одним скачком достичь такого окончательно завершенного представления об образе, в котором слиты все отдельные черты этого образа. Если артист во всех конкретных случаях действительно удивлялся противоречиям между различными проявлениями образа, зная, что и публике придется этому удивляться, то фабула в целом предоставляет ему возможность 204 сочетать противоречия. Потому что вся фабула как определенная связь событий имеет и в корне определенный смысл, то есть она удовлетворяет лишь некоторые из многих возможных интересов.
65
Фабула является в конечном счете самым главным, она — сердцевина, стержень всякого спектакля, так как именно из того, что происходит между людьми, получается все, о чем можно спорить, что можно критиковать и видоизменять. И если данный своеобразный человек, которого изображает актер, в конечном счете окажется таким, который может быть пригоден и для чего-то значительно большего, чем все происходящее на сцене, то главным образом именно потому, что участие этого своеобразного человека сделало изображаемое действие особенно примечательным. Важнейшим моментом в театре является фабула, охватывающая все внешне проявляющиеся события, содержащая те факты и мгновенные порывы, которые должны доставлять удовольствие зрителям.
66
Каждое отдельное событие определяется своим основным жестом. Ричард Глостер добивается вдовы убитого им брата. С помощью мелового круга устанавливается, кто из двух соперниц настоящая мать ребенка. Бог спорит с дьяволом за душу доктора Фауста. Войцек покупает дешевый нож, чтобы зарезать свою жену, и т. п.
Группируя персонажи на сцене и приводя в движение эти группы, необходимо добиваться красоты главным образом изяществом в разработке и в раскрытии перед зрителем всей системы жестов.
67
Зрители вовсе не должны быть низвергнуты в драматическую фабулу, как в реку, которая понесет их, швыряя то в одну, то в другую сторону. Поэтому необходимо отдельные события драмы связывать между собою так, чтобы узлы были очевидны; события не должны следовать одно за другим неприметно; нужно, чтобы в 205 промежутках между ними могло родиться суждение. (Если же интересна затемненность, непроницаемость связей, то это нужно специально подчеркнуть очуждением.) Таким образом, отдельные части фабулы нужно тщательно согласовать между собой, придав каждой из них внутреннюю структуру, так сказать, маленькой пьески внутри большой пьесы. Для этого лучше всего прибегнуть к заголовкам, подобным тем, что даны в предыдущем пункте. Заголовки должны содержать общественно значимую суть явления и вместе с тем как-то определять желаемый метод и стиль исполнения, подражая, в зависимости от этого, хронике, балладе, газете, бытописательному очерку. Простое изображение, основанное на «эффекте очуждения», применяется чаще всего тогда, когда показывают нравы и обычаи. Приход гостей, обращение с врагом, свидание влюбленных, политическое или деловое совещание можно представлять так, словно просто показываешь местные обычаи. В такой постановке единственное в своем роде и неповторимое происшествие оказывается своеобразно «очужденным», так как представляется как нечто обыденное, повседневное, вошедшее в обычай. Уже сама по себе такая постановка вопроса (действительно ли представленное явление или какая-то часть его стало обычаем, традицией?) очуждает это явление. Поэтический стиль изображения исторических событий можно изучать и в ярмарочных балаганах, в так называемых панорамах. Так как «очуждение» может означать вместе с тем и прославление, то некоторые события можно представить на сцене так, словно они уже давно были общеизвестны во всех своих подробностях, то есть так, будто приходится заботиться лишь о том, чтобы ни в чем не погрешить против летописей. Короче: можно представить себе много жанров эпического искусства; среди них есть и известные, и такие, которые еще предстоит открыть.
68
Что и как именно следует очуждать, зависит от трактовки общей совокупности событий; при этом театр должен основательно учитывать запросы своего времени. Возьмем для примера трактовку старой пьесы «Гамлет». 206 В то кровавое и мрачное время, когда я пишу эти строки, взирая на преступления господствующего класса, когда все шире распространяется сомнение в человеческом разуме, силой которого то и дело так страшно злоупотребляют, этот сюжет, мне кажется, можно прочесть следующим образом. Это время частых войн. Отец Гамлета, король Дании, одержал победу в захватнической войне и убил короля Норвегии. Но пока сын норвежского короля Фортинбрас готовился к новой войне, датского короля убил его собственный брат. Братья убитых королей, ставшие теперь сами королями, избегают войны между собой, и ради этого норвежским войскам предоставлено разрешение пройти через датские владения, чтобы вести захватническую войну в Польше. Но юного Гамлета призывает дух его воинственного отца отомстить убийце. Гамлет вначале колебался, не решаясь воздать за одно кровавое дело другим кровавым делом; он уже даже согласился отправиться в изгнание, однако на побережье Гамлет встретил юного Фортинбраса, идущего со своими войсками в Польшу. Пораженный этим примером воинственности, он возвращается назад и учиняет дикую резню, убивая сразу дядю, мать и себя самого и тем самым оставляя Данию норвежцу. В этих событиях мы видим, как молодой, но уже несколько обрюзгший человек весьма неудачно пользуется новым знанием, приобретенным в Виттенбергском университете. Это знание мешает ему в тех феодальных делах, к которым он снова вернулся. В столкновениях с неразумной практикой его собственный разум совершенно непрактичен. И Гамлет становится трагической жертвой этого противоречия между своим резонерством и своими действиями. Именно такое прочтение пьесы, которая допускает много разных прочтений, могло бы, на мой взгляд, заинтересовать наших зрителей.
69
Потому что все примеры движения вперед, каждое новое открытие, освобождающее творчество от власти природы, ведущее к преобразованию общества, все новые попытки, предпринятые человечеством, чтобы улучшить 207 свою судьбу, независимо от того, изображает ли их литература удачными или неудачными, доставляют нам чувство торжества и уверенности, радуют сознанием возможности великих перемен. Именно это выражает Галилей словами: «По-моему, земля очень благородна и достойна восхищения перед лицом множества своих разнообразных перемен в непрерывной смене поколений».
70
Главной задачей театра является изложение фабулы и ее воплощение с помощью соответствующих приемов очуждения. Отнюдь не все должен делать сам актер, хотя, с другой стороны, ничто не должно делаться вне связи с актером. Фабулу излагает, выражает и представляет весь театр как целое, весь коллектив — актеров, режиссеров, художников, костюмеров, музыкантов и хореографов. Все они объединяют свои усилия в одном общем деле, не теряя, однако, при этом своей самостоятельности.
71
Тот общий жест показа, которым всегда сопровождается на сцене выделение особенно важного, подчеркивается музыкальными обращениями к зрителям в песнях. Поэтому актеры должны не «неприметно переходить» к пению, а подчеркнуто отделять его от остального действия, чему лучше всего помогут некоторые специфические театральные средства, например перемена освещения или титры. Музыка же со своей стороны должна во что бы то ни стало сопротивляться полному ее поглощению, не допускать, чтобы ее низводили до роли бездумной служанки. Она должна не «сопровождать», а пояснять действие. И она не должна удовлетворяться «высказыванием» определенного настроения, возникающего в связи с определенными событиями на сцене. Так, например, Эйслер отлично сумел осуществить связь событий, написав к сцене карнавала (к процессии ремесленных цехов в «Галилее») торжественную и грозную музыку, возвещающую тот мятежный поворот, который простой народ придал астрономическим теориям ученого. 208 То же и в «Кавказском меловом круге»: холодная, монотонная песня, которая описывает представленную на сцене пантомиму — спасение ребенка служанкой, — раскрывает ужас того времени, когда материнство становится самоубийственной слабостью. Таким образом, у музыки есть много возможностей утвердить в театре свою полную самостоятельность и дать свое решение темы. Однако она служит и чисто развлекательным целям.
72
Подобно тому как музыкант обретает свободу, как только избавляет себя от необходимости создавать настроение, облегчающее зрителям возможность безудержно отдаваться событиям на сцене, точно так же обретает свободу и театральный художник, если он не должен больше, оборудуя сценическую площадку, добиваться иллюзии какого-то определенного помещения или местности. Тогда достаточно и намеков. Однако они должны давать больше исторически и общественно интересных сведений, чем их дала бы реальная обстановка. В Московском еврейском театре сооружение, напоминавшее средневековую дарохранительницу, служило «эффекту очуждения» «Короля Лира»; Неер ставил «Галилея» на фоне проекций географических карт, документов и картин Возрождения; в театре Пискатора в спектакле «Тай-Янь пробуждается»112 Хартфилд использовал фон из знамен с надписями, в которых отмечались изменения в политической обстановке, иной раз вовсе неизвестные героям на сцене.
73
Перед хореографией также вновь встали реалистические задачи. В последнее время было распространено заблуждение, будто хореографии нечего делать при изображении «людей, как они есть в действительности». Когда искусство отражает жизнь, оно становится своего рода зеркалом. Искусство перестает быть реалистическим не тогда, когда оно изменяет пропорции, а в том случае, когда оно изменяет их настолько, что зрители потерпели бы поражение, если бы практически руководствовались картинами, им созданными. Конечно, необходимо, 209 чтобы стилизация не уничтожала естественность, а усиливала ее. Во всяком случае, театр, в котором все определяется сценически выразительным поведением, не может обойтись без хореографии. Грация движения, изящество композиции уже сами по себе очуждают, а мимические находки превосходно помогают раскрытию фабулы.
74
Таким образом, все братские искусства, связанные с искусством актерской игры, призываются не для того, чтобы создать некое «единое произведение искусства», в котором все бы они растворились и затерялись; нет, все они вместе с искусством актера должны решать общую задачу различными путями, и их взаимодействие заключается в том, что все они взаимно очуждаются.
75
Здесь следует еще раз напомнить, что их задачей является развлечение людей эпохи науки, к тому же развлечение эмоциональное и веселое. Об этом нужно повторять постоянно, особенно нам, немцам, и такое напоминание не будет излишним, потому что у нас все слишком легко превращается в нечто бестелесное и необозримое, и мы начинаем говорить о мировоззрении уже после того, как собственно материальный мир для нас утрачен. Даже сам материализм у нас немногим отличается от «чистой» идеи. Наслаждения любви у нас превращаются в супружеские обязанности, а под обучением мы понимаем не радость познания, а тыканье во что-либо носом. В нашей деятельности нет ничего от радостного взаимодействия с окружающим, и, говоря о своих достижениях, мы указываем не на то, какое они нам доставили удовольствие, а на то, сколько пота они нам стоили.
76
Следует сказать и о том, как передать зрителям все созданное на репетициях. Необходимо, чтобы собственно игра основывалась на жесте вручения чего-то законченного. Перед зрителем предстает то, чем мы обладали 210 уже множество раз, сохранив лишь это и отбросив все другое. Созданные нами завершенные образы должны быть переданы зрителю с ясным сознанием всего происходящего, так, чтобы их можно было и воспринимать также вполне сознательно.
77
Дело в том, что изображения должны восприниматься как нечто вторичное. Главное — это то, что изображается, — общественное бытие и удовольствие, доставляемое совершенством изображений, должно перерастать в более высокое удовольствие, доставляемое тем, что закономерности общественного бытия раскрываются как преходящие, временные, несовершенные. Тем самым театр позволяет своим зрителям выйти за пределы непосредственно наблюдаемых событий, и этот выход плодотворен. Свои ужасные, нескончаемые труды, плодами которых он должен жить, зритель пусть воспринимает в своем театре как развлечение, заодно с ужасами непрерывных своих изменений. Пусть здесь он творит себя самым легким способом: ведь самый легкий способ существования — в искусстве.
1948
ДОБАВЛЕНИЯ К «МАЛОМУ ОРГАНОНУ»113
Дело не только в том, что искусство обучает, доставляя в то же время наслаждение. Противоречие между учением и наслаждением нужно четко уяснить себе, ибо оно чрезвычайно важно в наш век, когда знания приобретаются для того, чтобы перепродавать их по максимально высокой цене, и когда даже высокая цена позволяет тем, кто ее платит, эксплуатировать других людей. Лишь тогда, когда творческие способности каждого получат полный простор, учение сможет превратиться в наслаждение и наслаждение — в учение.
Если мы теперь отказываемся от термина «эпический театр», то это не значит, что мы отказываемся от тех возможностей осознанного наслаждения, которые он по-прежнему предоставляет. Просто этот термин слишком 211 узко и расплывчато выражает специфику этого театра; ему нужны более точные определения и более сложные задачи. Кроме того, пользуясь этим термином, обычно совершенно упускали из виду специфику драматизированного зрелища как такового, а зачастую с непростительной наивностью просто молча исходили из нее, как из чего-то само собой разумеющегося, например в таком духе: «Само собой, и в эпическом театре речь идет о событиях, происходящих непосредственно на глазах у зрителя и обладающих всеми или многими признаками “сиюминутности”»! (Точно таким же образом мы подчас неосторожно и наивно исходим при всех вообще нововведениях из того, что театр в любом случае остается театром, — а не превращается, например, в демонстрацию научных опытов!)
Термин «театр века науки» также недостаточно емок. В «“Малом органоне” для театра», пожалуй, достаточно подробно говорится о том, что надо понимать под веком науки, но название это в обычном своем значении загрязнено беспрестанным употреблением.
Удовольствие, получаемое от старых пьес, тем больше, чем чаще мы имеем возможность наслаждаться новыми, более близкими нам по духу развлечениями. Поэтому необходимо прививать вкус к истории, — который нам нужен и для новых пьес, — доводя его до настоящей страсти14*.
В периоды бурных социальных сдвигов, животворных и смертоносных одновременно, закат гибнущих классов совпадает с зарей грядущих. Это те самые сумерки, когда сова Минервы114 пускается в свой полет.
Театр века науки в состоянии превратить диалектику в наслаждение. Неожиданные повороты логически — 212 плавно или скачкообразно — развивающегося действия, изменчивость всех обстоятельств, остроумная противоречивость и так далее — все это приносит наслаждение, источник которого — жизненность людей и процессов, а потому наслаждение это стимулирует и жизнеспособность и жизнерадостность.
Все виды искусств служат величайшему из искусств — искусству жить на земле.
Нашему поколению полезно прислушаться к призыву избегать при сценическом воплощении вживания в образы пьесы, как бы безапелляционно он ни звучал. С какой бы убежденностью ни следовало оно этому совету, оно вряд ли смогло бы выполнить его до конца, а так мы кратчайшим путем приходим к поистине зияющему противоречию между переживанием и изображением, вживанием в образ и исполнением роли, оправданием и осуждением, что и требуется. А тем самым к ведущей роли критического начала.
Противоречие между игрой (исполнением роли) и переживанием (вживанием в образ) неискушенные в специфике театрального искусства воспринимают как выбор актером непременно одного из этих двух путей (или: «Малый органон» требует-де лишь изображать, старая же школа — лишь переживать). В действительности же речь идет, конечно, о двух взаимно противоположных, но отнюдь не исключающих друг друга процессах, объединяемых в единое целое работой актера над ролью (актерская игра — не просто механическая смесь того и другого). Из борьбы и полярности этих противоположных подходов, как бы из самых их глубин, возникает собственно сценическое, актерское воздействие пьесы на публику. В возникших недоразумениях до некоторой степени повинна манера изложения «Малого органона». Она часто вводит в заблуждение из-за того, что главная сторона противоречия15* подчеркивается, пожалуй, чересчур нетерпимо и категорично.
213 И все же искусство обращено ко всем, оно и к тиграм выходит с песней на устах. И нередко тигры начинают подпевать! Новые идеи, притягательные своей очевидной плодотворностью, независимо от того, кому достанутся их плоды, нередко просачиваются из подымающихся классов «наверх» и проникают в умы, которые вообще-то ради сохранения своих привилегий должны были бы им воспротивиться. Ибо принадлежность к какому-то классу вовсе не гарантирует невосприимчивости к идеям, бесполезным для этого класса. Как представители угнетенных классов могут подпасть под влияние идей своих угнетателей, точно так же и представители угнетающего класса подпадают под влияние идей угнетенных. Бывают периоды, когда классы борются за руководящую роль в человеческом обществе, и стремление быть в первых рядах и двигаться вперед овладевает всеми, кроме самых отсталых. Версальский двор рукоплескал Фигаро не только за его язвительное остроумие.
Сюжет представляет собой не просто какую-то цепь событий социальной жизни, копирующую их реальную последовательность, а определенный замыслом автора ряд процессов, в которых выражаются его мысли о человеческом обществе. Таким образом, персонажи художественного произведения — не просто двойники живых людей, а образы, очерченные в соответствии с идейным замыслом автора.
Знание людей, почерпнутое актером из жизни или из книг, зачастую вступает в противоречие с событиями и образами, созданными замыслом драматурга, и это противоречие необходимо выявлять и доносить до зрителя при исполнении роли. Актеры должны черпать одновременно из кладезя жизни и из литературного источника, ибо в их работе, как и в труде драматурга, действительность должна быть представлена щедро и остро, чтобы четко выявилось то общее или то индивидуальное, что свойственно той или иной пьесе.
Изучение роли должно в то же время охватывать и изучение сюжета, или, вернее, должно начинаться с изучения сюжета. (Что происходит с героем? Как он воспринимает происходящее? Как 214 он поступает? С какими взглядами ему приходится сталкиваться? И так далее.)
Для этого актеру придется мобилизовать все свое знание жизни и людей, и вопросы, которыми он при этом задается, должны быть вопросами диалектика. (Некоторыми вопросами задаются только диалектики.)
Например: актер должен играть Фауста. Любовь Фауста и Гретхен приводит к трагедии. Возникает вопрос: произошло бы это, если бы Фауст женился на Гретхен? Обычно этим вопросом не задаются. Он кажется чересчур банальным, пошлым, мещанским. Фауст — олицетворение гения, высокого духа, стремящегося познать бесконечное; как тут вообще можно спрашивать, почему он на ней не женится? Но простые люди задают этот вопрос. Уже одно это должно заставить актера задуматься над ним. А поразмыслив, он поймет, что это очень нужный, очень полезный вопрос.
Конечно, сначала нужно разобраться в том, в какой обстановке развиваются их любовные отношения, как они соотносятся с сюжетом в целом, каково их значение для основной идеи произведения. Отказавшись от «высоких», абстрактных, «чисто духовных» поисков смысла жизни, Фауст предается «чисто чувственным» земным наслаждениям. При этом его отношения с Гретхен приобретают трагическую окраску, иными словами, между ним и Гретхен возникает конфликт, их любовь кончается разрывом, наслаждение оборачивается страданием. Конфликт приводит к гибели Гретхен — тяжелый удар для Фауста. Однако правильно показать этот конфликт можно, только поставив его в связь с другим, куда более значительным конфликтом, проходящим красной нитью через обе части трагедии. Фауст спасается от мучительного противоречия между «чисто духовными» поползновениями и не удовлетворенными, да и не могущими быть удовлетворенными «чисто чувственными» желаниями, — спасается при помощи дьявола. В «чисто чувственной» сфере (любовная история) Фауст попадает в коллизию с окружающей действительностью, олицетворенной в Гретхен, и губит ее, чтобы спастись самому. Разрешение основного противоречия содержится 215 лишь в самом конце трагедии и проясняет значение и место более мелких противоречий. Фаусту приходится отказаться от своей чисто потребительской, паразитической концепции. В плодотворном труде на благо всего человечества объединяются духовное и чувственное начала, и в созидании жизни заключается ее смысл.
Возвращаясь к нашей любовной истории, мы видим, что женитьба на Гретхен, несмотря на всю тривиальность подобной развязки, несовместимость ее с гениальной личностью Фауста и линией его жизни, была бы относительно лучшим, более разумным выходом из положения, ибо оказалась бы обычным для того времени союзом, в котором возлюбленную ожидала бы не гибель, а духовное развитие. Правда, при этом Фауст вряд ли остался бы самим собой, а, как сразу становится ясно, измельчал бы как личность, и т. д. и т. п.
Актер, смело ставящий вслед за простыми людьми этот вопрос, сможет представить трагическую любовь к Гретхен как четко очерченную фазу развития Фауста, в то время как в противном случае он лишь поможет показать, — как это обычно и происходит, — что тот, кто хочет вознестись над людьми, неизменно приносит им одни страдания, что вечный трагизм жизни заключается в расплате за чувственные и духовные наслаждения, короче, воплотит насквозь мещанскую и антигуманную мораль: «лес рубят — щепки летят».
Режиссеры буржуазного театра всегда стремятся к замазыванию противоречий, к иллюзии гармонии, к идеализации. Человеческие отношения изображаются как единственно возможные; действующие лица — как индивидуальности в буквальном смысле слова, то есть неделимые от природы: «отлитые из одного куска», они верны своему «я» в любых обстоятельствах и по сути дела существуют вообще вне обстоятельств. А если они иногда и показываются в развитии, то развитие это всегда бывает лишь постепенным, отнюдь не скачкообразным, и ограничено вполне определенными рамками, за которые ни в коем случае не выходит.
216 Все это не соответствует действительности, а следовательно, должно быть отброшено реалистическим театром.
Подлинное, глубокое, активное применение эффекта очуждения предполагает, что общество рассматривает себя как исторически обусловленную и допускающую дальнейшее развитие формацию. Подлинное очуждение носит боевой характер.
Что сцены сначала просто играют одну за другой, не слишком увязывая их с последующими и даже с общим замыслом пьесы, основываясь лишь на своем знании жизни, имеет большое значение для воплощения жизненно достоверного сюжета. Тогда-то он и развивается в борьбе противоречий, каждая сцена в отдельности сохраняет свое собственное звучание, все они вместе составляют и исчерпывают богатство идейного содержания пьесы, а их совокупность, сюжет, развивается с жизненной достоверностью, зигзагами и скачками, причем удается избежать той пошлой идеализации, когда каждая реплика вытекает из предыдущей, и подчинения отдельных звеньев пьесы, совершенно лишенных таким образом самостоятельного значения и играющих чисто служебную роль, все улаживающей концовке.
Приведем цитату из Ленина: «Условие познания всех процессов мира в их “самодвижении”, в их спонтанейном развитии, в их живой жизни, есть познание их, как единства противоположностей»16*.
Независимо от того, как отвечают на вопрос, должен ли театр быть в первую очередь средством познания действительности, факт остается фактом: театр должен отображать действительность, и это отображение должно быть правдивым. Если утверждение Ленина соответствует истине, то такое отображение невозможно без знания диалектики — и без обучения диалектике зрителя.
Могут возразить: как быть с искусством, действие которого основывается на искаженном, фрагментарном, 217 невежественном отображении мира? Как быть с искусством дикарей, умалишенных и детей?
Вероятно, можно обладать такими обширными знаниями и способностью удерживать их в памяти, чтобы даже из такого отображения извлекать рациональное зерно, но нам кажется, что слишком уж субъективное отображение действительности оказывало бы антиобщественное воздействие.
В ЗАЩИТУ «МАЛОГО ОРГАНОНА»
В отказе от чересчур темпераментного исполнения некоторые усматривают угрозу действенности театра, связывая все это с закатом буржуазии. Пролетариату требуется, дескать, наваристая пища, «полнокровная», эмоционально захватывающая драма, в которой противоположности с треском сталкиваются лбами, и т. д. и т. п. Как же, помнится, у бедняков предместья, где прошло мое детство, селедка считалась сытной едой.
218 ДИАЛЕКТИКА НА ТЕАТРЕ115
ИЗ ПИСЬМА К АКТЕРУ
Я убедился, что многие из моих высказываний о театре истолковываются неправильно. Одобрительные отзывы убеждают меня в этом больше всего. Читая их, я чувствую себя в положении математика, которому пишут: «Я вполне согласен с Вами в том, что дважды два пять!» Как мне кажется, некоторые из моих высказываний неправильно истолковываются потому, что я не сформулировал ряда важных положений, предполагая их известными.
Большинство этих высказываний, если не все, представляют собой замечания к моим пьесам. Они написаны как руководство для правильной постановки этих пьес, что придает высказываниям до известной степени сухой, профессиональный характер — так скульптор писал бы о том, как лучше выставить его работу: в каком зале, на каком постаменте и т. д. Бесстрастная инструкция, и только. Корреспонденты, возможно, надеялись узнать у него кое-что и о том, как создавалась скульптура и что вдохновляло ее автора. Однако, прочитав такую инструкцию, они лишь с трудом смогли бы себе это представить.
Возьмем, например, мои заметки о технике актерской игры. Конечно, искусство без условностей не обходится, и весьма важно показать, «как это делается». Особенно если искусство в течение полутора десятилетий находилось во власти варваров, как это было у нас. Но отсюда не следует, что можно изучить и освоить актерское мастерство холодно, «без души». Без души, чисто механически, нельзя научиться даже правильной речи и правильному произношению, что, кстати, крайне необходимо большинству наших актеров.
219 Так, например, актер должен говорить внятно и отчетливо, но задача здесь заключается не только в правильной артикуляции гласных и согласных, но также, и даже главным образом, в понимании смысла произносимого. Если актер, овладевая речью, не научится одновременно доносить до зрителя смысл своих реплик, то его артикуляция будет механической, а его «хорошее произношение» реплик вообще лишит их смысла. Кроме того, отчетливость речи сама по себе имеет множество различий и градаций. Она различна у различных классов общества. Какой-либо крестьянин говорит внятно и отчетливо в отличие от другого крестьянина, но эта отчетливость — иная, чем у внятно говорящего инженера. Следовательно, актеру, который учится говорить со сцены, нужно постоянно стремиться к тому, чтобы его речь была гибкой, эластичной. Он ни на минуту не должен забывать о языке окружающих его людей.
Далее, встает вопрос о диалектах. И здесь техническую сторону дела необходимо связывать с проблемами общего характера. Язык сцены основан у нас на литературном немецком языке, но со временем он стал очень манерным, малоподвижным и превратился в совершенно особую ветвь литературного языка, уже не столь гибкую, как современная повседневная речь. Пусть на сцене говорят «приподнято», иными словами, пусть театр создает свой собственный язык, язык сцены. Но этот язык должен сохранять способность к развитию, должен быть живым, разнообразным. Народ говорит на диалекте. На диалекте он выражает свои самые сокровенные мысли. Как же могут наши актеры играть людей из народа и говорить с народом, не обращаясь к диалекту так, чтобы звучание его слышалось подчас и в языке сцены?
Другой пример: актер должен учиться экономно расходовать свой голос, чтобы не охрипнуть. Но он должен, конечно, уметь играть и человека, который от волнения хрипит или кричит. Следовательно, упражнения актера должны содержать в себе элемент игры.
Формалистической и бессодержательной, неглубокой и неживой будет игра наших актеров, если мы, обучая их, забудем хоть на минуту о том, что задача театра — создавать образы живых людей.
220 Здесь я подхожу к вопросу, поставленному Вами: Вам кажется, что мое требование к актеру не преображаться полностью в действующее лицо пьесы, а, так сказать, оставаться рядом с ним и критически его оценивать, сделает игру полностью условной и в большей или меньшей степени лишит ее жизненности, человечности. Я думаю, что это не так. В том, что такое впечатление возникло, повинна скорей всего моя манера писать: слишком многое кажется мне само собой разумеющимся. Будь она неладна, эта манера! Конечно, на сцене реалистического театра место лишь живым людям, людям во плоти и крови, со всеми их противоречиями, страстями и поступками. Сцена — не гербарий и не музей, где выставлены набитые чучела. Задача актера — создавать образы живых, полнокровных людей. Если вам доведется посмотреть наши спектакли, то вы увидите именно таких людей. И они живут на сцене не вопреки, а благодаря нашим принципам.
Но иногда актер полностью растворяется в своей роли. В результате образ становится настолько само собой разумеющимся, что его просто нельзя себе иначе представить; остается принять его таким, каков он есть. Зрителю предлагается нечто совершенно бесплодное — он должен «все понять и все простить», как этого особенно настойчиво добивались натуралисты.
Мы, работники театра, стремимся изменить человеческую природу не меньше, чем кто бы то ни было в нашем обществе, и должны поэтому найти способы «показывать человека со стороны», показывать, что воздействие общества способно изменить его. Это требует от актеров коренной перестройки, ибо до последнего времени театральное искусство основывалось на том, что человек, на беду обществу и к несчастью для самого себя, всегда остается таким, каков он есть, «каким его создала природа», «человеком вообще» и т. д. Актеру следует в мыслях и в чувствах выражать свое собственное отношение к создаваемому образу и его поступкам. Необходимая перестройка актера — это не бездушная и не механическая операция. Бездушному, механическому нет места в искусстве, а эта перестройка является частью искусства и немыслима без подлинного 221 контакта с новым зрителем, без горячего стремления к общечеловеческому прогрессу.
Таким образом, продуманные мизансцены наших спектаклей не представляют собой явление «чисто эстетическое», рассчитанное на эффект, на формальные красоты. Эти мизансцены являются частью театра большой тематики, театра нового общества и порождены глубоким пониманием и страстным утверждением новой системы человеческих взаимоотношений.
Я не могу заново переписать замечания к моим пьесам. Примите же пока эти строки как дополнение к ним, как попытку разъяснить то, что я ошибочно полагал само собой разумеющимся.
Впрочем, я должен еще остановиться на той сравнительно сдержанной манере игры, которая заметна иногда в спектаклях «Берлинского ансамбля». Такая сдержанность не имеет ничего общего ни с нарочитой объективностью — ведь наши актеры выражают свое отношение к создаваемым ими образам, — ни с холодным умствованием: в пылу боя разум никогда не остается безучастным наблюдателем. Сдержанность эта объясняется только тем простым обстоятельством, что наши спектакли избавлены от воздействия не в меру пылкого темперамента. Для подлинного искусства сама тема является источником вдохновения. Там, где зритель подчас склонен усматривать сдержанность, проявляется лишь та суверенная внутренняя сила, без которой нет искусства.
1951
ДИАЛЕКТИКА НА ТЕАТРЕ
Нижеследующие работы, развивавшие сорок пятый раздел «“Малого органона” для театра», ведут к предположению, что термин «эпический театр» слишком формален для задуманного (и отчасти уже осуществляемого) театра. Для предлагаемых размышлений эпический театр — исходная посылка, однако он сам по себе еще не открывает творческих возможностей и способности к изменению, которые заключены в обществе и представляют 222 собой основные источники эстетического наслаждения. Поэтому термин «эпический театр» должен быть признан недостаточным, хотя мы и не можем предложить другой.
1. ИЗУЧЕНИЕ ПЕРВОЙ СЦЕНЫ ТРАГЕДИИ ШЕКСПИРА «КОРИОЛАН»116
Б. С чего начинается пьеса?
Р. Кучка плебеев вооружилась, чтобы убить народного врага Кая Марция, патриция, который возражает против снижения цены на хлеб. Они говорят, что нищета плебеев — это благоденствие патрициев.
Б. ?
Р. Я что-нибудь опустил?
Б. Упоминаются ли заслуги Марция?
Р. Да, и опровергаются.
П. Вы полагаете, что между плебеями полного единства нет? Но ведь они очень энергично подчеркивают свою решимость?
В. Слишком. Когда люди так сильно подчеркивают свою решимость, это значит, что они лишены решимости или были лишены ее в прошлом, причем в очень сильной степени.
П. В обычном театре эта решимость всегда носит комический характер; плебеи выглядят смешно, в особенности потому, что у них неподходящее оружие — колья, палки. Да они и сдаются сразу, — во всяком случае, после красноречивого монолога патриция Агриппы.
Б. У Шекспира не так.
П. Но так — в буржуазном театре.
Б. Это верно.
Р. Положение осложняется. Вы ставите под сомнение решимость плебеев, но не хотите признавать их комизма. При этом вы все же считаете, что они не поддаются на демагогию патрициев. Чтобы им и тут не оказаться в комическом положении?
Б. Если бы они поддались этой демагогии, я воспринимал бы ситуацию не как комическую, а как трагическую. Такая сцена была бы возможна, — подобные вещи бывают, но она была бы страшной. Мне кажется, вы недооцениваете того, как трудно угнетенным объединиться. 223 Их объединяет собственная нищета — когда они понимают, кто ее виновник. «Наша нищета — это их благоденствие». В прочих случаях нищета разъединяет их: ведь они вынуждены вырывать кусок хлеба друг у друга изо рта. Подумайте, как трудно людям решиться на восстание. Для них это опасная авантюра, им приходится открывать и прокладывать новые пути; а ведь господствующий класс сумел обеспечить господство не только себе, но и своим идеям. Для масс восстание — это действие скорее противоестественное, чем естественное, и как бы ни было мучительно положение, из которого их может вывести только восстание, мысль о нем для них так же тягостна, как для ученого — новое представление о вселенной. При таких обстоятельствах нередко случается, что против единения выступают те, кто поумнее, тогда как за него оказываются лишь самые умные.
Р. Значит, плебеи так и не достигли никакого единения?
Б. Нет, достигли. Второй горожанин тоже присоединяется к мятежникам. Но мы не должны скрывать ни от самих себя, ни от зрителя те противоречия, которые были преодолены, отброшены, отменены после того, как голод заставил плебеев выступить на борьбу с патрициями.
Р. Я утверждаю, что из текста этого вычитать нельзя, если не знать дальнейших событий.
Б. Согласен. Чтобы прийти к такому выводу, нужно прочесть всю пьесу. Нельзя понять начала, не зная конца. Позднее в пьесе это единство плебеев снова развалится, — поэтому желательно показать вначале, что оно достигнуто с трудом, а не является само собой разумеющейся предпосылкой.
Р. Как же это показать?
Б. Не знаю, об этом мы еще будем говорить. Пока что мы ведем анализ текста. Дальше.
Р. Следующий эпизод — выступление патриция Агриппы, он притчей доказывает, что плебеям нужно быть под властью патрициев.
Б. Слово «доказывает» вы произносите так, будто ставите его в кавычки.
Р. Меня притча не убеждает.
224 Б. Эта притча пользуется всемирной известностью. Или вы необъективны?
Р. Вот именно.
Б. Так.
Р. Агриппа начинает с утверждения, что подорожание хлеба вызвано не патрициями, а богами.
П. В те времена такой аргумент был убедителен, — я имею в виду древний Рим. Разве не следует в интересах произведения уважать идеологию определенной эпохи?
Б. В данном случае об этом можно не говорить. Шекспировские плебеи приводят в ответ веские доводы. Притчу они тоже опровергают весьма энергично.
Р. Плебеи возмущаются ценами на хлеб и ростовщичеством, они против военных тягот или их несправедливого распределения.
Б. Последнее — это расширительное толкование.
Р. Против войны я здесь ничего не вижу.
Б. В тексте ничего этого и нет.
Р. Выступает Марций и бранит вооруженных плебеев; он считает, что их надо усмирять не речами, а мечом. Агриппа пытается сыграть роль посредника и говорит, что плебеям нужны дешевые цены на хлеб. Марций издевается над ними. Дескать, плебеи рассуждают о вещах, в которых не разбираются — ведь в Капитолий они доступа не имеют и потому ничего не смыслят в государственных делах. Марций гневно опровергает утверждение, будто у государства достаточные запасы хлеба.
П. Вероятно, он говорит об этом как военный.
В. Во всяком случае, когда вспыхивает война, он подогревает плебеев тем, что амбары вольсков набиты хлебом.
Р. Придя в ярость, Марций сообщает, что сенат согласился дать плебеям избранных ими народных трибунов, — Агриппа удивлен этим решением. Входят сенаторы во главе с консулом Коминием. Вольски рвутся на Рим. Марций рад предстоящей борьбе с вождем вольсков Авфидием. Его назначают под начало консула Коминия.
Б. Он соглашается?
Р. Да. Но, кажется, сенаторы не совсем были в этом уверены.
225 Б. Есть разногласия между сенатом и Марцием?
Р. Едва ли очень существенные.
Б. Но мы читаем пьесу до конца. Марций — человек не слишком покладистый.
В. Интересно, что он, презирая плебеев, относится с уважением к национальному врагу, патрицию Авфидию. У него высокое классовое сознание.
Б. Мы ничего не упустили?
Р. Вместе с сенаторами появились оба новых народных трибуна, Сициний и Брут.
Б. Вы, кажется, их забыли, потому что никто их не приветствовал и даже не здоровался с ними.
Р. На плебеев теперь уже вообще почти не обращают внимания. Один из сенаторов грубо требует, чтобы они разошлись по домам. Марций как бы шутя возражает ему — пусть они следуют за ним в Капитолий. Он называет их крысами и натравливает их на хлеб вольсков. Потом в ремарке сказано только: «Плебеи потихоньку скрываются».
П. Судя по пьесе, их восстание пришлось на неудачный момент. Наступление неприятеля создало напряженное положение, и это укрепило власть в руках патрициев.
Б. А то, что сенат пошел на уступку плебеям, назначив трибунов?
П. Это было сделано без особой необходимости.
Р. Оставшись наедине, трибуны выражают надежду, что война поглотит Марция вместо того, чтобы возвысить его, или приведет его к конфликту с сенатом.
П. Конец сцены, кажется, слабоват.
Б. Вы думаете, по вине Шекспира?
Р. Возможно.
Б. Отметим эту неудовлетворенность. Но вот предположение Шекспира, что война ослабляет позицию плебеев, кажется мне удивительно реалистическим. Это прекрасно.
Р. Сколько событий в одной короткой сцене. И как по сравнению с этим бедны содержанием новейшие пьесы.
П. Замечательно, что «экспозиция» оказывается в то же время и стремительным началом действия.
Р. А каков язык притчи! Каков юмор!
226 П. И как интересно, что он не оказывает влияний на плебеев.
В. А природное остроумие плебеев! Как оно проявляется в репликах вроде: «Агриппа. Неужто горя вы хлебнуть хотите? Плебеи. Да мы и так уже им захлебнулись».
Р. Какая кристальная ясность в бранных речах Марция. Что за исполинская фигура! И ведь он вызывает восхищение действиями, которые кажутся мне достойными только презрения.
Б. А все эти крупные и мелкие конфликты, одновременно выплеснувшиеся на сцену: восстание голодных плебеев — и война с соседним народом, вольсками; ненависть плебеев к народному врагу Марцию — и его патриотизм; назначение народных трибунов — и назначение Марция на один из главных командных постов в армии. Разве бывает что-нибудь похожее в буржуазном театре?
В. Обычно вся эта сцена трактуется как экспозиция героического характера Марция. Его изображают патриотом, которому мешают своекорыстные плебеи и трусливо уступчивый сенат. В оценке сената Шекспир следует скорее Титу Ливию, чем Плутарху: он понимает, что сенат не без оснований «печален и смущен, испытывая двойной страх — перед плебеями и перед неприятелем». При этих обстоятельствах буржуазный театр держит сторону не плебеев, а патрициев. Плебеев изображают смешными и жалкими (а не полными юмора и терпящими жалкую нужду), и реплика Агриппы, в которой он называет «странным» согласие сената назначить народных трибунов, используется скорее для характеристики сената, чем для того, чтобы установить связь между наступлением вольсков и уступками, которые сенат вынужден делать плебеям. Восстанию плебеев, ясное дело, кладет конец притча о чреве и взбунтовавшихся членах, которая, имея в виду современный пролетариат, вполне буржуазии по вкусу…
Р. У Шекспира Агриппа говорит Марцию отнюдь не о том, что речь его имела успех у плебеев, но лишь о том, что, хотя у плебеев не хватает разума (чтобы понять его речь), у них вполне достаточно трусости, — каковое обвинение, впрочем, непонятно.
227 Б. Отметим.
Р. Зачем?
Б. Для актера эта неясность может послужить причиной нечеткого поведения.
Р. Во всяком случае, то, как Шекспир изображает плебеев и их трибунов, до известной степени помогает нашим театрам показать, что «неразумная» позиция народа делает трудности, встающие перед героем-аристократом, непреодолимыми, и это оправдывает последующее развитие его «гордости» до крайних проявлений.
Б. Так или иначе, спекуляция зерном, которую предпринимают патриции, играет у Шекспира известную роль, равно как и желание тех же патрициев во что бы то ни стало привлечь плебеев к воинской службе (У Тита Ливия патриции говорят: «… в мирное время простой народ распускается»), а также несправедливое закабаление плебеев патрициями. Таким образом, у Шекспира восстание носит не просто неразумный характер.
В. Но Шекспир и в самом деле дает мало материала для реализации интересного места у Плутарха: «Когда таким образом в городе было восстановлено согласие, низшие классы тотчас взялись за оружие и со всей готовностью подчинились властям, которые повели их на войну».
Б. Поскольку мы стремимся узнать о плебеях все, что возможно, мы с большим интересом прочитаем это место.
П.
«Ибо здесь идет, быть может,
Речь о знаменитых предках».
Р. И в другом пункте Шекспир не оказал аристократам поддержки. Он не дал Марцию воспользоваться следующим местом у Плутарха: «От неприятеля не укрылось мятежное поведение черни: вольски вторглись в страну и опустошили ее огнем и мечом».
Б. Подведем итог первоначальному анализу. Вот примерно что из него следует и что мы должны выявить на сцене: конфликт между патрициями и плебеями отходит на второй план (во всяком случае, до поры), потому что всеопределяющее значение приобретает конфликт 228 между римлянами и вольсками. Римляне, видя город в опасности, улаживают свои внутренние противоречия, назначая плебейских комиссаров (народных трибунов). Плебеи добились назначения трибунов, но враг римского народа Марций, как профессиональный военный, по случаю войны оказывается у руководства.
Б. Из краткого анализа, произведенного вчера, следует, что для постановки перед нами встает несколько очень увлекательных трудностей.
В. Как, например, показать, что ради единства плебеям нужно было преодолеть сопротивление? Лишь сомнительным подчеркиванием их решимости?
Р. При пересказе я не упомянул об отсутствии единства, потому что воспринял реплики Второго горожанина как провокационные. Мне казалось, что он подвергает испытанию стойкость Первого горожанина. Но, вероятно, так играть эту сцену не следует. Скорее всего, он еще колеблется.
В. Можно придумать причину, по которой ему не хватает боевого порыва. Можно представить себе, что он одет лучше других, что он зажиточней. В то время как Агриппа произносит речь, он может улыбаться его шуткам и так далее. Он может быть инвалидом войны.
Р. И проявляет слабость?
В. Слабость духа. Ребенок обжегся, а его все тянет к огню.
Б. Как насчет вооружения?
Р. Они должны быть плохо вооружены, иначе добились бы трибунов, не дожидаясь вторжения вольсков, но им нельзя быть слабыми, иначе им не выиграть ни войны под началом Марция, ни войны против Марция.
Б. Они выигрывают войну против Марция?
Р. В нашем спектакле — конечно.
П. Они должны ходить в жалких лохмотьях, но значит ли это, что у них должен быть жалкий вид?
Б. Какова ситуация?
Р. Внезапный народный мятеж.
Б. Значит, надо полагать, что вооружение у них импровизированное, но ведь они могут быть и неплохими импровизаторами. Ведь это они изготовляют оружие для армии, — кто же еще? Они могут изготовить копья, насадить 229 большие ножи на палки от метел, превратить кочергу в секиру и т. п. Их изобретательность может вызвать уважение, их появление — сразу же приобрести угрожающий вид.
П. Мы все говорим о народе; а как насчет героя? Даже Р., излагая содержание сцены, обошел его.
Р. Сперва показана гражданская война. Это само по себе настолько важно, что не может быть всего лишь подготовкой и фоном для появления героя. Разве я могу начать так: однажды утром Кай Марций отправился осматривать свои сады, появился на рынке, повстречался с народом, вступил с ним в пререкания и так далее? Меня еще занимает следующее: как одновременно показать, что речь Агриппы не производит никакого эффекта и в то же время производит эффект?
В. Я еще не решил для себя вопрос, который поставил П.: не следует ли рассмотреть все события относительно героя? Во всяком случае, мне кажется, что до появления героя следует показать то силовое поле, в котором он действует.
Б. Шекспир дает нам такую возможность. Только, может быть, мы перегрузили эту проблему, и она стала сложнее?
П. А ведь «Кориолан» написан так, чтобы зритель испытал эстетическое наслаждение именно от встречи с героем.
Р. Пьеса написана по реалистическим законам и содержит достаточно противоречивого материала. Марций борется вместе с народом; народ — это не просто постамент его статуи.
Б. Обсуждая сюжет пьесы, вы, по-моему, с самого начала пришли к тому, что зритель должен испытывать эстетическое наслаждение, видя трагедию народа, который вступает в единоборство с героем. Почему не следовать этому намерению?
П. Для этого Шекспир дает не слишком много оснований,
Б. Думаю, что вы неправы. Но никто не вынуждает нас ставить эту пьесу, если она не доставляет нам эстетической радости.
П. С другой стороны, если мы хотим иметь в виду только интерес к герою, мы можем трактовать этот эпизод 230 и так, что речь Агриппы не производит никакого эффекта.
В. У Шекспира это так. Плебеи воспринимают ее насмешливо, даже с какой-то жалостью к оратору.
Р. Мне пришлось отметить, что Агриппа говорит об их трусости, но почему он так говорит?
П. Шекспир этого не мотивирует.
Б. Обращаю ваше внимание на то, что в шекспировских изданиях ремарок нет, а если они и встречаются, то, видимо, прибавлены позднее.
П. Что может сделать режиссер?
Б. Мы должны показать, что Агриппа пытается добиться единения патрициев с плебеями при помощи идеологических доводов, чисто демагогическими средствами, и что эта попытка не имеет успеха; единение осуществится немного позднее, впрочем, довольно скоро, — как только начнется война. Настоящее единение навязано внешними причинами, военной мощью вольсков. Я обдумал одну возможность, и вот что я предлагаю: пусть Марций со своими воинами появится несколько раньше, до того, как Агриппа произнесет: «Привет, достойный Марций», и как его появления потребует ремарка, прибавленная, вероятно, в связи с данной репликой. Плебеи видят, как позади оратора появились воины, и тут они могут проявить признаки смущения и нерешительности. Внезапная агрессивность Агриппы тоже станет понятной, — ведь и он сам только что увидел Марция с его воинами.
В. Но вы вооружили плебеев лучше, чем прежде было принято, — как же они теперь отступят перед легионерами Марция?
Б. Легионеры вооружены еще лучше. К тому же плебеи не отступают. Здесь мы можем усилить шекспировский текст. Колебание толпы в конце речи связано с изменением ситуации, которое вызвано появлением воинов за спиной оратора. И как раз это колебание показывает нам, что идеология Агриппы опирается на силу, на силу римского оружия.
В. Но тут вспыхнул мятеж, а для единства требуется нечто большее, — требуется, чтобы началась война.
Р. Марций тоже не может действовать, как ему хочется. Он появляется с воинами, но «мягкость сената» 231 связывает его. Сенат только что дал черни право на представительство в сенате, назначив народных трибунов. Шекспир поступил необыкновенно искусно, вложив известие о создании трибуната в уста Марция. Как относятся к этому плебеи? Как они воспринимают свой успех?
В. Можем ли мы изменить Шекспира?
Б. Я думаю, что мы можем изменить Шекспира, если мы способны его изменить. Но мы условились говорить сначала только об изменениях толкования — с тем, чтобы наш аналитический метод мог быть использован и без перестройки текста.
В. Нельзя ли сделать так, чтобы Первый горожанин и был тем Сицинием, которого сенат назначил трибуном? Тогда он оказался бы главарем восстания и узнал бы о своем назначении из уст Марция.
Б. Это очень глубокое изменение.
В. В тексте ничего не пришлось бы менять.
Б. Как сказать. Существует нечто вроде удельного веса персонажа в сюжете. Одно изменение могло бы возбудить тот или иной интерес, который бы остался впоследствии неудовлетворенным, и т. д.
Р. Преимущество было бы в том, что можно было бы создать сценически выраженную связь между восстанием и назначением трибунов. Плебеи могли бы поздравить и трибунов, и самих себя.
Б. Но нельзя недооценивать той роли, которую сыграло вторжение вольсков, — оно является главной причиной уступки, на которую пошел сенат. Теперь вам придется строить спектакль и все это учитывать.
В. Плебеи должны были бы вместе с Агриппой удивиться этой уступке.
Б. Мне не хотелось бы давать решения. Не знаю, можно ли это сыграть без текста, средствами одной только пантомимы. Кроме того, наша толпа горожан — если мы выделим из нее отдельного человека — может быть, уже не будет понята зрителем как воплощение половины плебейского Рима, как часть, представляющая целое. Но вы, я вижу, смотрите с удивлением и неуверенностью на пьесу в целом и на запутанные события этого дня в Риме, — острый глаз мог бы обнаружить в них немало существенного. И, разумеется, если вы 232 найдете ключ к пониманию всех этих событий, вы вручите его публике!
В. Можно попытаться.
Б. Да, это, во всяком случае, можно.
Р. Чтобы принять решение относительно первой сцены, нам придется разобрать всю пьесу. Я смотрю, вы не слишком воодушевлены, Б.
Б. Смотрите в другую сторону. — Как принимается известие о том, что началась война?
В. Марций рад войне, как позднее обрадуется Гинденбург — он видит в ней очистительную баню.
Б. Осторожнее.
Р. Вы полагаете, что эта война — оборонительная?
П. Может быть, это имеет здесь другой смысл, и обычные наши критерии здесь неприменимы. Такие войны вели к объединению Италии.
Р. Под властью Рима.
Б. Под властью демократического Рима.
В. Который избавился от своих Кориоланов.
Б. Рима народных трибунов.
П. Плутарх сообщает о событиях после смерти Марция следующее: «Сперва между вольсками и эквами, их союзниками и друзьями, возник спор о том, кому должно принадлежать верховное командование, причем дело дошло до ранений и убийств. Выйдя навстречу наступавшим римлянам, они почти что уничтожили друг друга. После этого они потерпели поражение от римлян в битве…»
Р. Словом, без Марция Рим был не слабее, а сильнее.
Б. Прежде чем приступать к изучению начала, полезно прочитать не только пьесу до конца, но также жизнеописания Плутарха и Тита Ливия — для Шекспира они послужили источниками. Когда я сказал «осторожнее», я имел в виду вот что: нельзя осуждать войны без их внимательного изучения, и даже недостаточно разделить их на захватнические и оборонительные. Они переходят друг в друга. Только бесклассовое общество, достигнув высокого уровня производства, обходится без войн. Одно мне кажется несомненным: Марция следует показать патриотом. В смертельного врага patria117 он превращается под влиянием великих потрясений, — 233 тех самых потрясений, которые составляют содержание трагедии.
Р. Как плебеи принимают известие о начале войны?
П. Мы сами должны это решить, текст не дает указаний.
Б. При решении этого вопроса у нашего поколения, на его беду, есть преимущество перед многими другими. У нас есть только выбор — представить это известие как вспышку молнии, уничтожающую все до того данные заверения, или как известие, не возбуждающее особого волнения. Третьего нет: мы не можем показать, что оно не возбуждает особого волнения, если не подчеркнем это специально и, может быть, как нечто ужасное.
П. Нужно показать, что оно имеет большие последствия — хотя бы уже потому, что оно полностью меняет ситуацию.
В. Значит, примем, что сначала это известие парализует всех.
Р. Марция тоже? Он ведь сразу заявляет, что рад войне.
Б. И все-таки мы не будем видеть в нем исключение — он тоже подпадает под действие паралича. Свои знаменитые слова «Я рад, война очистит Рим от гнили» он сможет произнести, когда опомнится.
В. А плебеи? У Шекспира просто нет текста, а превратить отсутствие реплик в безмолвие толпы — нелегко. К тому же остаются и другие вопросы. Приветствуют ли плебеи своих новых трибунов? Дают ли им эти трибуны какие-нибудь советы? Меняется ли их отношение к Марцию?
Б. Сценическое решение будет следствием того, что все эти вопросы не имеют решений, то есть все они должны быть поставлены. Плебеи должны столпиться вокруг трибунов, чтобы их приветствовать, но до приветствия у них дело не дойдет. Трибуны должны хотеть дать совет плебеям, но и они до этого не дойдут. Плебеи не дойдут до того, чтобы изменить свое отношение к Марцию. Новая ситуация должна все это поглотить. В столь огорчительной для нас ремарке, «Citizens steal away», видно изменение, происшедшее с того момента, как горожане впервые появились на сцене. («Enter a company of mutinous citizens with clubs, staves, and 234 other weapons».) Ветер переменился, теперь он уже неблагоприятен для мятежей, всем угрожает страшная опасность, и для народа существует только эта негативно показанная опасность.
Р. В нашем анализе мы, по вашему совету, отметили здесь неясность.
Б. Вместе с восхищением шекспировским реализмом. У нас нет причин не следовать Плутарху, который сообщает о «величайшей готовности» простого народа участвовать в войне. Это — новое единство классов, возникшее на дурной почве; мы должны его исследовать и показать на сцене.
В. Прежде всего в это новое единство входят народные трибуны, они выделяются из толпы, но бесполезны и бесценны — так оттопыривается раненый большой палец. Как создать единство из них и их непримиримого, да и неспособного к примирению противника Марция, который теперь стал так необходим, необходим всему Риму, — как создать это видимое единство обоих классов, только что еще боровшихся друг с другом?
Б. Я думаю, мы не сдвинемся с места, если будем наивно ждать озарений. Нам придется обратиться к классическим примерам решения таких запутанных положений. В сочинении Мао Цзэ-дуна «О противоречии» я подчеркнул одно место. Что там сказано?
Р. Что в любом противоречивом процессе всегда есть главное противоречие, которое играет ведущую, определяющую роль, тогда как остальные имеют второстепенное, подчиненное значение. — В качестве примера он приводит готовность китайских коммунистов прекратить борьбу против реакционного режима Чан Кай-ши в момент, когда в Китай вторглись японцы. Можно привести еще один пример: когда Гитлер напал на Советский Союз, даже изгнанные белые генералы и банкиры поспешили заявить о своей солидарности с Россией.
В. Разве второй пример не представляет нечто иное?
Б. Нечто иное, и все же нечто сходное. Давайте рассуждать дальше. Перед нами — противоречивое единство патрициев и плебеев, которое вовлечено в противоречие с соседним народом вольсков. Теперь последнее противоречие — главное. Противоречие между патрициями 235 и плебеями, являющееся выражением классовой борьбы, отодвинуто на второй план появлением нового противоречия — национальной войны против вольсков. Однако оно не исчезло. (Народные трибуны «выделяются, как оттопыренные большие пальцы».) Назначение народных трибунов — результат вспыхнувшей войны.
В. Как же теперь показать, что противоречие «патриции — плебеи» перекрыто противоречием «римляне — вольски», и так показать, чтобы было понятно превосходство патрицианского руководства над новым руководством плебеев?
Б. Холодным рассудком это решить трудно. Какова ситуация? Истощенные стоят лицом к лицу с закованными в броню. Лица, побагровевшие от гнева, снова заливаются краской. Новая беда заглушает прежнюю. Разъединенные смотрят на свои руки, которые они подняли друг на друга. Достанет ли у них сил, чтобы отбить общую опасность? Происшествия эти полны поэзии. Как мы их представим?
В. Мы перемешаем группы, уничтожим границы между ними, создадим переходы от одной группы к другой. Может быть, стоит воспользоваться эпизодом, когда Марций кричит на патриция Тита Ларция, опирающегося на костыли: «Как, ты ослаб? Ты остаешься дома». У Плутарха в связи с восстанием плебеев говорится: «Людей, лишенных всяких средств, волочили в тюрьму и сажали за решетку, даже если тела их были покрыты рубцами, — следами ран, полученных в битвах за отечество. Они одерживали победы над неприятелем, но ростовщики не питали к ним ни малейшего сострадания». Мы уже раньше говорили, что среди плебеев мог бы быть такой калека. Наивный патриотизм, который так часто встречается у простых людей и которым нередко так бессовестно злоупотребляют, мог бы толкнуть его на то, чтобы подойти к Марцию, хотя последний и принадлежит к классу, причинившему ему столько зла. Оба инвалида, вспоминая последнюю войну, могли бы обняться и вместе уйти, переваливаясь на костылях.
Б. Так была бы удачно выражена мысль о том, что это эпоха непрерывных войн.
236 В. Кстати, не опасаетесь ли вы, что такой калека мог бы лишить нашу толпу значения pars pro toto?
Б. Вряд ли. Он представлял бы ветеранов. — В остальном мы можем продолжить нашу мысль о вооружении. Пусть консул и главнокомандующий Коминий с презрительной усмешкой осматривает импровизированное оружие, изготовленное плебеями для гражданской войны, и возвращает его владельцам — для использования на другой войне, патриотической.
П. А как быть с Марцием и трибунами?
Б. Это очень важная проблема. Между ними не должно быть никакого братания. Вновь сформировавшееся единство не абсолютно. Оно дает трещины в местах соединений.
В. Пусть Марций снисходительно и не без презрения пригласит плебеев следовать за ним на Капитолий, и пусть трибуны поощряют калеку, приветствующего Тита Ларция, но Марций и трибуны не будут глядеть друг на друга, они повернутся друг к другу спиной.
Р. Словом, обе стороны проявят свой патриотизм, но противоречия будут по-прежнему очевидны.
Б. И должно быть ясно, что вождь — Марций. Война — это пока еще его дело, в первую очередь его; не плебеев — именно его.
Р. Учет дальнейшего развития событий, понимание противоречий и их тождества несомненно помогли нам разобраться в этой части сюжета. А как быть с характером героя? Ведь его основы следует заложить именно здесь, в начале трагедии.
Б. Это одна из тех ролей, которые следует разрабатывать не с начальной сцены, а с последующих. Для Кориолана я бы назвал одну из военных сцен, если бы у нас в Германии после двух идиотских войн не было бы так трудно представить военные подвиги как великие деяния.
П. Вы хотите, чтобы Марция играл Буш, великий народный актер, который сам — боец. Вы так решили потому, что вам нужен актер, который не придаст герою чрезмерной привлекательности?
Б. Но все же сделает его достаточно привлекательным. Если мы хотим, чтобы зритель получил эстетическое наслаждение от трагической судьбы героя, мы должны 237 представить в его распоряжение мозг и личность Буша. Буш перенесет свои собственные достоинства на героя, он сможет его понять — и то, как он велик, и то, как дорого он обходится народу.
П. Вы знаете о сомнениях Буша. Он говорит, что он и не богатырь и не аристократ.
Б. Насчет аристократизма он, мне кажется, ошибается. А чтобы повергнуть неприятеля в ужас, ему физической силы не надо. Не следует забывать об одном «внешнем» условии: половину римского плебса у нас представляют всего пять или семь актеров, а всю римскую армию — человек девять (и не потому, что актеров не хватает), — как же мы могли бы выставить Кориолана весом в два центнера?
В. Обычно вы сторонник того, чтобы персонаж развивался шаг за шагом. Почему для Кориолана вы изменили вашему принципу?
Б. Может быть, потому, что у него нет настоящего развития. Его превращение из самого типичного римлянина в величайшего врага Рима совершается именно потому, что он остается неизменным.
П. «Кориолан» называли трагедией гордости.
Р. Когда мы первый раз прочитали пьесу, мы увидели, что как для Кориолана, так и для Рима трагизм в том, что Кориолан убежден в собственной незаменимости.
П. Не потому ли мы так думаем, что только такое толкование пьесы придает ей актуальность, — подобную проблему мы видим и у себя, а конфликты, порожденные ею, воспринимаем как трагические?
Б. Это верно.
В. Многое будет зависеть от того, представим ли мы самого Кориолана и то, что случается с ним и вокруг него, так, чтобы видно было, что Кориолан проникнут этим убеждением. Его полезность должна быть выше всех сомнений,
Б. Вот одна деталь из многих: там, где речь пойдет о гордости Кориолана, мы будем искать, как и когда он проявляет смирение — это будет по Станиславскому, который от актера, игравшего скупца, требовал, чтобы тот показал ему, как и когда скупец способен на великодушие.
238 В. Вы имеете в виду ту сцену, когда Кориолан принимает командование?
Б. Пожалуй. Для начала ограничимся этим.
П. Чему же зрителя научит сцена, поставленная таким образом?
Б. Тому, что позиции угнетенного класса могут быть усилены угрозой войны и ослаблены войной, если она уже вспыхнула.
Р. Тому, что безвыходность может объединить, а появление выхода разъединить угнетенный класс, — таким выходом может оказаться война.
П. Что различия в доходах могут разъединить угнетенный класс.
Р. Что в глазах воинов и даже калек, изувеченных войной, минувшая война окружена сиянием легенды, и что их можно увлечь героикой новых войн.
В. Что самые красноречивые речи не могут устранить реальные противоречия, а способны только на время их завуалировать.
Р. Что «гордые» господа не слишком горды, когда нужно склониться перед себе подобными.
П. Что и класс угнетателей не отличается полным единством.
Б. И так далее.
Р. Вы полагаете, что все это, равно как остальное, можно вычитать из пьесы?
Б. Вычитать из нее — и вчитать в нее.
П. Мы собираемся играть эту пьесу именно ради таких истин?
Б. Не только. Мы хотим получить удовольствие сами и доставить удовольствие другим, разыграв эпизод из просветленной истории. И пережив диалектику.
П. А это не слишком тонкая штука, доступная лишь немногим знатокам?
Б. Нет. Даже в ярмарочных панорамах и народных балладах простые люди, которые далеко не просты, любят истории о возвышении и падении сильных мира сего, о вечной смене, о хитрости угнетенных, о возможностях человека. И они ищут правды, того, что «за этим кроется».
1953
239 2. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ТОРОПЛИВОСТЬ118
В пьесе Островского «Воспитанница» есть эпизод чаепития, во время которого «благодетельница» помещица как бы мимоходом решает судьбу своей воспитанницы. Было бы естественно показать и само чаепитие мимоходом, но мы решили дать немую церемонию, благодаря которой чаепитие приобрело большую торжественность. Челядь должна была бесконечно медленно и старательно приготавливать чай, возиться с самоваром, стелить скатерть и т. д. Старый дворецкий следил за тем, как девки накрывают на стол. Некоторое время спустя он — по указанию режиссера — должен был сделать широкое, лишенное торопливости, движение рукой, подгоняющее девок. Этот жест выражал контроль и власть. Торопливость относительна. Трудно было выполнить относящееся к той же проблеме «медленное вбегание» запоздавшего лакея с печеньем.
1955
3. ОБХОДНЫЙ ПУТЬ
(«Кавказский меловой круг»)
П. В. Х. хотят сократить сцену «Бегство в северные горы». Утверждают, что пьеса слишком длинна и что весь акт представляет собой обходный путь. Зритель видит, что служанка хочет отделаться от ребенка после того, как вынесла его из района непосредственной опасности, но потом она все же оставляет его себе; говорят, что важно только ее окончательное решение.
Б. Обходные пути в новых пьесах следует внимательно изучить, прежде чем пойти кратчайшим путем. Этот короткий путь может показаться более длинным. Некоторые театры сокращали в «Трехгрошовой опере» один из двух арестов бандита Макхита, — оба эти ареста были вызваны тем, что он оба раза вместо того, чтобы спасаться бегством, отправлялся в публичный дом. Падение Макхита оказывалось следствием того, что он вообще ходил в публичный дом, а не того, что он ходил в публичный дом слишком часто, то есть, что он проявил беспечность. Словом, желая сделать пьесу короткой, ее сделали скучной.
240 П. Утверждают, что право служанки на ребенка будет ослаблено, если преуменьшить ее привязанность к нему.
Б. Во-первых, в суде речь идет вовсе не о праве служанки на ребенка, а о праве ребенка на лучшую мать, а во-вторых, то, что служанка годится в матери, что она вполне надежный и достаточно серьезный человек, как раз доказывается ее разумной нерешительностью, когда она берет себе ребенка.
Р. Мне тоже нравится эта нерешительность. Сердечность ограничена, она подчиняется мере. У каждого человека столько-то сердечности, не больше и не меньше, да к тому же это еще зависит от сложившейся ситуации. Она может иссякнуть, может возродиться и т. д. и т. д.
В. Это реалистический подход.
Б. Мне он кажется механистическим. Лишенным сердечности. Почему не принять следующее рассуждение: дурные времена делают человечность опасной для человека. У служанки Груше интересы ребенка и ее собственные интересы вступают в конфликт. Она должна осознать и те и другие и попытаться одновременно удовлетворить их. Это рассуждение, как мне кажется, ведет к более содержательной и более динамичной трактовке образа Груше. Оно верно.
1955
4. ДРУГОЙ СЛУЧАЙ ПРИМЕНЕНИЯ ДИАЛЕКТИКИ119
В «Берлинском ансамбле» репетицию маленькой драмы «Винтовки Тересы Каррар», написанной Б. по одноактной пьесе Синга, вел молодой режиссер; роль Каррар исполняла Елена Вайгель, уже несколько лет назад игравшая ее в эмиграции под руководством Б. Нам пришлось сказать Б., что заключительный эпизод, когда рыбачка вручает брату и младшему сыну спрятанные винтовки и вместе с ними уходит на фронт, не звучит достоверно. Вайгель тоже не могла объяснить, в чем ошибка. Когда Б. пришел на репетицию, она мастерски играла возраставшую депрессию, вызванную в ней односельчанами, которые приходили один за другим и приводили все новые доводы, она мастерски сыграла душевную катастрофу, постигшую мать, когда в дом ее 241 вносили труп сына, мирно ушедшего на рыбную ловлю. И все же Б. тоже пришел к выводу, что перелом, происшедший в ней, не вполне достоверен. Мы стояли вокруг Б. и обменивались мнениями. «Если бы эта перемена произошла только под влиянием агитации соседей и брата, ее можно было бы понять; смерть сына — это слишком», — сказал кто-то. «Вы переоцениваете агитацию», — сказал, покачав головой, Б. «Пусть бы это была только смерть сына», — сказал кто-то другой. «Она бы просто сломилась», — сказал Б. «Непонятно, — сказала, наконец, сама Вайгель. — На нее обрушивается один удар за другим, а в действие этих ударов не верят». «Повтори-ка еще раз», — попросил Б. Вайгель повторила. «Постепенность все смягчает», — сказал П. Ошибка была обнаружена. В исполнении Вайгель Каррар поддавалась каждому из ударов, и после самого сильного наступал кризис. Вместо этого она должна была показать, как Тереса Каррар после каждого удара все более ожесточается и как, испытав последний, она внезапно оказывается сломленной. «Да, я так и играла в Копенгагене, — сказала с удивлением Вайгель, — и это было правильно». «Вот что замечательно, — сказал Б., когда репетиция подтвердила наше предположение, — необходимо каждый раз сызнова заставлять себя учитывать законы диалектики».
5. ПИСЬМО К ИСПОЛНИТЕЛЮ РОЛИ МЛАДШЕГО ГЕРДЕРА В «ЗИМНЕЙ БИТВЕ»120
Судя по рецензиям вечерних газет и по Вашим собственным словам, роль младшего Гердера все еще представляет для Вас значительные трудности. Вы сетуете на то, что на некоторых спектаклях сбиваетесь с правильного тона и что это относится к одной определенной сцене, после которой все дальнейшее уже развивается в ложном направлении.
От выражения «сбиться с правильного тона» мы Вас, собственно говоря, уже предостерегали, потому что оно связано с определенной манерой исполнения, которая, с нашей точки зрения, неправильна. Под «правильным тоном» Вы понимаете нечто иное, чем «естественную интонацию». Под «попаданием в правильный тон» Вы, 242 очевидно, понимаете нечто подобное тому, что бывает в ярмарочном тире: стоит только попасть в центр мишени, как приводится в движение механизм, исполняющий музыкальную пьесу. Сравнение с ярмарочным тиром не содержит ничего уничижительного; оно имеет в виду не что-либо недостойное, но лишь ошибку.
Случилось то, что, с одной стороны, Вы недостаточно зафиксировали свою роль, так что Вы можете «сбиться с тона», а с другой, что Вы зафиксировали ее слишком прочно, так что от одного единственного тона зависят все другие тоны. Выражение «зафиксировать» тоже, впрочем, сомнительно. Обычно мы употребляем его в другом смысле, имея в виду, что фиксация закрепляет рисунок, предохраняя его от стирания.
По сути дела, Вам следовало закрепить не тоны, но позицию изображаемого Вами персонажа, независимую от тонов, хотя до известной степени и связанную с ними. А самое главное — это Ваша позиция относительно данного персонажа, которая определяет и позицию самого персонажа.
Как же обстоит дело с этим?
Ваши трудности начинаются со сцены больших монологов. У Ноля, друга и военного товарища Гердера, сомнения в этой зимней кампании вырываются наконец наружу и толкают его на действие, на дезертирство. В своих монологах Ноль обретает спокойствие решимости. Гердер, страстно отвергая сомнения, под власть которых, как он видит, «подпал» его товарищ, тем самым обрекает себя на состояние лихорадочной тревоги, и вот тут-то и начинается трудность. Насильственное утверждение естественной для него — нацистской — точки зрения колеблет ее (или демонстрирует ее поколебленность), так что возникает нечто патологическое. Вам отлично удается представить эту патологию: воспитанному в духе нацистского доктринерства юнцу приходится, выступив на борьбу с сомнениями Ноля, слишком энергичными насильственными средствами опровергать сомнения. Это патологично лишь с нацистской точки зрения, что свидетельствует о глубокой патологичности нацизма; младший Гердер хочет ее преодолеть, чтобы выработать в себе новую здоровую психологию. Сцена эта удается Вам меньше на тех спектаклях, когда Вы с 243 самого начала берете «слишком высокий тон», то есть когда уже в начале сцены допускаете истерический «тон» и резкие искажения черт лица.
С этого момента противоречие «патология — здоровье» играет в процессе развития характера решающую роль. В следующей сцене Ноль, перебежав к русским, оставляет Гердера одного в обществе офицеров-нацистов и тем самым углубляет его отчужденность от них. Поездка Гердера домой показывает его отчужденность от своей страны. Насколько я могу судить, на него обрушиваются четыре сокрушительных удара: презрение жены дезертировавшего Ноля, которую он прежде трепетно почитал; немецкая народная песня, полная глубокой проникновенности; чудовищное открытие его матери — оказывается, что брат его убит немецкой пулей по приказу немецкого командования; наконец, цитата из книги Эрнста Морица Арндта121 о гражданских правах и обязанностях солдата-гражданина. То, что следует после этого, — угрозу отца передать его гестапо, — он уже не воспринимает с достаточной интенсивностью.
То по-детски беспомощное рыдание, с которым убегает Ваш Гердер, — он предоставляет матери воздать отцу по заслугам — показалось некоторым критикам выражением патологии. Вероятно, они и страх смерти, испытываемый принцем Гомбургским, считают страхом патологическим, и, что хуже, они (почти) безнадежные обыватели, которые охотно совлекают с человека свойственные ему классовые признаки, чтобы получить человека как такового, человека самого по себе, человека в чистом виде. В эту минуту младший Гердер никак не герой, и не следовало бы нам ни при каких обстоятельствах говорить о героях «в минуты их слабости, в негероические минуты»; гораздо здоровее говорить о людях в их героические минуты. Он не чистит авгиевы конюшни, как Гамлет, да и другого ничего не предпринимает. Из своего отпуска он смиренно возвращается на фронт. Здесь Вы правы: Вы играете эту сцену и с проникновением в психологию Вашего персонажа, и с чувством превосходства над ним, и тем самым выбрасываете на свалку Пантеона Искусства, где действуют пресловутые мастера, один из их излюбленных героических штампов.
244 Затем снова начинаются трудности. Впереди у Вас еще две короткие сцены. (Гердер отказывается принять участие в казни партизана, его приговаривают к смерти, и он отказывается покончить с собой.) Вы должны показать, как духовное выздоровление ведет к смерти.
Блестящие почести, — например, рыцарский крест, — не смогли оторвать Гердера от народа, который должен за них расплачиваться; этот блеск ослепил его ненадолго, — Гердер перестает действовать в пользу Гитлера. Но начать действовать против Гитлера он уже не может. Он не вычистил авгиеву конюшню собственной семьи, — не берется он и за чистку государственной конюшни. Он уходит.
(Можно возразить, что обстоятельства не позволили ему стать героем. Но и это не поможет. Так или иначе, героем он не становится. Весь буржуазный класс, к которому он принадлежит и от которого он себя не отделяет до самого конца, находится в таком же положении: обстоятельства всегда чего-то не позволяют.)
В сцене с партизанами Вы находите (это, впрочем, ничего не дает искателям героев!) великолепный по выразительности прием: противоречивый ужас Гердера, когда он отказывается приказать своим солдатам закапывать партизан; ужас перед варварством и в то же время перед собственным неподчинением. Зато в сцене смерти, когда Вы показываете человека, уже покинутого всеми духами зла, Вам редко удается соединение черт героических и жалких. В «Военном букваре»122 (я Вам его никогда не показывал) Вы можете увидеть, приблизились ли Вы к изображению того совершенно растерявшегося немецкого военного холопа, которого русские встретили на подступах к Москве. Но призыв, обращенный Гердером к другой Германии, — это дело удачи. Он должен был бы восприниматься как Роландов рог, призывающий «другую» Германию. Когда Вы запрещаете себе здесь всякую напряженность, Вами движет не вообще страх перед пафосом, но страх перед ложным пафосом, — тем пафосом, который носит наивно националистический характер, перед собственно историческим Роландовым пафосом, который ныне лишен всякого содержания и, превратившись в карикатуру, бродит как призрак по нашим сценам. Вы должны были бы 245 питать к Гердеру и уважение и в то же время жалость, противостоящую этому уважению. Это значит: ключ к решению — в Вашей позиции относительно представляемого Вами персонажа. Помочь Вам могут только понимание исторического момента и умение воплощать противоречащие друг другу позиции.
Это понимание и это умение — достижимы. Их предпосылка в том, что в нашу эпоху — эпоху великих войн между классами и народами — необходимо твердое знание своей точки зрения.
1954
6. ДВЕ РАЗЛИЧНЫЕ ТРАКТОВКИ «МАМАШИ КУРАЖ»
При обычном методе игры, основанном на вживании зрителя во внутренний мир героини, публика (по многим свидетельствам) испытывает наслаждение особого свойства: она радуется торжеству неразрушимой, жизненно устойчивой личности, испытавшей все превратности войны. Активное участие мамаши Кураж в войне не принимается всерьез: война — это для нее источник существования, и, по всей видимости, единственный источник. Если отвлечься от этого момента соучастия, то есть вопреки этому соучастию, воздействие пьесы «Кураж» похоже на воздействие «Швейка», где (в иной, комической сфере) зритель вместе со Швейком одерживает верх над всеми намерениями принести героя в жертву во имя великих воюющих держав. Аналогичное воздействие пьесы о Кураж имеет, однако, гораздо меньшую социальную ценность, — именно потому, что соучастие торговки, в какой бы косвенной форме оно ни было представлено, оказывается неучтенным. В реальности это воздействие носит даже отрицательный характер. Кураж предстает главным образом как мать, и, подобно Ниобе123, она не в силах защитить своих детей от рока, то есть войны. Ее профессия торговки и то, как она своей торговлей занимается, в лучшем случае придает ей нечто «реалистически неидеальное», но ни в какой степени не лишает войну ее рокового характера. Конечно, война и здесь чисто отрицательная величина, но в конце концов Кураж выживает, хотя и терпит немалый ущерб. В противоположность этому Вайгель, 246 применяя технику, которая не допускала полного вживания зрителя в образ, трактовала профессию торговки не как естественную, но как историческую, то есть относящуюся к исторической и преходящей эпохе, а войну — как лучшую пору для торговли. Торговля и здесь представала само собой разумеющимся источником пропитания, но источником отравленным, и Кураж пила из него собственную смерть. Торговка мать — этот образ стал очеловеченным противоречием, и это-то противоречие искалечило и обезобразило Кураж до неузнаваемости. В сцене на поле боя, которую в обычных постановках по большей части сокращают, она была настоящей гиеной; она только потому отдала сорочки на бинты, что видела ненависть дочери и вообще боялась насилия, она, изрыгая проклятия, бросалась на солдата с шубой, как тигрица. Видя, что ее дочь искалечена, она с такой же искренностью проклинала войну, с какой превозносила ее в следующей сцене. Так Вайгель воплощала противоречия во всей их нелепости и непримиримости. Бунт дочери против нее (при спасении города Галле) ошарашил ее, так ничему и не научив. Трагизм Кураж и ее жизни, глубоко ощущаемый зрителем, состоял в том, что здесь возникало страшное противоречие, уничтожавшее человека, противоречие, которое могло быть разрешено, но только самим обществом и в длительных, кровопролитных боях. А нравственное превосходство этого метода игры заключалось в том, что была показана разрушимость человека, — даже самого жизненно устойчивого.
1951
7. ПРИМЕР ТОГО, КАК ОБНАРУЖЕНИЕ ОШИБКИ ПРИВЕЛО К СЦЕНИЧЕСКОЙ НАХОДКЕ124
В китайской агитационной пьесе «Просо для Восьмой армии» крестьяне доставляют просо для революционной Восьмой армии Мао Цзэ-дуна. После того как работа над пьесой была окончена, молодой режиссер пояснил Брехту некоторые частности своей экспозиции.
Пьеса играется в главной и боковой комнатах у деревенского старосты. Когда режиссер объявил, что хочет установить посреди сцены столик, за которым крестьяне должны кормить ужином сначала купца, сотрудничающего 247 с японцами, а затем одного из офицеров японского гарнизона, Б. обратил его внимание на то, что тогда они окажутся спиной к входной двери: едва ли им это придется по душе, — ведь они находятся в таком краю, где их не слишком жалуют. Режиссер тотчас же согласился, но не решался отодвинуть стол в сторону, потому что при этом нарушилась бы композиция сценической площадки; у него с одной стороны сцены оказалось бы пустое пространство, на котором почти ничего не происходит. «Это недостаток вашей декорации, — заинтересованно сказал Б. — А вам непременно нужны обе комнаты? Нельзя ли сделать так, чтобы боковая комната возникала только тогда, когда она вам понадобится? Скажем, крестьяне установят ширму». Режиссер объяснил, почему это невозможно. (Б. принимал участие в предварительной обработке пьесы, но когда надо было ставить ее на сцене, он забыл обо всем, что узнал из книг и разговоров, и «позволил, ходу событий оказать на себя непосредственное воздействие».) «Хорошо, — сказал Б., — тогда нам нужно оживить боковую комнату. Нам нужно действие, которое связано с главным действием и ведет к определенной цели. Что там могли бы делать для задуманной операции? Допущена еще одна ошибка, о которой я вспоминаю. Партизан, изображающий ложное нападение Восьмой армии на деревню, — таким образом крестьяне хотят оправдать перед японцами исчезновение проса, — уходит со сцены, но публике неясно, что теперь он собирается нести просо через горы. Какое стоит время года?» — «Август, — только что сняли урожай проса; так что тут ничего не изменишь.» — «Значит, нельзя, чтобы ему шили теплую куртку?.. Понимаете, в боковой комнате могла бы сидеть женщина и шить куртку, вернее, латать ее». Мы договорились на том, что там будут латать вьючное седло для мула, принадлежащего старосте. Мул был нужен для перевозки мешков с просом.
Мы решили, что работать будет не одна женщина, а две, мать и дочь, чтобы они могли шушукаться и смеяться, когда купец-предатель будет заперт в шкафу. Находка эта сразу же оказалась плодотворной в нескольких отношениях. Смешная сторона инсценированного нападения, звуки которого слышит купец-предатель, 248 могла быть подчеркнута хихиканьем женщин. Предатель мог показать свое презрение к женщинам, обращая на них столь же мало внимания, сколько, скажем, на соломенный коврик под ногами. Но прежде всего таким способом обнаруживалось сотрудничество всего населения, а починка вьючного седла и передача его партизанам оказывалась поэтическим моментом. «В ближайшем соседстве с ошибками произрастают открытия», — сказал, уходя, Б.
1953
8. КОЕ-ЧТО ОБ ИЗОБРАЖЕНИИ ХАРАКТЕРОВ
В китайской народной пьесе «Просо для Восьмой армии» показано, как деревня под руководством старосты хитро укрывает от японцев и чанкайшистских банд свой урожай проса, чтобы передать его революционной Восьмой армии.
На роль деревенского старосты режиссер искал актера, способного сыграть хитреца. Б. отнесся к этому критически. Почему, — сказал он, — старостой не может быть простой, умудренный опытом человек? Враги вынуждают его пользоваться обходными путями и прибегать к хитрости. Может быть, план придуман молодым партизаном, которому приходят в голову безрассудные идеи; но осуществляет этот план староста, хотя сам партизан давно уже считает, что реализовать его не удастся из-за бесчисленных препятствий, и уже готов придумать что-то другое. Это самая обычная китайская деревня, где вовсе не было какого-то особенного хитреца. Но нужда толкает на хитрость.
1953
9. РАЗГОВОР О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИИ
Б. Передо мной — поэтика Горация в переводе Готшеда125. Здесь изящно формулируется теория, которую Аристотель выдвинул для театра и о которой мы нередко говорим:
Ты хочешь подобрать к людским сердцам ключи?
Лей слезы с плачущим, с веселым — хохочи.
Но лишь тогда готов и я скорбеть с поэтом,
Когда скорбит он сам, — не забывай об этом.
249 Готшед отсылает читателя к Цицерону, который, излагая свои мысли об ораторском искусстве, сообщает о поступке римского актера Пола126: он должен был представлять Электру, оплакивавшую брата. У Пола самого только что умер единственный сын, и потому он, поставив перед собой на сцене урну с прахом сына, произнес соответствующие стихи, «относя их к самому себе, так что собственная утрата заставила его проливать настоящие слезы. И не было на площади ни единого человека, который мог бы удержаться от слез».
Право же, это следует назвать варварским средством воздействия.
В. С таким же успехом исполнитель Отелло мог бы сам пронзить себя кинжалом, чтобы доставить нам возможность наслаждаться состраданием. Он отделался бы дешевле, если бы ему перед самым выступлением подсунули хвалебные рецензии на игру какого-нибудь его собрата, ибо мы, вероятно, и в этом случае пришли бы в то вожделенное состояние, когда зрители не в силах удержаться от смеха.
Б. Во всяком случае, нас хотят угостить каким-то страданием, которое подвижно, то есть удалено от своего повода и без ущерба может быть приписано другому поводу. Подлинное воздействие поэзии исчезает, как мясо в хитро приправленном соусе, обладающем острым вкусом.
П. Ладно, Готшед мог в этом вопросе быть варваром, Цицерон тоже. Но Гораций имеет в виду естественное переживание, вызванное тем фактом, который изображен в стихах, а не чем-то заемным, взятым напрокат.
В. Почему он говорит: «Если я должен плакать…» (Si vis me flere)? Неужели нужно, чтобы мне топтали душу до тех пор, пока у меня не хлынут «освобождающие» слезы? Или мне должны демонстрировать процессы, которые меня так размягчат, что я стану доступен человеческим чувствам?
П. Почему ты на это не способен, когда видишь страдающего человека и можешь сострадать ему?
В. Потому что мне еще надо знать, отчего он страдает. Возьми того же Пола. Сын его, может быть, был прохвостом. Пусть отец страдает, несмотря на это, но при чем тут я?
250 П. Ты можешь это понять, созерцая переживание, которое он изображал на сцене и которому отдал в распоряжение собственное горе.
В. Да, если он предоставит мне возможность понять. Если он не заставляет меня в любом случае сопереживать его горе, — а ведь он хочет, чтобы я в любом случае его ощутил.
Б. Предположим следующее: сестра оплакивает брата, который ушел на войну, причем война крестьянская, брат ее крестьянин, и ушел он вместе с крестьянами. Следует ли нам разделить с нею ее горе? Или не следует? Мы должны уметь и разделить ее горе и не разделять его. Наши собственные душевные движения возникнут вследствие понимания и ощущения двойственности данного факта.
1955
НЕКОТОРЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ В ПОНИМАНИИ МЕТОДА ИГРЫ «БЕРЛИНСКОГО АНСАМБЛЯ»127
Беседа в литературной части театра
П. Снова критика нас бранит.
В. Самое неприятное — это похвалы, предшествующие осуждению. «Режиссура превосходна, но… она все губит». «Литературная часть серьезно обдумала репертуар, но безуспешно». «Исполнитель центральной роли — одаренный актер, но он оставляет зрителя равнодушным». Мне вспоминается одна старая книжка, в которой автор рассказывал, что палач, отрубивший голову Карлу I, перед казнью пробормотал: «Извините, сударь».
Б. Чего же, по мнению критики, не хватает театру?
Р. У нас нет истинного порыва, нет истинного тепла, зритель не увлекается по-настоящему, он остается холоден.
П. Я не помню ни одного зрителя, который бы оставался холоден, видя сцену отступления разгромленной гитлеровской армии или сцену погребения партизан.
Р. Это признают все. Но говорят: такие сцены действуют на публику потому, что здесь мы отказываемся от наших принципов и играем, как в обычном театре.
251 Б. Разве наш принцип в том, чтобы оставлять зрителя холодным?
В. Утверждают именно это. И у нас якобы есть особые для этого соображения, а именно: оставаясь холодным, зритель лучше думает, а мы преимущественно хотим, чтобы в театре люди думали.
Б. Это, конечно, никуда не годится: брать у зрителя деньги за то, что его заставляют думать…
В. А почему бы вам не выступить и не сказать ясно и четко, что у нас в театре нужно не только думать?
Б. И не подумаю выступать.
В. Но ведь вы вовсе не осуждаете чувства.
Р. Разумеется, нет, разве только неразумные.
Б. Скажем, автоматические, устаревшие, вредные…
П. Кстати, когда вы говорите такие слова, то вы сами отнюдь не остаетесь холодным.
Р. Мы и на театре не холодны, когда боремся против таких чувств и когда их разоблачаем. И все же, не думая, это делать невозможно.
В. Кто же утверждает, что можно вообще думать, оставаясь холодным?
Р. Когда вас захлестывают чувства, думать тоже, конечно, нельзя.
П. Но когда чувства вас поднимают?
В. Так или иначе, чувства и мысли невозможно отделить друг от друга даже в науке. Ученые известны своей горячностью.
П. Итак: театр научного века тоже оперирует эмоциями. Давайте скажем это ясно и четко.
Р. Только не будем говорить «оперирует»: это сразу производит впечатление холодности и расчета.
П. Хорошо. Вызывает эмоции.
Р. Переполнен эмоциями.
В. «Переполнен». Я не люблю таких слов. Пустые люди всегда делают вид, что они «переполнены». Преувеличения подозрительны.
Б. У Шиллера преувеличения не так уж плохи.
В. Да, но подражательные, искусственные преувеличения…
П. Вы полагаете, что Шиллер преувеличивает нечто хорошее и потому его преувеличения хороши?
252 Б. А что, собственно, говорит пресса о содержании пьесы и о политическом смысле спектакля?
П. Говорят мало. Пишут, что о содержании уже говорилось после премьеры в Л.
Б. Что же сказали тогда?
Р. Содержание одобрили.
Б. А еще что?
Р. Да немногое. Наша печать больше интересуется формой. Политики никогда не замечают политических пьес.
П. А театральные критики охотно начинают статьи изложением политического содержания, но потом, не оглядываясь, переходят к «собственно содержанию», к содержанию «чисто человеческому» или к вопросам формы.
Р. Тем не менее наш спектакль вызвал оживленное обсуждение политической позиции и судьбы младшего Гердера и как раз в том направлении, к которому мы стремились. Мы должны добиться, чтобы наш метод игры судили не «как таковой», но в зависимости от того, дает ли он верную картину действительности и вызывает ли прогрессивную, то есть социалистическую, реакцию зрителя.
Б. Правильно, конечно, что нашей печати не следовало бы писать о форме спектакля, не обсуждая одновременно его содержания. Форма спектакля может лишь тогда быть хорошей, когда она является формой своего содержания; и плохой, если она таковой не является. Иначе ведь вообще ничего доказать нельзя.
П. Видите, вот уже опять выглядывают ваши когти. Вы все хотите что-то доказать. В искусстве человек чувствует: это хорошо, или: это скверно. Зритель потрясен или не потрясен. Таково общепринятое мнение.
Б. Чему же художник может тогда научиться у критиков? «Потрясай».
Р. Есть замечательное место у Пауля Рилла128: «Переживание и произведение, порождающее переживание… составляют художественное единство, которое надо оценивать в зависимости от того, в какой мере в этом единстве преобразована действительность».
Б. Метод нового реалистического театра — это ответ на те трудности, которые ставят перед ним новый материал 253 и новые задачи. Так возникла и новая драматургия — возьмем, к примеру, «Первую Конную» Вишневского или мою «Жизнь Галилея». Старая форма уже не могла нас удовлетворить. Если рассматривать новую форму в отрыве от задач, которые она себе ставила, то дать ей правильную оценку, разумеется, нельзя. В таком случае она должна показаться произвольной.
В. Так как нам придется говорить о многом, с чем мы не справляемся, быть может, следовало бы сначала установить, что нам, по нашему мнению, удается. То есть мы должны сказать о том, чего именно мы в состоянии достичь нашим методом игры, какие бы недостатки в нем ни были. В «Мамаше Кураж», например. Возьмем один только эпизод. Маркитантка видит, как изуродована ее немая дочь, ради которой она уже пожертвовала одним из своих сыновей. Она проклинает войну. Но уже в начале следующей сцены мы видим, как она шагает рядом со своим фургоном, и слышим ее слова: «Я не позволю поносить войну, война меня кормит». При обычном методе игры это едва ли можно себе представить, и потому большинство театров эту вторую сцену опускают. У нас один молодой зритель сказал на обсуждении: «Я не согласен с теми, кто здесь утверждал, будто в конце пьесы писатель позволяет мамаше Кураж понять, что она действовала неправильно. Я сочувствую ей потому, что она так и не может ничему научиться». Это чувство очень благородное и полезное, и зритель не мог бы испытать его, если бы ему дали возможность вжиться в переживания торговки.
Р. По всей видимости, наши зрители испытывают чувства, близкие к тем, которые возникают в результате перевоплощения. На спектакле «Мать» я видела у людей слезы — это было во время сцены, где рабочие накануне первой мировой войны не хотят брать антивоенные листовки у старухи Власовой. Кто хорошо помнит спектакль, знает — это слезы политические; люди проливают их, огорчаясь глухоте, трусости, вялости. Среди испытавших это огорчение были и такие, кто до сих пор против большевиков, против народной власти, государственной торговли, против Народной палаты, кто мечтает владеть лавкой и сталкивается с трудностями совсем иного рода, словом, кто по причинам социальным почти 254 не в состоянии отождествлять себя с Власовой, но и они внимали голосу правды, и этих людей объединяло с их соседями чувство ужаса за тех, кто не ведает, что они делают и чего не делают.
П. В «Меловом круге» судья Аздак спрашивает служанку, которая воспитала княжеского ребенка и не желает вернуть его матери, почему она противится тому, чтобы ребенок жил жизнью князя. Служанка осматривается в суде. Она видит мать-княгиню, видит стражников, стоящих за спиной судей, — все они слуги власть имущих, вооруженные мечами; видит адвокатов княгини — это слуги власть имущих, вооруженные сводами законов, — и она молчит. Певец в это время поет: «Он бы слабых стал давить, стал бы в золоте купаться». Кажется, что именно эта песня объединяет молчащих судью и служанку. Судья проводит испытание, используя меловой круг. В результате испытания ребенок остается за той, кто его воспитал. Если бы мы не порвали решительно со сценическими условностями, мы не смогли бы вызвать эмоций, возникших в связи с этим эпизодом.
Б. Ясно. Разумеется, наша новая публика позволяет нам и даже обязывает нас вызывать именно такую реакцию, основанную на естественном единстве мысли и чувства. Но, думаю, нельзя сомневаться и в том, что в нашем театре людям недостает переживаний другого рода, которые привычны и дороги публике в целом, в особенности театральным завсегдатаям.
П. Устарелые переживания.
Р. Скажем, архаические.
П. Те самые, которые, может быть, имел в виду Гете, когда говорил: созидание — это, конечно, лучшее из всего, что есть на свете, но порой и разрушение приносит добрые плоды.
Б. Приведите пример.
Р. Можно рассмотреть классический сюжет «мать незаконнорожденного ребенка». Таковы Гретхен, Магдалина, Роза Бернд129. Должны ли мы требовать от публики, чтобы она вживалась в позор, в нечистую совесть этих девушек? В настоящее время мы считаем, что в этих драмах совести дурное — это не чувственность названных героинь, а то, что они сами осуждают себя; с нашей 255 точки зрения, правда не на стороне общества их эпохи, внушившего им запрет как вечный нравственный закон.
П. Если это представить так, то восхваление Гретхен уже никого не потрясет.
Б. Почему же нет? Общество несправедливо отвергает ее, объявляя вне закона, и еще вынуждает ее самое оправдывать это отвержение. Сцена в тюрьме, когда Гретхен отказывается от освобождения, станет еще трогательнее, если мы будем воспринимать ее не как очищение от скверны, но как настоящее безумие, вызванное в ней обществом. Возьмите другую знаменитую сцену. В «Короле Лире» верный слуга короля избивает неверного. Должны ли мы разделить разгневанность первого на второго? В театре нас могут вовлечь в это переживание, заставить его испытать, причем совершенно определенной манерой игры. Необходимо критически рассмотреть ее.
П. Необходимо именно потому, что наши эмоции — сложная и в высшей степени противоречивая смесь различных элементов.
Б. Многие еще полагают, что чувства человека, его интуиция, его инстинкт представляют собой нечто положительное, «здоровое» и т. д. Эти люди забывают об истории.
П. Позвольте привести цитату из Гегеля: «То, что называют здравым смыслом, нередко оказывается весьма нездравым явлением. Здравый смысл содержит истины своей эпохи… Это способ мышления определенной эпохи, который отражает все предрассудки данной эпохи: им управляет предопределенность мысли, но люди этого не сознают».
Б. Истина всегда конкретна. У нас, например, дело обстоит так: и публика и актеры жили при Третьей империи, часть еще при Веймарской республике или даже при кайзере Вильгельме — во всяком случае, при капитализме. Господствующий класс пытался — в большинстве случаев успешно — с самого детства развратить чувства людей. Германии не было суждено пройти через очистительный процесс революции. Великий переворот, обычно приходящий вместе с революцией, совершился без их участия. При сложившихся классовых взаимоотношениях, непонятных для очень многих, при новом образе 256 жизни, меняющемся чуть ли не ежедневно, когда у широких слоев еще не выработался новый строй мыслей и чувств, — искусство не может просто апеллировать к инстинктам и чувствам разношерстной публики. Оно не может слепо руководствоваться успехом — тем, нравится оно или не нравится. С другой стороны, играя руководящую роль, защищая интересы нового руководящего класса, искусство никогда не должно отрываться от своей публики. Оно должно бороться со старыми мыслями и чувствами, разоблачать их, обесценивать их, оно должно нащупывать новые мысли и чувства, способствовать их развитию. В ходе этого процесса может случиться, что часть публики не найдет в театре привычных театральных переживаний и не будет идти с нами в ногу.
П. А прогрессивная часть публики научится новым театральным переживаниям.
Б. Тоже не без трудностей. Немало есть людей, которые ищут в театре старое, привычное, и среди них есть даже такие, кто в очень важных областях жизни каждый день борется за новое и бесстрашно ломает старые привычки, если эти привычки мешают построению новых форм жизни.
Р. Человек, живущий в сфере политики, рано или поздно осознает в самом себе эти противоречия. Этому человеку ежедневно приходится бороться с ложью и невежеством, и ему принесет удовлетворение правда об обществе; это примирит его с непривычными художественными средствами. Если театр возьмет на вооружение материалистическую диалектику и присоединит ее к тем методам, которыми он владеет, он сможет проникнуть в самые далекие глубины человеческого сознания и проложить себе дорогу к великим противоречиям — не благотворным и благотворным. Сколько ему нужно разрушить предрассудков, сколько предложить и воплотить новых дерзостных концепций, какие силы развязать для грандиозного творческого размаха социалистического общества! Все это будет немыслимо без благороднейших художественных средств предшествующих эпох, но также и без тех новых методов, которые еще предстоит открыть. Социализм будет развивать буржуазные, феодальные, античные формы искусства, противопоставляя им свои собственные. Какие-нибудь новые методы окажутся 257 необходимы, и они будут созданы для того, чтобы можно было освободить от шлака классового общества великие замыслы и идеи гениальных художников минувших столетий.
П. Скажут: это значит бросить зрителя в классовую борьбу.
Р. Он с удовольствием сам бросается в это пекло, — словно мальчишки на качелях.
Б. Как бы не так. Оказаться лицом к лицу с классовой борьбой — это не шутка; но и с новыми художественными формами — тоже. Нужно понимать недоверие людей к формальным изменениям в искусстве, и недоверие это нужно разделять. Правда, публика исподволь стремится к новому также и в области формы. И художники не желают быть привязанными к законам искусства в такой степени, чтобы превращаться в копиистов. Шиллер придерживался Шекспира, когда писал «Разбойников», но не «Коварство и любовь». А когда он писал «Валленштейна», он уже не придерживался даже Шиллера. Причиной того, что немецкие классики постоянно экспериментировали в области новых форм, было не только их стремление к новаторству в форме. Они стремились ко все более действенному, емкому, плодотворному оформлению и выражению отношений между людьми. Более поздние буржуазные драматурги открыли еще новые аспекты действительности и обогатили выразительные возможности искусства. Театр последовал за ними. Но все отчетливее становилось стремление при помощи изменения форм поднести зрителю старое содержание и устаревшие или совершенно асоциальные тенденции. Театральное зрелище уже не освещало действительности, не облегчало понимание человеческих отношений — оно затемняло действительность и извращало отношения. Мы должны мириться с тем, что, имея перед глазами подобный упадок искусства, люди смотрят на нас с некоторым недоверием.
П. Мне кажется, наша беседа развивается в неудачном направлении. Большинство зрителей, посетивших наш театр, вряд ли заметили все эти наши трудности, а те, кто узнает об этой беседе, составят себе представление о некоем гораздо более удивительном театре, чем наш. У нас нет ни чрезмерной объективности, ни сухой 258 деловитости. Есть трогательные сцены, есть сцены неопределенные, зыбкие, есть пафос, есть напряжение, есть музыка и поэзия. Актеры говорят и двигаются с большей естественностью, чем это обычно принято. Фактически публика развлекается так, как будто она сидит в настоящем театре. (Смех.)
Б. Любой историк-материалист может предсказать, что искусства, изображающие общественное бытие людей, изменятся в результате великих пролетарских революций и в предвидении бесклассового общества. Давно уже стали ясны границы буржуазной идеологии. Из постоянной величины общество снова стало величиной переменной. Коллективный труд стал основой нравственности. Можно свободно изучать закономерности человеческого общежития и условия его развития. После уничтожения эксплуатации человека человеком неизмеримо вырастают возможности эксплуатации природных сил. Метод познания, данный людям материалистической диалектикой, изменяет их взгляд на мир, а значит, и на искусство. Базис театра и его функция пережили грандиозные изменения, и по сравнению с ними все изменения, которые до сих пор претерпел театр, не так уж велики. В этой области тоже стало ясно, что «совершенно иное» — это в то же время и «прежнее» в измененной форме. Искусство, будучи освобожденным, остается искусством.
В. Одно несомненно: если бы в нашем распоряжении не было ряда новых художественных средств, нам пришлось бы их создать для «Зимней битвы».
П. Так мы дошли до техники очуждения, которая кое-кому кажется предосудительной.
В. Но ведь это так просто.
Б. Осторожнее.
В. Может быть, не надо нам так уж чрезмерно осторожничать. Вашей осторожной манерой выражаться вы уже создали немало путаницы. В результате все это кажется чем-то совершенно диким, доступным лишь одному из сотни.
Б. (с достоинством). Я уже не раз извинялся за то, как я выражаю мои мысли, и не буду делать этого еще раз. Для теоретиков эстетики это очень сложное дело; оно просто только для публики.
259 В. Для меня очуждение означает только то, что на сцене нельзя оставлять ничего «само собой разумеющегося»; что даже когда зритель вполне разделяет самые сильные переживания, он все равно знает, что именно он переживает; что нельзя позволить публике просто вживаться в какие бы то ни было чувства, воспринимаемые ею как нечто естественное, богом данное и неизменное и т. д.
Б. «Только»?
Р. Мы должны признать, что при всей «нормальности» нашего метода игры отклонения его от обычного не так уж незначительны — и это несмотря на то, что Эрпенбек130 озабоченно предупреждает драматургов, режиссеров и актеров, в особенности молодых: «Осторожно, тупик». Но разве мы могли бы, не имея такого метода, играть «Зимнюю битву»? Я имею в виду — сыграть, не потерпев значительного ущерба в глазах публики?
В. Мне кажется, эту пьесу потому трудно сыграть в обычной манере, что она написана не в обычной манере. Вспомните упреки печати в том, что эта пьеса «недраматичная», — упреки эти возникли вследствие иного метода игры.
Р. Ты имеешь в виду — драматического метода игры?
В. Да, так называемого драматического метода игры. Не думаю, чтобы Бехер стремился создать драму нового типа. Он примкнул к немецкой классике и усвоил ее понимание поэтического, которое было отвергнуто натуралистами. Затем его политическая форма мышления, его диалектический взгляд на вещи привели его к такой композиции и к такой трактовке темы, которые отличаются от традиции. У него иная мотивировка поступков его персонажей, он иначе видит сцепление событий, у него иной взгляд на развитие общественных процессов.
Р. Все это особенно легко увидеть, потому что ему, по его словам, мерещился новый Гамлет. Здесь и продолжение классической линии, здесь и новаторство в воплощении замысла.
В. В наше время было бы легче сыграть шекспировского Гамлета в новой манере, чем бехеровского Гердера — в старой!
Р. Во всяком случае, нельзя было бы сыграть Гердера как Гамлета. Такая попытка была.
260 П. Да, его пытались превратить в положительного героя, — чего, впрочем, нельзя делать и с Гамлетом, хотя с Гамлетом это делают.
Р. Нас еще укоряли в том, что в других театрах у Гердера гораздо более лучезарный ореол, чем у нас. Конечно, нет ничего легче, привычнее и приятнее, чем придать молодому актеру «ореол героя». Но подлинный ореол излучается исторической позицией человека, и актер реалистического театра может излучать свет лишь в той степени, в какой это свойственно тому персонажу, которого он играет.
П. Это не значит, что младший Гердер лишен всяких положительных черт.
Р. Некоторые рабочие, участвовавшие в обсуждении, говорили, что наш младший Гердер совершенно ясен, — это я тоже считаю достоинством нашего спектакля. Он показался им привлекательным, но они сказали: «Мы не можем слепо и безусловно идти вместе с ним. Он человек буржуазного склада и таким остается до последнего мгновения жизни. Он не поступает, как его товарищ Ноль и как рабочие с танка 192, не переходит к русским, воюющим против убийства и убийц, он только не желает дальше подчиняться нацистам». Это «только» в высшей степени трагично, и мы должны были показать, что в этом от героизма, и это изображение должно было потрясти зрителя, но мы не имели права забывать и о том, что нас с ним разделяет, и это тоже должно было потрясти зрителя. Таким образом, перед нами стояла задача — возбудить двойственное чувство большой силы, которое, разумеется, могло быть доступно не каждому театральному зрителю в равной степени; чтобы проникнуться таким пониманием и таким чувством, необходимо иметь либо антибуржуазную позицию, либо (а может быть, «и») очень высоко развитое историческое сознание.
Б. Актера и зрителя должна была тронуть судьба этого мальчика, который был воспитан и развращен нацистами и в котором весь его жизненный опыт вызывает разлад с совестью. Единственный дар, который он в конце своего пути способен принести человечеству, — это отказ от совершения злодеяний, сулящий ему верную смерть. Социалист не может не быть потрясен, видя в руке 261 его это небогатое приношение. И всякий, кто обладает историческим мышлением, не сможет безучастно смотреть эпизод, когда в руки молодого человека попадает сочинение Эрнста Морица Арндта об обязанностях солдата-гражданина. Здесь он сталкивается с идеалами своего класса, родившимися в давно минувшую революционную и гуманистическую пору его развития. Исход этого столкновения смертелен. Зритель, одаренный пониманием исторических процессов, тотчас чувствует, что эти высокие доктрины непременно убьют того, кто попытается им следовать, служа в гитлеровской армии или любой другой буржуазной армии нашей эпохи. И вопреки этому зритель должен хотеть, чтобы юноша им следовал.
Р. И ради этого нам необходимы определенные новые художественные средства, например — техника очуждения.
Б. Не знаю, каким другим методом можно показать жизнь, сосуществование людей в его противоречивости и развитии, и сделать диалектику источником познания и наслаждения.
Р. Однако вы ведь не считаете необходимой предпосылкой, чтобы вся наша публика в равной мере обладала стремлением к такому познанию и такому наслаждению. Вы предполагаете, что это стремление непременно разовьется — как следствие постоянно изменяющихся форм жизни и форм производства, а так же как следствие такой художественной деятельности, как наша, осуществляемой на той же социалистической основе; это стремление, однако, будет развиваться только в борьбе с другими стремлениями. Предлагаемые вами художественные средства призваны удовлетворить это стремление или вызвать его. С другой стороны, я, однако, знаю, что вы не считаете наши новые художественные средства окончательно разработанными. Не можем ли мы поговорить и об этом?
Б. Ничего с этим не поделаешь: пока вы сами вызываете в зрителе удивление, то есть пока он видит в вас нечто странное, небывалое, вы не можете полноценно выполнить свою задачу, которая заключается в том, чтобы довести до его разума — или до его чувства — те или иные общественные процессы. Часто мы используем новые 262 средства так, что техника преобладает над поэзией; вот в каком направлении нам надо учиться. Публику подогревают ее собственные интересы, и учится она быстро. В особенности когда мы удовлетворяем и другие ее стремления. К тому же я думаю, что мы еще очень многого не умеем.
П. Вспомните начало пьесы, где показано наступление гитлеровской армии. Когда генерал приказывает отряду танков занять Москву в привычном для него молниеносном темпе, наши зрители должны содрогнуться при виде этой бессмысленно, бездумно, преступно использованной силы, состоящей из машин и машиноподобных солдат. Ими должно овладеть сочувствие к непонимающим, ненависть к их губителям.
Р. Но всегда найдется довольно большое число зрителей, которые видят лишь одно определенное происшествие, случившееся в одно определенное ненастное утро в далекой России, нечто, что, несомненно, было так и едва ли могло быть иначе — при данных обстоятельствах; такие зрители не могут себе представить, что этих обстоятельств могло бы не быть, что их можно уничтожить и что они вообще поддаются уничтожению. Кажется, эти зрители обладают способностью восстанавливать свои иллюзии.
В. Частично это зависит от нашего освещения. Когда на самой первой репетиции генерал еще читал свою роль по книжке, достигался — как вы, вероятно, помните — правильный эффект. Танки еще не были достроены, они стояли некрашеные, а плохо освещенные задник еще не был похож на небо; вот тогда действие не носило этого предательски натуралистического характера. Молнию зритель видел не глазами средневекового пастуха; он видел искру, проскакивающую в лабораторных условиях между катодом и анодом, — ее можно и создать, и избежать, смотря по надобности.
П. Но ведь в лаборатории художественных переживаний не бывает, мой друг.
Р. В боксе это называется ударом под ребро. В. говорит как раз о художественном переживании, то есть о художественном эффекте, который достигался во время репетиции с неполной иллюзией, а им ощущался достаточно явно.
263 В. Почему следующая сцена не всех затрагивает — отбытие транспортных машин с солдатами? Она тоже весьма интересна. Эти солдаты едут в сторону Москвы, потому что это кажется им кратчайшим путем для возвращения в Берлин, Дрезден или Франкфурт.
Р. Здесь опять то же самое: часть зрителей, когда смотрит эту сцену, не знает другого, то есть революционного пути. Необходим хор, чтобы рассказать об этом втором пути и рекомендовать его.
В. Так или иначе, нам наших средств очуждения не хватило.
Р. Их не хватило и для того, чтобы показать главную красоту пьесы, красоту политическую, то есть красоту изображенного в пьесе стремительного развития. В момент, когда вручается рыцарский крест за захват подмосковной высоты, она уже опять в руках противника. Когда кавалер рыцарского креста возвращается домой с известием о «позорном» переходе к русским своего товарища, жена перебежчика уже сама настроена против Гитлера. Юный кавалер рыцарского креста еще считает своего «преданного Гитлеру» брата идеальным героем, а тот в это время уже казнен за участие в антигитлеровском мятеже. И т. д. и т. д.
П. Многие, даже, пожалуй, все критики писали о том, что наш герой не развивается. А нам казалось, что именно развитие его представлено особенно вдумчиво и интересно.
Р. Нельзя забывать: традиционный театр приучил их видеть на сцене абсолютные свойства характера, между тем как мы изображаем душевные состояния и процессы при помощи «внешних действий». Младший Гердер, который увидел недостатки в национал-социалистической системе, для них — скептик по природе, а не нормальный юноша, который находит во вполне определенных переживаниях, доступных показу на театре, понятный повод для сомнений. Они хотят видеть борьбу с проблемами, борьбу ради борьбы. Они не желают видеть человека, которого столкнули в воду или который упал сам и теперь борется с волнами, чтобы не утонуть, — им хочется увидеть борца-профессионала, который ищет партнера и жаждет схватки.
264 Р. У нас совсем другое представление о развитии. Мы хотим представить полное конфликтов взаимодействие социальных сил, противоречивые процессы скачкообразного характера и т. д. Мы немало попотели уже на предварительной стадии, когда работали за столом: надо было так расположить все события, чтобы они могли стать переживаниями героя, превратиться в недоразумения и опыт, отчаяние и упрямство. Но донести до зрителя прекрасный эффект внезапности его перехода в новое состояние мы, видимо, не смогли — у нас явно не хватило художественных средств.
В. Мы применяли их недостаточно последовательно. В «Винтовках Тересы Каррар» мы вполне правдоподобно показали превращение героини, увидевшей труп сына. Некоторые театры жаловались на то, что их публика не поняла этой внезапной перемены. По мере того как ей выдвигали все новые аргументы, Вайгель — Каррар увеличивала силу своего сопротивления, и перелом в ней осуществлялся с потрясающей внезапностью. Причины этого перелома были понятны всем без исключения.
Р. Она понимает диалектику. Мне показалось, что наш театр одержал одну из своих самых убедительных побед, когда во время обсуждения я услышала от рабочего-металлиста: «Так у нас и будет, — только так. Те, кто ругается, еще будут одобрять. Развитие будет не постепенное, не по правилу: чем больше масла, тем больше одобрений. Одно наслаивается на другое, и в какой-то момент они перестанут вспоминать о масле». Он был очень взволнован. Он понял кое-что в диалектике.
П. Коммунизм — это то самое простое, которое трудно создать; примерно так же обстоит дело и с коммунистическим театром.
Б. Подумайте, однако, как нова позиция, которую мы заняли и которую мы хотим внушить нашему зрителю. Наш друг Эйслер мастерски воплотил ее в своей великолепной музыке, посвященной отступлению гитлеровских войск: в ней одновременно звучит и торжество и скорбь. Торжество по поводу победы Советской Армии над Гитлером и скорбь по поводу страданий немецких солдат и позора их нападения на Советский Союз.
265 П. Чтобы преодолеть трудности, возникающие перед театром в связи с глубоким переустройством общества, мы приняли некоторые меры, которые со своей стороны представляют трудности для восприятия. Например, оформление некоторых спектаклей.
Б. Право же, это самая незначительная трудность. Публика быстро привыкает к тому, что декорации изображают лишь самые существенные элементы какой-либо местности или помещения. Воображение публики дополняет наши намеки, которые, впрочем, вполне реалистичны, — ведь это не символы, не субъективные вымыслы художников. Открытую линию горизонта в спектакле «Мамаша Кураж» публика воспринимает как небо, не забывая, что присутствует она в театре.
П. Но, может быть, ей хочется забыть, что она в театре?
Р. На это нельзя пойти. Это все равно как если бы людям хотелось забыть, что они все еще «в жизни».
П. Об этом же напоминают песни и надписи, прерывающие спектакль. Понятно, что после полустолетия более или менее натуралистических, иллюзионистских спектаклей они тоже не могут снискать всеобщей симпатии.
Б. Но нельзя говорить и о всеобщей антипатии.
В. Главное возражение выдвигают люди, читавшие ваш «“Малый органон” для театра»: теперь они считают, что в нашем театре актеры не имеют права вживаться в свои роли и должны стоять рядом с персонажем, как бы безучастно.
Р. В «Малом органоне» речь идет только о том, что актер не должен обязательно разделять чувства персонажа, которого ему предстоит изображать, то есть что он может, а иногда и обязан испытывать другие чувства.
П. Да, актер должен критически относиться к персонажу.
Б. Тем самым, кстати, решается одна из вечных проблем, занимающая многих: почему отрицательный герой намного интереснее положительного? Он изображается критически.
Р. Значит, наши актеры не могут уже просто и безоговорочно погружаться в душевный мир действующих лиц пьесы, они не могут слепо жить их жизнью и изображать 266 все, что те делают, как естественное и не допускающее никаких вариантов поведение, представляющееся и публике единственно возможным. Ясно, что при всей критике актеры должны изображать своих персонажей как живых людей. Если им это удается, тогда, конечно, уже нельзя сказать, как обычно говорится: удалось, потому что актер не был настроен критически и по-настоящему «превратился» во Власову или в Яго.
Б. Возьмем Вайгель в роли мамаши Кураж. Актриса сама критически рассматривает этот персонаж, а потому и зритель, видя постоянно меняющееся отношение исполнительницы к поступкам Кураж, испытывает к последней самые различные чувства. Он восхищается ею как матерью и критикует ее как торговку. Подобно самой Вайгель, зритель воспринимает мамашу Кураж как цельного человека со всеми его противоречиями, а не как бескровный результат анализа актрисы.
П. Вы считали бы неудачей спектакль, который не давал бы критики изображаемого персонажа или не наталкивал бы на нее?
Б. Безусловно.
П. Но и такой спектакль, который не давал бы полнокровного, живого образа?
Б. Конечно.
П. И все-таки можно так сформулировать: мы не даем зрителю возможности слиться в переживании с героями.
Р. Нет, мы не даем им возможности сопереживать слепо.
П. Но ведь зритель должен не только смотреть на них?
Р. Конечно.
П. И чувства по-прежнему должны жить на театре?
Р. Да. Многие из старых, некоторые новые.
Б. Однако я рекомендую вам с особым недоверием относиться к людям, которые в какой бы то ни было степени хотят изгнать разум из художественной деятельности. Обычно они клеймят его, называя «холодным», «бесчеловечным», «враждебным жизни» и считая его непримиримым противником чувства, являющегося якобы единственной областью работы художника. Они 267 делают вид, что черпают вдохновение в «интуиции», и упорно защищают свои «впечатления» и «видения» от всякого посягательства разума, который в их устах приобретает нечто мещанское. Но противоположность разума и чувства существует только в их неразумных головах и является следствием весьма сомнительной жизни их чувств. Они путают прекрасные и сильные чувства, отражаемые литературами великих эпох, со своими собственными подражательными, грязными и судорожными переживаниями, которые, понятно, имеют основание бояться света разума. А разумом они называют нечто, не являющееся поистине разумом, ибо это нечто противостоит большим чувствам. В эпоху капитализма, идущего навстречу своей гибели, разум и чувство переродились, они оказались в дурном, непродуктивном противоречии друг с другом. Напротив, поднимающийся новый класс и те классы, которые борются вместе с ним, видят, как разум и чувство сталкиваются в великом продуктивном противоречии. Чувства толкают нас на высшее напряжение нашего разума, разум очищает наши чувства.
1955
ЗАМЕТКИ О ДИАЛЕКТИКЕ НА ТЕАТРЕ
Новые сюжеты и новые задачи в связи со старыми сюжетами требуют от нас постоянного пересмотра и усовершенствования наших художественных средств.
Поздний буржуазный театр, стремясь поддержать интерес публики к искусству, тоже пытается применить формальные новшества; он даже пользуется некоторыми новшествами социалистического театра. Это, однако, всего лишь более или менее сознательная «компенсация» отсутствия движения в общественной жизни искусственным движением в области формальной. Такой театр борется не со злом, а со скукой. Вместо общественно значимых дел здесь суетливая деятельность. Герой пьесы садится верхом не на коня, а на набитого соломой гимнастического козла, он взбирается не на строительные леса, а на шведскую стенку. Формальные усилия обоих театров не имеют ничего общего между собой, и все-таки можно, ошибившись, принять один за 268 другой. Картина усложняется еще и тем, что в капиталистических странах рядом с мнимо новым театром, театром Nouveauté131, спорадически возникает настоящий новый театр, который не всегда представляет собой только Nouveauté. Есть и другие точки соприкосновения. Оба театра, — если только они серьезны, — видят конец. Один из них видит конец мира, другой — конец буржуазного мира. Так как оба театра, будучи театрами, должны доставлять зрителю удовольствие, то один из них доставляет это удовольствие, показывая конец мира, другой — показывая конец буржуазного мира (а также созидание нового мира). Публика одного из них должна содрогаться перед великим Абсурдом, и театр толкает ее на то, чтобы она отвергала похвалу великому Разуму (социализму) как слишком дешевое (хотя, впрочем, для буржуазии достаточно дорогое) решение. Одним словом, оба театра повсюду соприкасаются, да и как могла бы вспыхивать борьба, не будь соприкосновения? Поговорим, однако, о наших трудностях.
Человеку доставляет удовольствие изменяться под воздействием искусства, а также под воздействием жизни. Таким образом, он должен ощутить и увидеть как себя, так и общество способными к изменению; причудливые законы, по которым происходят изменения, должны проникнуть в его сознание, — этому посредством художественного наслаждения должно способствовать искусство. Материалистическая диалектика говорит о видах и причинах таких изменений.
Мы пришли к выводу, что основным источником эстетического наслаждения является творческая плодовитость общества, его чудесная способность создавать полезные и приятные вещи и, в конечном счете, обнаруживать свою идеальную сущность. Прибавим к этому, что мы можем устранять неприятное и практически бесполезное. Например, когда мы сажаем сад, ухаживаем за ним и улучшаем его, мы получаем удовольствие не только от плодов, на которые рассчитываем в будущем, — нам доставляет удовольствие сама по себе деятельность, наша способность к творчеству.
269 Но творить — значит изменять. Это означает влиять на внешние процессы, прибавлять к существующему что-то новое. Для этого надо многое знать, мочь, хотеть. Природой можно повелевать, подчиняясь ей, так говорит Бэкон.
Мы склонны считать состояние покоя «нормальным» состоянием. Человек каждое утро идет на работу, это и есть «нормальное», само собой разумеющееся. В одно прекрасное утро он на работу не пошел, что-то помешало ему, какая-нибудь неудача, а может быть, удача, это нуждается в объяснении, ибо нечто длительное, казавшееся постоянным, внезапно и очень резко оборвалось; так вот — это нарушение, которое вторгается в состояние покоя, а затем снова наступает покой, ибо теперь, казалось бы, уже никто на работу не ходит. Покой носит несколько отрицательный характер, но все же является покоем, нормальным состоянием.
Даже очень бурные события, если только они повторяются с известной регулярностью, приобретают видимость покоя. Ночные бомбардировки в городах могли казаться просто определенной жизненной фазой, они так и воспринимались, они превратились в состояние и не нуждались более ни в каком объяснении.
Когда натуралисты изображали те или иные состояния, последним была свойственна именно такая постоянная повторяемость. Зритель понимал, что авторы против этих состояний, но нужно было обладать политической позицией, сходной с авторской, чтобы суметь представить себе другие состояния и прежде всего чтобы понять, как добиться их осуществления. Состояниям же самим по себе был свойствен только этот признак постоянной повторяемости.
Вот как стоит вопрос: должен ли театр так показывать публике человека, чтобы она могла его понять, или так, чтобы она могла его изменить. Во втором случае публика должна получить, так сказать, совсем другой материал, материал, собранный с той точки зрения, чтобы можно было понять и до известной степени почувствовать неповторимые, сложные, многообразные и противоречивые отношения между личностью и обществом.
270 В таком случае актеру нужно соединить художественное воплощение образа с социальной критикой, которая мобилизует интерес публики. Некоторым старомодным эстетам такая критика кажется чем-то «отрицательным», антихудожественным. Это, однако, чепуха. Подобно любому другому художнику, скажем, романисту, актер может внести в свое творчество элемент социальной критики, не разрушая создаваемого им художественного образа. Сопротивляются таким «тенденциям» люди, которые, прикрываясь защитой искусства, просто защищают от критики существующие порядки.
Неверно полагать, будто новые пьесы и образы не несут в себе жизни или страсти. Всякий, кто любит, чтобы у него дух захватывало, будет вполне удовлетворен. Всякий, кому хочется испытать эмоциональное потрясение, пусть приходит на спектакль! Некоторую часть публики иной раз отпугивает то, что театр показывает ей людей и события с одной определенной стороны, так, что становится видно, как их можно изменить; но какое же до этого дело той части публики, которая не желает ни быть измененной, ни что бы то ни было изменять?
Даже часть тех людей, кто без устали работает над изменением общества, хотела бы возложить на театр и драматургию новые задачи, но так, чтобы театр не претерпел никаких изменений; они боятся вырождения театрального искусства. Такое вырождение могло бы и в самом деле случиться, если бы мы просто отбросили прежние завоевания — вместо того, чтобы их дополнить новыми. Разумеется, такое дополнение связано с преодолением противоречия.
Вслед за тем придется рассмотреть, как использовать эффект очуждения, — что и для каких целей должно быть очуждаемо. Следует показать изменяемость сосуществования людей (а вместе с тем изменяемость и самого человека). Достичь этого можно только, если внимательно присматриваться ко всему неустойчивому, зыбкому, относительному, — словом, к противоречиям во всех состояниях, имеющих склонность к переходу в другие противоречивые состояния.
271 МОЖНО ЛИ НАЗВАТЬ ТЕАТР ШКОЛОЙ ЭМОЦИЙ?
Да. Возникновение эмоций — процесс очистительный. Для этого, однако, нужно, чтобы и эмоции были очищены.
В театре зрителя обучают большим эмоциям, к которым он без такого обучения неспособен. Сущность человеческой природы такова, что эмоции не могут возникнуть сами по себе, то есть изолированно от деятельности разума. Эта деятельность разума может выступать как начало, противоположное эмоциям, вносящее в эмоции нечто объективное, определенный материал жизненного опыта. Однако эмоции и сами по себе — противоречивая смесь.
Эмоции обычно движутся по тем же кривым, что и вообще идеология. Так, существуют весьма различные типы патриотизма, среди них есть и очень благородные и совершенно низменные. Непрестанно появляются эмоции, которые представляют собой огромные и опасные болота общественного разложения.
ВОПРОСЫ О РАБОТЕ РЕЖИССЕРА
Что делает режиссер, ставя пьесу?
— Он рассказывает публике некую историю.
Чем он для этого располагает?
— Текстом, сценой и актерами.
Что самое важное в этой истории?
— Ее смысл, то есть ее общественная суть. Каким образом устанавливается смысл истории?
— Посредством изучения текста, изучения своеобразия ее автора и времени ее возникновения.
Может ли история, возникшая в другую эпоху, быть поставлена полностью в духе ее автора?
— Нет. Режиссер выбирает такой способ прочтения, который может быть интересен его времени.
Каково важнейшее действие, посредством которого режиссер рассказывает историю публике?
— Аранжировка, то есть расположение персонажей, определение их позиции по отношению друг к другу, их передвижения, их выходов и уходов. Аранжировка должна рассказывать историю в соответствии с ее смыслом.
272 Бывают ли аранжировки, не отвечающие этому требованию?
— Сколько угодно. Вместо того чтобы рассказывать историю, неправильные аранжировки пекутся о совсем других вещах. Пренебрегая историей, они располагают определенных актеров, сиречь звезды, наиболее выгодным для них образом (так, чтобы они были на виду у публики), или они навевают зрителям настроение, которое раскрывает суть происходящих на сцене событий поверхностно или вовсе неверно, или же они создают захватывающие моменты там, где их нет в рассказываемой истории, и т. д. и т. п.
Каковы основные неправильные аранжировки наших театров?
— Натуралистические, в которых воспроизводится совершенно случайное расположение персонажей «как бывает в жизни». — Экспрессионистские, которые, не обращая внимания на историю, являющуюся лишь, так сказать, предлогом, сводятся к тому, чтобы предоставить персонажам повод «себя выразить». — Символистские, цель которых — без всякой оглядки на действительность — выявить «таящееся в глубине вещей», идеальное. — Чисто формалистические, стремящиеся создать «яркие мизансцены», нисколько не движущие рассказываемую историю вперед.
ТЕАТР ЭПИЧЕСКИЙ И ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ
В настоящее время делается попытка перехода от эпического театра к диалектическому. С нашей точки зрения и в соответствии с нашими намерениями, эпический театр как эстетическое понятие вовсе не был чужд диалектики, а театр диалектический не сможет обойтись без эпической стихии. Тем не менее мы имеем в виду необходимость значительной перестройки.
1
В прежних работах мы рассматривали театр как коллектив рассказчиков, появляющихся перед зрителем, чтобы воплотить некое повествование, иначе говоря, чтобы пропустить повествование через собственную личность или создать необходимую общественную среду.
273 2
Мы также указывали, на что рассчитывает такой рассказчик: публика получает удовольствие, рассматривая критически, то есть творчески, поведение людей и его последствия.
При такой установке нет больше оснований для строгого разделения жанров, — разве что будут обнаружены какие-нибудь особые основания. События приобретают то трагический, то комический характер, на обозрение выставляется их комическая или трагическая сторона. Это не имеет ничего общего с тем, как Шекспир включает в свои трагедии комические сцены (а вслед за ним — Гете в «Фаусте»). Серьезные сцены могут сами по себе приобретать комический характер (скажем, сцена, когда Лир отдает свое царство). Точнее говоря, в таком случае комический аспект обнаруживается в трагическом и трагический — в комическом как внутреннее противоречие.
3
Чтобы своеобразие представленных театром отношений и ситуаций могло быть воплощено в игровой форме и подвергнуто критике, публика мысленно создает другие отношения и ситуации и, следя за действием, противопоставляет их тем, которые показаны театром. Так публика сама превращается в рассказчика.
4
Если мы утвердимся в этом взгляде и к тому же еще подчеркнем, что публика, являясь сорассказчиком, должна встать на точку зрения сáмой творческой, нетерпеливой, рвущейся к благотворным переменам части общества, мы придем к выводу, что в применении к новейшему театру от термина «эпический театр» следует отказаться. Если повествовательное начало, содержащееся в театре вообще, усилилось и обогатилось, то термин этот свою роль сыграл. Укреплением повествовательного начала в театре вообще — как в современном, так и в прежнем — создается основа для своеобразия нового театра, который уже потому является новым, 274 что он сознательно развивает черты — диалектические — прежнего театра и делает их источником эстетического наслаждения. Исходя из этого своеобразия, термин «эпический театр» оказывается слишком общим и неточным, чуть ли не формальным.
5
Пойдем теперь дальше: обратимся к свету, который должен озарить отношения между людьми, представляемые нами на сцене, — все то, что в мире подлежит изменению, должно стать зримым и доставить нам эстетическое наслаждение.
6
Чтобы обнаружить изменяемость мира, мы должны познать законы его развития. При этом мы исходим из диалектики классиков социализма.
7
Изменяемость мира основана на его противоречивости. В вещах, людях, событиях есть нечто, делающее их такими, каковы они есть, и в то же время нечто, делающее их другими. Ибо они развиваются, не стоят на месте, изменяются до неузнаваемости. И вещи, те, какими они нам представляются сейчас, незримо содержат в себе нечто иное, прежнее, враждебное нынешнему.
Фрагмент
275 ПОКУПКА МЕДИ132
277 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА ПЬЕСЫ «ПОКУПКА МЕДИ»
Философ стремится полностью использовать театр для своих целей. Театр должен создавать верные копии общественной жизни, помогая зрителю выработать к ним свое собственное отношение.
Актер стремится к самовыражению. Он хочет, чтобы им восхищались. Для этого ему нужны фабула и характеры.
Актриса хотела бы, чтобы театр нес общественно-воспитательную функцию. Во главу угла она ставит политику.
Завлит обещает философу всяческую поддержку. Он говорит, что готов отдать все силы и знания делу перестройки своего театра в соответствии с замыслами философа. Он надеется, что эта перестройка вдохнет в театр новую жизнь.
Осветитель олицетворяет новую публику. Он — рабочий и недоволен тем, как устроен мир.
НОЧЬ ПЕРВАЯ133
На сцене, где рабочий не спеша снимает декорации, сидят, примостившись — кто на стульях, кто на реквизитных аксессуарах — актер, Завлит и философ. Достав из корзинки, принесенной рабочим, несколько бутылок, завлит откупоривает их, актер наливает в рюмки вино и угощает друзей.
Актер. На сцене — много пыли, оттого здесь всегда мучит жажда. Пейте же, не стесняйтесь!
Завлит (бросив взгляд в сторону рабочего). Попросим нашего друга, чтобы он не слишком торопился снимать декорации, не то опять поднимется пыль…
Рабочий. А я и так не спешу… Но убрать декорации хочешь не хочешь, а надо. Ведь завтра начнут репетировать новую пьесу.
278 Завлит. Надеюсь, вам здесь понравится. Мы могли бы расположиться в моем кабинете. Но там гораздо холоднее — я-то ведь не плачу за вход, как наша достопочтенная публика, а самое главное, там с укором глядят на меня бесчисленные рукописи непрочитанных пьес. К тому же ты, философ, всегда непрочь наведаться за кулисы, а ты, актер, если уж нет у тебя сегодня публики, хоть сможешь полюбоваться на кресла в зрительном зале. Беседуя о театре, мы вообразим, будто ведем эту беседу на глазах у публики, иными словами, сами разыгрываем небольшое представление. Наконец, здесь у нас будет возможность поставить несколько небольших опытов, коль скоро это потребуется для уяснения предмета. Так приступим же к делу и, пожалуй, лучше всего начнем с вопроса, обращенного к нашему другу-философу, — о том, что же занимает его в нашей театральной работе.
Философ. В вашей театральной работе меня занимает то, что вы с помощью ваших средств и вашего искусства изготовляете копии событий, происходящих в человеческом обществе, так что, наблюдая вашу игру, можно поверить, будто перед тобой настоящая жизнь. И поскольку меня интересуют формы и виды общественной жизни, то меня интересуют и ваши изображения таковых.
Завлит. Понимаю. Ты хочешь познать наш мир, — мы же показываем здесь то, что происходит в мире.
Философ. Не знаю, до конца ли ты меня понял. Право, не знаю. Почему-то в твоих словах я не ощутил неудовольствия.
Завлит. А почему я должен выразить неудовольствие в ответ на признание, что в нашей театральной работе тебя интересует показ событий, происходящих в мире? Ведь мы и в самом деле воссоздаем эти события.
Философ. Я сказал: вы изготовляете копии, и они интересуют меня постольку, поскольку они соответствуют оригиналу, потому что всего больше меня занимает оригинал, то есть общественная жизнь. Сказав это, я ожидал, что вы отнесетесь ко мне с известной настороженностью и усомнитесь в том, смогу ли я при такой позиции быть для вас хорошим зрителем.
279 Завлит. Почему бы тебе не быть хорошим зрителем? У нас на сцене давно уже повывелись боги и ведьмы, звери и духи. В последние десятилетия театр изо всех сил старался подставлять жизни зеркало. В угоду своему честолюбивому желанию способствовать разрешению социальных проблем он принес величайшие жертвы. Он показал, как это плохо, что на женщину смотрят лишь как на игрушку134; что рыночная купля-продажа захватила также домашние очаги, превратив семью в арену боев; что деньги, с помощью которых богачи обеспечивают своим детям образование и культуру, добываются за счет того, что детей других родителей толкают в пучину порока, и еще многое другое. И за эти услуги, оказанные им обществу, театр заплатил тем, что едва не утратил всего своего обаяния. Он оставил все попытки создать хотя бы одну великую фабулу, которая могла бы сравниться с творениями древних.
Актер. И хотя бы один столь же великий характер!
Завлит. Зато мы показываем банки, клиники, нефтяные вышки и поля сражений, трущобы и виллы миллиардеров, хлебные поля и биржу, Ватикан, беседки, дворцы, фабрики, залы совещаний, короче, всю жизнь, как она есть. У нас на сцене происходят убийства и заключаются контракты, разыгрываются адюльтеры, совершаются героические подвиги, объявляются войны, у нас умирают, рождают детей, торгуют, блудят, мошенничают. Короче, мы показываем общественную жизнь людей со всех сторон. Мы используем любые впечатляющие средства, не боясь никаких новшеств, все законы эстетики давно выброшены за борт. Пьесы насчитывают иногда пять актов, иногда пятьдесят, случается, что на одной и той же сцене одновременно воздвигают до пяти игровых площадок, счастливые концы чередуются с несчастливыми, есть у нас и такие пьесы, где публике предоставляется самой выбрать конец. Сегодня мы стилизуем исполнение, завтра — играем совершенно естественно. Наши актеры одинаково ловко управляются как с ямбами, так и с уличным жаргоном. Оперетты подчас отдают трагизмом, в трагедиях же встречаются песенные интермедии. Сегодня на сцене стоит дом, каждой деталью, вплоть до последней печной трубы, схожий с настоящим домом, а завтра двум-трем разноцветным жердям вменяется в 280 обязанность изображать пшеничный склад. Над игрой наших клоунов проливают слезы, а на наших драмах — надрывают животики. Одним словом, у нас теперь все бывает. Я сказал бы: к сожалению.
Актер. В твоем рассказе звучит скорбь, на мой взгляд, неоправданная. Можно подумать, будто мы и впрямь оставили всякую серьезную работу. Но смею заверить, мы не какие-нибудь бездумные проказники. Мы — люди, выполняющие тяжкий труд под строгим контролем и с предельной отдачей сил, — иначе нельзя хотя бы из-за острой конкуренции.
Завлит. Потому-то наши изображения настоящей жизни и стали образцово-показательными. Публика может изучать у нас любые тончайшие движения души135. Наши семейные картины скопированы с величайшей тщательностью. За многие десятилетия отдельные актерские труппы отлично сыгрались, у нас можно было даже увидеть сцены, ну, взять, к примеру, вечер в помещичьем доме, где в каждом жесте актеров сквозит естественность, и, кажется, из сада даже доносится запах роз. Я часто удивлялся, как это авторам пьес еще удается отыскивать для своих героев какие-то новые душевные состояния, когда, казалось, все они уже известны наперечет. Нет, мы и впрямь не смущаемся никакими сомнениями и не скупимся на усилия.
Философ. Так, значит, ваша главная цель — отображать взаимоотношения людей?
Завлит. Если бы мы не отображали человеческих взаимоотношений, это вообще уже не было бы искусством. В крайнем случае ты можешь сказать, что наши изображения плохи. Это означало бы, что ты считаешь нас дурными художниками, ведь наше искусство в том и состоит, чтобы придавать нашим изображениям печать правдоподобия.
Философ. Предъявлять подобный упрек никак не входило в мои намерения. Я хочу говорить не о плохом искусстве, а о хорошем. А там, где искусство хорошо, оно и впрямь придает изображению печать правдоподобия.
Актер. Я не одержим манией величия, но все же смею утверждать, что берусь изобразить любой поступок, даже самый невероятный, так, что ты уверуешь в 281 него без всяких колебаний. Если хочешь, я покажу тебе, как император Наполеон пожирает сапожные гвозди, и бьюсь об заклад, ты найдешь это вполне естественным.
Философ. Ты совершенно прав.
Завлит. Позволь мне указать тебе, что ты несколько отклонился от темы. Ты бьешь, как говорится, мимо цели.
Актер. Почему ты считаешь, что я отклонился от темы? Я же толкую об актерском искусстве.
Философ. Я тоже не счел бы это отклонением от темы. В одном из описаний136 всемирно известных актерских упражнений, цель которых — научить актера естественной игре, я нашел такое упражнение: актер должен бросить шапку на пол и вести себя с ней так, будто это крыса. Так учатся искусству внушения.
Актер. Отличное упражнение! Если бы мы не владели искусством внушения, то каким образом, спрашивается, при помощи нескольких кусков полотна или щита с надписью мы заставили бы зрителя вообразить, будто сейчас перед ним — поле боя у Акциума137? И как — опять же с помощью скудного старомодного тряпья да еще маски — мы убедили бы его, что перед ним принц Гамлет? Чем больше наше мастерство, тем меньше нам требуется реальных вспомогательных средств, чтобы вылепить кусочек жизни. Мы действительно копируем жизненные события, но этим далеко не все сказано. К черту события! Вопрос еще и в том, зачем мы их копируем.
Философ. Ну и зачем же вы их копируете?
Актер. Чтобы наполнить души людей страстями и чувствами, чтобы вырвать их из буден и повседневности. Жизненные события, если можно так сказать, — это подмостки, на которых мы показываем наше искусство, — трамплин, которым мы пользуемся.
Философ. Вот именно.
Завлит. Твое «вот именно» совсем мне не нравится. По-моему, чувства и страсти, которыми мы готовы наполнить твою душу, нисколько тебе не нужны. Ты ведь ни единым словом не упомянул об этом, когда объяснял, с какой целью пришел в наш театр.
Философ. Признаюсь, это действительно так. Мне очень жаль. Ваше здоровье!
282 Завлит. Откровенно говоря, я предпочел бы выпить за твое здоровье. Ведь мы же, собственно, собирались потолковать о том, каким образом наше искусство могло бы удовлетворить твои желания, а не о том, в какой мере оно удовлетворяет нас.
Актер. Неужто он станет возражать против того, чтобы мы слегка потревожили его ленивую душу? Хорошо, пусть его больше занимает то, что мы изображаем — эти самые «события», — чем наше искусство, но как нам изобразить для него эти события, не мобилизуя наших чувств и страстей? Да он первый, не мешкая, сбежал бы от нас, покажи мы ему бесстрастную игру. Впрочем, бесстрастной игры вообще не бывает. Всякое событие волнует нас, если, конечно, в нас не умерли чувства.
Философ. О, я ничего не имею против чувств. Я согласен, что чувства необходимы для создания копий, изображений жизненных событий, и что эти копии в свою очередь должны возбуждать чувства. Вопрос для меня в другом, в том, как ваши чувства, и в особенности старание возбудить те же чувства у зрителей, отражаются на этих копиях. К сожалению, я вынужден повторить, что больше всего меня занимают события действительной жизни. А потому я хотел бы еще раз подчеркнуть, что в этом доме, полном хитроумных и жутковатых орудий, я чувствую себя чужаком, посторонним, вторгшимся сюда не для того, чтобы испытать удовольствие, и, более того, даже готовым вызвать ваше неудовольствие, поскольку меня привел к вам интерес совершенно особого рода, специфичность которого трудно переоценить. Сам я столь властно ощущаю эту специфичность моего интереса, что могу сравнить себя разве лишь с человеком, который пришел к артистам музыкальной капеллы как скупщик меди, помышляя не о приобретении трубы, а лишь о покупке меди. Труба, на которой играет трубач, сделана из меди, но вряд ли он захочет продать ее просто как медь, по стоимости металла, на вес. Вот так же и я пришел к вам в поисках занимающих меня событий из жизни людей, которые вы здесь кое-как изображаете, хотя вы и создаете эти изображения отнюдь не с целью удовлетворить мои запросы. Короче: мне нужны для некоторых целей копии событий человеческой жизни. 283 Прослышав, будто вы изготовляете подобные копии, я хотел бы узнать, смогу ли я ими воспользоваться.
Завлит. В какой-то мере я и впрямь начинаю ощущать смутное неудовольствие, которого, как говоришь, ты ожидал. Копии, которые мы здесь, — пользуясь твоим несколько казенным выражением, — изготовляем, это, конечно, изображения особого рода, коль скоро они преследуют особую цель. Кое-что об этом сказано еще в «Поэтике» Аристотеля. Аристотель говорит, что трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем, при помощи речи, в каждой из своих частей различно украшенное, но не рассказанное, а показанное действующими лицами, совершающее благодаря страху и состраданию очищение подобных аффектов. Речь идет, таким образом, об изображении твоих излюбленных жизненных событий, и эти изображения должны оказывать определенное воздействие на души людей. Театр претерпел немало изменений с тех пор, как Аристотель написал эти слова, но принцип оставался незыблем. Очевидно, вздумай театр изменить этому принципу, — он перестал бы быть театром.
Философ. Ты хочешь сказать, что ваши изображения неотделимы от целей, которые вы преследуете, создавая их?
Завлит. Да, неотделимы.
Философ. Но мне нужны изображения событий жизни для моих собственных целей. Как же нам теперь быть?
Завлит. Оторванные от своего назначения, эти изображения уже не имели бы ничего общего с театром.
Философ. Признаться, последнее для меня не столь существенно. То, что при этом получится, мы могли бы назвать иначе, например: «таетр». (Все смеются.) Или вот что: а почему бы мне попросту не пригласить вас, артистов, выполнить для меня одну неартистическую работу. Поскольку нигде больше мне не найти умельцев, поднаторевших в изображении людей и их поступков, я приглашаю вас выполнить мой заказ.
Завлит. Что же это за таинственный заказ?
Философ (со смехом). О, я едва решаюсь открыть вам мои замыслы. Наверно, они покажутся вам чрезвычайно банальными и прозаичными. Я подумал, а нельзя ли использовать ваши копии для сугубо практической цели, 284 попросту для того, чтобы определить наилучшую линию поведения в жизни? Понимаете ли, можно было бы исследовать их, как поступает, например, физика (имеющая дело с механическими частицами), и затем выработать на этой основе наилучший технический метод.
Завлит. Значит, ты преследуешь научные цели! Это и впрямь ничего общего не имеет с искусством.
Философ (поспешно). Конечно, нет. Потому-то я и хочу назвать это просто «таетром».
Завлит. Хорошо. Попытаемся следовать за нитью твоих рассуждений. Что-нибудь от этого нам, пожалуй, тоже перепадет. Может быть, идя этим необычным путем, мы получим хоть какие-то указания насчет того, как нам «изготовлять» хорошие копии, что для нас всего важнее, ведь по опыту мы знаем, насколько сильнее воздействие наших изображений, когда то, что мы изображаем, правдоподобно. Кто стал бы жалеть ревнивую женщину, если бы мы вздумали уверять, будто муж изменяет ей с ее собственной бабушкой?
Философ. Коль скоро я подрядил вас выполнить мой заказ, вы можете искать собственной выгоды лишь при условии, чтобы я не понес при этом ущерба. Прежде всего мне необходимо всерьез исследовать ваш метод работы и определить, каким изменениям его надо подвергнуть, чтобы я мог получить нужные мне изображения.
Завлит. Может, при этом ты даже убедишься, что наши изображения не столь уж непригодны для твоих целей, хотя мы и «изготовляем» их по старинке. В самом деле, почему бы в наших театрах зрителю не получать также практический урок?
Философ. Вы должны знать: меня снедает неутолимое любопытство ко всему, что связано с человеком, я никогда не устаю видеть и слышать людей. Я хочу знать, как они обходятся друг с другом, враждуют и дружат, продают лук, замышляют военные походы, заключают браки, шьют шерстяные костюмы, пускают в оборот фальшивые деньги, копают картошку, наблюдают звезды, как они обманывают, выбирают, поучают, эксплуатируют, оценивают, калечат и поддерживают друг друга, как они проводят собрания, основывают союзы, интригуют. Мне всегда хочется знать, как возникают и чем 285 завершаются их начинания. Я стремлюсь отыскать во всем этом определенные закономерности, которые позволят мне предвидеть то, что должно совершиться. Я часто задумываюсь над тем, как мне держаться в жизни, чтобы выжить и добыть для себя побольше счастья, а это, естественно, зависит также от того, как станут вести себя другие люди. И потому их поведение также чрезвычайно меня занимает, как и возможность оказать на них какое-либо влияние.
Завлит. Надеюсь, у нас ты найдешь чем поживиться.
Философ. И да, и нет. Должен признаться, что как раз потому я и хотел с вами потолковать. Мне у вас как-то не по себе.
Завлит. Почему? Разве тебе мало того, что мы показываем?
Философ. С меня вполне хватит. Не в том дело.
Завлит. Может быть, ты находишь, что мы неверно изображаем то или другое?
Философ. И это есть, но вместе с тем я нахожу, что многое вы изображаете верно. Полагаю, все дело в том, что в вашем театре мне трудно отличить верное от неверного. Я не все еще сказал о себе. А у меня, кроме любопытства, есть еще одна страсть: во мне сидит дух противоречия. Люблю тщательно взвешивать все, что вижу, и, как говорится, подбавлять ложку дегтя в бочку меда. Меня все время одолевает задорный бес сомнения. Подобно тому как иной бедняк десять раз перевернет в руке монету, так и я привык неустанно взвешивать и рассматривать со всех сторон человеческие слова и поступки. Вы же не оставляете места для этих моих сомнений, в том-то все и дело.
Актер. Вот это критика!
Философ. Гм. Может, я наступил кому-нибудь на мозоль?
Завлит. Мы ничего не имеем против разумной критики. Мы редко слышим ее.
Актер. Не тревожься. Я все понимаю: без критики так или иначе не обойтись.
Философ. Как вижу, вы не в восторге от моих страстей. Но заверяю вас: у меня и в мыслях не было как-то принизить ваше искусство. Я только пытался объяснить 286 вам тревогу, которую я испытываю в ваших театрах и которая лишает меня значительной доли удовольствия.
Актер. Надеюсь, ты все же пробовал искать причину своей тревоги в себе самом, а не только в нас одних?
Философ. Конечно. Могу представить вам на этот счет удовлетворительные объяснения. Но для начала я хотел бы успокоить вас: я сейчас не намерен касаться того, как вы изображаете разные события, иными словами, верно или неверно вы их изображаете, а займусь прежде всего самими событиями, которые вы копируете. Например, вы умело изобразите на сцене убийство. Моя страсть к критике заставит меня в этом случае исследовать само убийство и детали его осуществления, с точки зрения их целесообразности, изящества, оригинальности и так далее.
Завлит. И что же, ты не можешь проделать это у нас?
Философ. Нет. Вы не даете мне этого сделать. Виной тому — метод, с помощью которого вы создаете ваши изображения — особенно лучшие из них — а также способ их подачи. Одно время я посещал спектакли под открытым небом и во время представления курил. Положение, в котором сидит курящий138, как вы знаете, очень удобно для наблюдения. Откинувшись назад, ты думаешь о своем, отдыхаешь, наслаждаешься зрелищем со своего укромного местечка, лишь наполовину захваченный действием.
Завлит. Ну и как, лучше тебе там было?
Философ. Нет, у меня погасла сигарета.
Актер. Прекрасно! Вдвойне прекрасно! Молодчина тот актер, который сумел увлечь тебя своей игрой, и молодчина ты сам, что оказался человеком, а не сушеной воблой!
Философ. Стойте! Я вынужден протестовать. Я не получил того, что искал. Опыт не удался.
Актер. К счастью, милейший, к счастью!
Философ. Но я не удовлетворен.
Актер. Сказать тебе, чего бы ты хотел? Чтобы те парни не владели своим ремеслом и играли совсем отвратно.
Философ. Боюсь, что это так.
Завлит. Что значит — боишься?
287 Философ. Ну разве это не ужасно: чем лучше вы играете, тем меньше меня это устраивает? Тут есть от чего прийти в отчаяние.
Завлит (Актеру). Перестань все время снисходительно похлопывать его по плечу! Мне случалось видеть, как люди из-за одного этого ополчались против самых разумных доводов.
Философ. Это верно, ты и правда порядочный тиран. И со сцены мне тоже беспрерывно что-то навязывают. Мне то и дело приходится плясать под твою дудку, и мне не оставляют даже времени подумать, хочу я плясать или нет.
Завлит. Вот видишь, теперь ему уже кажется, будто мы даже со сцены похлопываем его по плечу! Что я тебе говорил?
Философ. А может, в этом и впрямь что-то есть? Поразмыслите! Зритель говорит вам, что он чувствует, как его похлопывают по плечу! Вы видите его насквозь, вы понимаете его лучше, чем он сам себя понимает, уличаете его в тайных пороках и служите им! Разве это не отвратительно?
Актер. Знаешь что, хватит! Когда злишься, — невозможно спорить. Я уже и руки в карманы спрятал.
Философ. А почем я знаю, что ты вообще намерен спорить, независимо от того, злишься ты или нет? Во всяком случае, на сцене ты никакого спора не допускаешь. Ты пробуждаешь самые различные страсти, кроме охоты к спорам. Ты даже тогда не склонен удовлетворять эту страсть, когда она налицо.
Завлит. Не надо сразу возражать ему. Он дело говорит.
Актер. Подумаешь, дело! Он все толкует о собственном деле.
Актер. Оказать по чести, я больше не могу считать его философом.
Завлит. Уж это ты должен обосновать.
Актер. Философ размышляет о том, что дано. Дано искусство. Над этим он, значит, и принимается размышлять. А для искусства характерно то-то и то-то, и философ, если сможет, если у него варит котелок, объяснит, почему это так. Вот тогда он настоящий философ.
288 Философ. Ты совершенно прав. Бывают такие философы. И такое искусство тоже бывает.
Актер. Какое искусство?
Философ. Такое, для которого характерно то-то и то-то, — и баста.
Актер. Вот как, есть, значит, и другое искусство? О котором нельзя сказать, что для него характерно то-то и то-то, которого, значит, не существует?
Философ. Погоди, уж слишком ты привык торопиться. А ты пораскинь мозгами.
Актер. Хорошо, я раскину мозгами. (Становится в позу.) Так, кажется, это делается?
Философ (щиплет его за икры). Нет, мышцы надо расслабить. Так вот — я положу начало нашим раздумьям, сделав следующее признание. Я философ, у которого недостаточно варит котелок, чтобы философствовать так, как ты только что описал.
Актер. Вот тебе моя грудь, можешь припасть к ней и выплакаться всласть.
Философ. Откровенно говоря, мне больше по вкусу грудь нашей приятельницы, и, вообще, я скорей предпочел бы смеяться, чем рыдать. Что же касается вопроса о философах и «котелках», то с тех пор, как одни философы принялись совершать открытия в мире природы, другие — век за веком — задумывались над тем, достаточно ли варят у них «котелки», чтобы проникнуть в смысл определенных утверждений церкви и земных властей и опровергнуть их. Утверждения же сводились к тому, что все сущее хорошо и законно. Философы изнемогали под бременем критики разума. У них и вправду туго варил «котелок» или, быть может, тот всамделишный котелок, что стоял у них в печи, и впрямь был слишком пуст, чтобы у них достало сил бороться с таким могущественным учреждением, как церковь. Что же до меня, то я размышляю над тем, как бы вообще сделать так, чтобы не было больше пустых котелков.
Актер (со смехом). Когда я говорил о котелке, я, понятно, имел в виду разум, а не пищу.
Философ. О, все это тесно связано: чем больше в котелке, тем лучше варит «котелок»139.
289 ФРАГМЕНТЫ К ПЕРВОЙ НОЧИ
НАТУРАЛИЗМ140
Философ. Поскольку я столь же непоследователен, как и вы, и, порывая с бесстрастностью, устремляюсь в суету, я тоже порой заглядываю в эти опиумные лавки141. Там я обретаю частью забвение, частью — новый интерес к жизни. Потому что по вечерам в душе у меня царит такое же смятение, как и в городе, в котором я живу.
Актер. Черт побери, почему вы так боитесь дурмана? А если вы его боитесь, то как вы терпите искусство? Самый жалкий, самый никчемный обыватель становится своего рода художником, как только выпьет. У него пробуждается фантазия. Рушатся стены его комнаты или пивной, в особенности та, четвертая стена, о которой мы здесь говорили. У него появляются зрители, и он начинает «представлять». Грузчик швыряет оземь тюки, которые на него навьючили, а подчиненный игнорирует своего начальника, потому что в эту минуту он бунтарь. Он посмеивается над десятью заповедями, лезет под юбку самой добродетели. Он философствует, иногда даже плачет. Чаще всего он вдруг начинает жаждать справедливости и впадает в ярость из-за дел, не имеющих к нему прямого касательства. Во всем, что враждебно ему, он подмечает смешное. И он становится выше всего этого — пока его носят ноги. Короче, он во всех отношениях становится человечнее и демонстрирует это.
Завлит. Натуралистические представления возбуждают у людей иллюзию, будто они находятся в каком-то реальном месте.
Актер. Увидев комнату, зрители как бы ощущают аромат вишневого сада за домом, а заглянув во внутренность 290 корабля, они чувствуют, как снаружи бушует шторм.
Завлит. То, что речь шла только об иллюзии, яснее проступало в натуралистических пьесах, чем в натуралистических спектаклях. Авторы натуралистических пьес, естественно, так же тщательно разрабатывали эпизоды, как и драматурги-ненатуралисты. Они прилаживали их друг к другу, что-то выбрасывали, устраивали встречи персонажей в самых невероятных местах, упрощали одни эпизоды, усложняли другие и так далее. Они поворачивали вспять, как только возникала угроза, что будет разрушена иллюзия реальности.
Актер. Ты хочешь сказать, что разница здесь лишь — количественная и зависит от степени реалистичности изображения? Но ведь эта разница определяет все.
Завлит. Я думаю, что разница здесь — в степени иллюзии, убежденности зрителя, что перед ним — реальная жизнь, и, на мой взгляд, выгоднее пожертвовать этой иллюзией, если взамен можно получить изображение, лучше раскрывающее реальность.
Актер. Изображение, которое создавалось бы путем разработки, сочетания, сокращения и сращивания эпизодов без всякой заботы о сохранении иллюзии реальности?
Философ. Бэкон142 сказал: природа ярче проявляется там, где ее теснит искусство, чем там, где она предоставлена самой себе.
Актер. Надеюсь, вы понимаете, что тогда мы будем иметь дело с одними лишь воззрениями авторов пьес на природу, а уже не с самой природой?
Завлит. А ты, надеюсь, понимаешь, что в натуралистических пьесах мы также сталкивались с одними лишь воззрениями их авторов? Первые произведения натуралистической драматургии143 (Гауптман, Ибсен, Толстой, Стриндберг) с полным основанием клеймили как тенденциозное искусство.
Завлит. Главное место в творчестве Станиславского, который, кстати, много экспериментировал и ставил также фантастические пьесы144, занимают работы его натуралистического периода. О его работах можно и нужно говорить постольку, поскольку, как это принято у русских, 291 многие из его постановок идут без каких-либо изменений уже более тридцати лет145, хотя в этих спектаклях играют уже совершенно другие актеры. Так вот, его натуралистические работы представляют собой филигранные картины общества. Их можно сравнить разве что с комьями земли, добытыми лопатой из глубинных пластов и взятыми естествоиспытателем на исследование в лабораторию. Действие в этих пьесах сведено к минимуму, зато время щедро отведено показу нравов, исследуется духовная жизнь отдельных лиц, но и социологам тут есть чем поживиться. Когда Станиславский был в расцвете сил, произошла революция. К его театру отнеслись с величайшим уважением. Спустя двадцать лет после революции в театре, точно в музее, еще можно было наблюдать образ жизни тех слоев общества, которые уже давно исчезли из поля зрения.
Философ. Почему ты заговорил о социологах? Неужто только они, а не все зрители этого театра, могли создать себе представление о структуре общества?
Завлит. Думаю, что все могли это сделать. Он же был не ученым, а художником, одним из величайших художников своего времени.
Философ. Понятно.
Завлит. Он стремился к естественности, и потому все, что выходило из-под его рук, казалось слишком естественным, чтобы кто-то задался целью специально это исследовать. Ведь ты же, например, не станешь изучать собственную квартиру или собственные обеденные привычки, верно я говорю? И все же я утверждаю и советую тебе поразмыслить над этим: его работы имеют историческую ценность, хотя он и не был историком.
Философ. Да, надо полагать, для историков они и впрямь имеют историческую ценность.
Завлит. Судя по всему, его творчество тебя не интересует.
Философ. Нет, почему же, наверно, оно полезно во многих общественных аспектах, да только навряд ли с точки зрения изучения общества, хотя, вероятно, его можно было бы нацелить и на эту задачу. Вы же сами знаете: если человек уронил камень, это еще не значит, что он отобразил закон земного притяжения, это в равной мере относится к человеку, давшему точное описание 292 падения камня. Вероятно, о нем можно оказать, что его свидетельство не противоречит истине, но нам, во всяком случае, мне, требуется нечто большее. Кажется, будто он, подобно самой природе, взывает к нам: расспросите меня! Но, подобно той же природе, он не замедлит воздвигнуть перед вопрошающим величайшие препятствия. И уж, конечно, ему не сравниться с самой природой. Слепок, механически снятый с предмета для множества целей, не может отличаться точностью. Самые любопытные следы в нем безусловно «смазаны», да и весь слепок наверняка исполнен весьма поверхностно. Подобные слепки обычно ставят исследователя в такое же затруднительное положение, как и цветы, «в точности» срисованные с натуры. Увеличительные стекла, а равно и все остальные лабораторные инструменты никак не помогают исследовать эти копии. Так обстоит дело с их ценностью как объектов исследования. Точно так же и в искусстве перед социологом скорее предстают суждения об общественных отношениях, чем сами отношения. Но главный вывод из сказанного для нас состоит в том, что данный род искусства нуждается в услугах социологов, чтобы сделать хоть какие-то шаги в интересующей нас области.
Завлит. И все же творения натуралистов также порождали общественные импульсы. Они заставляли зрителя ощутить нестерпимость многих явлений, которые и в самом деле были невыносимы. Театр клеймил систему обучения в государственных школах, закабаление женщины, лицемерие в вопросах пола и многое другое.
Философ. Рад это слышать. Общественный интерес, которым вдохновлялся театр, наверно, привлек к нему значительный интерес общества.
Завлит. Странным образом, театр немногое выиграл своим подвижничеством. Отдельные непорядки устранялись, чаще же просто оттеснялись на задний план другими, более существенными. Содержание пьес быстро изнашивалось, и изображение жизни в них часто оказывалось слишком поверхностным. А скольким для этого пожертвовал театр: он утратил всю свою поэтичность и отчасти даже развлекательность. Его образы стали схематичными, сюжет — банальным. Художественное воздействие театра было не больше общественного. Из всех 293 работ Станиславского дольше всего сохранились и оказались более действенными в художественном отношении и, откровенно говоря, более значительными в социальном плане те, которые представлялись наименее актуальными и наиболее описательными. Но и в них не было ни великих характеров, ни великой фабулы, которые могли бы сравниться с характерами и фабулой древности.
Завлит. Натурализм не смог долго держаться на поверхности. Политики корили его за схематизм, художникам он казался скучен. Тогда он превратился в реализм. Реализм менее натуралистичен, чем натурализм, хотя натурализм и слывет не менее реалистичным, чем реализм. Реализм не дает точной картины действительности, иными словами, он избегает доподлинной передачи диалогов, которые случаются в быту, и не стремится непременно к тому, чтобы его безоговорочно смешивали с жизнью. Зато он старается глубже отобразить действительность.
Философ. Строго между нами: он ни рыба ни мясо146. Это просто ненатуральный натурализм. Когда критиков спрашивают, какие произведения они считают шедеврами реализма, они всегда называют пьесы натуралистов. Когда же указываешь им на это, они ссылаются на известную вольность драматургов, на допущенное ими оформление «действительности», на смещение углов при «отображении» и т. д. Это свидетельствует лишь о том, что натурализм никогда не давал доподлинного отображения жизни, а лишь делал вид, будто дает его. С натуралистами получалось так: тому, кто посещал их спектакли, скоро начинало казаться, будто он очутился на фабрике или же в помещичьем имении. Действительность обозревалась и ощущалась здесь в такой же мере, как в самом изображаемом месте, то есть крайне скудно. Здесь разве что можно было почувствовать глухое недовольство, в лучшем случае — стать свидетелем неожиданного взрыва, получив, таким образом, не больше того, что можно увидеть за стенами театра. Потому-то натуралисты обычно вводили в свои пьесы так называемого резонера, то есть действующее лицо, высказывающее взгляды драматурга. Резонер был замаскированным, натурализированным хором. Иногда эту роль брал на себя главный 294 герой. Он видел и чувствовал особенно «глубоко», словно был осведомлен о тайных замыслах драматурга. Вживаясь в него, зритель мнил себя «покорителем жизни». Чтобы зритель мог вжиться в героя, тот должен был представлять собой довольно схематическую фигуру с минимальным числом индивидуальных черт, способную «подключить» возможно больший круг зрителей. Эта фигура, следовательно, не могла не быть нереалистичной. Пьесы с подобными героями впоследствии стали называть реалистическими, потому что от этих героев все же можно было кое-что узнать о реальности, пусть нереалистическим способом.
ВЖИВАНИЕ
Завлит. Мы говорили о копиях. Натуралистические копии вели к критике действительности.
Философ. К немощной критике.
Завлит. А каким способом можно вызвать мощную критику?
Философ. Ваши натуралистические копии были скверно исполнены. Отображая жизнь, вы избрали для себя точку зрения, не допускающую настоящей критики. Зритель вживался в вас и устраивался в этом мире как мог. Вы оставались такими, как были, и мир тоже оставался таким, как был.
Завлит. Не станешь же ты утверждать, будто мы никогда не сталкивались с критикой. Какие провалы были у нас, какие срывы!
Философ. Вы сталкиваетесь с критикой, когда вам не удается вызвать у зрителя иллюзию. Вы оказываетесь в положении гипнотизера, которому не удалось загипнотизировать клиента. И тот принимается критиковать яблоко, которое на самом деле — лимон!
Завлит. А ты считаешь, что лучше бы ему критиковать лимон?
Философ. Вот именно. Но тогда лимон должен быть лимоном.
Философ. Но даже если зритель с помощью своих мыслей или чувств сможет вжиться в образ героя, это не значит, что он получит в руки способ совладать с 295 действительностью. Разве я стану Наполеоном только оттого, что вживусь в его образ?
Актер. Нет, но ты будешь мнить себя Наполеоном!
Завлит. Понятно, вы и от реализма тоже хотите отказаться.
Философ. По-моему, об этом не было речи. Все дело только в одном: то, что вы называли реализмом, по всей вероятности, вовсе не было реализмом. Простое фотографическое отражение действительности было объявлено реализмом. Если исходить из этого определения, то натурализм реалистичнее так называемого реализма. Но затем был привлечен новый элемент — организация действительности. Этот элемент подорвал натурализм, которым прежде довольствовались, называя его реализмом.
Завлит. В чем же корень зла?
Философ. Образ, в который зрителю предлагают вжиться, не может быть подан реалистически без того, чтобы не нарушить сам процесс вживания. При реалистической подаче образа он должен изменяться вместе с жизненными событиями, что делает его слишком неустойчивым для вживания, к тому же неизбежно приходится ограничивать его кругозор, что ведет к ограничению кругозора зрителей.
Завлит. Выходит, реализм в театре вообще невозможен!
Философ. Этого я не говорил. Трудность вот в чем: узнавание реальности, показанной в театре, составляет лишь одну из целей истинного реализма. Реальность должна быть также осознана. Должны стать очевидны законы, управляющие течением жизненных процессов. Эти законы не видны на фотографиях. Но их невозможно заметить и в том случае, если зритель воспользуется глазами или душой лишь одного из действующих лиц, участвующих в изображаемых процессах.
Завлит. Наверно, все, что мы здесь совершаем, ты воспринимаешь как пляску варваров, исповедующих какой-то таинственный и непотребный культ, как шарлатанство, черную магию, колдовство?
Актер. Так, значит, Нора147 — это колдовство? Благородная Антигона148 — непотребство! Гамлет — шарлатанство! Вот это мне нравится!
296 Философ. Очевидно, я ошибся. Готов это признать.
Актер. Да еще как, приятель!
Философ. Может, это оттого, что я принял на веру ваши слова, не смекнув, что ваша терминология — просто шутка.
Завлит. Какой подвох опять кроется за этим? Что еще за терминология?
Философ. Вы говорили, что вы «слуги Слова», ваше искусство — «храм», в котором зритель должен сидеть как «завороженный», что в ваших представлениях есть «что-то божественное», и так далее и тому подобное. Я и впрямь поверил, будто вы стремитесь сберечь древний культ.
За в лит. Это же просто слова! Они только подчеркивают серьезность нашего отношения к делу.
Актер. Мы отгораживаемся ими от рыночной сутолоки, от низменного развлекательства.
Философ. Конечно, я вряд ли впал бы в подобное заблуждение, если бы и в самом деле не видел в ваших театрах «завороженных» зрителей. Возьмите сегодняшний вечер! Когда твой Лир проклинал своих дочерей, какой-то лысый господин рядом со мной принялся так ненатурально сопеть, что я диву давался, почему и у него не выступила на губах пена, коль скоро он полностью вжился в то состояние ярости, которое ты так великолепно изобразил!
Актриса. Нашему актеру случалось играть и получше!
Завлит. Когда драматурги начали писать длинные строгие пьесы, наделяя героев сложными душевными переживаниями, а оптики стали поставлять хорошие стекла, произошел бурный подъем мимики. Отныне многое читалось по лицам, они стали зеркалами души, и потому их лучше было держать в неподвижности, вследствие чего пришел в упадок жест. Признавались одни чувства, тела же рассматривались лишь как вместилища душ. Мимика изменялась от вечера к вечеру, гарантировать ее устойчивость было невозможно, слишком многим влияниям она поддавалась. Но еще хуже дело обстояло с жестом, он едва ли не был низведен до уровня жестикуляции оркестрантов, которые волей-неволей производят 297 за игрой определенные движения. Актеры импровизировали или по меньшей мере пытались создать подобное впечатление. Русская школа149 разработала специальные упражнения, которые должны были помочь актеру на протяжении всей пьесы поддерживать в себе вдохновение, способствующее импровизации. И все же актеры запоминали те или иные интонации, раз удавшиеся им, и «оправдывали» их, то есть обосновывали различными доводами, анализировали, характеризовали.
Актер. Система Станиславского стремится к тому, чтобы показывать на сцене жизненную правду.
Философ. Да, я слыхал об этом. Те копии, которые я видел, разочаровали меня.
Актер. Может, то были плохие копии.
Философ. Судите сами! У меня создалось впечатление, будто дело, собственно, шло о том, чтобы придать изображениям наибольшую степень правдоподобия.
Актер. До чего опротивело мне морализирование! Подставлять зеркало сильным мира сего! Да они же с великим удовольствием разглядывают свое изображение! Как однажды заметил некий физик еще в семнадцатом веке, можно подумать, будто убийцы, воры и мошенники только потому убивают, воруют и мошенничают, что не подозревают, как это отвратительно! А угнетенных со сцены просто молят, чтобы они, бога ради наконец сжалились над собой! Эдакое кисленькое варево из слез и пота! Общественные уборные слишком малы, в приютах для бедноты дымят печи, министры заимели акции военных заводов, а священники — половые органы! И против всего этого я должен ополчаться!
Актриса. Я пятьдесят раз играла жену директора банка150, которую ее супруг превратил в игрушку. Я ратовала за то, чтобы и женщинам тоже было дано право выбирать себе профессию и участвовать во всеобщей погоне за добычей, то ли как охотник, то ли как дичь, то ли как то и другое одновременно. На последних спектаклях я вынуждена была напиваться, — а не то слова не шли у меня с языка.
Актер. В другой пьесе, заняв у собственного шофера штаны, принадлежавшие его безработному брату, 298 я обращался к пролетариям с эффектными речами. Даже облаченный в кафтан самого Натана Мудрого151, я не сиял таким благородством, как в тот миг, когда я натянул те штаны. Раз за разом я провозглашал, что все колеса замрут152, если того захочет могучая рука пролетариата. Как раз в то время миллионы рабочих скитались без работы. И колеса стояли, хотя могучая рука пролетариата нисколько этого не хотела.
О НЕВЕЖЕСТВЕ
Из «Речи философа о невежестве», обращенной к работникам театра
Философ. Да будет мне позволено сказать, что причины страданий и бед неизвестны очень многим из тех, кто страдает и терпит беды. Вместе с тем они известны уже довольно значительному числу людей. Многим из числа этих последних известны также методы угнетения. Однако лишь очень немногие знают, как устранить угнетателей. Устранение угнетателей станет возможным лишь тогда, когда достаточное число людей будет знакомо с истоками своих страданий и бед, а также с доподлинными методами и средствами устранения мучителей. Следовательно, очень важно сообщать эти знания возможно большему числу людей. А это нелегко, как бы вы ни подошли к этой задаче. Сегодня я хотел бы поговорить с вами, работниками театра, о том, что вы могли бы сделать для этого.
Философ. Для всех нас характерны весьма смутные представления о том, к чему ведут наши поступки, сплошь и рядом мы и сами не знаем, ради чего мы их совершаем. Наука чрезвычайно вяло борется с предрассудками в этой области. В качестве главных побудительных причин того или иного поступка всегда называют такие спорные мотивы, как алчность, честолюбие, гнев, ревность, трусость и так далее. Когда мы оглядываемся на содеянное, нам кажется, что ему предшествовали определенные расчеты, известная оценка нашего тогдашнего положения, какие-то планы, учет препятствий, находившихся за пределами нашей сферы влияния. В действительности 299 мы вовсе не производили подобных расчетов, просто наши тогдашние поступки заставляют нас полагать, что такие расчеты были. Мы лишь смутно ощущаем, что каждое наше решение зависит от очень многих обстоятельств. Мы чувствуем, что каким-то образом все связано между собой, но какова эта связь, мы не знаем. Так толпа узнает о ценах на хлеб, об объявлении войны, о наступлении безработицы, равно как и о стихийных бедствиях, о землетрясении или наводнении. Долгое время казалось, что стихийные бедствия затрагивают лишь какую-то часть людей или же нарушают лишь какую-то часть привычек всех и каждого. Только позднее стало очевидно, что обыденная жизнь ныне вообще утратила обыденность, и это равно касается всех людей. Что-то было упущено, в чем-то совершена ошибка. Нависла угроза над широкими слоями людей, но эти широкие слои не поспешили объединиться для защиты своих интересов.
Философ. Люди плохо знают самих себя, и в этом причина того, что они извлекают столь мало пользы из своих знаний о природе. Они знают, почему брошенный камень падает на землю так, а не иначе, но отчего человек, бросающий камень, поступает именно так, а не иначе, — этого они не знают. И потому они умеют справляться с землетрясениями, но не ведают, как подойти к себе подобным. Всякий раз, когда я отплываю с этого острова, я страшусь, как бы корабль не попал в бурю и не затонул. Но в действительности я страшусь не моря, а тех, кто маг бы вытащить меня из волн.
Философ. Поскольку современный человек живет в крупных коллективах и во всем зависит от них, причем каждый живет одновременно в нескольких коллективах, то чего бы он ни добивался, ему всегда приходится идти долгим кружным путем. Может показаться, будто от его собственных решений уже ничего не зависит. В действительности же просто становится все труднее принимать решения.
Философ. Древние усматривали цель трагедии в том, чтобы возбуждать страх и сострадание. И теперь 300 это была бы достойная цель, если бы только под страхом понимали страх перед людьми, а под состраданием — сострадание к людям. Театр таким образом помогал бы устранить те условия в человеческом обществе, из-за которых людям приходится бояться друг друга или испытывать друг к другу сострадание. Потому что ныне судьбой человека управляет человек.
Философ. На первый взгляд, истоки очень многих трагедий лежат вне пределов досягаемости тех, на кого эти трагедии обрушиваются.
Завлит. На первый взгляд?
Философ. Конечно, только на первый взгляд. Ничто человеческое не может лежать за пределами досягаемости человека, и трагедии эти порождены людьми.
Завлит. Пусть так, театру от этого не легче. Прежде противники сталкивались друг с другом на сцене. А как это сделать сейчас? Человек, находящийся в Чикаго, может привести в движение аппарат, который в Ирландии с равным успехом раздавит и десять, и десять тысяч человек.
Философ. Значит, этот аппарат достиг Ирландии. Столкнуть противников на сцене, как и прежде, вполне возможно. Правда, для этого нужны серьезные изменения в технике. Многие человеческие свойства и страсти, которым прежде придавалось большее значение, теперь утратили его. Но зато их место заняли другие. Как бы то ни было, чтобы хоть что-то понять, необходимо перевести взгляд с единичных людей на крупные противоборствующие коллективы.
Философ. Для поучения зрителей недостаточно того или другого события, увиденного на сцене. Увидеть — еще не значит понять.
Завлит. Ты что же, хотел бы еще получить комментарий?
Философ. Да, или хоть какой-нибудь комментирующий элемент в спектакле.
Завлит. А почему бы не учиться на переживаниях? Ведь в театре не только смотрят, но и сопереживают. Может ли быть лучшая наука?
301 Философ. Если так, нам следовало бы рассмотреть, как люди учатся на сопереживании при отсутствии какого бы то ни было комментирующего элемента. Прежде всего существует ряд факторов, препятствующих такому обучению и, следовательно, поумнению в результате сопереживания, например, когда определенные изменения в ситуации происходят слишком медленно, как говорится, подспудно. Или же, если внимание зрителя отвлечено другими событиями, разыгрывающимися одновременно с первым. А также если зритель начинает искать причину совершившегося в событиях, не имеющих с ней ничего общего. Или, наконец, если сопереживающий зритель обременен серьезными предрассудками.
Завлит. А разве он не может освободиться от них под влиянием определенных переживаний?
Философ. Только если он успеет поразмыслить. А этому также могут помешать все те препятствия, о которых я говорил.
Завлит. Но разве самостоятельный опыт — не лучшая наука?
Философ. Сопереживание, которое дает театр, — это еще не самостоятельный опыт. Было бы ошибкой рассматривать каждое переживание как эксперимент и пытаться извлечь из него все те преимущества, которые может дать опыт. Между переживанием и опытом существует огромная разница.
Актер. Уж ты сделай мне одолжение — не разъясняй во всех подробностях эту разницу, мне все и так ясно.
Завлит. А как ты расцениваешь передачу непосредственных движений человеческой души? Например, когда отвратительные поступки вызывают отвращение или же когда в результате отвращения, вызванного сопереживанием, усиливается прежнее отвращение зрителя к чему бы то ни было?
Философ. Случай, когда отвратительные явления (в их сценическом отображении) вызывают отвращение, не относится к предмету нашего спора, поскольку, соответственно театральной практике, это отвращение властно и заразительно выражается на сцене одним из персонажей. Знакомы ли вам опыты физиолога Павлова с собаками?
302 Актер. Выкладывай! Наконец-то мы хоть услышим какие-то факты.
Философ. Разумеется, это только пример. Люди — не собаки, хотя, как вы скоро сами убедитесь, вы у себя в театре обращаетесь с ними именно как с собаками. Павлов бросал собакам мясо и одновременно звонил в колокольчик. Он измерил количество слюны, выделяемое собакой при виде мяса. Затем он стал звонить в колокольчик, уже не угощая собак мясом. Измерения показали, что и в данном случае у собак выделялась слюна. Слюна нужна собакам только для переваривания мяса, а никак не для того, чтобы слушать звон колокольчика, но все равно у животных выделялась слюна.
Завлит. Вывод?
Философ. Ваши зрители испытывают чрезвычайно сложные, разнообразные и насыщенные впечатления, которые можно сравнить с переживаниями павловских собак, в частности с кормлением под звон колокольчика. Допустим, что реакция, вызванная вашими усилиями, впоследствии проявится при таких жизненных обстоятельствах, которые будут включать лишь некоторые элементы из тех, что зритель наблюдал в вашем театре, возможно, как раз побочные элементы. А это означало бы, что вы искалечили этих людей, подобно тому как искалечил своих собак Павлов. Сказанное, естественно, относится и к самой жизни: даже переживая подлинные события, люди поддаются аналогичным заблуждениям: они учатся не тому, что нужно.
Актриса. Примадонна просит привести пример.
Философ. Многие обыватели реагируют на революции так, словно дело идет лишь о битье стекол в их лавках.
Завлит. В этом есть доля правды. Помню, однажды мы поставили пьесу о Коммуне. Там была сцена народного бунта. Сначала мы со всей реалистичностью показали, как взбунтовавшаяся толпа разрушает лавку. Но потом мы отказались от этого, потому что не хотели выставлять Коммуну врагом мелких торговцев. И картина народного бунта сразу утратила реалистичность.
Актер. Неудачный пример! Было бы достаточно показать, что лавочник не придает особого значения «побочному элементу».
303 Завлит. Чепуха! Ни один лавочник не смог бы вжиться в подобную ситуацию.
Философ. Боюсь, что ты прав. Нет, от таких реалистических штрихов вы должны отказываться.
ЧТО ЗАНИМАЕТ ФИЛОСОФА В ТЕАТРЕ
Завлит. Великий революционный драматург Дидро сказал153, что театр должен служить развлечению и поучению. Сдается мне, ты хочешь упразднить первое.
Философ. А вы упразднили второе. Ваше развлекательство утратило всякую поучительность. Но может быть, мои поучения обретут развлекательность?
Философ. Наука во всех областях изыскивает возможности для экспериментов или же наглядного отображения проблем. Изготовляют модели, отображающие движения созвездий; с помощью хитроумных приборов показывают взаимодействие газов. Экспериментируют также на людях. Однако здесь возможности опыта весьма ограничены. Потому я и подумал, нельзя ли для подобных опытов использовать ваше искусство изображения людей. Можно было бы воспроизвести такие события общественной жизни, которые нуждаются в объяснении, и, возможно, на основе этих пластических картин прийти к определенным практическим выводам.
Завлит. Я полагаю, что эти картины не должны избираться наугад. Надо же следовать какому-то направлению, отбирать события согласно какому-то принципу, делать хоть какие-то наметки. Как ты считаешь?
Философ. Существует теория общественной жизни людей. Это великое учение о причинах и следствиях в этой области. Оно-то и может дать нам соответствующую ориентацию.
Завлит. Ты, вероятно, имеешь в виду марксистское учение?
Философ. Да. Но я должен сделать оговорку. Это учение в первую голову освещает поведение широких 304 народных масс. Законы, выведенные этой теорией, относятся к действиям крупных людских коллективов. И если кое-что говорится также о положении единичного человека в системе подобных больших групп, то и это, как правило, распространяется лишь на взаимоотношения индивидуума с коллективом. Мы же, создавая наши картины, предпочтительно занимались взаимоотношениями единичных людей. Вместе с тем основные положения этого учения служат существенной подмогой также при оценке единичных людей, как, например, положение о том, что сознание людей определяется их общественным бытием, причем полагается само собой разумеющимся, что это общественное бытие переживает процесс непрерывного обновления, и вместе с ним беспрерывно меняется сознание. Многие устоявшиеся аксиомы ныне выбрасываются на свалку, как, например, «золото правит миром», «историю делают великие люди» или «дважды два — четыре». И никто не намерен заменять их другими, прямо противоположными им по смыслу, но столь же безапелляционными суждениями.
РАССУЖДЕНИЯ ФИЛОСОФА О МАРКСИЗМЕ
Философ. Важно, чтобы вы уяснили себе различие между марксизмом, рекомендующим определенный взгляд на жизнь, и тем, что принято называть мировоззрением. Марксистское учение выработало определенные методы познания действительности и столь же определенные критерии. Результатом этого явились те или иные оценки жизненных фактов, прогнозы и практические указания. Марксизм учит активному отношению к действительности в той мере, в какой последняя поддается общественному воздействию. Учение это критикует человеческую практику и принимает критику со стороны последней. Под мировоззрением же обычно понимают систематизированную картину мира, определенный комплекс представлений о том, что и как в нем совершается, чаще всего отражающий какой-либо гармонический идеал. Это различие, в существовании которого вы можете убедиться также и на других примерах, имеет для вас существенное значение потому, что ваши копии 305 жизненных событий ни в коем случае не должны превращаться в иллюстрации к каким-либо из многочисленных положений, выдвинутых марксистами. Вы все должны исследовать самостоятельно и привести собственные доказательства. Уяснение изображаемых вами событий осуществимо лишь с помощью других событий.
Завлит. Приведи пример!
Философ. Возьмем драму «Валленштейн», написанную немцем Шиллером. В этой пьесе генерал предает своего монарха. Драматург не доказывает с помощью сменяющих друг друга эпизодов, что предательство должно привести к моральному и физическому уничтожению предателя, он лишь исходит из этого предположения. Мир не может существовать на такой основе, как предательство, полагает Шиллер, но он никак этого не доказывает. Он и не мот бы этого доказать, — в противном случае мира давно не было бы и в помине. Он считает, что человеку тяжело жить в мире, где существует предательство. Но и этого он, разумеется, никак не доказывает.
Завлит. Как поступил бы марксист?
Философ. Он показал бы этот случай как явление историческое, причины и следствия которого связаны с условиями эпохи.
Завлит. А как же моральная сторона?
Философ. Моральную сторону он также раскрыл бы в историческом аспекте. Изучив полезность определенной системы моральных устоев в рамках определенного общественного строя и ее функционирование, он затем вскрыл бы это на примере событий, непрерывной чередой следующих друг за другом.
Завлит. Значит ли это, что он стал бы критиковать моральные устои Валленштейна?
Философ. Да.
Завлит. С каких позиций?
Философ. Разумеется, не с моральных.
Завлит. И все же мне представляется нелегким делом учиться этой новой театральной манере на старых пьесах, которые стремятся пробудить эмоции лишь с помощью скупых намеков, немногих упоминаний о действительности, 306 так же как и на образцах натуралистической драматургии. Может быть, нам лучше обратиться к подлинным случаям из судебной хроники и создать на их основе спектакль? Или же приспособить для сцены известные нам всем романы? Или еще: показывать исторические события — на манер карикатуристов — как повседневные происшествия?
Актер. Мы, актеры, полностью зависим от пьес, которые нас заставляют ставить. Нельзя же в самом деле представлять себе дело так, будто мы попросту наблюдаем какие-то из твоих событий, а затем изображаем их на сцене. Выходит, сначала нужно подождать, пока появятся новые пьесы, которые позволят играть так, как ты хочешь.
Философ. Это все равно, что ждать второго пришествия. Я предлагаю не заводить речи о самих пьесах, хотя бы до поры до времени. В общем ваши авторы выбирают такие случаи из жизни, которые и в жизни вызвали бы к себе достаточный интерес, и препарируют их так, что они со сцены производят определенное впечатление. Даже и тогда, когда они выдумывают, они выдумывают так — я не касаюсь здесь абсолютно фантастических пьес, — как будто эти события взяты из жизни. От вас же требуется только одно: как можно серьезнее относиться к самим событиям и как можно непринужденнее к их истолкованию автором пьесы. Вы можете частично опускать его интерпретацию, добавлять новое, короче, — обращаться с пьесой, как с сырьем. При этом я исхожу из того, что вы выбираете лишь такие пьесы, содержание которых представляет достаточный интерес для общества.
Актер. А как же быть со смыслом поэтического творения, со священным словом его творца, со стилем, атмосферой?
Философ. О, намерения писателя, на мой взгляд, представляют общественный интерес лишь в той мере, в какой они служат интересам общества. Пусть слово его будет священно, если оно дает верный ответ на запросы народа, стиль все равно зависит от вашего вкуса, атмосфера же должна быть чистой, будь то благодаря писателю или вопреки ему. Если он отражает интересы 307 народа и истину, следуйте за ним, если же нет — исправляйте его!
Завлит. Я спрашиваю себя: рассуждаешь ли ты как культурный человек?
Философ. Во всяком случае, надеюсь, как человек. Бывают времена, когда приходится выбирать, хочешь ли ты быть культурным человеком или просто человеком. И зачем нам следовать скверной привычке считать культурными людьми тех, кто умеет носить красивую одежду, а не тех, кто умеет ее изготовлять?
Актер. Разве вы не видите, что он опасается, как бы мы не приняли сознательное оскорбление за комплимент? Как вы думаете, что сказал бы художник Гоген154, если бы кто-либо стал разглядывать его картины, написанные на Таити, только из одного интереса к Таити, например, к торговле каучуком? Он был бы вправе ожидать, что можно интересоваться Гогеном или по крайней мере живописью как таковой.
Философ. Ну, а если кто-то интересуется Таити?
Актер. Пусть пользуется иными материалами, а не произведениями искусства, созданными Гогеном.
Философ. А что если нет другого материала? Представим себе, что наблюдателю необходимы не цифры, не сухие факты, а общее впечатление, например, он хочет знать, как там живется людям. Сама по себе торговля каучуком еще не в состоянии обусловить подлинного, глубокого и всестороннего интереса к такому острову, как Таити. Я же говорил вам, что я действительно, то есть глубоко и всесторонне, интересуюсь тем предметом, который вы отображаете у себя на сцене.
Завлит. Но Гоген — вовсе не тот «докладчик», который был бы нужен тому человеку. Он мало помог бы ему.
Философ. Возможно. Потому что он не ставил себе такой задачи. А все же мог бы он сделать подобный «доклад»?
Завлит. Возможно.
Актер. Если бы он принес в жертву интересы искусства!
Завлит. О, это совсем не обязательно! В принципе он мог бы даже как художник заинтересоваться задачей, 308 которую поставил бы перед ним наш друг. Я смутно вспоминаю, что Гольбейн155 как-то написал для английского короля Генриха VIII портрет дамы, на которой король собирался жениться, не будучи с ней знаком.
Актер. Представляю, как он его писал. Кругом — придворные. (Играет.) «Маэстро, маэстро! Неужели вы не видите, что губы Ее величества — влажные и пухлые, как… и так далее». «Ваше высочество, не позволяйте рисовать вам чувственные губы! Подумайте о туманном английском климате!» — «А рот-то у нее узкий, совсем тонкий и узкий! Не вздумайте обманывать короля!» — «Его величество желает знать, каков характер его избранницы, у него ведь уже есть кое-какой опыт на этот счет. Важно не только то, понравится ли она ему самому, но также, понравится ли она другим». «Как жаль, что на картине не видно ее зада!» «А лоб слишком велик!» — «Маэстро, не забывайте, что сейчас вы вершите высокую политику! Будьте любезны в интересах Франции несколько усилить этот серый тон!»
Актриса. Кто-нибудь знает, состоялся ли этот брак?
Философ. Во всяком случае, в книгах по истории искусства об этом ничего не сказано. Эстеты, писавшие их, не понимали подобного искусства. А вот наша приятельница отлично разбирается в нем, как показывает ее вопрос.
Актриса. Ах, дама эта мертва, и король, который к ней сватался, также превратился в прах! Но портрет Гольбейна не утратил своей ценности и поныне, когда он уже не связан ни с женитьбой, ни с политикой!
Завлит. И впрямь возможно, что этот портрет приобрел совершенно особую, еще и сегодня очевидную ценность. Он мог рассказать об этой женщине много такого, что и поныне представляет интерес.
Философ. Друзья, мы отвлеклись в сторону. С меня достаточно того факта, что портрет стал произведением искусства. По крайней мере эта сторона дела больше не вызывает сомнений.
Актер. Заказ попросту дал Гольбейну повод создать произведение искусства.
309 Завлит. Но, с другой стороны, его мастерство живописца послужило для короля поводом, чтобы потребовать от него услуги, в которой нуждалось его королевское величество.
Актер (встает). Нет, он не зритель.
Актриса. О чем ты?
Актер. Он не понимает искусства. Ему здесь не место. С точки зрения искусства он калека, ущербный человек, который от рождения обделен одним из необходимых чувств: вкусом к искусству. Конечно, возможно, что во всем остальном он вполне почтенная личность. Там, где нужно распознать, идет ли на улице дождь или снег, хороший ли парень Икс и умеет ли мыслить Игрек и т. д. и т. п., на него вполне можно положиться, почему бы и нет? Но в искусстве он ничего не смыслит, хуже того, он не хочет искусства, оно противно ему, он отказывает ему в праве на жизнь. Теперь я вижу его насквозь. Он и есть тот самый толстяк в партере, который приходит в театр, чтобы встретиться с нужным человеком и обделать какую-нибудь сделку. Когда у меня на сцене сердце обливается кровью, когда я бьюсь над вопросом «быть или не быть», я замечаю, как он своими рыбьими глазищами разглядывает мой парик. Когда на меня наступает Бирнамский лес156, толстяк силится догадаться, из чего сделаны декорации. Самое большее, по моему убеждению, до чего может подняться такой человек, — это цирк. Теленок о двух головах — вот что способно расшевелить его фантазию. А прыжок с пятиметровой вышки представляется ему вершиной искусства. Тут только и есть настоящая трудность, не так ли? Ведь сами вы не смогли бы совершить подобный прыжок, нет? Значит, это искусство, правда?
Философ. Если вы настаиваете на вашем вопросе, я не стану отрицать, что прыжок с пятиметровой вышки и в самом деле меня интересует. Что в этом плохого? Но теленок с одной головой тоже способен меня заинтересовать.
Актер. Конечно, если только это настоящий теленок, а не поддельный, не так ли? Теленок, его окружение и специфические условия его режима питания. Господин любезный, вам нечего у нас делать!
310 Философ. Но, уверяю вас, я видел, как и вы совершали кое-что, равноценное прыжкам с пятиметровой вышки, и я наблюдал за вами с большим интересом. Вы тоже умеете много такого, чего не умею я. Я полагаю, что наделен точно таким же вкусом к искусству, как и подавляющее большинство людей, я неоднократно в этом убеждался, иногда с радостью, подчас с сожалением.
Актер. Отговорки все это! Болтовня! Могу сказать вам, что вы понимаете под искусством. Это искусство изготовления копий с того, что вы называете действительностью. Но искусство — это тоже действительность, господин любезный! Искусство настолько выше действительности, что скорее можно было бы считать жизнь копией искусства! И притом бездарной копией.
Актриса. Не слишком ли высоко ты сейчас занесся вместе с искусством?
311 ВТОРАЯ НОЧЬ
РЕЧЬ ФИЛОСОФА О ВРЕМЕНИ
Философ. Помните, что мы с вами собрались в мрачное время, когда отношение людей друг к другу особенно отвратительно, а преступные происки определенных групп людей окутаны почти непроницаемой завесой. Поэтому нужно особенно много раздумий и усилий, чтобы выявить подлинные общественные отношения. Чудовищный гнет и эксплуатация человека человеком, милитаристская резня и «мирные» издевательства разного рода, охватившие всю планету, едва ли не стали чем-то обыденным. Так, например, эксплуатация, которой подвергают людей, представляется многим столь же естественной, как и та эксплуатация, которой мы подчинили природу, — людей рассматривают, как землю или же скот. Очень многим войны представляются столь же неизбежными, как землетрясения, словно за ними стоят не люди, а лишь стихийные силы природы, перед которыми род человеческий бессилен. Пожалуй, самым естественным из всего нам представляется наш способ добывать себе пропитание, при котором один продает другому кусок мыла, другой третьему — буханку хлеба, третий четвертому — свою мускульную силу. Нам кажется, что при этом осуществляется всего-навсего свободный обмен различных предметов, но любое сколько-нибудь вдумчивое исследование, как, впрочем, и наш страшный повседневный опыт, показывает, что обмен этот не только осуществляется между отдельными лицами, но и находится в руках определенных лиц. Чем больше благ мы отвоевываем у природы с помощью рационализации труда, величайших изобретений и открытий, тем более шатким становится наше существование. Создается впечатление, будто не мы распоряжаемся вещами, а вещи распоряжаются нами. Но это объясняется 312 лишь тем, что одни люди через посредство вещей господствуют над другими людьми. Мы лишь тогда выйдем из-под власти природы, когда мы выйдем из-под власти человека. Если только мы хотим использовать наши познания о природе в интересах человека, то мы должны дополнить эти свои познания представлениями о законах человеческого общества и взаимоотношениях людей между собой.
ТИП «К» И ТИП «П»157
ДРАМАТУРГИЯ В ВЕК НАУКИ
Драматургия, если только она является драматургией больших тем, неизбежно должна вступать во все более тесную связь с наукой. Связь эта может быть разного рода. В одном случае мы имеем дело с прямым поучением, которое драматургия извлекает из ряда отраслей науки. Чтобы создать лирическое произведение, еще можно на худой конец обойтись без образования, я говорю — на худой конец, потому что я не знаю случая, когда в наши дни появилось бы стихотворение, написанное совершенно необразованным человеком, таким, на которого бы не воздействовали в той или иной форме выводы науки. Для создания же такого широкого многопланового произведения, как театральная пьеса, стремящегося отобразить общественную жизнь и отношения людей, безусловно, недостаточно знаний, почерпнутых из одного только собственного опыта. Поступки наших современников невозможно осмыслить без помощи экономики и политики. Полагать, что и сегодня еще писатель способен что-либо отобразить, не понимая того, что отображает, было бы прекраснодушным заблуждением. Тщетно стал бы он искать так называемые «простые события человеческой жизни», — их больше не существует. Потребность драматурга в помощи науки непрерывно растет. И постепенно его искусство также вырабатывает свою науку, во всяком случае, вырабатывает технику, которая относится к технике предшествующих поколений, по меньшей мере, как химия к алхимии. Средства изображения превращаются в нечто 313 несравненно большее, чем обыкновенные приемы искусства. Но самое главное — это поворот, при котором драматургия по самой своей функции уподобляется науке. Последнее обстоятельство, поскольку оно выходит за рамки вопроса об использовании достижений науки, не так-то легко понять.
ТИП «К» И ТИП «П» В ДРАМАТУРГИИ
1
Стремясь показать в театре содержательные картины общественной жизни и взаимоотношений людей, новая драматургия столкнулась с серьезными трудностями, вытекающими из общественной функции современного театра. Чем лучше становились эти картины, то есть чем больше они помогали зрителям в решении вопросов повседневной жизни, в тем большее противоречие вступали они с прежней общественной функцией театра, тем труднее становилось самому театру использовать их. Современный театр при серьезном подходе к делу поставляет все лучшие и лучшие картины общественной жизни и взаимоотношений людей. Долгое время пытались сочетать это усовершенствование с прежней общественной функцией театра. Однако сейчас, по всей видимости, достигнут предел возможных улучшений на прежней основе. Чтобы облегчить уяснение сути вопроса, в дальнейшем мы будем сопоставлять друг с другом два противоположных типа драматургии (эти условные образцы потребуются нам лишь для предварительных пояснений, вслед за чем от них можно полностью отказаться, учитывая присущие этому сравнению недостатки).
Новый тип драматургии можно сравнить с общеизвестным учреждением, где демонстрируется звездное небо, — планетарием. Планетарий показывает движение созвездий в той мере, в какой оно изучено нами. Прежде чем ввести в драматургию понятие типа «П», мы должны сначала обратить внимание на те пределы, которые положены механике и которые становятся все заметнее. Если закономерность, с которой происходит движение созвездий в планетарии, чужда самой природе 314 человеческого общества, то следует сказать, что и для созвездий она в общем не характерна. Всей этой хитроумной аппаратуре присущ недостаток, который связан с ее схематичностью: ее совершенные круги и эллипсы лишь несовершенным образом отражают подлинное движение планет, поскольку, как мы знаем, движения эти отнюдь не отличаются столь безупречной правильностью. Наша драматургия не должна изображать поступки людей как механические действия, потому что, хотя мы и стремимся получить какие-то средние, суммарные данные, собственно говоря, других данных, касающихся огромных человеческих масс, мы и не могли бы представить, — мы все же должны неизменно подчеркивать этот общий, суммарный характер наших выводов, выделяя индивидуальный случай, с которым мы имеем дело в драматургии, как таковой, и постоянно указывая на его отклонения от «нормы». Только при этом условии мы сможем получить более или менее пригодные изображения наиболее вероятных последствий определенных человеческих поступков, последствий, в свою очередь представляющих собой определенные человеческие поступки. Какие бы новшества мы ни вводили в драматургию, если только мы используем театр на манер планетария, следует помнить, что мы топчемся на тощей почве очень старого учения — ньютоновской механики.
Мы должны сознавать, что выступаем новаторами. Чтобы убедиться в этом, обратимся к другому сравнению, сопоставляя прежний театр с каруселью. Лучше всего остановить наш выбор на одной из тех больших каруселей, где, восседая на деревянных конях, автомобилях или же самолетах, мы раз за разом проносимся мимо горных пейзажей, нарисованных на стенах. Можно отыскать и такую карусель, которая перенесет нас в фиктивную местность, где нас должны подстерегать мнимые опасности. Поглощенные фиктивной скачкой, фиктивным полетом, мы в то же время сами правим самолетом или конем. С помощью музыки создается состояние легкого транса. Кони, автомобили и самолеты не выдержали бы пристального взгляда зоологов или инженеров, как и настенные пейзажи — взгляда географов, и все же мы достигаем некоторых ощущений, которые 315 испытывают скачущие, едущие в автомобиле или летящие на самолете люди. Ощущения эти разного рода: с одной стороны, нам кажется, будто конь, автомобиль или самолет неумолимо уносит нас вдаль (и этому чувству суждены свои взлеты и падения), с другой стороны, нас все больше захватывает иллюзия, будто мы сами управляем ими. Впрочем, когда на карусели мы кажемся себе более деятельными, чем в планетарии, это можно назвать лишь частичной иллюзией: по крайней мере мы сами находимся в движении, а не только в роли наблюдателя. Чтобы получить представление о том, что такое тип «К» в драматургии, мы, разумеется, должны снисходительно отнестись к нашему сравнению, к тем пестрым, причудливым, детским ассоциациям, которые оно возбуждает. Нас интересует в нем лишь момент вживания и иллюзии. Оно поможет нам оценить возможность сочетания функций планетария с функциями карусели. С первого взгляда очевидно, насколько бесполезным было бы совершенствовать в реалистическом духе настенные изображения пейзажей или подстерегающих нас опасностей, как и повозки самой карусели. Даже если бы мы усовершенствовали их, это не помогло бы нам существенно повысить осведомленность пассажиров карусели в вопросах верховой езды, летного дела и автомобилизма, что расширило бы их познания об окружающем мире. Что же касается механической стороны, то в этом драматургия типа «К» (драматургия вживания, иллюзии и сопереживания) сходится с драматургией типа «П» (критико-реалистической драматургией), только во втором случае эту механику труднее обнаружить. Лиризм и субъективизм старой драматургии маскируют схематизм и расчетливость в ее изображении мира. Эстетические каноны в этом изображении мира причиняют последнему пока еще минимальный ущерб, и лишь в самых слабых произведениях они полностью искажают его облик. Худшие искажения возникают вследствие того, что общество той или иной эпохи бессильно что-либо изменить в своей действительности, и тогда вдруг появляются символы и «категории», якобы уже неподвластные человеку, — так называемые «вечные инстинкты и страсти», «божественные принципы». В этой области даже лучшие произведения дают лишь грубые зарисовки 316 действительности, однако их воздействие на зрителя от этого нисколько не умаляется и потому не может служить настоящим критерием. Активизация зрителя при драматургии типа «К» представляется нам весьма спорной: у нас есть все основания сомневаться в том, что она и впрямь сообщает зрителю необходимые импульсы для его реальной общественной жизни. Драматургия типа «П», которая на первый взгляд вовсе предоставляет зрителя самому себе, все же служит ему большим подспорьем для жизни. Ее сенсационный шаг, отказ от вживания зрителя в образ героя преследует лишь одну цель — отдать весь мир в его сценическом отображении в руки человека, вместо того чтобы, по примеру драматургии типа «К», отдать человека на растерзание этому миру.
2
Есть существенная разница в том, изображаю ли я кого-нибудь другого или себя самого, гляжу ли я, как изображают кого-нибудь другого или же меня самого. Драматургия типа «К» требует от актера, чтобы он показывал себя, себя самого в различных ситуациях, сословиях, душевных состояниях, а от зрителя, чтобы он также видел только самого себя в разных ситуациях, сословиях и душевных состояниях. Тип «П» требует от актера, чтобы он показывал других; от зрителя — чтобы он видел других. При типе «К» зритель активен, однако активность эта мнимая, при типе «П» — он пассивен, однако лишь до поры до времени. В защиту типа «К» можно было бы заметить, что мнимая активность зрителя также носит лишь временный характер, но с позиций типа «П» следовало бы на это возразить, что здесь отсутствует поучение, необходимое для последующих поступков зрителя. Приверженцы типа «К» могли бы заявить, что на пьесах этого типа зритель все же учится, правда, не с помощью преувеличенной рассудочности типа «П», а защитники этого последнего — что и он способен вызывать эмоции, правда, не те загрязненные и дикие, которые присущи типу «К». В самом деле, если тип «П» стремится освободиться от обузы, которую представляет для него обязанность своими изображениями 317 мира вызывать у зрителя эмоции, то, с другой стороны, он ничего не имеет против эмоций, которые возникают в результате этих изображений.
Неоправданным представляется мне возражение, согласно которому тип «П» якобы пытается быть на равной ноге с наукой, — если так, то по меньшей мере с тем же основанием можно было бы бросить типу «К.» упрек в том, что он хочет уподобиться религии. То, что религию считают более близкой родственницей искусства, чем науку, не так уж лестно для искусства.
Пьесы типа «К» в обмен на входную плату искусственно превращают своих зрителей в королей, любовников, классовых борцов, короче, во все что угодно. Но в безжалостном свете следующего утра короли снова водят трамваи, любовники вручают женам тощие конверты с заработной платой, а классовые борцы дожидаются, когда же их соизволят зачислить в ряды эксплуатируемых. При типе «П» зрители остаются самими собой — то есть зрителями. Но они видят своих врагов и своих союзников.
Возможно, что тип «К» возбуждает сильные желания, однако сомнительно, способен ли он указать путь к их удовлетворению. Когда цель близка и очевидна, дорога ровна и сил хватает, тогда тип «К» может сослужить хорошую службу. В 1917 году, во времена гражданской войны, большевики доставили петроградскую оперу на фронт, — им удалось не только заменить музыкой еду и топливо, но сверх того еще зажечь новый энтузиазм в борьбе. Для этого могла пригодиться любая опера, даже «Травиата». В годы Веймарской республики жены рабочих и мелких хозяев после просмотра спектакля «218»158 отвоевали у больничных касс оплату противозачаточных средств. Всего этого нельзя недооценивать. Но крупные классовые битвы требуют от людей очень многого. Лицо врага порой трудно различимо, объединение людей с одинаковыми интересами — дело нелегкое, борьба носит затяжной характер, а импульсы недолговечны. Эмоции обманчивы, источники же инстинктов искусственно замутнены.
Чтобы понять, что упомянутое выше использование научных критериев в драматургии еще не ведет к отождествлению ее функций с функциями науки, следует 318 рассмотреть такое явление, как вживание, которое кажется неотделимым от искусства, независимо от того, руководствуется ли искусство в процессе создания изображений мира научными критериями или нет. Использование научных критериев при создании искусственных изображений мира предпринималось, судя по всему, не всегда успешно, но с неизменной целью сохранить вживание. Современный зритель, настроенный более критично, в случае чрезмерного расхождения между действительностью в театре и наяву, не мог бы в достаточной мере вжиться в пьесу.
Только в этом аспекте допустимо говорить об отождествлении функций какого-либо вида искусства с функциями некоторых отраслей науки. Использование научных критериев, предпринятое с целью усилить вживание, как раз и создало для него наибольшую угрозу.
Не удивительно, что драматургия, пытаясь по-своему отобразить мир, срывая покров с тех его сторон, где возможно общественное вмешательство в происходящие в нем жизненные процессы, столкнулась с кризисом того способа, который делает искусство достоянием зрителя. Кризис вживания сопутствует почти всем без исключения произведениям новой драматургии, которые претендуют на общественный эффект.
УЛИЧНАЯ СЦЕНА159
ПРООБРАЗ СЦЕНЫ В ЭПИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ
В первые полтора десятилетия после первой мировой войны в некоторых немецких театрах была испытана относительно новая система актерской игры, которая получила название эпической вследствие того, что носила отчетливо реферирующий, повествовательный характер и к тому же использовала комментирующие хоры и экран. Посредством не совсем простой техники актер создавал дистанцию между собой и изображаемым им персонажем и каждый отдельный эпизод играл так, что он должен был стать объектом критики со стороны зрителей. Сторонники этого эпического театра утверждали, 319 что с помощью такого метода легче овладеть новыми темами, сложнейшими перипетиями классовой борьбы в момент ее чудовищного обострения, ибо эпический театр дает возможность представить общественные процессы в их причинно-следственной связи. Все же в ходе этих опытов возник ряд значительных трудностей чисто эстетического порядка.
Сравнительно просто найти прообраз эпического театра. Во время практических опытов я обычно в качестве примера наипростейшего, так сказать, «природного» эпического театра выбираю происшествие, которое может разыграться где-нибудь на углу улицы: свидетель несчастного случая показывает толпе, как это случилось. В толпе могут быть такие, кто вовсе не видел случившегося, или такие, которые с рассказчиком не согласны, которые «видят иначе», но главное в том, что изображающий так изображает поведение шофера, или пострадавшего, или их обоих, чтобы люди, толпившиеся вокруг, могли составить себе представление о происшедшем здесь несчастном случае.
Этот пример эпического театра самого примитивного типа кажется легко понятным. Однако, как говорит опыт, стоит только предложить слушателю или читателю осознать масштаб своего решения — принять такой показ на перекрестке в качестве основы большого театра, театра века науки, — как возникнут невероятные трудности. Разумеется, мы имеем при этом в виду, что в деталях такой эпический театр должен быть более богатым, сложным, развитым, но принципиально он не нуждается ни в каких других элементах, кроме этого показа на перекрестке; ибо ведь, с другой стороны, театр нельзя было бы назвать эпическим, если бы ему недоставало какого-нибудь из главных элементов показа на перекрестке. Если этого не понять, нельзя по-настоящему понять и всего дальнейшего. Если не понять нового, непривычного, возбуждающего критическое отношение тезиса о том, что подобный показ на перекрестке достаточен в качестве прообраза большого театра, нельзя по-настоящему понять и всего дальнейшего.
Следует отметить: такой показ не является тем, что мы понимаем под искусством. Демонстрирующему совсем 320 не нужно быть артистом. Практически каждый человек способен достичь цели, которую он перед собой поставил. Предположим, какое-то движение он не сможет сделать столь же быстро, как пострадавший; тогда ему достаточно пояснить, что пострадавший двигался втрое быстрее, и показ его от этого существенно не пострадает, не будет обесценен. Скорее можно сказать, что совершенство его демонстрации имеет известный предел. Она пострадала бы, если окружающим бросилась бы в глаза его способность к перевоплощению. Он не должен вести себя так, чтобы кто-нибудь воскликнул: «Как правдоподобно, как похоже изображает он шофера!» Он никого не должен «увлечь». Он никого не должен поднять из повседневного быта в «высшие сферы». Ему совсем не нужно обладать какими-нибудь особенными художественными способностями.
Решающим является то обстоятельство, что в нашей уличной сцене отсутствует главный признак обычного театра: создание иллюзии. То, что изображает уличный рассказчик, носит характер повторения. Если театральная сцена в этом смысле последует за уличной сценой, тогда театр более не будет скрывать того, что он — театр, точно так же как показ на перекрестке не скрывает, что он только показ (и не выдает себя за самое событие). Тогда становится очевидным и все заученное актерами на репетициях: очевидно и то, что текст, весь аппарат, вся предварительная подготовка выучены наизусть. А где же тогда переживание? Да и вообще является ли в таком случае переживанием представленная на сцене действительность?
Уличная сцена определяет, каким должно быть переживание, которое испытывает зритель. Уличный рассказчик, без сомнения, прошел через некое переживание, однако из этого не следует, что он должен превратить показ в «переживание» для зрителя; даже переживание шофера и пострадавшего он передает лишь частично, нисколько не пытаясь при этом, как бы живо он ни изображал увиденное, сделать эти переживания переживаниями зрителя, сулящими последнему наслаждение. Например, его показ не обесценится от того, что он не передаст того ужаса, который возбудил несчастный случай; скорее наоборот — передача этого 321 ужаса обесценила бы показ. Он отнюдь не стремится к возбуждению одних лишь эмоций. Театр, который в этом смысле следовал бы ему, изменил бы свою функцию, — это совершенно очевидно.
Существенный элемент уличной сцены, который должен содержаться и в театральной сцене, — его можно назвать элементом эпическим, — в том, что показ имеет практическое общественное значение. Хочет ли наш уличный рассказчик показать, что при таком поведении прохожего или шофера несчастный случай был неизбежным, или что при другом поведении его можно было бы избежать, или он стремится своим показом доказать виновность того или другого, — показ его преследует практические цели, имеет общественное значение.
Цель показа определяет, какова степень совершенства, которую рассказчик придает своему подражанию. Нашему рассказчику нужно имитировать совсем не все в поведении его персонажей, а лишь некоторые черты — ровно столько, сколько необходимо, чтобы возникла ясная картина. В соответствии с более широкими целями театральная сцена дает вообще гораздо более полные картины. Как же в этом плане соотносятся сцена на улице со сценой в театре? Если взять наудачу одну деталь, можно сказать, например, что голос пострадавшего, вероятно, не сыграл никакой роли в несчастном случае. Возникший между свидетелями спор о том, крикнул ли пострадавший или кто-нибудь другой «Осторожней!», может побудить рассказчика имитировать голос. Вопрос может быть решен показом того, был ли голос высоким или низким, принадлежал он старику или женщине. Но ответ на него может способствовать и выяснению того обстоятельства, кому этот голос принадлежал — человеку интеллигентному или неинтеллигентному. Громкий он или тихий — это может играть немалую роль при определении виновности шофера. Ряд черт пострадавшего также необходимо изобразить. Был ли он рассеян? Не отвлекся ли он чем-нибудь? Чем именно? Что в его поведении свидетельствовало о том, что его отвлекло именно это обстоятельство, а не иное? И т. д. и т. п. Как видим, наша задача показа на перекрестке дает нам возможность весьма сложного и многостороннего изображения людей. И все-таки театр, который 322 в существенных элементах не захочет выходить за пределы, данные ему уличной сценой, установит известные ограничения для имитации. Затраты должны быть оправданы целью.
Предположим, например, что в основе показа лежит вопрос о возмещении убытков и т. д. Шофер опасается увольнения, лишения водительских прав, тюремного заключения; пострадавший — больших расходов на больницу, потери службы, увечья, утраты трудоспособности. Такова основа, на которой рассказчик строит характер. Может быть, у пострадавшего был спутник. Рядом с шофером могла сидеть его девушка. В этом случае социальный момент выступит с большей яркостью. Характеры могут быть обрисованы с большей полнотой.
Другим существенным элементом уличной сцены является тот факт, что наш рассказчик выводит характеры целиком только из поступков действующих лиц. Имитируя их, он дает таким образом возможность сделать выводы. Театр, следующий в этом отношении его примеру, начисто порывает с привычным для обыкновенного театра обоснованием поступков — характерами, причем поступки ограждаются таким театром от критики, так как они с естественной закономерностью вытекают из характеров лиц, их совершающих. Для нашего уличного рассказчика характер изображаемого лица остается величиной, которую он не может и не должен полностью определить. В пределах известных границ он может быть и таким и иным — это не имеет никакого значения. Рассказчика интересуют те его свойства, которые способствовали или могли бы воспрепятствовать несчастному случаю. Театральная сцена может показать более определенные индивидуальности. Но тогда она должна быть в состоянии определить данную индивидуальность как особый, конкретный случай и указать на среду, в которой могут проявиться общественные силы, создающие подобную индивидуальность. Возможность показа для нашего рассказчика весьма ограничена (мы выбрали именно этот образец для того, чтобы ограничить себя как можно более тесными рамками). Если театральная сцена в наиболее значительных своих элементах не будет выходить за пределы уличной сцены, то большое богатство первой будет лишь некоторым обогащением 323 второй. Вопрос о пограничных инцидентах становится весьма существенным.
Остановимся на одной детали. Может ли наш уличный рассказчик оказаться в положении, когда ему пришлось бы взволнованным тоном передать утверждение шофера, будто последний был измучен длительной работой? (Собственно говоря, это так же маловероятно, как если бы посланец, вернувшийся к своим землякам, начал излагать свой разговор с королем со слов: «Я видел бородатого короля».) Чтобы это было возможно или, точнее, чтобы это было необходимо, нужно представить себе такое положение на перекрестке, когда бы эта взволнованность (и именно по данному поводу) играла особую роль (в приведенном выше примере такое положение создалось бы в том случае, если бы, например, было известно, что король дал обет не стричь бороды до тех пор, пока… и т. д.) Мы должны найти такую позицию, с которой наш рассказчик может подвергнуть критике эту взволнованность. Только если рассказчик встанет на некую определенную точку зрения, он окажется в состоянии имитировать взволнованную интонацию шофера; например, если он будет нападать на шоферов за то, что они слишком мало делают для сокращения своего рабочего дня. («Он даже и не член профсоюза, а случится беда — начинаются волнения: “Я, мол, уже десять часов сижу за баранкой!”»).
Чтобы достичь этого, то есть чтобы заставить актера встать на какую-то определенную точку зрения, театр должен осуществить ряд мероприятий. Если театр увеличит «угол зрения», показав шофера не только в момент несчастного случая, но и в других ситуациях, он нисколько не уйдет в сторону от своего образа. Он только создаст другую ситуацию на основе того же образа. Можно представить себе другую сцену такого же типа, как уличная сцена, в которой будет достаточно мотивирован показ возникновения эмоций, объясняющих характер шофера, или такую сцену, которая будет давать материал для столкновения интонаций. Чтобы не выходить за пределы сцены образца, театр должен разрабатывать лишь такую технику игры, которая помогает подвергнуть эмоции критике со стороны зрителей. Это, разумеется, не значит, что зрителю следует принципиально 324 мешать разделить те или иные эмоции, изображаемые на сцене; однако такое разделение эмоций — это лишь определенная форма (фаза, следствие) восприятия критики. Рассказчик в театре, актер, должен овладеть такой техникой, которая позволит ему передать интонацию изображаемого с известным отдалением от него, с некоторой сдержанностью (так, чтобы зритель мог сказать: «Он волнуется напрасно», «поздно», «наконец-то» и т. д.). Словом, актер должен оставаться рассказчиком; он должен показывать изображаемого как чуждого ему человека, в своем исполнении он не должен забывать об этих «он это сделал, он это сказал». Актер не должен доходить до полного превращения в изображаемое лицо.
Существенный элемент уличной сцены — та естественность, с которой уличный рассказчик ведет себя в двойственной позиции; он постоянно дает нам отчет о двух ситуациях сразу. Он ведет себя естественно как изображающий и показывает естественное поведение изображаемого. Но никогда он не забывает и никогда не позволяет зрителю забыть, что он не изображаемый, а изображающий. То есть то, что видит публика, не есть некий синтез изображаемого и изображающего, не есть некое самостоятельное, противоречивое третье существо, в котором слились контуры первого (изображающего) и второго (изображаемого), как это нам демонстрирует привычный для нас театр в своих постановках. Мнения и чувства изображающего и изображаемого не идентичны.
Мы подходим к одному из своеобразных элементов эпического театра, так называемому эффекту очуждения. Речь идет, говоря коротко, о технике представления событий и отношений между людьми как чего-то необычного, требующего объяснения, не само собой разумеющегося, не просто естественного. Смысл приема заключается в том, чтобы дать зрителю возможность плодотворной критики с общественных позиций. Можно ли установить, что «эффект очуждения» нужен нашему уличному рассказчику?
Легко себе представить, что произойдет, если он не воспользуется им. Тогда может возникнуть следующая ситуация. Один из зрителей может сказать: если пострадавший, 325 как вы говорите, ступил на мостовую с правой ноги… Но рассказчик может прервать его и заявить: я показал, что он ступил на мостовую с левой ноги. Во время спора относительно того, начал ли он при показе с правой или с левой ноги и как на самом деле ступил пострадавший, показ может быть изменен так, что возникнет «очуждение». Теперь, когда изображающий начнет тщательно следить за своими движениями, когда он совершает их осторожно и, вероятно, замедленно, он осуществляет «эффект очуждения», то есть он очуждает эту деталь события, ее важность возрастает, она становится странной, удивительной. Выходит, что «эффект очуждения» эпического театра оказывается нужным и уличному рассказчику. Иначе говоря, «очуждение» встречается и в повседневной, не имеющей ничего общего с искусством, оценке естественного театра на перекрестке. Легко осознается как элемент всякого уличного показа непосредственный переход от изображения к комментарию, который характерен для эпического театра. Уличный рассказчик постоянно, когда только ему представляется возможным, прерывает свою имитацию объяснениями. Хоры и надписи, проецируемые на экран в эпическом театре, непосредственное обращение актеров этого театра к публике — в принципе те же самые.
Как всякий заметит, и, надеюсь, не без удивления, я не назвал среди элементов, определяющих нашу уличную сцену, а значит, и сцену эпического театра никаких элементов собственно искусства. Наш уличный рассказчик мог успешно осуществить свой показ, обладая способностями, которыми практически обладает «всякий человек». Как обстоит дело с художественной ценностью эпического театра?
Эпический театр стремится найти свой прообраз даже на обычном уличном перекрестке, то есть вернуться к простейшему, «естественному» театру, к общественному действию, движущие силы которого, средства, цели — практические, земные. Уличная сцена не нуждается в таких заклинаниях, характерных для театральной жизни, как «стремление к самовыражению», «вживание в чужую судьбу», «душевное переживание», «стремление к игре», «радость от игры воображения» и т. п. 326 Так что же, эпический театр не нуждается, значит, в искусстве?
Лучше поставим вопрос сначала иначе, то есть: нужны ли нам художественные способности для целей нашей уличной сцены? Легко ответить на этот вопрос утвердительно. В показе на перекрестке тоже есть элемент искусства. В какой-то степени каждый человек обладает художественными способностями. Когда занимаешься «большим искусством», не мешает помнить об этом. Несомненно, способности, которые мы называем художественными, могут в полной мере проявиться в, пределах, обусловленных нашим прообразом — уличной сценой. Они будут воздействовать как художественные способности и в том случае, если не выйдут за эти пределы (например, если не произойдет полного перевоплощения изображающего в изображаемое лицо). Эпический театр требует настоящего искусства, и его нельзя представить себе без художников и актерской игры, воображения, юмора, сочувствия — без всего этого и без многого другого он не может существовать. Он должен быть развлекательным, он должен быть поучительным. Как может из элементов уличной сцены родиться произведение искусства, если мы не опустим и не прибавим ни одного элемента? Как может получиться из нее театральная сцена с ее вымышленным сюжетом, обученными актерами, возвышенной речью, гримом, сыгранностью отдельных персонажей? Нужно ли нам усовершенствовать все эти элементы, если мы хотим перейти от показа «естественного» к показу «искусственного»?
Но, быть может, дополнения к нашему прообразу, которые мы делаем, чтобы создать эпический театр, действительно весьма элементарны? Опровергнуть это можно довольно кратким рассуждением. Возьмем сюжет. В нашем несчастном случае на улице не было ничего вымышленного. Но ведь и обычный театр имеет дело не только с вымыслом — вспомним исторические пьесы. И ведь на перекрестке тоже может быть представлен некий сюжет. Может случиться и так, что наш рассказчик скажет: «Шофер виновен потому, что дело было так, как я сейчас покажу». И он может, придумав иной ход событий, изобразить их. Возьмем заученный текст: наш 327 уличный рассказчик может предстать в качестве свидетеля перед судом и там в точности повторить реплики изображаемых им лиц, которые он, может быть, записал и выучил наизусть. Тогда он тоже произносит заученный текст. Возьмем заученную игру нескольких лиц: такой комбинированный показ сам по себе осуществляется не только в художественных целях; вспомним о практике французской полиции, которая заставляет главных участников преступления повторить перед полицией основную, решающую ситуацию. Возьмем грим. Небольшие изменения внешности, например взъерошенные волосы, всегда могут иметь место в пределах показа нехудожественного характера. Помада тоже используется не только для целей театра. Может быть, в уличной сцене известную роль сыграли усы шофера. Усы могли оказать влияние на свидетельские показания его спутницы, предположенной нами. Наш рассказчик может это сделать явным, передавая показания спутницы и одновременно поглаживая воображаемые усы. Таким образом, рассказчик может во многом обесценить показания спутницы. Однако переход к настоящим усам в театральной сцене может представить известные затруднения, подобные тем, что появляются и при переодевании. При некоторых обстоятельствах наш рассказчик может надеть шапку шофера — например, если он хочет показать, что тот был, скажем, пьян (шапка у него сидела набекрень); конечно, он может это сделать лишь при определенных обстоятельствах (смотри выше замечание о пограничных инцидентах!). Однако при показе мы можем представить себе несколько разных положений, при которых переодевание окажется необходимым, чтобы различить изображаемых персонажей. При этом мы будем иметь дело лишь с ограниченным переодеванием. Не должно возникать иллюзии, будто бы изображающие тождественны изображаемым. (Эпический театр может разрушить эту иллюзию преувеличенным переодеванием или такой одеждой, которая будет особенно бросаться в глаза как некая самоцель.) Кроме того, мы в данном случае можем установить другой прообраз, который в этом пункте заменит нам прежний: уличный показ так называемых бродячих уличных торговцев. Эти люди, продавая галстуки, представляют как небрежно, 328 так и щеголевато одетого молодого человека; с весьма немногочисленным реквизитом и используя небольшое число приемов, они ставят сценки, в сущности налагая при этом на себя те же ограничения, какие налагает на рассказчика наш несчастный случай (надевают перчатки, шляпу, галстук и, размахивая тросточкой, изображают щеголя, но при этом говорят о нем в третьем лице!). Уличные торговцы к тому же используют стихи в тех же пределах, которые нам ставит наша схема. Они используют твердый, свободный ритм, о чем бы ни шла речь, — о продаже газет или подтяжек.
Изложенные соображения свидетельствуют о том, что мы можем удовольствоваться нашим прообразом. Между естественным эпическим театром и искусственным эпическим театром существенной разницы нет. Наш театр на уличном перекрестке примитивен; он не представляет собой значительного явления, если говорить о поводе, по которому он возник, о его целях и средствах. Но он, несомненно, полон смысла: его общественная функция вполне отчетлива и определяет все его элементы. Причиной представления является некое происшествие, которое можно по-разному истолковать, которое может повториться в той или иной форме и которое еще не окончилось, ибо может иметь последствия, так что оценка его имеет значение. Цель представления — облегчить оценку происшествия. Этому соответствуют средства представления. Эпический театр — высокохудожественный театр со сложным содержанием исполняемых пьес и более значительной социальной целью. Утверждая уличную сцену как прообраз эпического театра, мы сообщаем последнему отчетливую общественную функцию и устанавливаем для эпического театра критерии, по которым можно определить, идет ли речь о событии, исполненном смысла, или нет. Прообраз имеет практическое значение. Он дает возможность режиссерам и актерам, работающим над подготовкой спектакля со сложными частными задачами, художественными проблемами, социальными проблемами, проверить, не затуманилась ли общественная функция всего театрального аппарата в целом, осталась ли она достаточно отчетливой.
329 О ТЕАТРАЛЬНОСТИ ФАШИЗМА160
Томас. Мы недавно говорили о том, каким образом создать театр, где изображения общественной жизни и взаимоотношений людей дали бы зрителям ключ к решению их собственных социальных проблем. Мы решили рассмотреть самый заурядный, тысячами повторяющийся случай из жизни, который хотя и не предназначается для театра, не разыгрывается артистами и не преследует никаких художественных целей, все же использует художественные, театральные средства и вместе с тем представляет собой зарисовку, которая должна вручить зрителям ключ к пониманию запутанной ситуации. Мы отыскали для этого короткую сцену на уличном перекрестке, где свидетель несчастного случая показывал прохожим, как вели себя участники происшествия. Из числа приемов, к которым прибегал этот человек, изображая случившееся, мы выделили несколько элементов, которые могут представить интерес для нашего театрального искусства. Теперь же обратимся к другой категории театрализованных представлений, которые устраиваются не деятелями искусства и не в интересах искусства, но также происходят тысячами в клубах и на улицах. Рассмотрим театральность в поведении и выступлениях фашистов.
Карл. Полагаю, что такого рода экскурс также предпринимается в интересах театра, но должен признаться, что мне от этого слегка не по себе. Как сейчас размышлять о театре, когда жизнь так ужасна? Чтобы жить, то есть попросту оставаться в живых, теперь требуется большое искусство, — кто сейчас станет размышлять о том, как сделать, чтобы само искусство не умирало? Уже одна твоя последняя фраза показалась мне недопустимо циничной в эти дни.
Томас. Это чувство мне понятно. Но мы же сами определили назначение театра, к созданию которого стремимся: оно в том, чтобы помогать людям жить. Рассуждая о театральности в поведении угнетателей, мы рассматриваем это явление не только с позиций специалистов театрального дела, но также и с позиций угнетенных. Глядя на муки человечества, вызванные людьми, мы задумываемся над тем фактом, что наше 330 искусство способно служить насилию. Мы же намерены поставить наш театр на службу борьбе против эксплуатации человека человеком. Для этого мы должны досконально изучить, какие средства у нас в ходу, и потому нам лучше всего рассмотреть эти средства там, где они используются дилетантами с целью художественного воздействия, коль скоро мы сами, напротив, стремимся использовать свое профессиональное искусство для нехудожественных целей.
Карл. Неужто ты полагаешь, что театр воспроизводит не только события общественной жизни, но также и средства, с помощью которых эти события обычно воспроизводятся «в жизни»?
Томас. Да, таково мое убеждение. А теперь я предлагаю посмотреть, каким методом игры пользуются современные угнетатели, но не в театрах, а на улице и в клубах, в своих квартирах, а также на дипломатических встречах и в залах совещаний. Говоря об их методе игры, мы исходим из того, что они не только ведут себя так, как этого требуют непосредственные задачи, выполняемые ими, но вместе с тем сознательно разыгрывают определенный спектакль на глазах у всего мира, стараясь уверить публику в необходимости своих затей и благородстве своих поступков.
Карл. Обратимся прежде всего к мелким инсценировкам, к которым столь привержены национал-социалисты. Как правило, они стремятся театрализовать определенные явления, не обладающие четко очерченной внешней формой. Классическим примером в этом отношении может служить поджог рейхстага. Коммунистическая опасность здесь драматизирована, из нее извлечен сценический эффект. Другой пример — день 30 июля, когда фюрер самолично застал на месте преступления нескольких педерастов, и политическое течение, расходившееся с гитлеровцами лишь в деталях, было представлено как зримый, реальный и грозный заговор. А теперь перейдем к самим театральным приемам. Нет сомнения, что фашисты ведут себя подчеркнуто театрально. Они питают к театральности особое пристрастие. Они откровенно толкуют о режиссуре и вообще используют множество средств, заимствованных непосредственно 331 из театра: прожекторы и музыкальный аккомпанемент, хоры и даже неожиданности. Много лет назад один артист рассказывал мне, что Гитлер брал уроки у мюнхенского придворного актера Базиля161 и тот обучил его не только дикции, но и манере держаться. Фюрер выучился ходить, как ходят, вернее, шествуют на сцене герои, не сгибая коленей и ставя на пол разом всю ступню, что придает походке величественность. Там же он научился живописно скрещивать руки на груди и там же освоил свою прославленную, чуть небрежную позу. В этом есть что-то смешное, не правда ли?
Томас. Этого я бы не сказал. Верно то, что перед нами — попытка обмануть народ, поскольку с трудом заученные, совершенно несвойственные человеку жесты и осанка выдаются за естественные привычки великого мужа, за врожденное проявление его величия и неповторимой оригинальности. К тому же он подражал актеру, который, появляясь на сцене, всякий раз вызывал у зрителей смех неестественностью своего поведения, выспренностью и кривляньем. Может быть, это и смешно, но само по себе стремление человека усовершенствовать свой облик, подражая чужим образцам, не смешно, хотя в данном случае образец, взятый для подражания, был смешон. Подумай о тех бесчисленных и абсолютно разумных молодых людях, нимало не склонных ни к позе, ни к обману, которые в те же времена стремились подражать поведению киногероев. И здесь встречались дурные образцы, но бывали и хорошие. Я предлагаю не слишком задерживаться на стараниях Гитлера освоить импозантную осанку и героическую позу и перейти к рассмотрению тех театральных средств, которые не были непосредственно заимствованы им и прочими субъектами его толка из театра, хотя современный театр в числе других использует также и эти средства. Я хотел бы проследить за тем, как он представительствует.
Карл. Да, займемся, пожалуй, этим вопросом. Рассмотрим его поведение, когда он играет роль примерного гражданина. Роль истинного немца, роль героя, которому должен подражать всякий юноша!
Томас. Я имел в виду не только это одно. Эта сторона его поведения очевидна. В основе ее те же попытки 332 произвести впечатление на окружающих. Так, ой подражает Зигфриду162, несколько видоизменив, однако, этот образ, с тем чтобы придать ему известный налет светскости, — все это особенно наглядно проступает на фотографиях, где он запечатлен раскланивающимся с кем-нибудь (будь то с Гинденбургом, Муссолини или со знатными дамами). Роль, которую он играет (ценителя искусств, обожающего истинно немецкую музыку; безвестного солдата первой мировой войны; веселого; щедрого хозяина и примерного немца; государственного мужа, с достоинством переносящего скорбь), — индивидуально разработанная роль. В противоположность римскому диктатору (тот любит сниматься за кладкой кирпича, за пахотой, с фехтовальной шпагой в руках, за рулем машины), он недвусмысленно выражает свое презрение к физическому труду. «Фюрер» обожает позу знатока. Весьма примечателен снимок, запечатлевший его приезд в Италию (Венецию). По всей вероятности, он сделан в момент, когда Муссолини показывал ему город. Наш Маляр163 строит из себя обремененного делами и деловитого коммивояжера, являющегося вместе с тем тонким знатоком архитектуры и наряду со всем этим сознающего, что шляпа с мягкими полями ему не к лицу и лучше ее не надевать, как бы ни светило солнце. Во время своего визита в Нейдек164 к старому, больному Гинденбургу он перед объективом фотоаппарата изображает обаятельного гостя, взявшего на себя обязанность развлекать хозяев. Судя по всему, хозяин дома и его внук не смогли держаться перед объективом так же непринужденно, как наш Маляр, и потому внесли в задуманную сцену известную дисгармонию. Разумеется, у фюрера великое множество функций, и ему не всегда удается выдерживать цельность образа. Зато он мог бы похвалиться другой сценой, где он вносит свою лепту в фонд «зимней помощи». Он держит в руке несколько бумажек, и одна из них сложена таким образом, что остается лишь просунуть ее в щель кружки для сбора денег. Однако жесты героя этой сцены типичны для всякого обывателя: кажется, будто фюрер нехотя достал из кошелька какую-то мелкую монету. На торжестве в Танненберге, посвященном памяти солдат, павших в 1914 году, он — единственный 333 из всех присутствующих — ухитряется изобразить на своем лице искреннюю скорбь, хотя при этом вынужден держать на коленях цилиндр! Вот это уже образец мастерства в лучшем смысле этого слова. Но поглядим, что же дальше. Посмотрим, как он держится, произнося те пространные речи, которые служат обоснованием или подготовкой какой-нибудь очередной резни. Понимаешь ли, мы должны рассмотреть его метод во всех случаях, когда он старается заставить зрителей вжиться в его образ, и сказать себе: да, и мы поступили бы точно так же. Короче — везде, где он выступает просто, как человек, добиваясь, чтобы публика восприняла его поступки как само собой разумеющиеся, естественные человеческие поступки, и стремясь таким образом заручиться ее эмоциональной поддержкой. Это весьма любопытный метод.
Карл. Бесспорно. Вместе с тем он существенно отличается от того, которым пользуется на углу улицы уже упомянутый нами свидетель несчастного случая.
Томас. Да, весьма существенно. Можно было бы даже сказать, что это различие в первую голову обусловлено несравненно большим сходством первого метода с методом игры, который мы наблюдаем на сцене. В обоих случаях возникает вживание зрителя в образ действующего лица, и это-то и принято считать важнейшим достижением искусства. Умение увлечь зрителя за собой и сплотить публику в едином порыве — вот то, чего требуют от искусства.
Карл. Должен признаться, меня несколько пугает такой поворот. Мне кажется, что ты пытаешься всячески связать эффект вживания с проделками этого темного субъекта, чтобы опорочить этот метод. Конечно, верно, что он добивается подобного вживания в собственный образ, но ведь того же добивались и весьма достойные люди.
Томас. Бесспорно. И все же, если метод вживания будет опорочен, ответственность за это скорее падет на него, чем на меня. Однако мы не сможем двигаться дальше, если нас будет сковывать страх: а что из всего этого получится? Давайте же бесстрашно, или, напротив, устрашаясь на каждом шагу, изучать, каким образом 334 тот, о ком мы говорим, использует художественный метод вживания! Поглядим, к каким трюкам он прибегает! Возьмем, для примера, его манеру произносить речи. Чтобы облегчить вживание, он всякий раз, начиная речь, призванную послужить сигналом или обоснованием для каких-либо государственных акций, старается вызвать у самого себя такое настроение, которое понятно и доступно любому человеку. В принципе речи государственных деятелей никогда не носят импульсивного, спонтанного характера. Эти речи обрабатываются по многу раз в разных аспектах и приурочиваются к определенным датам. Подходя к микрофону, оратор обычно не ощущает никакого особого воодушевления, ни тем более гнева, ликования и так далее. Как правило, оратор, стало быть, удовлетворяется тем, что зачитывает свою речь с известной торжественностью, стремясь придать возможно большую убедительность своим аргументам. Но Маляр и ему подобные поступают иначе. Сначала с помощью разного рода трюков вызывается и подогревается интерес публики к этой речи, а публикой должен стать весь народ. Распускают слухи, будто совершенно невозможно предвидеть, что же скажет фюрер. Потому что он будет говорить не от имени народа, он ведь не только рупор народных чаяний. Он еще и человек, индивидуум, герой спектакля, и он пытается заставить народ, вернее, публику, воспринять его слова как свои собственные. Точнее — заставить народ разделить его чувства. Поэтому все зависит от того, насколько сильными окажутся его чувства. Чтобы распалить себя, Маляр выступает как частное лицо, обращающееся к другим частным лицам. Он спорит с разными людьми, иностранными министрами и политическими деятелями. Создается впечатление, будто он вступил в единоборство с этими людьми из-за каких-то свойств, присущих этим людям. Он осыпает их гневной бранью на манер гомеровских героев, бурно выражает свое негодование, давая понять, что он с трудом сдерживается, чтобы попросту не схватить своего противника за горло; окликая его по имени, он вызывает его на бой, издевается над ним и так далее. Он подчиняет себе эмоции слушателя, и тот разделяет торжество оратора, вживается в его образ. Очевидно, что Маляр (как зовут его 335 многие, потому что он усердно замазывает краской трещины в стенах разваливающегося дома) владеет актерским методом, с помощью которого он может заставить публику едва ли не слепо идти за ним. Пользуясь этим методом, он принуждает человека отказаться от собственной точки зрения и встать на его — Гитлера — точку зрения, позабыть о собственных интересах, чтобы вникнуть в его — Гитлера — интересы. Он побуждает зрителей углубиться в его душевный мир и следить за его переживаниями, он заставляет их «участвовать» в его заботах и триумфах и мешает им составить себе какое бы то ни было критическое суждение, да и вообще какое бы то ни было собственное представление об окружающем мире.
Карл. Ты хочешь сказать, что он не пользуется аргументами?
Томас. Этого я отнюдь не хочу сказать. Напротив, он все время пользуется аргументами. Он играет человека, аргументирующего свою точку зрения. После какой-нибудь фразы, которая, по существу, завершена и уже преподнесена громовым голосом как бесспорная и неопровержимая истина, он любит вдруг с рассеянным видом проговорить: «потому что» и, чуть передохнув, взяться за перечисление доводов. Со стороны кажется, будто человек торопится подкрепить только что выдвинутые утверждения первыми попавшимися доводами. Многое из того, что он подверстывает под свое пресловутое «потому что», в сущности, не является аргументом, и порой одна лишь сопровождающая его высказывания жестикуляция придает этому видимость довода. Сплошь и рядом, увлекшись, он обещает (можно сказать, самому себе) привести три довода, — иногда даже пять, шесть, — по всей очевидности, не дав себе труда предварительно подсчитать свои «аргументы». Затем он «приводит» их в указанном числе или в несколько ином, — сплошь и рядом недостает одного «аргумента» или, наоборот, один из них оказывается лишним. Для него важно другое — побудить зрителя, вживающегося в его образ, встать в положение аргументирующего лица, то есть человека, пользующегося аргументами, иными словами, человека, ищущего аргументов.
Карл. Ну, и чего же он таким образом достигает?
336 Томас. Он достигает того, что его поведение представляется публике вполне естественным и закономерным. Он такой, какой он есть, и все (те, кто вживается в его образ) — такие же, как он. Он не может поступать иначе, а значит, и все другие не могут поступать иначе и должны поступать так, как они поступают. И без того его приверженцы уверяют, что он следует СБОИМ путем как лунатик или как человек, повторяющий однажды уже пройденный путь. Таким образом он прослыл стихийным порождением природы. Сопротивляться ему было бы противоестественно и в конечном счете даже невозможно. Есть у него свои слабости, но и то только потому, что человеческому роду, блистательным представителем коего он является, вообще свойственны слабости, и это слабости, присущие всем, слабости неизбежные. «Я — всего-навсего ваш рупор, — любит он повторять, — приказ, который я вам отдаю, это, в сущности, приказ, который вы сами отдаете себе!»
Карл. Разумеется, я понимаю, насколько опасно вживаться в его образ, коль скоро он увлекает народ на опасный путь. Но мне кажется, что, в сущности, ты стремишься доказать не только то, что иной раз опасно вживаться в образ (как, например, в образ Маляра), а что вживание опасно само по себе, независимо от того, способен ли тот, в кого ты вживаешься, подобно фюреру, увлечь тебя на опасный путь или нет. Ведь верно?
Томас. Да, верно. Верно еще и потому, что вживание мешает тому, кто становится его жертвой, определить, действительно ли этот путь небезопасен.
Карл. Отчего же не всегда удается добиться вживания? Мы знаем, что существует широкий круг людей, которые наблюдают за тем же Маляром с холодной настороженностью и ни на один миг не согласятся встать на его точку зрения.
Томас. Он не может заставить вжиться в свой образ тех, чьи интересы он беспрестанно попирает. Но его неудача объясняется также и тем, что они постоянно охватывают мысленным взором всю картину окружающей действительности, а его рассматривают только как ничтожную ее частицу.
337 Карл. И только эти люди способны по-настоящему вскрыть закономерности, определяющие его поведение?
Томас. Да.
Карл. Что ж, эти люди не вживаются в образ Маляра потому, что сознают противоположность между его интересами и своими собственными. Но не значит ли это, что они могли бы без труда вжиться в образ такого человека, который защищал бы их интересы?
Томас. Конечно. Но в этом случае они не смогли бы вскрыть закономерности, определяющие его поведение. Возможно, ты спросишь: коль скоро человек ведет своих сторонников по правильному пути, может быть, в этом случае не опасно слепо следовать за ним? Но это свидетельствовало бы о полном искажении понятия «правильного пути». Человек ни при каких условиях не должен ходить на привязи. В своей жизни человек не столько «держит путь», сколько ходит. Потому-то понятие «правильная ходьба» лучше понятия «правильный путь». Самое замечательное свойство человека — это его способность к критике; она, эта способность, породила величайшие достижения, решающим образом улучшила жизнь. Тот же, кто вживается в образ другого человека, и притом без остатка, тем самым отказывается от критического отношения к нему и к самому себе. Вместо того чтобы бодрствовать, он бродит по земле как лунатик. Вместо того чтобы делать что-то, он позволяет что-то проделывать с собой. Он — существо, с которым и за счет которого строят свою жизнь другие, сам же он никак не строит свою жизнь. Ему только кажется, будто он живет, в действительности он прозябает. Ему попросту навязывают определенный образ жизни. Поэтому метод театральной игры, взятый на вооружение фашизмом, не может рассматриваться как положительный образец для театра, если ждать от него картин, которые дадут в руки зрителей ключ к разрешению проблем общественной жизни.
Карл. Трудно согласиться с этим выводом. Он отвергает практику театра, сложившуюся в ходе многих столетий.
Томас. Неужто ты воображаешь, что Маляр оригинален в своей деятельности?
338 РЕЧЬ АКТЕРА О ПРИНЦИПАХ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕЛКОГО НАЦИСТА
Актер. Следуя нашим свободным правилам, я не стремился в целях повышения интереса к этой фигуре придать ей загадочность, а, напротив, старался пробудить у зрителя интерес к разгадке персонажа. Поскольку передо мной стояла задача создать такой образ нациста, который вооружил бы публику нашего театра, представляющую общество, знанием того, как относиться к нему в жизни, я, естественно, должен был показать его как сугубо изменчивый характер, для чего я воспользовался новыми средствами театральной игры, о которых мы здесь говорили. Я обязан был помочь публике взглянуть на него с разных сторон, с тем чтобы она увидела, как воздействовало на моего героя общество в разные времена. Я должен был также показать, в какой мере этот человек способен изменяться в зависимости от разных обстоятельств, ведь общество не во всякий момент способно с такой силой воздействовать на любого из своих членов, чтобы каждый приносил ему непосредственную пользу: сплошь и рядом общество бывает вынуждено ограничиваться обезвреживанием той или иной личности. Ни при каких условиях, однако, не должен был я создавать образ «прирожденного нациста». Передо мной было явление противоречивое, своего рода атом враждебной народу стихии, мелкий нацист, чьи единомышленники в массе своей вредят интересам масс. Наверно, он — скотина, даже зверь, когда попадает в нацистскую среду, но в то же время он обыкновенный человек, иными словами, человек. В целом это скоты, но ведь всякое целое — не просто сумма составных частей. Нацисты постарше были охвачены одной жаждой наживы, но молодым были не чужды смутные социальные чаяния. Уже потому только, что этот тип встречался в тысячах экземпляров, он до известной степени казался безличным, выявляя не индивидуальные особенности, а лишь характерные черты одной определенной группы людей. Между тем, хотя все семьи и схожи между собой, в то же время каждая семья чем-то решительно отличается от всех других. Я должен был показать закономерность каждого из 339 его поступков и вместе с тем намекнуть на возможность другого поступка, который также был бы вполне объясним. К людям нельзя подходить с заранее заданной меркой: они могут быть «такими», но могут быть и другими. Если дом рухнул, это не значит, что он не мог бы уцелеть.
340 ФРАГМЕНТЫ КО ВТОРОЙ НОЧИ
НАУКА
Философ. Люди, ничего не смыслящие ни в науке, ни в искусстве, полагают, что обе эти области, в которых они ничего не смыслят, вопиюще несхожи между собой. Они воображают, будто оказывают услугу науке, позволяя ей чуждаться всякой фантазии, и покровительствуют искусству, запрещая требовать от него мудрости. Человек может быть наделен особой способностью к какому-либо занятию, но эта способность отнюдь не возрастает пропорционально его неспособности ко всем другим занятиям. Знание необходимо человечеству точно так же, как и искусство, хотя в нашем уродливом обществе ему сплошь и рядом подолгу приходилось обходиться и без того и без другого. Как нет человека, которому было бы чуждо всякое знание, так нет и человека, совершенно чуждого искусству165.
Актер. Этак скоро в театре не станет отбоя от утилитарности! В ход пойдут вот какие темы: «Недостатки сплавной канализации на Госсштрассе», или: «Не слушайте по ночам радио при открытом окне!» Все, что «не относится к делу», будет упразднено.
Актриса. И это вместо таких тем, как «Разочарование молодого человека в жизни вследствие отказа его избранницы от совокупления» или: «Мать узнает, что ее единственный сын подделал чек», со всеми деталями!
Завлит. Насколько я помню, наш друг до сих пор не давал нам никаких оснований полагать, будто его «таетр» исключает обращение к какой бы то ни было из названных вами тем. Что же касается важности темы, то общество, представляемое зрителями, вполне 341 способно вынести свое суждение по этому поводу. Публика отражает всю совокупность человеческих интересов.
Философ. Мне думается, что возражение нашего друга-актера направлено против ограниченности, присущей нашим так называемым «чистым практикам». Он опасается, как бы мы не переняли их безапелляционный, «лобовой» подход ко всем проблемам, который претендует на мгновенное решение каждого вопроса и вместе с тем отодвигает в сторону каждый неразрешимый вопрос. Но зачем бы нам это делать?
Завлит. Надо признать, что мы, в сущности, позабыли об искусстве, низводя его до роли простого орудия познания. Но ведь именно искусству свойственно поднимать тот или иной вопрос, не зная его решения, выражать тревогу, не видя ее причины, и так далее.
Философ. Это в равной мере свойственно и науке, друзья мои.
Завлит. Возможно, но все же наука куда более трезво подходит к делу. Если даже она показывает нечто такое, чего она не понимает, то она ведь тем самым не отказывается от его познания. Искусство же культивирует непознаваемость. Оно упивается самим «фактом» существования явлений, недоступных разуму, неподвластных человеку. Искусство — на стороне провидения.
Философ. Наука поступала точно так же в прежние времена и даже сейчас в некоторых областях поступает точно так же. Природа не всегда была одинаково подвластна человеку, а человечество не всегда одинаково покорно мирилось со своей участью.
Актер. В театре, как и в «таетре», мы имеем дело с человеческой природой. Она предопределяет участь человека.
Философ. На эту область природы распространяется то, что можно сказать обо всей природе в целом. Мы условились по возможности меньше толковать об искусстве, о его собственных законах и пределах, о его преимуществах и назначении. Мы низвели его до уровня простого орудия, топтали, насиловали, обесправили и поработили. Мы больше не считаем себя обязанными выражать смутные чаяния, неосознанные догадки, 342 всесильные чувства. Но вместе с тем новая задача, которую мы сами себе поставили, требует, чтобы мы отразили события человеческой жизни во всей полноте и противоречивости, независимо от того, разрешима та или иная проблема или нет. Не существует ничего такого, что лежало бы вне сферы интересов общества. Элементы осознанного, доступного мы должны показать в их взаимосвязи с неосознанным, недоступным, с тем чтобы и последнее было представлено в нашем театре.
Завлит. Ты, как я вижу, считаешь, что мы не вскрываем особенное, индивидуальное, характерное. Однако все это также находит у нас отражение. Если мы показываем ученого, который при определенной ситуации впадает в гнев, то мы отнюдь не изображаем дела так, будто та же ситуация непременно должна вызвать гнев у всех деятелей науки. Мы умеем изображать разных ученых.
Философ. Как же вы это делаете?
Актер. Того субъекта, с которым должен случиться приступ ярости, я с самого начала изображаю соответствующим образом. Ведь приступ этот должен казаться логичным, перекликаться с другими поступками героя, естественно вытекать из всего действия. И когда мой герой ощутит приступ ярости, это всем покажется вполне понятным.
Философ. И произойдет то, что происходит.
Завлит. С каким отвратительным подтекстом ты произнес эту фразу! Словно мы поставляем только тот товар, на который есть спрос, и показываем только то, что нравится публике. Ты должен был сказать так: произойдет то, что должно произойти.
Философ. Предположим, что кто-то впадает в ярость из-за того, что от него ждут поступка, несовместимого с его достоинством. Например, от слуги могут потребовать, чтобы он предал своего хозяина, от ученого — чтобы он изменил науке. Актер для начала отобразит лишь общую реакцию героя: мол, за кого меня принимают? Это чувство непосредственно доступно всем. Едва ли не каждый может вообразить такую ситуацию, в которой от одной этой мысли «за кого меня принимают?» он может прийти в ярость. Разумеется, 343 актер видоизменит эту общую реакцию применительно к образу: для слуги годится одно, для ученого — другое. Время также будет обозначено, на худой конец, при помощи костюма. И вот каков будет вывод: услыхав подобное требование, ты вознегодуешь, и я вознегодую, вознегодует слуга и вознегодует ученый, как и всегда в подобных обстоятельствах негодовал и будет негодовать человек.
Актер. Совершенно верно. Потому что мы играем в наши дни, а из страстей былых времен можем отбирать лишь те, которые по-прежнему существуют. К тому же мы играем и перед слугами, и перед учеными одновременно.
Философ. Да, и потому вы вынуждены заботиться о том, чтобы приступ ярости не вызвал удивления у зрителей. То, что происходит, должно произойти в том смысле, что происходящее на сцене должно казаться вероятным.
Философ. Актер должен показывать, что он знает о присутствии зрителя. Это необходимо еще и в интересах зрителя, чтобы тот научился вести себя в быту как человек, за которым наблюдают. В этом отношении актер может служить образцом. Каждый человек извлекает огромные преимущества из сознания того, что за ним наблюдают, и общество также извлекает из этого немалую выгоду.
Философ. Когда мы созерцаем на сцене горе и одновременно сопереживаем его, переживание и созерцание идут рука об руку. Мы испытываем боль, но наряду с этим мы созерцаем собственную боль почти со стороны, словно у нас вовсе и нет этой боли, потому что только люди, не испытывающие боли, могут столь отчужденно созерцать ее. Значит, мы не совсем растворились в страдании, — в нас еще сохранилась какая-то опора. Страдание враждебно размышлению, оно подавляет, захлестывает его, размышление же враждебно страданию.
Актриса. Иногда приятно выплакаться.
Философ. Слезы вряд ли можно считать выражением горя, скорее — облегчения. Сама по себе жалоба, 344 даже когда она проявляется в звуках, и тем более когда она выражена в словах, — это заметный шаг вперед, который означает, что страждущий уже вступил в производительную фазу. Отныне он перемежает страдание с перечислением постигших его ударов: из того, что повергло его ниц, он уже что-то создает. Вступило в действие созерцание.
Завлит. Очевидно, с точки зрения твоих целей наиболее полезен метод игры, напоминающий манеру, в какой, например, ученые рассказывают о нравах и обычаях диких народностей. Бесстрастным тоном описывают они самые огненные военные пляски. Разумеется, другое дело, когда изображаешь что-то с помощью телодвижений. Не говоря уже о том, что, во-первых, определенные жесты трудно производить без соответствующих эмоций, во-вторых, что определенные жесты неизбежно вызывают определенные эмоции — каким способом актеру, если бы он вздумал усвоить манеру тех ученых, изобразить страсть, которую тоже ведь надо передать?
Философ. Тот, кто с удивлением наблюдает за едой, судопроизводством и любовными нравами диких народностей, тот с таким же удивлением сможет наблюдать и за нашей едой, судопроизводством и любовными нравами. Убогий обыватель всегда замечает в истории лишь одни и те же движущие мотивы, а именно — свои собственные. Да и те постольку, поскольку они знакомы ему, а следовательно, в весьма ограниченных масштабах. Человек пьет после обеда кофе, ревнует свою жену, тщится сделать карьеру, всем этим он занимается в большей или меньшей степени, чаще в меньшей. «Человек не изменяется», — говорит обыватель, и если он теперь менее приятен своей жене, чем двадцать лет назад, то это значит, что все люди в сорок пять лет неизменно становились менее приятны своим женам, чем в двадцать пять. «Любовь существовала всегда», — говорит он и даже не хочет знать, что прежде вкладывалось в это понятие и каким оно представало на деле. Человек изменяется лишь в той мере, в какой изменяется камешек в ручье, который шлифует другие 345 камешки. И он перемещается, увлекаемый потоком, подобно тому как перемещается галька на дне ручья. Не преследуя никакой определенной цели, он в принципе способен на что угодно, «при случае» даже завоевать мир, как Цезарь. С ним может стрястись что угодно, он свыкается с любой катастрофой. Ему случалось пожинать неблагодарность, подобно Лиру, неистовствовать, подобно Ричарду Третьему. Он многим жертвовал для своей жены, как в свое время Антоний для Клеопатры, и ей тоже порядочно доставалось от него, как и супруге Отелло от мавра. Подобно Гамлету, он колебался, не решаясь кровью стереть обиду, и в друзьях был столь же несчастлив, как Тимон166. Он похож на всех, и все похожи на него. Имеющиеся различия не представляются ему сколько-нибудь существенными, для него все одинаково. Во всех людях он видит лишь Человека, тогда как сам он представляет лишь отдельную особь человеческого рода. Своей духовной нищетой он заражает все, с чем только соприкасается его дух.
Философ. Наше социальное окружение мы также привыкли рассматривать как часть природы, едва ли не как пейзаж. Деньги, приносящие проценты, для нас все равно что грушевое дерево, приносящее груши. Войны, своими последствиями и неотвратимостью напоминающие землетрясения, в конечном счете представляются нам своего рода стихийным бедствием. Сталкиваясь с таким явлением, как брак, мы говорим: вот это и есть самый естественный союз. И с изумлением внимаем мы рассказу о том, что в иных местах, как, впрочем, и в наших местах в иные времена, считались естественными иные формы союза между мужчиной и женщиной.
Философ. Не то плохо, что видны не все звенья единой цепи, а то, что не видна сама цепь. Мы сетовали, что нам нелегко показать современных противников на театральной сцене. Теперь, благодаря новой технике, в этом плане многое станет возможным, но самое главное — не допустить впечатления, будто таких противников вовсе нет. Подчас драматург, не видя противника или не умея показать его, выдвигает на первый 346 план что-либо другое, оказавшееся у него «под рукой», и таким образом кое-как обосновывает действие. Обычно он делает упор на определенных чертах характера своих героев, на условиях, сложившихся для них особенно неблагоприятно, и так далее. Он загромождает пьесу своей мотивировкой, тогда как подлинные движущие силы остаются за рамками сюжетной ткани и потому необходимые сценические повороты не могут быть объяснены на материале пьесы. Но даже и тогда, когда оба противника выведены на сцене, сплошь и рядом создается неверная картина, например, в тех случаях, когда вражда между ними преподносится как некая закономерность природы. В пьесе под названием «Ткачи»167, написанной автором, который в старости опустился и играл недостойную роль при Маляре168, фабрикант был представлен просто как скупец, отчего казалось, будто нищету ткачей было бы нетрудно устранить, если бы только удалось победить алчность хозяина. Вражда между человеком, в чьих руках капитал, и людьми, работавшими на него, была представлена как некая закономерность природы, каковой является, например, вражда между львом и ягненком.
Философ. Физики рассказывают, что в процессе изучения мельчайших частиц материи у них вдруг возникло подозрение, не изменяется ли предмет исследования под влиянием самого исследования169. К движениям, которые можно наблюдать под микроскопом, прибавляются движения, которые вызываются самим микроскопом. С другой стороны, изменяются и сами приборы, очевидно, также под воздействием объектов, изучением которых они занимаются. Вот что выходит, когда наблюдение ведут приборы. Что же получается, когда в роли наблюдателей выступают люди?
Завлит. Ты отводишь весьма значительную роль рассудку. Создается впечатление, будто ты признаешь лишь то, что пропущено сквозь фильтр сознания. Я не считаю, что у художника меньше разума, чем у всех прочих людей, — есть и такое мнение, — но когда художник занят своей работой, он отнюдь не пользуется одним только разумом. Если ты намерен признавать лишь то, что зарегистрировано сознанием и снабжено пропуском 347 рассудка, на твоей сцене будет довольно-таки пусто.
Философ. В этом есть доля истины. Люди часто совершают разумные поступки без предварительного обдумывания. От этого нельзя просто отмахиваться. Бывают инстинктивные поступки и такие, которые представляют собой неразрешимый клубок самых различных и противоречивых мотивов и устремлений. На мой взгляд, не будет большой беды, если мы зачерпнем все это разливной ложкой и выплеснем на сцену. Необходимо лишь показать все это так, чтобы зритель мог выработать оценку этих явлений, причем и в этой оценке могут участвовать сложные инстинктивные мотивы. А ведь вы сами знаете, что возможен и другой подход.
Завлит. Может быть, стоит коротко остановиться на моральной стороне. В этой области бытуют такие ярлыки, как «хорошо» и «плохо». Неужто ты все на свете хочешь снабдить таким ярлыком?
Философ. Только этого еще недоставало! Это было бы верхом глупости. Конечно, у художника должна быть известная любовь к человеку. Эта любовь ко всему человеческому может привести к тому, что его станут радовать и недобрые побуждения, то есть те побуждения, которые, справедливо или нет, считают вредными для общества. По-моему, достаточно будет, если вы возьметесь отражать взгляд общества в самом широком смысле этого слова, а не в какой-либо определенной, преходящей форме. Вы не должны подвергать гонению единичного человека, который сплошь и рядом и так гоним. Вы должны обозревать всю картину и позаботиться о том, чтобы она была видна зрителю.
ОТМЕНА ИЛЛЮЗИИ И ВЖИВАНИЯ
Завлит. А как обстоит дело с четвертой стеной?
Философ. Это еще что?
Завлит. Обычно играют так, словно на сцене не три стены, а все четыре; и четвертая стена находится там, где сидит публика. Тем самым создается и поддерживается впечатление, будто то, что происходит на 348 сцене, — подлинное событие из жизни, а в жизни, как известно, публики не бывает. Играть с четвертой стеной — значит играть так, как будто в зале нет публики.
Актер. Понимаешь ли, публика, сама оставаясь невидимой, становится свидетельницей интимнейших сцен. Это все равно, как если бы кто вздумал подглядывать в замочную скважину за людьми, не подозревающими, что за ними наблюдают. В действительности мы, разумеется, всячески стараемся, чтобы все было наилучшим образом видно. Только мы скрываем эти старания.
Философ. Вот оно что! Значит, публика попросту забывает о том, что она в театре, коль скоро ее не замечают. У зрителей создается иллюзия, будто они припали к замочной скважине. Если так, им следовало бы аплодировать, лишь очутившись в гардеробе.
Актер. Но ведь своими аплодисментами публика как раз подтверждает, что актерам удалось сыграть так, словно ее и не было!
Философ. Неужели нам необходимо это сложное молчаливое соглашение между актерами и зрителем?
Рабочий. Мне оно ни к чему. Но, может быть, оно нужно артистам?
Актер. Считают, что оно необходимо для реалистической игры.
Рабочий. Я за реалистическую игру.
Философ. Но то, что человек все же сидит в театре, а не у замочной скважины, чем это не реальность! Разве реалистично замазывать этот факт? Нет, четвертую стену мы пустим на слом. Соглашение разорвано. В будущем не стесняйтесь показывать, что вы стараетесь для нас, силясь все изобразить как можно нагляднее.
Актер. Выходит, отныне мы официально поставлены в известность о вашем существовании. Мы можем глядеть на вас с подмостков и даже заговаривать с вами.
Философ. Конечно, всегда, когда это нужно для пользы дела.
Актер (вполголоса). Значит, назад к старине: к заявлениям типа «реплика в сторону» или: «почтенная 349 публика, я царь Ирод», к заигрыванию актрис с офицерской ложей!
Философ (вполголоса). Нет труднее пути вперед, чем путь назад, к разуму!
Актер (уже не сдерживаясь). Господин любезный, театр во многом деградировал, это мы и сами сознаем. Но все же он по-прежнему уважал приличия и, в частности, не обращался непосредственно к посетителям. При всем своем духовном и моральном убожестве он все же не опускался до обывательщины. И он также вправе рассчитывать на известное уважение. Господин любезный, до сих пор мы играли не для какого-нибудь Икса или Игрека, купившего себе в кассе билет, а для искусства!
Рабочий. Кого он имеет в виду, говоря об Иксе и Игреке?
Философ. Нас.
Актер. Мы играли для искусства, любезнейший! А вы — вы всего-навсего присутствовали при этом! Не лучше ли вам податься в соседний дом, там — в соответствующем заведении — девицы по первой просьбе покажут вам свой зад.
Философ. А у вас девицы показывают свой зад лишь партнерам по игре, в образы которых нам великодушно предлагают вживаться, не так ли?
Завлит. Господа, не распускайтесь!
Рабочий. Это актер вовлек в спор зады!
Философ. Нам же они в лучшем случае показывают свои души!
Актер. И вы думаете, что это делается без стыда? И что означает ваше «в лучшем случае»?
Завлит. Право, жаль, что вы спорите по всякому поводу. Но, может быть, хотя бы теперь, после вашей гневной философской реакции, вы с философским спокойствием перейдете к дальнейшему.
Философ. Наша критическая позиция порождена тем, что мы глубоко верим в человеческую изобретательность и работоспособность и не верим, что действительность должна оставаться без изменений, даже если она столь же отвратительна, как, например, наши государственные учреждения. Пусть на каком-то историческом 350 этапе были осуществлены с помощью насилия и гнета крупные свершения, пусть сама возможность эксплуатации людей натолкнула чью-то мысль на разработку планов, реализация которых приносила известную пользу всему обществу. Сегодня все это лишь тормозит прогресс. Потому-то вы, актеры, должны изображать своих героев так, чтобы можно было одновременно вообразить их поступающими прямо противоположным образом, даже если у них имеется достаточно причин поступать так, как они поступают. Подобно тому как инженер высшего разряда, обладающий большим опытом, поправляет чертежи своего предшественника, заменяя старые контуры новыми, зачеркивая прежние цифры и вписывая на их место другие, испещряя чертеж критическими соображениями и пометками, — точно так же и вы можете по-своему читать рисунок ваших ролей. Знаменитую первую сцену «Короля Лира», где король делит свое царство между дочерьми, избрав мерилом силу их любви к нему, причем мерило это глубоко обманчиво, — вы можете сыграть так, чтобы зритель подумал: «Он поступает неверно. Только бы вот этого он не говорил! Только бы он заметил эту деталь! Хоть бы он подумал немного!»
Философ. О каких раздумьях мы говорим? И противоречит ли само по себе раздумье, обращение к рассудку — чувствам? Подобные призывы к трезвой рассудочности, заявления типа: «Не будем принимать решений в состоянии экстаза!» или «Начнем размышлять!», вполне уместны перед лицом деятельности наших волшебников сцены, но все же это лишь первый шаг. Мы уже решили, что пора отказаться от убеждения, будто насладиться искусством возможно, лишь расставшись с трезвостью и впав в экстаз, ведь мы знаем, что в наслаждении искусствам участвуют все промежуточные состояния между трезвостью и угаром, как и сам контраст между ними. Было бы совершенно излишним, даже вредным для наших целей, если бы мы стремились показать наших героев и их поступки публике, всего-навсего холодно регистрирующей и бесстрастно взвешивающей показанное. Ничто не мешает нам мобилизовать все чувства, надежды, симпатии, с 351 которыми мы обычно относимся к людям в жизни. Зритель должен увидеть на сцене не таких героев, которые только совершают определенные поступки, иначе говоря, только этим оправдывают свое появление на сцене, а настоящих людей: необтесанные глыбы, еще не оформившиеся и не определившиеся, способные неожиданно огорошить его. Только такие образы смогут вдохновить зрителя на настоящие раздумья, а именно раздумья, пробужденные подлинной заинтересованностью, сопровождаемые определенными чувствами, раздумья, протекающие в условиях наивысшей сознательности, ясности, эффективности.
Актер. Разве я не связан по рукам и ногам авторским текстом?
Философ. Ты можешь обращаться с этим текстом, как с достоверным, но многозначным сообщением. Например, ты узнаешь, что в прошлом некий Цезарь, будучи окружен аристократами-заговорщиками, сказал некоему Бруту: «И ты, Брут…» Тот, кто услышит эти слова не с театральной сцены, а где-то в ином месте, немногое узнает, кругозор его от этого не намного расширится. Даже если он питает склонность к обобщениям, выводы его могут быть весьма и весьма ошибочны. Но вот ты, актер, вторгаешься в эти туманные представления, воплощая самое жизнь. Уходя со сцены, ты должен быть убежден, что твой зритель увидел больше, чем даже свидетель подлинного события.
Завлит. А как быть с фантастическими пьесами? Не узнаем ли мы из них только кое-что об их авторе?
Философ. Нет, не только. Эти пьесы повествуют о мечтах и замыслах, материалом для которых писателю опять-таки служит жизнь. Даже если здесь вам предстоит доискиваться, что же увидел автор, какова цель его рассказа, и так далее, все же и тут вы располагаете значительной свободой.
Актер. Неужели ты хочешь сказать, что я должен изображать героя, в которого я мысленно не перевоплотился?
Философ. Чтобы создать образ, необходим ряд операций. Ведь, как правило, вы не изображаете людей, 352 которых просто когда-то видели, вы должны сперва представить себе тех, кого вы хотите изобразить. Здесь вы исходите из того, что предлагает вам текст, который вы должны произнести, а также из поступков и поведения, предписываемых вам ролью, наконец, из ситуаций, в которые поставлен ваш герой. Очевидно, вам неизменно придется входить в образ того персонажа, которого вы должны изображать, поставив себя на его место, почувствовав себя в его «шкуре», сжившись с его мыслями. Это одна из операций по созданию образа. Она полностью способствует выполнению нашей задачи, необходимо лишь, чтобы вы сумели снова выйти из образа. Одно дело, когда человек составил себе представление о чем-то, для чего требуется фантазия, другое — когда он по неразумию создает себе иллюзию. Фантазия служит нашим целям, мы стремимся сообщить нашему зрителю представление о том или ином событии, но отказываемся вызывать у него иллюзии.
Актер. Мне думается, ты находишься во власти преувеличенного представления, если не сказать иллюзии, относительно того, насколько глубоко мы, актеры старого театра, вживаемся в свои роли. Смею заверить тебя, играя Лира, мы размышляем о многом, о чем вряд ли подумал бы Лир.
Философ. В этом я не сомневаюсь. Вы размышляете о том, как вам показать то-то и избежать того-то. И еще, приготовлен ли реквизит и не вздумает ли комик вдруг снова шевелить ушами, когда вы произнесете свою самую эффектную тираду. Но все эти мысли вытекают из вашего старания не допустить, чтобы публика очнулась от своей иллюзии. Они могут нарушать ваше собственное вживание в образ, но они углубляют вживание публики. Мне же важно, чтобы не состоялось последнее, а тот факт, что нарушается ваш собственный процесс вживания, заботит меня гораздо меньше.
Актер. Значит, входить в образ надо только на репетициях, но не на спектаклях?
Философ. Я несколько затрудняюсь ответить на этот вопрос. Я мог бы оказать просто: играя, вы не должны входить в образ персонажа, изображаемого вами. Я вполне имел бы на это право. Во-первых, я 353 провел разделительную черту между вживанием и вхождением в образ; во-вторых, я всерьез полагаю, что вживание совершенно излишне; в-третьих, я опасаюсь, что любой другой ответ, каким бы он ни был, снова приоткроет лазейку для всей этой чертовщины, тогда как я крепко-накрепко запер перед ней все двери. И все же я колеблюсь. Я могу представить себе вживание как исключительный случай, не обязательно влекущий за собой вред. С помощью ряда предохранительных мер можно было бы предотвратить всякий ущерб. Вживание должно было бы прерываться, возникая только в строго определенных местах, или же оставаться совсем незначительным, сливаясь с другими энергичными операциями. Я и в самом деле однажды наблюдал подобную игру: это была заключительная репетиция, которой предшествовало большое число других репетиций, все устали и лишь стремились еще раз запечатлеть в памяти текст и жесты, актеры двигались машинально и вполголоса произносили реплики. Я был доволен результатом, но не смог бы уверенно сказать, вживались ли актеры в роль или нет. Должен, однако, заметить, что актеры ни за что не решились бы играть таким образом перед публикой, то есть столь же непринужденно и почти не акцентируя игры, не помышляя о воздействии на зрителя (потому что их внимание было сосредоточено на «внешней стороне»). И если предположить, что вживание все же имело место, оно, вероятно, не мешало только потому, что игра актеров не была «расцвечена». Короче, будь я уверен, что огромная разница между новым методом и старым, основанным на вживании, покажется вам не столь огромной, если я объявлю допустимым некоторое, совсем незначительное вживание, то я бы так и поступил. Однако степень мастерства я отныне стал бы определять по тому, насколько вы способны обходиться без вживания, а не по тому, — как это обычно делают, — в какой мере вам удается вжиться в роль.
Завлит. Сейчас зовут дилетантом того, кто не в состоянии добиться вживания, а может быть, когда-нибудь станут звать дилетантами тех, кто не умеет без него обходиться. Успокойся. Своей мудрой уступкой ты нисколько не умалишь в наших глазах непривычность твоего нового метода игры.
354 Актер. Означает ли упразднение вживания упразднение всякой эмоциональной реакции?
Философ. Нет, отнюдь нет. Мы не намерены препятствовать эмоциональному участию зрителя и тем более самого актера в спектакле, мы ничего не имеем против изображения чувств, как и использования эмоций. Лишь один из многих возможных источников эмоций — вживание — должен быть начисто закрыт или по меньшей мере превращен во второстепенный источник.
ШЕКСПИРОВСКИЙ ТЕАТР170
Завлит. За несколько лет до появления первой шекспировской пьесы Марло, введя пятистопный ямб без рифмы171, облагородил народную драму, вследствие чего последняя отбила и у знатоков вкус к подражаниям Сенеке172, насаждавшимся консерваторами от литературы. Переплетение двух сюжетных линий173, столь виртуозно исполненное в «Венецианском купце», явилось по тем временам техническим новшеством. Стремительный, неистовый и необузданный прогресс вообще составлял характерную особенность той эпохи. Пьесы только что обрели характер товаров, но имущественные отношения еще пребывали в сумбурном состоянии. Мысли, образы, сценические эпизоды, выдумки, изобретения — все это еще не охранялось законом, драматурги равно черпали материал как из жизни, так и со сцены. Великие сценические образы создавались путем переделки прежних грубых характеров, сценический язык — путем шлифовки грубой речи. Что здесь было уступкой образованному зрителю в ложах, а что — тем, кто стоял в партере? Колледж оказывал свое влияние на пивную, а пивная — на колледж.
Завлит. В рукописи одной из пьес, относящихся к 1601 году, дано несколько вариантов реплик, и на полях автор приписал: «Изберите любой из этих вариантов, какой вам покажется лучше», и далее: «Если эта реплика непонятна или же недоступна для публики, можно воспользоваться другим вариантом».
355 Завлит. В театре уже присутствуют женщины, но женские роли все еще исполняются мальчиками. Ввиду отсутствия декораций автор берет на себя задачу описания места действия. Сценическая площадка не оформлена, сплошь и рядом совершенно пуста. В «Ричарде III» (акт V, явление 3) в промежутке между двумя войсковыми станами, где стоят шатры Ричарда и Ричмонда, появляется призрак: оба военачальника видят и слышат его во сне, и он обращается к обоим. Поистине театр, изобилующий эффектами очуждения!
Завлит. В театрах этих курят. В зрительном зале торгуют табаком. А на сцене сидят снобы с трубками в зубах и лениво наблюдают за тем, как актер изображает смерть Макбета.
Актер. Но разве не необходимо возвысить театр над улицей и придать спектаклю особый характер — коль скоро он разыгрывается не на улице, не в силу случайности, не дилетантами и не обязан своим появлением какому-нибудь происшествию?
Философ. Совокупность этих обстоятельств сама по себе достаточно возвышает его, думается мне. Все то, что отличает театр от улицы, непременно должно быть особо подчеркнуто. Тут ни в коем случае не следует ничего замазывать! Но, делая подобный упор на различии между обоими видами показа, мы должны сохранить за театральным методом хоть какую-то долю той первоначальной функции, что составляла основу всякого показа, принятого в быту. Именно подчеркивая упомянутое различие, профессиональность, заученность спектакля, мы и сохраним эту функцию.
Завлит. Ничто так убедительно не вскрывает будничного, земного и здорового характера елизаветинского театра, как изучение контрактов Шекспира с труппами, которые гарантировали ему седьмую долю пая и четырнадцатую часть от общей суммы доходов двух театров; тех сокращений, которые он производил в своих пьесах и которые порой затрагивали от одной четверти до одной трети всего стихотворного текста; наконец его указаний актерам (в «Гамлете») играть естественно и сдержанно. Если еще учесть, что в те времена обычно играли днем под открытым небом (и, конечно, в тех же 356 условиях репетировали!), чаще всего без малейшего обозначения места действия и в непосредственной близости от зрителей, из которых одни восседали на самой сцене, а большинство стояло или прогуливалось, — то станет очевидным, какая земная, прозаическая обстановка сопутствовала этим представлениям.
Актер. Так, значит, «Сон в летнюю ночь» ставили при свете дня, и призрак в «Гамлете» тоже появлялся при свете дня? А где же иллюзия?
Завлит. Рассчитывали на фантазию зрителей.
Завлит. А как обстоит дело с трагическим у Шекспира?174
Философ. Он показывает трагическую гибель феодалов. Вот Лир, опутанный тенетами патриархальных иллюзий; Ричард III, не любимый никем, возбуждающий ужас; Макбет, обманутый ведьмами честолюбец; Антоний, сластолюбец, готовый пожертвовать империей; Отелло, которого губит ревность, — все они живут в новом мире и гибнут от столкновения с ним.
Актер. Многим подобное толкование пьес покажется упрощенным.
Философ. Но мыслимо ли зрелище более многообразное, более важное и интересное, чем гибель крупнейших господствующих классов?
Завлит. Трагедии Шекспира отличаются необычайной живостью. Кажется, будто они отпечатаны прямо со списков ролей вместе с актерскими экспромтами и поправками, внесенными на репетициях. Запись ямбов показывает, что сплошь и рядом она производилась просто на слух. «Гамлет» всегда особенно интересовал меня, и вот по какой причине: мы знаем, что он представляет собой переложение пьесы175, написанной неким Томасом Кидом и пользовавшейся в свое время большим успехом. Темой ее была своего рода чистка авгиевой конюшни. Герой — Гамлет — наводил порядок в собственном семействе. Делал он это, судя по всему, со всей беспощадностью, венец которой, видимо, являл собой заключительный акт. Однако первым актером шекспировского театра «Глобус» был коренастый мужчина, страдавший одышкой, вследствие чего долгое время 357 все герои были коренасты и страдали одышкой, как Макбет, так и Лир. Для этого актера и, очевидно, благодаря ему было осуществлено углубление сюжета, встроены эпизоды. Пьеса от этого стала гораздо интереснее, создается впечатление, словно ее вплоть до четвертого акта лепили и переделывали прямо на сцене, вслед за чем возникла новая трудность: каким образом подвести этого нового Гамлета с его беспрерывными сомнениями к той буйной заключительной кровавой расправе, которая обеспечивала успех прежней пьесы. В четвертом акте имеется несколько сцен, из которых каждая пытается решить эту задачу. Может быть, актер играл все эти сцены, а может быть, он использовал лишь одну из них, но другие так или иначе были вписаны в роль. Все они носят характер экспромтов.
Актер. Может быть, они создавались так, как сейчас создаются фильмы?
Завлит. Возможно. Но несомненно одно: для книжного издания они были зафиксированы человеком, обладавшим незаурядным литературным дарованием.
Актер. Судя по твоему рассказу, Шекспир каждый день придумывал новую сцену.
Завлит. Совершенно верно. Я полагаю, что это были эксперименты. Они осуществлялись с не меньшей интенсивностью, чем одновременные опыты Галилея во Флоренции или Бэкона — в Лондоне. Потому-то и целесообразно ставить подобные пьесы в экспериментальной манере.
Актер. Это считают святотатством.
Завлит. Но ведь эти пьесы и обязаны святотатству своим появлением.
Актер. Всякому, кто пожелал бы хоть что-то в них изменить, тотчас начнут выговаривать, что он, значит, не считает их совершенными.
Завлит. Это ошибочное представление о совершенстве — вот и все.
Философ. Эксперименты театра «Глобус», как и опыты Галилея, предметом которых был глобус, изображавший земной шар, шли в ногу с преобразованием самого земного шара. Буржуазия совершала тогда свои первые робкие шаги. Шекспир не смог бы выкроить роль Гамлета по мерке того коренастого актера с одышкой, 358 если бы этому не предшествовал распад феодальной семьи. Новый буржуазный образ мыслей Гамлета — это и есть его болезнь. Его эксперименты ведут напрямик к катастрофе.
Завлит. Не напрямик — кружным путем.
Философ. Хорошо, пусть кружным путем. Этой пьесе свойственна относительная долговечность, присущая всему актуальному, и, чтобы сберечь ее, бесспорно, необходимо разложить пьесу на составные элементы. Ты прав.
Актер. Итак, мы должны попытаться осуществить на сцене такие требования, как «от сих до сих и не дальше» или «не дальше, чем от сих до сих». Как это несхоже с неуемным буйством героев театра древности, завершавшимся их гибелью. Ты хочешь, чтобы мы всегда учитывали элемент «относительности», а относительное, естественно, не производит такого сильного впечатления, как абсолютное. Когда я изображаю человека в меру честолюбивым, это несравненно меньше увлекает зрителей, чем когда я наделяю его абсолютным честолюбием.
Философ. Но ведь в жизни чаще встречаются люди в меру честолюбивые, чем абсолютные честолюбцы, разве не так?
Актер. Возможно. Но как же быть с воздействием?
Философ. А его ты должен добиваться с помощью того материала, который дает жизнь. Это уж твоя забота.
Актер. Хорош будет Макбет — то честолюбив, то нет, и лишь в меру честолюбивее Дункана. А твой Гамлет — герой с изрядными колебаниями, но в то же время весьма склонный к необдуманным поступкам, не так ли? А Клитемнестра — довольно мстительна! Ромео — более или менее влюблен!
Завлит. Более или менее — так оно и есть. Ничего тут нет смешного. У Шекспира он уже влюблен, еще даже не зная своей Джульетты. Увидев ее, он влюбляется еще больше.
Актер. Ага, половое возбуждение! Вот к чему ты клонишь! Будто того же не переживают наряду с Ромео и другие люди, но никто из них от этого не стал Ромео.
359 Философ. Как бы там ни было, а все же и Ромео это испытывает. Великая заслуга Шекспира-реалиста в том, что он это заметил.
Актер. Взять, к примеру, странную власть Ричарда Третьего над людьми. Как мне показать ее, если ею не будет пронизан весь образ?
Завлит. Ты имеешь в виду сцену, где он привораживает вдову убитого им человека и она падает в его объятия? Могу предложить два решения: вы можете показать, будто она уступает насилию, или же сделать ее уродиной. Но как бы вы ни изобразили власть Ричарда над людьми, вы ничего не выиграете, если в дальнейшем ходе пьесы не продемонстрируете, как эта власть иссякает. Следовательно, необходимо показать пределы этой власти.
Философ. О, вы все сумеете показать! Точно так же, как трубач показывает нам медь, а яблоня зимой — снег. Вы смешиваете две вещи: то, что можно у вас увидеть, и то, что вы сами показываете.
Завлит. Значит, мы должны выбросить все добрые старые пьесы на свалку?
Философ. Не думаю, чтобы это понадобилось.
Актер. А что будет с «Королем Лиром»?
Философ. Эта пьеса содержит отчет об общественной жизни в былые времена. Ваша задача состоит лишь в том, чтобы усовершенствовать этот отчет.
Завлит. Многие выступают за то, чтобы ставить подобные пьесы в первозданном виде, и малейшее изменение в них называют варварством.
Философ. Но это и есть варварская пьеса. Конечно, вы должны поступать крайне осмотрительно, чтобы не разрушить ее красоты. Сыграв ее соответственно новым правилам, так, чтобы ваши зрители не вживались полностью в образ короля, вы сможете показать почти всю пьесу целиком, с небольшими дополнениями, которые позволят зрителям сохранить трезвость суждений. Нельзя допускать, чтобы зрители, в том числе и те из них, кто сам состоит на службе, яростно принимали сторону Лира и радовались, когда, например, в четвертой сцене первого акта слугу избивают только за то, что он выполнил приказ своей госпожи.
Актер. Как же помешать этому?
360 Завлит. Можно было бы показать, что в результате побоев слуга получил серьезное увечье и заковылял со сцены, выказывая все признаки нестерпимой боли.
Актер. Это настроило бы зрителей против Лира, — по определенным соображениям, связанным с новейшими временами.
Завлит. Нет, если последовательно проводить эту линию. Можно показать слуг бесприютного короля, жалкую горстку людей, которых никто теперь не хочет кормить, и они повсюду следуют за ним с немым укором. Один вид этих людей должен доставлять Лиру невыразимые муки, и это само по себе могло бы послужить достаточной причиной для его ярости. Просто надо вскрыть феодальные порядки.
Актер. Если так, следует столь же серьезно отнестись к разделу королевства в первой сцене и велеть Лиру на глазах у всех разорвать географическую карту. Он мог бы бросить клочки этой карты дочерям в надежде, что таким образом обеспечит себе их любовь. Когда же он вновь разорвет пополам третий клочок, предназначавшийся Корделии, и бросит обрывки двум другим дочерям, это наверняка заставит зрителей призадуматься.
Завлит. Но целостность пьесы будет нарушена. И ваш почин не найдет в ней продолжения.
Философ. Может, продолжение найдется. Надо изучить пьесу. Кстати, не было бы никакого вреда, если бы отдельные места в пьесе выбивались из общего строя, если бы какие-то эпизоды в ней становились источником несоответствий. Старые отчеты изобилуют несоответствиями. Зрителю, лишенному всякого понятия об истории, так или иначе нельзя показывать средневековые пьесы. Это было бы непростительной глупостью. По моему убеждению, великий реалист Шекспир с успехом выдержал бы это испытание. Он всегда вываливал на сцену всяческое сырье, преподнося зрителю невыправленные отчеты об увиденном. В его творениях ясно заметны бесценные следы столкновения того, что для его времени было новым, со стариной. Мы — отцы новых времен, но вместе с тем — дети времен былых и способны понять многое, далеко отстоящее от нас в прошлом. Точно так же мы способны разделить чувства, 361 некогда полыхавшие неуемным и бурным пламенем. Ведь и то общество, в котором мы живем, отличается необычайной сложностью. Человек, как говорят классики, — это продукт всех общественных условий всех времен. Вместе с тем в тех же классических произведениях встречается много мертвечины, много неверного и пустого. Все это можно оставлять в книгах, потому что, кто знает, может быть, мертвое лишь кажется мертвым и к тому же поможет объяснить другие явления минувшей эпохи. Я же хотел бы привлечь ваше внимание к тем разнообразным следам живого, притаившимся в местах, которые на первый взгляд кажутся мертвыми. Порой достаточно лишь добавить какую-то крупицу, и мертвое вдруг — и притом впервые — оживет. Самое главное — это соблюдать историзм при постановке творений древности, вскрывая контраст с нашей эпохой. Потому что только на фоне нашей эпохи их образ предстанет как древний образ, в противном же случае сомнительно, чтобы вообще сложился какой-то образ.
Завлит. Как вообще нам относиться к творениям мастеров древности?
Философ. Образцовую позицию в этом вопросе как-то продемонстрировал мне пожилой рабочий — прядильщик, однажды увидевший на моем столе нож, который я приспособил для разрезания книг. Это был старый-престарый нож из крестьянского столового прибора. Взяв эту великолепную вещь своей большой натруженной рукой, он долго, сощурясь, рассматривал маленькую рукоятку из твердого дерева, обитую серебром, и тонкое лезвие ножа, затем произнес: «Вот что, оказывается, уже умели люди, когда все еще верили в ведьм». Было очевидно, что он гордился их тонкой работой. «Сталь теперь варят получше, — продолжал он, — но зато как ловко этот нож умещается в руке! Теперь же штампуют ножи, как молотки, никто уже не соразмеряет рукоятку с лезвием. А вот над этим ножом, наверно, кто-то трудился не один день. Сейчас их изготовляют за полминуты, да только качество оставляет желать лучшего».
Актер. Он заметил все, чем был прекрасен этот шедевр?
Философ. Все. Он обладал шестым чувством — чувством истории.
362 ТЕАТР ПИСКАТОРА176
Завлит. После первой мировой войны, в годы перед приходом к власти Маляра, Пискатор открыл в Берлине свой театр. Многие считают его крупнейшим театральным деятелем. Он получал деньги от владельца пивоваренного завода, который рассматривал театр с его плохо контролируемыми доходами и расходами как средство, с помощью которого ему удастся обвести вокруг пальца налоговые власти. Пискатор израсходовал на свои эксперименты более одного миллиона марок. С каждой новой пьесой, поставленной им, он совершал новый шаг на пути перестройки не только сцены, но и всего театра. Однако самые крупные перемены он осуществил на сцене. Он добился подвижности пола, наложив на него две широкие полосы, которые приводились в движение мотором и позволяли актерам энергично маршировать не сходя с места. Этот прием служил организующим стержнем для целого ряда пьес. Пискатор показывал, как солдат идет на фронт, попадая из призывного пункта в больницу, а оттуда — в казарму, шагая по проселочным дорогам, минуя склады, амбары, держа путь к передовой. Пьеса повествовала о том, как начальники задумали отправить солдата на фронт, а он раз за разом срывал их замыслы, и хотя как будто выполнял каждое распоряжение, все же так и не ступил на поле боя. В той же пьесе на экран проецировался мультипликационный фильм, высмеивающий начальство. Пискатору принадлежит заслуга введения кино в театр и превращения кулис в игровой элемент. Для другой пьесы он установил на двух пересекающих друг друга вращающихся сценических площадках несколько помостов, на которых сплошь и рядом разыгрывались параллельные действия. И пол и крыша опускались одновременно, — никогда прежде театр не знал такой механизации.
Завлит. Театр Пискатора существовал на деньги хозяина пивоваренного завода и владельца кинотеатра. У первого была любовница — актриса, второго же снедало общественное честолюбие. Посещали театр почти исключительно крупная буржуазия, пролетариат и интеллигенция. Места в партере стоили очень дорого, а на галерее — необычайно дешево; часть пролетарской публики 363 приобретала постоянные абонементы на спектакли театра. Последнее обстоятельство в финансовом отношении представляло для театра серьезное бремя, поскольку оформление спектаклей из-за большого количества аппаратуры обходилось на редкость дорого. Все спектакли были злободневны — не только когда пьеса касалась текущего дня, но даже и тогда, когда она поднимала вопросы тысячелетней давности. Драматурги вели на сцене театра нескончаемый спор, и этот спор находил свое продолжение во всех уголках большого города: в газетах и салонах, кофейнях и частных домах. Театральной цензуры в то время не существовало, а острые общественные противоречия с каждым днем обострялись все больше. Крупная буржуазия побаивалась помещиков, которые по-прежнему верховодили в министерствах и в армии, а рабочие в это время боролись против мелкобуржуазных тенденций в собственных партиях. Театр Пискатора взял на себя задачу наглядного поучения. Здесь можно было увидеть, почему потерпела крах революция 1918 года, каким образом борьба за рынки и источники сырья порождала войны, как велись эти войны руками неохотно идущих в бой народов, как совершались победоносные революции. И сам театр, как художественный институт, также неизбежно изменялся с каждой новой задачей, которую он перед собой ставил, — временами он бывал весьма далек от искусства. Многообразные иллюстративные средства, вторгаясь в действие, нарушали фабулу и развитие характеров персонажей, будничная речь резко перемежалась декламацией, театр — кинематографом, реферирование — игрой. Задник, который некогда, как и поныне в соседних театрах, был своего рода неподвижным служителем сцены, теперь превратился в звезду театра и занял в нем видное место. Он состоял из киноэкрана. Фотографии текущих событий, выхваченные из кинохроники и хитроумно скомпонованные, обеспечивали документальный материал. Пол на сцене обрел подвижность: с помощью двух бежавших по нему горизонтальных деревянных полос, приводимых в движение мотором, можно было изображать уличные эпизоды. На сцену выходили декламационные и певческие хоры. Замыслам придавалось такое же значение, как и готовым или наполовину 364 готовым постановкам, — законченности не было ни в чем. Хочу привести два примера. Для пьесы на тему о жестокости запрещения абортов177 предполагалось в точности воспроизвести один из домов в трущобном квартале с тем, чтобы зрителю была видна каждая лопнувшая канализационная труба. Ожидали, что в антрактах публика пожелает внимательно осмотреть сцену. Готовя другую пьесу, посвященную китайской революции, хотели установить на палках ряд крупных щитов с начертанными на них краткими сообщениями о положении в стране («Текстильщики вступили в забастовку», «Среди крестьянской бедноты происходят революционные митинги», «Лавочники скупают оружие» и так далее). На обратной стороне щитов думали сделать другие надписи и, повернув щиты, иллюстрировать дальнейшее сценическое действие уже новыми сообщениями («Забастовка сломлена», «Крестьянская беднота создает вооруженные отряды» и т. д.). Таким путем можно было сигнализировать о беспрерывных переменах в ситуации, показывая сохранение одних ее элементов наряду с уже свершившимся изменением других17*.
Пискатор был одним из величайших театральных деятелей всех времен. Он электрифицировал театр и наделил его способностью отражать самые крупные темы. Нельзя сказать, что он и впрямь так мало интересовался актерской игрой, как утверждали его враги, но все же 365 она действительно занимала его меньше, чем он хотел признаться. Может быть, он потому не разделял интересов актеров, что они не разделяли его собственных. Как бы то ни было, он не сделал им подарка в виде какого-нибудь нового стиля, хотя подчас, показывая рисунок какой-нибудь роли, сам играл неплохо, в особенности мелкие острые эпизоды. Он допускал на своей сцене разные методы игры, ни к одному из них не проявляя особого пристрастия. Ему казалось, что большие темы легче воплотить в театре с помощью хитроумных и мощных сценических средств, нежели с помощью актерского искусства. Свою любовь к технике, за которую одни его укоряли, а другие — непомерно возвеличивали, он выказывал лишь постольку, поскольку она позволяла ему проявить свою буйную сценическую фантазию. Он умел ценить простоту, что и побудило его признать театральный метод Автора наиболее удобным для такого широкого показа мира и его движущих сил, который поможет зрителю ориентироваться в этом мире.
366 ФРАГМЕНТЫ К ТРЕТЬЕЙ НОЧИ
ТЕАТР АВТОРА
Завлит. Пискатор раньше Автора начал работать над созданием политического театра. Он участвовал в войне, Автор — нет. Бурные события 1918 года, в которых оба приняли участие, разочаровали Автора, Пискатора же сделали политиком. Лишь много позднее Автор под влиянием своих научных занятий тоже пришел к политике. К началу их сотрудничества у каждого из них был свой театр, у Пискатора — на Ноллендорфплац, у Автора — на Шиффбауэрдамме, в которых они готовили своих актеров. Автор обрабатывал для Пискатора большинство крупных пьес, писал для них сцены, однажды даже создал целый акт. Сценическую редакцию «Швейка»178 он выполнил для него от начала до конца. Со своей стороны, Пискатор приходил на репетиции Автора и оказывал ему помощь. Больше всего оба любили работать вместе. Они привлекали к сотрудничеству одних и тех же художников, как, например, композитора Эйслера и рисовальщика Гросса. Обоих этих замечательных художников они свели с актерами-любителями и показывали рабочим крупные театрализованные представления. Хотя Пискатор на своем веку не написал ни одной пьесы и лишь изредка набрасывал какую-нибудь сцену. Автор считал его единственным стоящим драматургом, кроме себя самого. Разве Пискатор не доказал, говорил он, что можно создавать пьесы, также монтируя, наполняя своими идеями и оснащая новыми сценическими средствами чужие сцены и эскизы? Разработка теории неаристотелевского театра и эффекта очуждения принадлежит Автору, однако многое из этого осуществлял также Пискатор, причем совершенно самостоятельно и оригинально. 367 Во всяком случае, поворот театра к политике составлял заслугу Пискатора, а без такого поворота театр Автора вряд ли мог бы быть создан.
Завлит. Прежде чем посвятить себя театру, Автор изучал естественные науки и медицину. Искусство и наука представлялись ему разнотипными явлениями с общей основой. Оба рода занятий равно должны были приносить пользу. Он не пренебрегал полезностью искусства, как это делали многие из его современников, но полагал возможным, чтобы и наука порой забывала о пользе. Науку он тоже считал искусством.
Завлит. Он был еще юношей, когда завершилась первая мировая война. Он изучал медицину в Южной Германии. Наибольшее влияние оказали на него два поэта и один клоун. В те годы были впервые показаны произведения Бюхнера179, творившего в тридцатые годы минувшего столетия, и Автор увидел пьесу «Войцек». И еще он увидел поэта Ведекинда180, который, выступая в собственных пьесах, играл в стиле, сложившемся в кабаре. Ведекинд в прошлом был уличным певцом, пел баллады под гитару. Но самому главному Автор научился у клоуна Валентина181, который выступал в пивном зале. Валентин показывал короткие скетчи, в которых изображал служащих, оркестрантов или фотографов, взбунтовавшихся против своего хозяина, ненавидевших и высмеивавших его. Хозяина играла его ассистентка, популярная комическая актриса, которая привязывала себе искусственный живот и говорила басом. Когда Автор ставил свою первую постановку182, в которой фигурировал получасовой бой, он спросил Валентина, как ему лучше показать солдат: «Каков солдат в бою?», и Валентин, не раздумывая, ответил: «Бел, как мел, не убьют — будет цел».
Завлит. Театр Автора был совсем невелик. В нем ставили ничтожное число пьес, готовили немногих актеров. Основными исполнительницами были — Вайгель, Неер и Ленья. Основными исполнителями — Гомолка, Лорре и Линген183. Певец Буш также входил в состав труппы, но лишь изредка выступал на сцене. Оформлял сцену 368 Каспар Неер184, не состоявший, кстати, ни в каком родстве со своей однофамилицей — актрисой театра. Композиторами театра были Вейль и Эйслер. Зрители времен Первой республики были неспособны создать актерам настоящую славу. Поэтому Автор стремился собственными силами прославить каждого из своих исполнителей. В коротком стихотворном поучении он, например, советовал актрисе Неер совершать утренний туалет так, чтобы художники при этом могли писать с нее картины, как со знаменитости. Все актеры пользовались определенной известностью, однако держались с публикой так, словно известность их была еще больше, а именно — со скромным достоинством.
Завлит. Автор проводил строгое различие между ошибками, допущенными из-за пренебрежения к его методу, и теми, что возникали вопреки его соблюдению и порой даже из-за него. «Мои правила, — говорил он, — действительны только для людей с неугасшей свободой суждений, духом противоречия и социальной фантазией, людей, которые находятся в контакте с прогрессивной частью публики, — иными словами, являются прогрессивными, сознательными, мыслящими индивидуумами. Не могу же я связать по рукам и ногам человека, занятого работой. Мои актеры порой допускают ошибки, которые нельзя рассматривать как нарушение моих правил, потому что какая-то часть их поведения мной не регулируется. Даже Вайгель — и та во время отдельных спектаклей в определенных местах вдруг принималась проливать слезы, совершенно против собственной воли и едва ли не в ущерб спектаклю. В одной пьесе185 она играла испанскую крестьянку времен гражданской войны, крестьянку, которая осыпала проклятиями собственного сына и вопила, что желает ему смерти, потому что он якобы поднялся на борьбу против генералов, тогда как в действительности он уже был расстрелян войсками генералов, хотя мирно ловил рыбу. В те дни, когда ставился этот спектакль, гражданская война еще продолжалась. То ли потому, что эта война приняла для угнетенных скверный оборот, то ли сама Вайгель в тот день по какой-либо иной причине отличалась повышенной чувствительностью, — как бы то ни было, когда актриса произнесла 369 это проклятие в адрес человека, уже убитого, у нее выступили на глазах слезы. Она плакала не как крестьянка, она плакала как актриса над горем крестьянки. Я считаю это ошибкой, но не вижу тут нарушения какого-либо из моих правил».
Актер. Но ведь эти слезы не были предусмотрены ролью. Это были сугубо личные слезы!
Завлит. Конечно. Но Автор отвергал притязания публики, на полное растворение личности актера в изображаемом персонаже. Мы, актеры, говорил он, а не кельнеры, которые обязаны лишь подавать кушанье посетителю и не смеют выказать своих собственных, личных чувств, боясь, как бы их не упрекнули, что они бесстыдно обременяют клиента излишней нагрузкой. Артисты — не слуги Автора, но и не слуги публики. И потому его актеры не были ни чиновниками от политики, ни жрецами искусства. Их обязанность как людей политически сознательных состояла в том, чтобы осуществлять свою общественную задачу средствами искусства и всеми другими. К тому же автор снисходительно относился к разрушению иллюзии. Он вообще был против иллюзии. На его сцене допускались шутки частного характера, импровизации и экспромты, немыслимые в старом театре.
Философ. Может быть, такое снисходительное отношение к случайным, не предусмотренным ролью произвольным выходкам актеров рассматривалось им как средство умаления их престижа перед зрителем? Если я не ошибаюсь, им к тому же вообще не полагалось навязывать публике свои взгляды, как нечто бесспорное.
Завлит. Ни при каких условиях.
Завлит. Во время одного из моих путешествий, занесшего меня несколько лет назад в Париж, я как-то побывал там в маленьком театре, где крохотная труппа немецких эмигрантов давала несколько сцен из пьесы186, рисующей положение в их стране. Никогда прежде мне не случалось видеть труппу, участники которой настолько отличались бы друг от друга по своему происхождению, образованию и таланту. Рядом с рабочим, которому вряд ли когда-либо раньше доводилось ступать на театральные подмостки, играла великая актриса, вероятно, 370 не знавшая себе равных в том, что касается таланта, сценической фактуры и образованности. Объединяло их, однако, то, что оба покинули свою родину, спасаясь от орд Маляра, и, пожалуй, также определенный стиль игры. Этот стиль, наверно, был очень близок к тому театральному методу, который ты отстаиваешь.
Философ. Расскажи, как они играли.
Завлит. Пьеса, которую они ставили, называлась «Страх и нищета в Третьей империи». Мне говорили, будто она состоит из двадцати четырех самостоятельных эпизодов, они сыграли из них не то семь, не то восемь. Эти сцены рисовали жизнь людей в Германии под железным игом Маляра. В них были выведены представители едва ли не всех слоев, с их покорностью или бунтом. Показан был страх угнетенных и страх угнетателей. С точки зрения художественной это представало как некий свод выразительных средств: взгляд человека, спасающегося от преследования, — назад, через плечо (и взгляд преследователя); неожиданное молчание; рука, зажимающая собственный рот, который едва не сказал лишнее, и рука, ложащаяся на плечо схваченного; вынужденная ложь; правда, рассказанная шепотом; недоверие, возникшее между влюбленными, и так далее. Но самым необычным было то, что актеры показывали все эти ужасные происшествия отнюдь не так, чтобы зрителям захотелось вдруг закричать: «стойте! хватит!» Зритель как будто не разделял ужаса людей, выведенных на сцене, случалось даже, что в зрительном зале раздавался смех, отчего нисколько не пострадала глубочайшая серьезность спектакля. Смех словно бичевал ту глупость, которая, как показывала пьеса, была вынуждена прибегать к насилию, и клеймил беспомощность, скрывавшуюся под личиной грубости. Люди, избивающие других, изображались как калеки, преступники — как заблуждающиеся или же позволившие ввести себя в заблуждение. Смех зрителей имел множество оттенков. Это был счастливый смех, когда преследуемым удавалось перехитрить преследователей, смех радостный, когда со сцены раздавалось доброе, правдивое слово. Так смеется изобретатель, после долгих стараний нашедший решение задачи: оказывается, все было так просто, а он так долго не мог его найти!
371 Актер. Как актеры этого добились?
Завлит. Не так-то легко сказать, в чем тут дело, однако у меня не создалось впечатления, будто этого так уже трудно достичь. Прежде всего, они играли так, что интерес зрителя неизменно был устремлен на дальнейший ход действия, на его развитие, иными словами, на движущие пружины событий. На взаимодействие причины и следствия.
Завлит. Мне сдается, что из-за твоего пристрастия к народным зрелищам мы несколько позабыли о том стремлении зрителя узнать что-то новое, на котором ты намерен строить свой театральный метод. Народное же искусство старается вызвать ужас. Ужас перед землетрясением, пожарами, зверствами, ударами судьбы.
Философ. Мы не позабыли о стремлениях зрителя, а лишь сделали экскурс в прошлое, ведь существенный признак народного искусства — неуверенность. Земля колеблется и вот-вот разверзнется. В один прекрасный день загорается крыша дома. Королям грозит перемена счастья. В основе стремления к знанию также таится неуверенность. Указания, как спастись или пособить, своему горю, могут быть обильнее или скуднее, в зависимости от того, на что способно человечество.
Завлит. Выходит, неуверенность может радовать?
Философ. Вспомните английскую поговорку: «Плох тот ветер, который никому не приносит ничего хорошего». И к тому же человек хочет, чтобы его изобразили таким же неуверенным, каким он является на самом деле.
Завлит. Значит, ты не хочешь исключить из искусства этот элемент неуверенности?
Философ. Ни в коем случае.
Актер. Значит, мы опять возвращаемся к «страху и состраданию»?
Философ. Не спеши. Я помню снимок, который одна американская сталелитейная фирма в свое время публиковала в рекламном отделе газет. На нем была запечатлена опустошенная землетрясением Иокогама. Среди хаоса рухнувших домов по-прежнему высились многоэтажные железобетонные строения. Подпись гласила: «Steel stood» — «Сталь выстояла».
372 Актер. Вот это здорово!
Завлит (рабочему). Почему вы смеетесь?
Рабочий. Потому что и впрямь здорово.
Философ. Эта фотография сделала искусству недвусмысленный намек.
Актер. Активное самопознание и беспрерывное обращение к собственному опыту легко могут побудить актера к изменению текста. Как вы к этому относитесь?
Философ. А что говорит Автор?
Завлит. Внося какие бы то ни было изменения, актеры обычно проявляют крайний эгоцентризм. Они ничего не замечают, кроме собственной роли. В результате они не только отвечают на тот или иной вопрос, но и меняют вопросы, так что и ответы уже приходятся невпопад. Когда же изменения осуществляются коллективно и с не меньшей увлеченностью и талантом, чем требуется для написания самой пьесы, пьеса от этого только выигрывает. Нельзя забывать, что не пьеса сама по себе, а спектакль составляет конечную цель всех усилий. Изменения требуют большого искусства, вот и все.
Философ. Последняя фраза, как мне кажется, ясно обозначает пределы возможных изменений. Я хотел бы также высказать опасение, как бы чрезмерная склонность к изменениям не породила легкомысленного подхода к изучению текста. Однако сама по себе возможность внесения коррективов, как и сознание, что они могут понадобиться, углубляет изучение.
Завлит. Уж если ты решил что-то менять, надо обладать достаточной смелостью и мастерством, чтобы произвести все необходимые изменения. Вспоминаю постановку шиллеровских «Разбойников» в театре Пискатора. Театр счел, что Шиллер совершенно несправедливо изобразил одного из разбойников — носителя радикальных взглядов Шпигельберга — несимпатичным для публики. Он был превращен на этом основании в симпатичного героя, и пьеса буквально рассыпалась. Оттого что ни в действии, ни в диалоге не содержалось никаких элементов, говоривших в пользу привлекательности образа Шпигельберга. Пьеса приобрела реакционный характер (в историческом аспекте ей не свойственный), а тирады Шпигельберга никому не показались революционными. 373 Только посредством очень серьезных изменений, которые следовало осуществить с большим историческим тактом и мастерством, можно было бы надеяться показать, что взгляды Шпигельберга, более радикальные, чем взгляды главного героя, в самом деле прогрессивнее последних.
Завлит. Как мы только что узнали, Автор расчленяет пьесу на мелкие самостоятельные сцены, в результате чего действие развивается скачками: он отвергает незаметную смену эпизодов. Каким же принципом он руководствуется, расчленяя пьесу? Он исходит из того, что заголовок, который дается какой-либо отдельной сцене, должен непременно носить исторический, общественно-политический или же историко-этический характер.
Актриса. Пример!
Завлит. «Мамаша Кураж отправляется торговать на войну» или «Мамаша Кураж спешит, боясь, что война скоро кончится», или еще «Пока она ублажает фельдфебеля, вербовщик уводит ее сына».
Актер. В чем же исторический, общественно-политический или историко-этический смысл последнего заголовка?
Завлит. Он воспринимается как характеристика эпохи, когда добрые поступки обходятся слишком дорого.
Актер. Эту характеристику можно отнести и к нашей эпохе, да и были ли когда-нибудь иные времена?
Завлит. Такие времена могут существовать в нашем воображении.
Завлит. Однажды Автор взял в руки киноленту, на которой была запечатлена гримирующаяся Вайгель. Он разрезал ленту, и в каждом кадре ему явилось завершенное, неповторимое выражение лица, обладающее самостоятельным значением. «Сразу видно, какая она актриса, — с восхищением проговорил он. — Каждый жест ее может быть разложен на бесчисленное множество жестов, и все они равно совершенны. Каждый связан с другим, но в то же время существует сам по себе. Прыжок хорош, но хорош и разбег». Самое же главное он 374 усматривал в том, что каждое движение мускулов во время гримировки выражало законченное душевное состояние. Люди, которым он показывал эти снимки, спрашивая, что означают различные выражения, запечатленные на них, в одном случае называли гнев, в другом — веселье, в третьем — зависть, в четвертом — жалость. Он показал киноленту также самой Вайгель и объяснил, как, изучив собственную мимику, она сможет выражать любые настроения, не испытывая их всякий раз.
НИСХОЖДЕНИЕ ВАЙГЕЛЬ К СЛАВЕ
Не о том здесь будет рассказано, как она совершенствовала свое искусство, пока не научилась заставлять зрителя не только плакать, когда она плакала, — и смеяться, когда она смеялась, но также и плакать, когда она смеялась, и смеяться, когда она плакала, — а лишь о том, что произошло после.
Когда она овладела своим искусством и пожелала; выйдя к самой большой аудитории — народу, затронуть важнейшие темы, которые интересовали народ, — она вследствие этого шага разом утратила свою репутацию, и началось ее нисхождение. Стоило только ей показать первый из созданных ею новых образов187 — старую женщину из народа — и сделать это так, чтобы сразу было заметно, чтó она делает себе в ущерб, а чтó на пользу, как среди зрителей, не принадлежавших к рабочей аудитории, произошло волнение. Двери прекрасных, наилучшим образом оборудованных театров закрылись перед ней, а когда она выступала в театральных залах на рабочих окраинах, немногочисленные знатоки искусства, последовавшие за ней туда, не отрицали ее мастерства, но считали, что оно обращено на недостойный предмет, и всюду повторяли: ее искусство не волнует. Рабочие, толпами приходившие на ее спектакли, сердечно приветствовали ее и были от нее в восторге, но, увлеченные содержанием, мало придавали значения ее игре. Ценою долгих усилий научившись привлекать внимание зрителей к важнейшим элементам содержания, иными словами, к борьбе угнетенных против своих угнетателей, она не без труда свыклась с перемещением интереса с нее — 375 изображающей — на объект ее изображения. Но именно это и было ее величайшей заслугой.
Многие артисты своим искусством достигают того, что зрители совсем перестают видеть и слышать все, что творится вокруг. Вайгель же достигала того, что ее зритель видел и слышал не только ее, а гораздо больше. Искусство ее при этом было многообразно. Она показывала, например, что доброта и мудрость суть искусства, которым можно и необходимо учиться.
Однако она была намерена демонстрировать не собственное величие, а лишь величие тех, кого она изображала. Она растерялась, когда однажды кто-то, желая ей польстить, сказал: «Ты не играла ту женщину-мать из народа, — ты была ею». — «Нет, — поспешно возразила она, — я играла ее, и она-то и понравилась тебе, а не я». И в самом деле, когда, к примеру, она играла рыбачку188, потерявшую сына в гражданской войне и затем поднявшуюся на борьбу против генералов, она превращала каждый момент пьесы в исторический момент, каждое высказывание — в знаменитое высказывание исторической личности. Но все это неизменно преподносилось естественно и просто. Простота и естественность и были как раз тем, что отличало созданные ею новые исторические образы от старых. Когда ее спрашивали, как ей удается с такой силой воплощать благородные черты угнетенных, поднявшихся на борьбу, она отвечала: «Путем точного подражания». Она умела пробужать в людях не только чувства, но и мысли, и эти раздумья, пробужденные ею, доставляли им наслаждение, вызывая временами бурную, временами тихую радость. Я говорю сейчас о рабочих, которые приходили смотреть ее игру. Потому что знатоки искусств перестали посещать ее спектакли и вместо них появились полицейские. Правда, рупором и воплощением которой она стала, встревожила правосудие, существующее для того, чтобы бороться против справедливости. После спектаклей она не раз оказывалась в полицейском участке. В это время к власти пришел Маляр, и она была вынуждена бежать из страны. Она не знала никакого другого языка, кроме того, в знании которого никто не мог сравниться с ней. И отныне она лишь изредка играла с маленькими труппами, составленными из рабочих и обученными за несколько 376 репетиций, перед другими беженцами. Все остальное время она проводила за домашней работой и воспитанием детей, в маленьком рыбачьем домике, вдали от всякой сцены. Ее стремление выступать перед многими привело к тому, что теперь она могла выступать лишь перед совсем немногими. Крайне редко появляясь на сцене, она играла только в таких пьесах, которые отображали ужасы современности и их причины. Внимая ей, беженцы забывали свое горе, но не его истоки. И после каждого спектакля они ощущали прилив новых сил для дальнейшей борьбы. Объяснялось это тем, что Вайгель показывала им собственную их мудрость и собственную их доброту. Она все больше совершенствовала свое искусство и, вооруженная этим беспрерывно оттачиваемым искусством, проникала в самые глубины жизни. И вот тогда-то, когда она полностью упустила и утратила свою прежнюю славу, родилась ее вторая слава, она росла и множилась в глубинах памяти немногих гонимых, в годы, когда многие были гонимы. Она была довольна: она хотела, чтобы ее славили в низах, чтобы ее знали многие, но она могла довольствоваться и любовью немногих, коль скоро нельзя было иначе.
Тогда-то она и создала тот образ пролетарской женщины, которым прославила пролетариат, не поступаясь ни реализмом в интересах идеала, ни идеалом — в интересах реализма, как это столь часто случается. Она показала, что угнетенные могут управлять государством, а эксплуатируемые способны на творческий подвиг. Она не скрывала того, что было загублено в этих людях, но каждый мог видеть, что же было в них загублено, то есть то, что некогда сверкало в первозданной красе. Словно кто-то создавал рисунок дерева, изуродованного обстоятельствами — бедностью почвы, стенами домов, помехами самого разного рода, и одновременно тут же другим, отличным от первого, почерком рисовал дерево таким, каким оно было бы, если бы выросло без всех этих помех, — так что разница не вызывала сомнений. И все же это сравнение хромает, потому что оно оставляет без внимания ее стремление показать попытки своей пролетарской героини изменить неблагоприятные условия действительности. Она изображала благородство, показывая борьбу за благородные цели, а доброту — воспроизводя 377 усилия, направленные на улучшение мира. И все эти тяжкие усилия она изображала с такой легкостью, с какой мастер обычно рассказывает об опытах своих ученических лет, увенчавшихся успехом благодаря многократному повторению. Она не молила угнетателей о жалости к угнетенным, а просила угнетенных поверить в собственные силы.
ЭФФЕКТ ОЧУЖДЕНИЯ
Философ. Подобно тому как вживание превращает необыкновенное событие в обычное, эффект очуждения делает будничное необычным. Самые банальные явления перестают казаться скучными благодаря тому, что их изображают как явления необыкновенные. Зритель уже не бежит из современности в историю, — сама современность становится историей.
Философ. Главная причина того, почему актеру необходимо соблюдать отчетливую дистанцию по отношению к персонажу, которого он изображает, в следующем: чтобы вручить зрителю ключ к отношению, которого заслуживает этот персонаж, а также дать лицам, походящим на этого героя или же находящимся в аналогичном положении, ключ к решению их проблем, он должен занимать такую точку зрения, которая не только лежит вне сферы данного персонажа, но и находится впереди его, на более высокой ступени развития событий. Недаром классики говорили, что обезьяну легче всего может понять человек — ее высокоразвитый потомок.
Завлит. Эффект очуждения пропадает, если при воплощении чужого образа актер полностью утрачивает собственный. Его задача в другом — показать переплетение обоих образов.
Актриса изображает мужчину.
Философ. Если бы этого мужчину изображал мужчина, он вряд ли так наглядно выявил бы в нем именно мужское начало. Многие детали, которые прежде казались 378 нам общими для всех людей, теперь, после того как этого мужчину, точнее, этот эпизод, сыграла женщина, предстали перед нами как типично мужские. Значит, во всех случаях, когда требуется подчеркнуть пол персонажа, актер должен заимствовать кое-что из того, что показала бы в этой роли женщина, а актриса — перенять кое-что из того, что привнес бы в женскую роль мужчина.
Актер. В самом деле, мне, пожалуй, не случалось видеть где-нибудь еще таких женственных женщин, как на фронте во время войны, когда женские персонажи изображались мужчинами.
Актриса. А еще стоит поглядеть, как дети играют взрослых! Сколь многое в поведении взрослых оказывается на поверку странным и непонятным! В одной школе я видела, как дети ставили пьесу «Что тот солдат, что этот». В пьесе совершается продажа слона. Это событие, которому не могло быть места в детской среде, и в пьесе вдруг обрело налет «невероятности», вернее, оно предстало чем-то в лучшем случае «возможным», с трудом вообразимым, едва ли осуществимым даже при определенных временных условиях.
Завлит. Другой пример эффекта очуждения я наблюдал в одном американском фильме. Совсем молодой актер, прежде всегда игравший рабочих парней, каким, видно, раньше был сам, выступал в нем в роли юноши из буржуазной семьи, которому к его первому балу дарят смокинг. Нельзя сказать, что у него не получился образ буржуазного юноши, но этот образ вышел совсем необычным. Многие, очевидно, заметили лишь то, что это был какой-то на редкость ребячливый юноша. В самом деле, молодые и старые имеют свои отличительные особенности в обоих классах общества. В каком-то отношении пролетарский юноша взрослее буржуа, в другом — ребячливее.
Завлит. А разве сюрреализм в живописи не использует все тот же эффект очуждения?
Философ. Конечно. Эти сложные и утонченные художники выступают как бы в роли примитивных адептов нового рода искусства. Они стремятся шокировать зрителя, тормозя, нарушая, дезорганизуя его ассоциации, 379 например, пририсовав к женской руке вместо пальцев глаза. И тогда, когда это воспринимается как символ (женщина словно бы видит своими руками), и в тех случаях, когда конечность просто завершается не тем, к чему мы привыкли, наступает известный шок, рука и глаз воспринимаются как нечто чуждое, необычное. Именно вследствие того, что рука вдруг перестает быть рукой, возникает понятие руки, скорее связанное с повседневной функцией этого органа, чем с тем декоративно-эстетическим изображением, которое мы уже встречали на десятках тысяч других полотен. Правда, сплошь и рядом эти картины являются лишь реакцией на полную никчемность функций людей и предметов в наше время, иными словами, они выявляют тяжкое функциональное расстройство, которым страдает эпоха. Точно так же и протест против того, чтобы все на свете осуществляло определенную функцию, чтобы все было лишь средством, а не щелью, говорит о наличии функционального расстройства.
Завлит. А почему ты считаешь подобное использование эффекта очуждения примитивным?
Философ. Потому что в этом случае парализована общественная функция этого рода искусства, вследствие чего и само искусство перестает играть какую-либо роль. Воздействие его исчерпывается удивлением, вызванным шоком, о котором я говорил.
Философ. Возьмем, к примеру, смерть подлеца! Уничтожение асоциальной личности, которому обязаны своим спасением другие личности. Необходимость этого уничтожения все же должна в какой-то мере оспариваться. Уж если общество прибегает к этому крайнему средству, значит, в свое время оно упустило другие! Право на жизнь, столь неумело утверждаемое обществом, что, утверждая его, оно вынуждено его отрицать, есть самое элементарное право человека, на котором основаны все прочие его трава. Так или иначе, мы вынуждены помогать умирающему в борьбе за жизнь, за голое, оторванное от всех общественных наслоений и разветвлений существование, за прозябание, сведенное к одному лишь обмену веществ. Мы обязаны как-то уважать его человеческую сущность, ныне возведенную до 380 минимума: он не хочет умирать, он не хочет перестать быть человеком — это и есть то, что роднит нас с ним, поскольку мы в какой-то мере разделяем и его бесчеловечность, коль скоро мы хотим его убить или по меньшей мере желаем его смерти. О, еще многое другое роднит нас с ним, даже и теперь. И в нем также таилась часть нашей беззащитности по отношению к нему. Если вообще жизнь чего-то стоит, она должна иметь в глазах общества и благодаря ему определенную цену.
Философ. Представим себе, что вы ставите пьесу, где в первой сцене человек А ведет на казнь человека Б, а в последней сцене повторяется тот же эпизод, но с переменой ролей: теперь после ряда событий, показанных на сцене, человека А конвоирует к месту казни человек Б, так что в рамках одного и того же эпизода (конвоирование к месту казни) А и Б меняются местами (палача и жертвы). Ставя первую сцену, вы наверняка позаботитесь о том, чтобы эффект от заключительной сцены оказался как можно более сильным. Вы сделаете все, чтобы при виде последней сцены зритель тотчас вспомнил первую, чтобы ему сразу бросилось в глаза сходство и в то же время сразу было заметно различие между ними.
Завлит. Конечно, для этого есть определенные средства. Прежде всего, нельзя играть первую сцену как рядовой эпизод, сменяющийся другим, — она должна приобрести особое звучание. Каждый жест в ней должен быть соотнесен с точно таким же или другим жестом в заключительной сцене.
Философ. И актер, знающий, что в тот же вечер — только попозже — он займет место своего партнера, думается мне, станет играть иначе, чем если бы он ни о чем не подозревал. Он будет иначе изображать палача, помня о том, что ему предстоит изобразить еще и жертву.
Завлит. Это очевидно.
Философ. Что ж, последняя сцена очуждает первую (точно так же, как первая очуждает последнюю, на чем, собственно говоря, строится эффект пьесы). Актер принимает определенные меры, вызывающие эффект очуждения. А теперь вам остается лишь применить тот же 381 метод изображения в пьесах, не имеющих подобной заключительной сцены.
Завлит. Иными словами, играть все сцены с учетом возможности любых других сцен, не так ли?
Философ. Да, так.
Философ. Зрителя тем легче подвести к общим размышлениям (Лир поступает так, а как поступаю я?), чем конкретнее показанный ему случай. Совершенно необычный отец в то же время может олицетворять и наиболее распространенный тип отца. Особенное — признак общего. Его легко встретить в обыденном.
Философ. Стремление показать обществу определенные события со стороны с тем, чтобы общество могло исправить определенные непорядки, не должно заставлять нас пренебрегать всем тем, что лежит вне сферы общественного воздействия. Нельзя также полагать, будто мы должны лишь задавать загадки как разрешимые, так и неразрешимые. Неизвестное возникает лишь на почве известного.
Философ. О полноте какого-либо закона можно судить лишь по полноте его ограничений. Вы должны демонстрировать ту или иную закономерность не на излишне податливых, «подходящих» к случаю типах, а скорее на типах «упирающихся» (в нормальной мере). Это означает, что типаж должен быть приблизительным. Если вы считаете, что, к примеру, крестьянин при данных условиях должен совершить такой-то поступок, то изберите для этой цели совершенно определенного крестьянина, не останавливая, однако, на нем своего выбора только вследствие его склонности поступать именно так, а не иначе. Еще лучше, если вы сумеете показать, как тот же закон проявляется на примере различных крестьян и всякий раз по-разному. Законы дают вам лишь крайне общую тенденцию, эталон, обобщение. «Класс», например, есть понятие, охватывающее большое число индивидуумов, которые, будучи включены в это понятие, тем самым перестают существовать как индивидуумы. На этот класс распространяется ряд законов. Они распространяются на каждого из входящих в него индивидуумов 382 постольку, поскольку он идентичен с этим классом, иначе говоря, не абсолютно, ведь само понятие «класс» возникло в результате абстрагирования от специфических особенностей индивидуума. Вы же изображаете на сцене не принципы, а людей.
Завлит. Разница между научным изображением носорога, например, рисунком из пособия по биологии, и художественным изображением проявляется в том, что в последнем случае хоть как-то выявляется отношение художника к этому животному. В рисунке заложен сюжет, даже если на нем изображен один носорог. Вид у зверя может быть ленивый или разъяренный, сытый или лукавый. В рисунке запечатлены такие свойства, знание которых совершенно излишне с точки зрения одного лишь изучения скелета носорога.
Завлит. Вспомним сцену смерти Лира: «Мне больно. Пуговицу расстегните! Благодарю вас, сэр!» Среди грома проклятий раздается просьба, жизнь нестерпима, к тому же еще жмет одежда. Жил король, а умирает человек. Он вполне учтив («благодарю вас, сэр»). Тема раскрыта полностью как в большом, так и в малом. Человек, разочаровавшийся в жизни, умирает. Разочарование и смерть схожи отнюдь не во всем. Умирающий не прощает, но принимает услуги. Человек зашел слишком далеко, но этого нельзя сказать об авторе этой пьесы. Лир и без того совершенно уничтожен, его неожиданная смерть преподносится как дополнительный устрашающий элемент. Лир умирает.
Актер. Но величайшее преимущество искусства как раз в том и состоит, что его копии не создаются на основе соображений целесообразности, с учетом моральных требований эпохи и в угоду подтверждению господствующих взглядов.
Завлит. Стой! Если копии не подтверждают господствующих взглядов, иными словами, игнорируют взгляды господствующих слоев, то это нисколько не мешает им отвечать соображениям целесообразности. Дело обстоит как раз наоборот.
383 Актер. Но ведь искусство идет гораздо дальше или, если хочешь, не заходит столь далеко. Оно способно показать всю мощь, стремительность и красоту бурного потока, грозящего затопить целые деревни. Оно извлекает наслаждение из созерцания асоциальных индивидуумов, показывает жизнеспособность убийц, хитрость мошенников, красоту гарпий.
Философ. Это в порядке вещей. Этот непорядок отвечает порядку вещей. До тех пор пока от нас не скрывают затопленных деревень, не возводят напраслину на убитых, не оправдывают обмана и не выдают когти гарпий за высокоценное орудие труда, все в порядке.
Актер. Я не могу одновременно изображать и живодера и овцу.
Завлит. Не на тебе одном держится театр.
Философ. Ты не можешь одновременно изобразить живодера и овцу, но, думается мне, ты все же можешь изобразить живодера, убивающего овцу.
Актер. Одно из двух: или я обращаюсь к живодеру в моем зрителе, или же к должнику банка.
Философ. Живодер может быть должником банка.
Актер. Правильно, но только невозможно одновременно взывать к обоим этим качествам. Нет, я обращаюсь к единичному человеку лишь как к представителю всего человечества. Человечество же в целом ценит жизненную силу как таковую, независимо от того, как она проявляется.
Завлит. Каждый образ создается во взаимодействии с другими образами. Поэтому актер должен придавать игре партнера такое же значение, как и своей собственной.
Актер. Это не ново. Я никогда не затираю своих партнеров.
Актриса. Случается и так.
Завлит. Не о том речь.
Завлит. Обратите внимание на различия между понятиями: «сильный» и «грубый», «свободный» и «нестойкий», «быстрый» и «торопливый», «причудливый» и «путаный», «эмоциональный» и «сентиментальный», «противоречивый» и «нескладный», «ясный» и «недвусмысленный», 384 «полезный» и «прибыльный», «патетический» и «выспренний», «торжественный» и «ханжеский», «нежный» и «слабый», «страстный» и «необузданный», «естественный» и «случайный».
Философ. Если супруг, возвратясь домой, вдруг увидит перед собой животное о двух спинах, он ощутит целую гамму чувств и сразу покажет, какие из них целостны, какие нет. Тут и торжество ловца: («Да, как раз вовремя я поспел!») и нежелание убедиться в чем-то, что будет ему неприятно: («Возможно ли еще сомневаться?»); отвращение к плотской утехе («Ну и свиньи!»); печальное сознание потребности («Она без этого не может!»); презрительное отречение: («Много ли я потерял, если она такая!»); жажда мести («За это она мне заплатит!») и так далее и тому подобное.
Завлит. Почему обыватели беспрестанно укоряют скупщика меди в недостатке чувства, в стремлении упразднить эмоциональное в интересах рассудочного?
Философ. Разумное начало, которым он наделен, не вызывало в их душах никакого отклика. Более того, их чувства восставали против него и его разума. Он раздражал их своим неумеренным критицизмом. При этом он никогда не обращался к их разуму, а лишь к разуму их врагов. К тому же и критика была для него лишь частью практических мер по изменению условий жизни. Сбор жалоб на бурное течение рек и дурной вкус плодов он рассматривал лишь как часть своей работы, другую часть которой составляло строительство разных плотин и улучшение породы фруктовых деревьев. Его критика носила практический, а следовательно, также непосредственно эмоциональный характер; то же, что они звали критикой, оставалось в рамках этического, не перерастая в практические действия, и потому не выходило в сферы эмоций. Поэтому их критика чаще всего оставалась бесплодной, и на этом основании они прилепляли клеймо бесплодности ко всякой критике, в том числе и к критической позиции скупщика меди.
Завлит. Я полагал, все дело тут лишь в недоразумении, коренившемся в том, что его возражения против вживания в искусстве были восприняты как возражения против привнесения чувств в искусство.
385 Философ. Нет, корни этого недоразумения гораздо глубже. Его современники — буржуа — не уставали убеждать мятежные массы, будто в своем смятении чувств они не понимают разумности существующего общественного строя, руководителей же масс уверяли, что они исходят лишь из холодных требований разума, не считаясь со сложившейся в ходе многих тысячелетий эмоциональной жизнью народа, с его религиозными, нравственными, семейными чувствами.
ЭФФЕКТЫ ОЧУЖДЕНИЯ В КИТАЙСКОМ СЦЕНИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ
Ниже будет кратко рассмотрено применение эффекта очуждения в древнем китайском сценическом искусстве. В последнее время этот эффект использовался в Германии при попытках создания эпического театра, в пьесах неаристотелевской (не основанной на вживании) драматургии. Речь идет о попытках играть так, чтобы зритель не мог беспрепятственно вживаться в образы персонажей. Приятие или неприятие высказываний и поступков действующих лиц должно осуществляться в сфере сознания, а не как прежде — в сфере подсознания зрителя.
Попытку очуждения изображаемых явлений для публики на примитивной ступени можно обнаружить уже в театральных представлениях и предметах изобразительного искусства, показывавшихся в старину на народных ярмарках. Речевая манера клоунов, как и разрисовка панорам одинаково строились на использовании эффекта очуждения. Стиль живописи в демонстрировавшейся на многих немецких ярмарках репродукции картины «Бегство Карла Смелого после битвы при Муртене», естественно, говорит о слабом искусстве копировщика, однако эффект очуждения, достигаемый копией и не достигнутый оригиналом, отнюдь не обязан своим возникновением слабому мастерству автора копии. Бегущий полководец, его конь, его свита, даже пейзаж совершенно сознательно выписаны так, чтобы создать впечатление потрясающего события, непостижимой катастрофы. Вопреки слабости своего мастерства, художник 386 отлично передает элемент неожиданности. Изумление водило его кистью.
Древнему китайскому сценическому искусству также знаком эффект очуждения, и оно использует его чрезвычайно хитроумным образом. Известно, что китайский театр применяет множество символов. Генерал, например, носит на плече флажки — столько, сколько полков под его началом. Бедность передают, нашивая на шелковые одежды асимметрично расположенные куски другого цвета, но непременно также из шелка, которые должны изображать заплаты. Характеры обозначаются определенными масками, то есть попросту с помощью грима. Посредством некоторых жестов, выполняемых обеими руками, дают понять, что кто-то насильно распахивает дверь, и так далее. Сама сценическая площадка не претерпевает никаких изменений, однако во время действия сюда вносят мебель. Все это известно с давних пор и вряд ли может быть перенесено в другие условия.
Отказаться от привычки воспринимать какое-либо художественное представление как единое целое не так-то легко. Однако это необходимо, если ставится задача из множества эффектов изучить один-единственный. Эффект очуждения достигается в китайском театре следующим образом.
Прежде всего, игра китайского артиста не создает впечатления, будто помимо окружающих его трех стен существует еще и четвертая. Он показывает: ему известно, что на него смотрят. Это сразу же устраняет одну из иллюзий, создаваемых европейским театром. После этого публика уже не может воображать, будто она является невидимым свидетелем реального события. Тем самым отпадает необходимость в той сложной и детально разработанной технике европейской сцены, назначение которой скрывать от публики старания актеров в любом эпизоде быть у нее на виду. Подобно акробатам, китайские актеры совершенно открыто выбирают те места, с которых они наилучшим образом видны публике. Второй прием: артист сам следит за своей игрой. Изображая, к примеру, облако, его неожиданное появление, мягкий и вместе с тем стремительный рост, быстрое, но плавное изменение, актер непременно раз-другой 387 оглянется на зрителя, словно желая опросить: разве в жизни это не так? Однако китайский артист глядит также на собственные руки и ноги, рассматривает каждое их движение, проверяя, быть может, даже одобряя его. Откровенный взгляд на подмостки, с целью определить, сколько места отведено ему для работы, не представляется актеру запретным приемом, способным разрушить иллюзию зрителя. Артист отделяет таким образом мимику (показ разглядывания) от жестов (изображение облака), но она нисколько от этого не проигрывает, так как выражения лица актера сменяются в зависимости от характера его телодвижений и в конечном счете определяются ими. Вот выражение скромного достоинства, а вот уже на лице актера полное торжество! Артист рассматривает свое лицо, как чистую страницу, которая может быть заполнена под влиянием жестов.
Артист стремится произвести на зрителя странное, даже жутковатое впечатление. Он достигает этого, созерцая самого себя и свою собственную игру с очужденностью. В результате события, которые он изображает, приобретают диковинный характер. Обыденные явления благодаря его искусству вырываются из сферы привычного. Например, он показывает, как молодая женщина, дочь рыбака, правит лодкой. Стоя, с помощью маленького весла, едва доходящего ей до колен, она управляет несуществующим челном. Вот течение убыстряется, ей становится все труднее удерживать равновесие, а вот теперь лодка вошла в бухту, и она гребет уже несколько спокойнее. Что ж, именно так управляют лодкой. Но эта лодочная прогулка воспринимается зрителем как историческое событие, по всей вероятности, воспетое во многих песнях, необыкновенное, ведомое всем и каждому. Наверно, каждое движение прославленной девы увековечено в картинах, с каждым изгибом реки связано приключение, известное всем, и сам изгиб тоже известен всем. Такое чувство зрителя вызвано позицией артиста, им создана знаменитая прогулка в лодке. Эта сцена напомнила нам поход на Будейовицы из пьесы «Бравый солдат Швейк» в постановке Пискатора189. Трехдневный марш Швейка на фронт под солнцем и при луне был показан как историческое событие, не менее 388 памятное, чем, к примеру, поход Наполеона в Россию в 1812 году.
Осуществляемое артистом наблюдение за самим собой, этот искусственный и искусный акт самоочуждения, мешает полному, доходящему до самозабвения вживанию зрителя и создает великолепную дистанцию по отношению к изображаемым событиям. Однако это не означает полного отказа от вживания. Зритель вживается в образ созерцающего актера, — так он приучается к созерцательной, наблюдательной позиции.
Западному актеру игра китайских артистов подчас может показаться холодной. Но не надо думать, будто китайский театр отказывается от изображения чувств! Артист изображает столкновение больших страстей, но при этом его игра лишена горячности. В моменты глубокого волнения, испытываемого изображаемым персонажем, артист захватывает губами прядь волос и перекусывает ее. Но этот акт носит характер ритуала, в нем отсутствует какая бы то ни было эмоциональная вспышка. Ясно видно, что речь идет о повторении некогда случившихся событий, об изображении их, пусть даже искусном. Артист показывает: вот человек вышел из себя, и он намечает внешние признаки этого состояния. Так принято передавать состояние, когда человек находится «вне себя», то есть, быть может, это и не принято повсеместно, но, во всяком случае, годится для сцены. Как бы то ни было, из многих возможных признаков отобраны совершенно определенные, очевидно, после долгого раздумья. Разумеется, можно отличить гнев от недовольства, ненависть — от неприязни, любовь — от симпатии, но всякое эмоциональное движение отображается экономно. Ощущение холодности игры возникает вследствие того, что актер, как уже было сказано, отмежевывается от персонажа, которого он изображает. Он остерегается навязывать зрителям переживания этого героя. Персонаж, которого он представляет, никого не насилует: зритель не отождествляет себя с ним, а скорее рассматривает его как своего соседа.
На Западе актер всячески старается как можно ближе подвести своего зрителя к изображаемым событиям и изображаемому герою. С этой целью он принуждает зрителя вживаться в его, актера, чувства, сам же прилагает 389 все силы к тому, чтобы с возможно большей полнотой перевоплотиться в другой образ — в образ изображаемого им героя. Коль скоро ему удалось это полное перевоплощение, его искусство в основном исчерпано. И если он уже перевоплотился в того самого банковского кассира, врача или полководца, ему отныне требуется столь же мало искусства, сколько нужно тому кассиру, врачу или полководцу «в жизни».
Осуществить подобный акт полного перевоплощения, кстати сказать, весьма нелегко. Станиславский указывает целый ряд средств, целую систему, с помощью которой можно всякий раз, на каждом спектакле вызывать в себе то, что он обозначил как «creative mood» — «творческое настроение»190. Как правило, актер не в состоянии подолгу всерьез ощущать себя кем-то другим. Он скоро выдыхается и тогда лишь продолжает копировать определенные внешние черты поведения и интонации героя, вследствие чего его воздействие на публику резко ослабевает.
Это, бесспорно, происходит оттого, что создание чужого образа было «интуитивным», то есть смутным актом, происходившим в подсознании, подсознание же очень трудно регулировать: у него, как говорится, плохая память.
Китайский артист не знает этих трудностей, он отказывается от полного перевоплощения. Он заведомо ограничивается одним цитированием изображаемого героя. Но с каким искусством он это делает! Ему нужен лишь минимум иллюзии. То, что он показывает, интересно и для зрителя, не охваченного наваждением. Какой западный актер старой школы (за исключением одного-двух комиков) смог бы, подобно китайскому артисту Мей Лань-фану191, продемонстрировать элементы своего сценического искусства в смокинге, в комнате без особого освещения, да еще перед собранием знатоков? Показать, например, сцену, где король Лир распределяет свое наследство, или другую, где Отелло находит платок Дездемоны? Он бы уподобился ярмарочному фокуснику, раскрывшему секрет своих трюков, после чего никто и никогда не захотел бы вновь увидеть его «колдовство». В лучшем случае он мог бы показывать, как надо притворяться. Отпади гипноз, и осталось бы всего каких-то несколько фунтов наскоро замешенной мимики, сырой 390 товар для продажи в потемках клиентам, которым недосуг. Конечно, ни один западный актер не устроил бы подобного представления. Что стало бы тогда со святостью искусства? С таинством перевоплощения? Для западного актера важно, чтобы секрет его искусства оставался неузнанным. В противном случае — как он полагает — оно утратило бы свою ценность. Сопоставление со сценическим искусством Азии позволяет увидеть путы церковной обрядности, по-прежнему сковывающие наше искусство. Впрочем, нашим артистам становится все труднее осуществлять таинство полного перевоплощения, память их подсознания становится все слабее и разве только гениям удается еще черпать правду из замутненной интуиции людей классового общества.
Актеру трудно и мучительно вызывать в себе каждый вечер определенные эмоции и настроения. Несравненно проще демонстрировать внешние признаки, сопутствующие этим эмоциям и служащие для их выражения. Правда, в этом случае не так-то легко передать эти чувства зрителю, эмоционально увлечь его. Тут вступает в действие эффект очуждения, но он не влечет за собой устранения эмоций, а ведет к появлению эмоций, которые не обязательно совпадают с чувствами изображаемого лица. При виде горя зритель может испытать радость, при виде ярости — отвращение. Говоря здесь об изображении внешних признаков эмоций, мы имеем в виду не такое изображение и не такой подбор признаков, которые все же приведут к эмоциональному заражению, потому только, что, изображая внешние признаки, актер все же вызвал в себе соответствующие чувства. Например, повышая голос, задерживая дыхание и одновременно напрягая мышцы шеи, вследствие чего кровь приливает к голове, актер легко может вызвать у себя ощущение гнева. В этом случае эффекта очуждения, естественно, не получится. Зато его можно достичь иным способом, если актер в ходе пьесы вдруг неожиданно продемонстрирует глубокую бледность лица, вызванную чисто механическим способом: закрыв на мгновение лицо руками, он может нанести на него ладонями белый грим. Коль скоро артист при этом сохранит видимость спокойствия, его испуг в ту самую минуту (вызванный какой-либо вестью или открытием) создаст эффект очуждения. Такой метод 391 игры, на наш взгляд, гораздо здоровее и более достоин мыслящего существа, он требует глубокого знания человеческой души и жизненной мудрости, а также острого восприятия важнейших общественных проблем. Разумеется, и здесь имеет место творческий процесс, но он пропекает на более высоком уровне, поскольку отныне разыгрывается в сфере сознания.
Конечно, эффект очуждения отнюдь не предполагает неестественной игры. Не следует ни в коем случае смешивать его с обыкновенной стилизацией. Напротив, достижение эффекта очуждения непосредственно зависит от легкости и естественности представления. Однако при проверке правдивости своей игры (необходимой операции, которой Станиславский в своей системе уделил много внимания) актер уже не обречен ориентироваться лишь на свое «естественное восприятие»: в любой момент он может поправить свою игру сопоставлением с действительностью. (А говорит ли так разгневанный человек? Так ли садится человек, пораженный горем?) Иными словами, соотнеся ее с поведением других лиц. При этом методе игры почти каждый жест отдается на суд зрителя, и едва ли не каждая фраза может повлечь за собой его приговор.
Китайский артист не играет в состоянии транса. Его можно прервать в любой момент. Он не «выйдет из образа». После перерыва он продолжит свое представление с того самого места, где его прервали. Мы не вторглись в «мистический миг создания образа»: выйдя к нам на сцену, он уже закончил свою работу над ним. Он не станет возражать, если вокруг него во время игры будут переставлять декорации. Проворные руки совершенно открыто подадут все, что нужно ему для игры. Однажды во время сцены, где Мей Лань-фан изображал смерть бедной девушки, мой сосед по театру удивленно вскрикнул при виде одного из жестов артиста. Некоторые из сидевших впереди нас в негодовании обернулись назад и зашикали на этого человека. Они вели себя так, словно присутствовали при настоящей смерти настоящей девушки. Их поведение, возможно, уместное в европейском театре, на этом китайском спектакле казалось предельно смехотворным. Они не восприняли «эффекта очуждения».
392 Оценить возможность перенесения «эффекта очуждения», применяемого в китайском сценическом искусстве, на иную почву (как технического метода и принципа, отделимого от китайского театра) не так-то легко. Китайский театр представляется нам бесконечно жеманным, его изображение человеческих страстей — схематичным, его концепция общества — застывшей и ложной. На первый взгляд кажется, будто ни один из элементов этого большого искусства не может быть использован для реалистического и революционного театра. Более того, мотивы и цели эффекта очуждения представляются нам чуждыми и подозрительными.
Европейцу, наблюдающему за игрой китайцев, нелегко освободиться от того чувства очуждения, которое она вызывает. Следовательно, необходимо попытаться представить себе, что те же артисты достигают аналогичного эффекта очуждения и у своих китайских зрителей. Но мы не должны смущаться и тем (а это намного трудней), что китайский артист, вызывая у зрителя ощущение таинственности, по всей видимости, не стремится открыть ему какую-либо тайну. Тайны природы (в особенности человеческой) становятся его собственной тайной, он никому не дает подглядеть, каким образом он воспроизводит то или иное явление природы, да и сама природа еще не позволяет ему, уже научившемуся воспроизводить это явление, вникнуть в его суть. Перед нами — художественное выражение примитивной техники, первичной ступени науки. Истоки эффекта очуждения, применяемого китайским артистом, связаны с магией. То, «как это делается», еще облечено покровом тайны, знание — это все еще знание трюков, и те немногие, которые им владеют, строго хранят свои секреты, в то же время извлекая из них выгоду. Но и тут уже происходит вмешательство в процессы природы; умение воспроизводить некоторые из них порождает вопрос, и в будущем исследователь, стремясь представить процессы природы, как понятные, познаваемые и земные, всякий раз станет искать отправную точку зрения, с которой они представляются таинственными, непонятными и непознаваемыми. Он будет становиться в позицию изумляющегося, иными словами — применять эффект очуждения. Тот не математик, кому формула «дважды два — четыре» 393 кажется само собой разумеющимся, как и тот не математик, кто не в состоянии ее осмыслить. Человек, который впервые с удивлением посмотрел на лампу, качающуюся на шнуре, и нашел не чем-то само собой разумеющимся, а в высшей степени странным, что она раскачивалась, как маятник, и раскачивалась именно так, а не иначе, — существенно приблизился к пониманию этого явления и тем самым к овладению им. Недопустимо было бы просто заявить, будто предложенная позиция годится для науки, но непригодна для искусства. Почему бы искусству не попытаться, конечно, своими собственными средствами, служить великой общественной задаче овладения действительностью?
Очевидно, только тем удается с пользой для себя изучить такой технический прием, как эффект очуждения китайского сценического искусства, кому этот прием необходим для совершенно определенных общественных целей.
Эксперименты нового немецкого театра разрабатывали эффект очуждения совершенно самостоятельно, независимо от влияния сценического искусства Азии.
Эффект очуждения достигался в немецком эпическом театре не только силами актера, но также и с помощью музыки (хора, песен) и декораций (демонстрационных щитов, фильмов и так далее). Его цель состояла прежде всего в историзации изображаемых событий. Под этим подразумевается следующее:
Буржуазный театр выделяет в своем материале вневременное. Изображение человека строится на показе так называемого «вечно человеческого». Построение фабулы создает такие «общие» ситуации, в которых выступает человек «вообще», человек всех времен и оттенков кожи. Все изображаемые события группируются в один гигантский наводящий вопрос, и за этим вопросом всегда следует «извечный» ответ, неизбежный, привычный, естественный, короче, — просто человеческий ответ. Пример: любовь у человека с черной кожей — такая же, как у белого, и только тогда, когда фабула исторгает у него ту же реакцию, что и у белого (теоретически эту формулу якобы можно перевернуть), цель искусства достигнута. Наводящий вопрос может учитывать особенное, специфическое — ответ на все один, в ответе нет ничего специфического. 394 Подобная концепция, возможно, допускает существование истории, и все же это внеисторическая концепция. Изменяются обстоятельства, изменяется среда, но человек не изменяется. История влияет на среду, но не влияет на человека. Среда сугубо несущественна, она рассматривается всего лишь как повод, как переменная величина, нечто сугубо нечеловеческое; по сути дела, она существует вне человека и противостоит ему как замкнутое целое, ему, величине неизменной и постоянной. Представление о человеке как о переменной величине по отношению к среде, и о среде, как о переменной величине по отношению к человеку, иначе говоря, о растворении среды в человеческих взаимоотношениях, порождено новым, историческим мышлением. Чтобы сократить этот экскурс в историю философии, приведем пример. Допустим, на сцене надо показать следующее: девушка покидает свою семью, чтобы поступить на службу в большом городе («Американская трагедия» Пискатора.) Для буржуазного театра это мелкий эпизод, по всей видимости, лишь завязка истории, то, что необходимо знать, чтобы понять все последующее или заинтересоваться им. Вряд ли этот эпизод даст сколько-нибудь заметный толчок фантазии актеров. В какой-то мере это обыкновенное событие, девушки сплошь и рядом поступают на службу, в данном случае дозволено лишь полюбопытствовать, где то необычное, что должно приключиться с девушкой. А необычное пока состоит лишь в том, что девушка уходит из дому (если бы она осталась, не произошло бы всего последующего). То, что семья ее отпускает, не может служить предметом исследования, настолько это правдоподобно (то есть правдоподобны мотивы этого поступка). Подход к тому же эпизоду театра, следующего принципу историзации, будет совершенно иным. Он устремит все свое внимание на своеобразное, особенное в этом заурядном происшествии, на то, что требует изучения. Как, семья отпускает из-под своей опеки одного из своих членов, чтобы он отныне самостоятельно, без всякой помощи зарабатывал себе на жизнь? А способен ли он на это? В какой мере все то, чему он научился дома, поможет ему добывать себе пропитание? Разве семья уже не в состоянии удержать детей в своем лоне? Неужели дети стали для семьи обузой? А вдруг 395 они были обузой и раньше? Во всех ли семьях так? Всегда ли так было? Может быть, это закон природы, на который невозможно воздействовать? Созревший плод падает с ветки. Подходит ли эта истина к данному случаю? Может быть, всегда наступает какой-то момент, когда дети выходят на самостоятельную дорогу? Было ли так во все времена? Если да, если это биологический закон, то всегда ли это происходило одинаково, по одинаковым причинам и с одинаковыми последствиями? Таковы вопросы (или часть вопросов), на которые должны ответить актеры, если они хотят представить это событие как историческое и неповторимое, если они хотят показать в данном случае обычай, освещающий всю структуру общества определенного (и преходящего) периода. Но как представить подобное событие, чтобы раскрыть его исторический характер? Каким образом выявить сложные противоречия нашего несчастного времени? Когда мать с наставлениями и назиданиями укладывает вещи дочери в чемодан, который совсем мал, — как это показать: так много назиданий и так мало белья? Моральных наставлений на всю жизнь, а хлеба — лишь на пять часов? Как актриса должна произнести слова матери, с которыми та передает дочери крохотный чемоданчик: «Ну вот, пожалуй, хватит», чтобы эти слова прозвучали как историческое высказывание? Это будет достигнуто лишь при условии использования эффекта очуждения. Актрисе не следует произносить эту фразу, как свою собственную, она должна вынести ее на суд критики, способствовать осознанию мотивов, породивших эти слова, и пробуждению протеста. Для достижения эффекта очуждения необходима длительная подготовка. В Еврейском театре в Нью-Йорке, в театре в высшей степени прогрессивном, я как-то смотрел пьесу С. Орница, показывающую превращение истсайдского паренька в крупного продажного адвоката. Театр не справился с этой пьесой. И все же там были такие сцены: сидя на улице, перед собственным домом, молодой адвокат дает прохожим по дешевке юридические советы. К нему подходит молодая женщина с жалобой: уличный транспорт повредил ей ногу. Но дело ее все откладывают, ходатайство о компенсации до сих пор не внесено в суд. Показывая на ногу, она в отчаянии кричит: «Она уже заживает!» 396 Работая без эффекта очуждения, театр в этой необыкновенной сцене не сумел вскрыть всего ужаса нашей кровожадной эпохи. Лишь немногие в зрительном зале заметили ее, едва ли кто-либо из читающих эти строки припомнит этот возглас. Актриса произнесла эти слова, как нечто само собой разумеющееся. А ведь именно тот факт, что подобная жалоба кажется бедной женщине само собой разумеющимся, актриса должна была довести до сознания публики как негодующий вестник, вернувшийся из глубин ада. Но ведь для этого ей понадобился бы особый технический прием, который позволил бы подчеркнуть историчность определенного общественного порядка. Таким приемом может быть только эффект очуждения. Без него ей в лучшем случае удалось бы избежать полного перевоплощения в свою сценическую героиню. Выдвигая новые художественные принципы искусства и новые методы игры, мы должны исходить из задач, властно диктуемых нам современным периодом смены эпох, когда возникает возможность и необходимость преобразования общества. Надо заново изучить все человеческие отношения, рассматривать все с общественной точки зрения. Для критики общества, как и для исторического отчета о совершенных преобразованиях, новому театру наряду с другими эффектами потребуется также эффект очуждения.
397 СЦЕНЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ АКТЕРОВ192
Из Третьей ночи
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЦЕНЫ
Драматические ситуации из трагедий Шекспира и Шиллера (сцена убийства в «Макбете» и спор королев в «Марии Стюарт») перенесены в обыденную обстановку; этим достигается «эффект очуждения» на классическом материале. Уже давно в наших театрах при исполнении этих сцен на первый план выступают не изображенные в них события, а взрыв человеческих страстей, ими вызванный. Предлагаемые вариации вновь пробуждают у актеров интерес к самим событиям и к форме их отображения, а также к стилю оригинала, к его стихотворному языку, то есть к тому специфическому, что автор добавляет от себя.
УБИЙСТВО В ДОМЕ ПРИВРАТНИКА
(сравни «Макбет» Шекспира, II акт, 2-я сцена)
Домик привратника. Привратник, его жена. В углу спит нищий. Входит шофер с большим пакетом в руках.
Шофер. Смотрите не разбейте! Вещица очень хрупкая.
Жена привратника (берет пакет). А что в нем?
Шофер. Божок китайский. На счастье.
Жена привратника. Это подарок хозяйки мужу?
Шофер. Да. Ко дню рождения. Придут горничные и заберут. Вы скажите им, фрау Ферзен, чтобы несли поосторожней. Эта штука дороже, чем весь ваш домишко.
Жена привратника. Скажи, пожалуйста, божок на счастье! Зачем он им — у них и так денег куры не клюют. Вот нам бы он пригодился.
398 Привратник. Не скули! Скажи спасибо, что хоть работа есть. Отнеси-ка ты его в чулан.
Жена привратника (с пакетом в руках идет к двери. На ходу, оборачиваясь). Ни стыда, ни совести — за божка такие деньги платят… Дороже, чем весь наш дом… Не то что у нас: есть крыша над головой — и то слава богу. А ведь работаешь день-деньской, спины не разгибая. Просто зло берет. (Она пытается открыть дверь, спотыкается и роняет пакет.)
Привратник. Осторожней!
Жена привратника. Разбился!
Привратник. Черт! Смотреть надо было!
Жена привратника. Беда! Божок теперь без головы. Они нас выгонят в шею, если узнают! Хоть в петлю лезь.
Привратник. Как пить дать выгонят, и никуда не устроишься без рекомендации. Прямо бери суму и иди по миру, как этот голодранец… (Показывает на нищего, который тем временем открыл глаза.) Заплатить все равно не сможем.
Жена привратника. Хоть в петлю лезь!
Привратник. Этим дела не поправишь.
Жена привратника. Что бы такое придумать?
Нищий (спросонья). Что случилось?
Привратник. Заткнись, ты! (Жене.) Ничего тут не придумаешь. Нам-то передали в целости-сохранности. Собирай вещи, чего уж там.
Жена привратника. А может, обойдется как-нибудь. Скажем, что нам его такого принесли.
Привратник. Шофер у них десять лет служит. Ему поверят — не нам.
Жена привратника. Нас двое, а у него свидетелей нет.
Привратник. Дура ты, вот что. Какой я свидетель! Муж и жена — одна сатана. Я барыню знаю — она нас по миру пустит, все имущество опишет. Пощады не жди.
Жена привратника. Что же такое придумать…
Слышен звонок.
Привратник. Вот! Пришли.
Жена привратника. Подожди. Я спрячу. (Быстро 399 уносит пакет в чулан и вновь возвращается. Показывает на нищего, который снова уснул.) Он все время спал?
Привратник. Нет, просыпался.
Жена привратника. Он это видел?
Привратник. Кто его знает. А что?
Снова звонок.
Жена привратника. Оттащи его в чулан.
Привратник. Надо открыть, не то сразу догадаются.
Жена привратника. Задержи их там за дверью. (Кивает на нищего.) Это он все натворил, там в чулане, мы ничего не знаем, понял? (Трясет нищего за плечо.) Вставай, слышишь!
Привратник идет открывать. Жена привратника заталкивает сонного нищего в чулан. Возвращается, проходит через сцену, и скрывается за дверью напротив.
Привратник (входит в комнату с горничной и экономкой). Такой холод, а вы без пальто.
Экономка. Мы только на минутку, за пакетом.
Привратник. Он у нас в чулане.
Экономка. Барыне не терпится. Давайте его сюда.
Привратник. Что вы, что вы — я сам отнесу.
Экономка. Не беспокойтесь, господин Ферзен.
Привратник. Какое тут беспокойство! Я с удовольствием.
Экономка. Спасибо, спасибо, господин Ферзен, право, не стоит. (Подходит к чулану.) Сюда идти?
Привратник. Да, да, там сразу увидите — большой сверток. Это что же, божок китайский?
Горничная. Барыня сердится: почему шофер не привез его раньше. Говорит, ее здесь в грош не ставят, ни на кого положиться нельзя, все думают только о себе, а как что случится — и спросить не с кого! Знаете, она такая! С ног собьешься! Такой госпоже не всякий угодит.
Привратник. Ясное дело, не всякий.
Горничная. Моя тетушка всегда говорит: с чертом в карты сел играть — умей масти примечать.
400 Экономка (из чулана). Какой ужас!
Привратник и горничная. Что, что такое?
Экономка. Это сделано с умыслом! Смотрите — голову отбили.
Привратник. Как отбили?
Горничная. Кому? Божку?
Экономка. Полюбуйтесь! Надвое раскололся. Я когда взяла пакет — сразу заметила. Еще подумала — не развернуть ли его. Только приподняла бумагу — голова и выкатилась.
Привратник и горничная бегут в чулан.
Экономка. Подумать только! Подарок ко дню рожденья. А госпожа так верит в приметы.
Жена привратника (входит в комнату). Что случилось? Что с вами?
Экономка. Фрау Ферзен, мне не хочется огорчать вас, я ведь знаю, на вас всегда можно положиться. Но тут уж прямо язык не поворачивается. Божок, китайский бог счастья разбился!
Жена привратника. Как? Разбился? В моем доме?
Привратник (выходит из чулана, за ним горничная). В голове не укладывается. Что с нами будет?! Надо же! Барыня нам так доверяет — и тут вдруг случилось такое. Как я теперь барыне на глаза покажусь?
Экономка. Но кто же это мог сделать?!
Горничная. Небось нищий, лоточник этот, кто же еще? Притворяется, что сейчас только проснулся, а у самого на коленях шпагат, которым пакет был обвязан. Видно, сунул туда нос — думал чем-нибудь поживиться.
Привратник. Эх, досада, я его только что выставил за дверь.
Экономка. Надо было задержать его!
Привратник. Бог знает, как я его упустил. Но кто мог бы сразу все сообразить, да еще в такой момент. Никто, поверьте! Я взбесился просто: гляжу, лежит божок, разбитый, голова в угол откатилась, а этот бездельник сидит на лавке и зевает как ни в чем не бывало. Я только и успел подумать — что скажет барыня?
401 Экономка. Надо сообщить в полицию — они его быстро разыщут.
Жена привратника. Боже мой, мне дурно.
ССОРА ТОРГОВОК РЫБОЙ
(сравни «Марию Стюарт» Шиллера, III акт)
Улица. Фрау Цвиллих и ее сосед.
1
Фрау Цвиллих. Нет, ни за что, господин Кох, этого я не перенесу. Не буду я так унижаться. Что-что, но уважать себя я еще не перестала. Как я после этого покажусь в рыбном ряду! Всякий скажет: вот она, та самая, которая у Шайт в ногах валялась, у этой ехидны.
Господин Кох. Поберегите нервы, фрау Цвиллих, к Шайт все равно вам идти придется. Ведь если племянничек ее покажет против вас в суде, вас, как пить дать, в кутузку упрячут месяца на четыре.
Фрау Цвиллих. Никого я не обвешивала, врут они все!
Господин Кох. Так-то оно так, фрау Цвиллих, мы это знаем, а вот знает ли об этом полиция? Эта Шайт куда хитрей вас, вам с ней трудно тягаться.
Фрау Цвиллих. Подлость какая!
Господин Кох. Верно, верно, всякий скажет, что это свинство с ее стороны — подослать к вам племянника своего, фрукта этакого. Сторговал камбалу и шасть в полицию — взвешивать ее на контрольных весах! В участке-то знают, конечно, что Шайт давно на вас зуб точит. Покупателей вы у нее отбиваете. Но вся беда в том, что деньги вы за два фунта получили, а камбала эта проклятая на десять граммов не дотянула.
Фрау Цвиллих. Да, заговорилась я с племянником ее — вот и не посмотрела на весы. Через обходительность свою страдаю.
Господин Кох. Да, все у нас знают, как вы угодить умеете.
Фрау Цвиллих. А то как же! Покупатели ко мне идут, а не к ней! А почему? Потому что я внимательна, у меня к каждому свой подход есть. Вот она и взбеленилась. 402 И до чего дошла! Мало того, что контролер меня с рынка прогнал, так племянник этот по ее указке по судам меня затаскать грозится! Ну это уж слишком!
Господин Кох. Теперь вам надо быть осторожней. Послушайте моего совета, выбирайте слова, когда с ней говорить будете.
Фрау Цвиллих. Легко сказать! Хватит уж того, что я иду к этой стерве, вместо того чтобы в суд на нее подать за клевету… «Выбирайте слова»!
Господин Кох. Да, выбирайте слова! Скажите спасибо, что она согласилась выслушать вас в моем присутствии. Я разделяю ваши чувства, но смотрите не испортите все дело. Уж больно вы горячая!
Фрау Цвиллих. Да поймите же вы, господин Кох, не могу я, сил моих нет. Целый день я ждала, пока она согласится выслушать меня. Целый день твердила себе: возьми себя в руки, не то упрячет она тебя в тюрьму. Все думала, как бы с ней полюбезней быть, разжалобить ее. А вот теперь не могу: ненавижу я ее, гадину. Глаза бы ей бесстыжие выцарапала.
Господин Кох. Успокойтесь, фрау Цвиллих. Вооружитесь терпением. Ведь вы у нее в руках. Поклонитесь ей, упросите ее. Поборите свою гордость, не до этого сейчас.
Фрау Цвиллих. Я знаю, вы мне помочь хотите. Хорошо, я пойду, но помяните мое слово, к добру это не приведет. Мы с ней — как кошка с собакой. Она мне на мозоль наступила, а я бы ей, проклятой…
Скрываются за углом.
2
Вечер. Рыбные ряды. За прилавком лишь одна торговка — фрау Шайт. Рядом ее племянник.
Фрау Шайт. А чего мне с ней разговаривать. Наконец-то я от нее избавилась. Прямо благодать на рынке с тех пор, как ее нет, вчера и сегодня. Как она перед покупателями лебезила: «Возьмите угря, сударыня, — 403 чудо-угорь! А супруг-то ваш поправился уже? Ну, слава богу. А вы, как всегда, прекрасно выглядите». Тошно слушать было.
Покупательница. Заболталась я с вами, про ужин и забыла. А щучка-то мелковата.
Фрау Шайт. Попробуйте поймайте покрупнее, мадам! Что я, сама ее делаю? Щуренок и есть. Не хотите — не берите. Плакать не буду.
Покупательница. Ну, не сердитесь. Я просто так сказала. Молодой щуренок ведь.
Фрау Шайт. И усы у него не отрасли, стало быть, он не про вас. Шабаш, Гуго, собирай корзины.
Покупательница. Беру, беру, не кипятитесь.
Фрау Шайт. Два тридцать. (Заворачивает ей щуку. Обращаясь к племяннику.) Приходят на ночь глядя и еще привередничают. Тоже мне! Ну ладно, пошли.
Племянник. Ты хотела еще поговорить с фрау Цвиллих, тетя.
Фрау Шайт. Я сказала, пусть придет, как стемнеет. Где же она?
Появляются фрау Цвиллих и господин Кох. Они останавливаются у соседнего прилавка.
Племянник. Вот она, пришла.
Фрау Шайт (делая вид, что не замечает их). Собирайся живей. Удачный был сегодня день. Вдвое больше продали, чем в прошлый четверг. Покупатели чуть не передрались. Только и слышно: «Мой муж всегда говорит, сразу видно, что этот карп у фрау Шайт куплен, пальчики оближешь!» Выдумают тоже! Будто все карпы не одинаковые!
Фрау Цвиллих (обращаясь к Коху, с дрожью в голосе). Будь у нее хоть капля жалости в душе, она бы так не говорила.
Фрау Шайт. Камбалы свежей не угодно ли?
Племянник. Это же фрау Цвиллих, тетя.
Фрау Шайт. Что? Каким ее ветром сюда занесло?
Племянник. Будет тебе, тетя. Сказано же в писании: возлюби ближнего своего.
Господин Кох. Смените гнев на милость, госпожа Шайт. Эта несчастная женщина не решается первой заговорить с вами.
404 Фрау Цвиллих. Не могу я, господин Кох.
Фрау Шайт. Вы слышите, господин Кох, что она говорит. И это называется несчастная женщина, которая за милостью пришла, которая все глаза себе выплакала! А сама нос дерет! Нахалка была, нахалка и есть.
Фрау Цвиллих. (в сторону). Стерплю и это. (Обращаясь к фрау Шайт.) Ваша взяла. Счастлив ваш бог, но знайте меру. Протянем друг другу руки. (Протягивает ей руку.)
Фрау Шайт. Вы сами виноваты, что попали в такое положение. Доигрались.
Фрау Цвиллих. Помните, фрау Шайт, изменчиво людское счастье. Я в этом убедилась. Не уповайте на него. Подумайте, что люди скажут. Сколько лет мы с вами рядом торговали. Никогда еще на рынке не было такого. Ну что вы молчите, словно в рот воды набрали. Хотите, на колени встану? Знаю, сидеть мне в кутузке, если вы не смилостивитесь. Пришла вот к вам, да слова в горле застревают, стоит лишь на вас посмотреть:
Фрау Шайт. А покороче нельзя ли, почтенная? Не желаю я, чтобы люди нас вместе видели. И то сказать, я по-христиански поступила. Ведь вы у меня два года подряд покупателей переманивали.
Фрау Цвиллих. Уж и не знаю, что еще сказать. Скажешь вам правду — вы обидитесь. Вы ведь не по чести со мной поступили. Вы племянника нарочно подослали, свинью мне подложили. Этого я от вас не ожидала, да и ни от кого другого. Все мы одинаково торгуем — что вы, что я. А вы меня теперь в суд тащите. Вот что: забудем все. Ни вы, ни я не виноваты. Мы обе рыбу продавали, и каждой хотелось больше продать. А покупатели разное говорили, мне одно, вам другое. Мне передали, будто вы сказали, что у меня рыба гнилая, а я вроде говорила про вас, что вы обвешиваете, а может быть, и наоборот было. Кто его знает. Теперь нам делить больше нечего. Ведь мы могли бы жить, как две сестры, вы — старшая, я — младшая. Поговорили бы раньше по душам, и дело бы так далеко не зашло.
Фрау Шайт. Еще чего не хватало — змею на груди пригреть! Нечего вам делать на рынке. Непорядочная вы! Рядом с вами ничего не продашь — только о себе и думаете! Покупателей одного за другим у меня переманили. 405 Вся вы как есть фальшивая! Липла, подмазывалась — «может, еще судачка, мадам!». Сказала я вам раз начистоту — так вы мне судом за оскорбление пригрозили. А судить-то вас теперь будут.
Фрау Цвиллих. На все воля божья, фрау Шайт. Не решитесь вы такой грех на душу взять.
Фрау Шайт. А кто мне помешает? Вы первая начали — грозились меня по судам затаскать. Знаю я вас — скажи я племяннику, чтобы он свою жалобу назад взял, завтра же вы снова будете на рынке! С вас, как с гуся вода, — помаду новую, небось, купите и будете кельнеру из «Красного льва» глазки строить, чтобы всю треску у вас брал. Точно так и будет, ежели я гнев на милость сменю.
Фрау Цвиллих. Да пропади он пропадом, рынок! Пусть вся выручка ваша будет. Бога ради! Уступаю вам свой прилавок. Ваша взяла — доконали вы меня. От меня только половина осталась. Никто не узнает прежнюю Цвиллих. Перестаньте меня травить, отпустите душу на покаяние, так и скажите — показала я тебе, где раки зимуют, а теперь иди с богом. Одно слово только, и я вам от всего сердца спасибо скажу, в ножки поклонюсь! Скажите, не тяните больше! Не скажете, в полицию пойдете — не позавидую я вам. Как тогда людям в глаза глядеть будете?
Фрау Шайт. Что, обломала я вас! Не помогут вам больше ваши штучки! Участковый-то поприостыл. Некому вступиться. Разбежались все кавалеры. У вас ведь как? Пусть человек женатый, переженатый, — раз он устроил вам выгодный заказ, вы с ним в тот же вечер в кино.
Фрау Цвиллих. Нет, не выдержу. Это уж слишком.
Фрау Шайт (смотрит на нее долгим презрительным взглядом). Как, Гуго? И это фрау Цвиллих? Разлюбезная наша фрау Цвиллих! И это на нее все как мухи на мед летят! А меня стороной обходят, словно кучу навозную. Чучело, мол, старое. Потаскуха она, и ничего больше.
Фрау Цвиллих. Нет, это чересчур.
Фрау Шайт (с кривой усмешкой). Вот вы какая. Сбросила маску, красотка.
406 Фрау Цвиллих (сдерживая гнев, с достоинством). Верно, господин Кох, грешила я по молодости лет. Случалось, улыбнешься кому-нибудь из покупателей, но скрывать мне нечего. А что наговаривают на меня всякое, так добрая слава лежит, а худая по свету бежит. Дойдет и до вас черед, фрау Шайт. Вы-то никому не скажете, с кем время проводите. Весь рынок говорит про ваши темные делишки. Кто же этого не знает, мамаша-то ваша с билетом была!
Господин Кох. Боже мой! Теперь все пропало. А вы ведь обещали сдерживаться, фрау Цвиллих.
Фрау Цвиллих. Хорошо вам говорить: сдерживаться. Никто б такого не стерпел, а я терпела. Но уж теперь я молчать не буду. Все выложу, все!
Господин Кох. Она себя не помнит, фрау Шайт, не думает, что говорит.
Племянник. Не слушай ее, тетя. Пойдем. Я понесу корзины.
Фрау Цвиллих. Кто гнилую рыбу в «Красного льва» сбывал? Она весь рынок позорит. И в ряды ее пустили потому, что братец ее, прохвост этот, с контролерами день и ночь пьянствует!
ИНТЕРМЕДИИ
Предлагаемые интермедии к «Гамлету» и «Ромео и Джульетте» написаны отнюдь не как дополнение к тексту этих трагедий Шекспира. Их следует играть лишь на репетициях. Сцена на пароме задумана как интермедия между третьей и четвертой сценой четвертого акта «Гамлета». Эта сцена, так же как и стихотворный эпилог ее, должны предотвратить героизацию образа Гамлета. Буржуазные критики обычно считают колебания Гамлета наиболее интересным, принципиально новым элементом этой трагедии. В то же время они полагают, что резня в пятом акте, то есть отказ Гамлета от рефлексии и переход к «действию», является положительным моментом. На самом же деле ничего нового здесь нет, ибо это не действие, а злодейство. Маленькая интермедия помогает понять колебания Гамлета — они объясняются новыми буржуазными нормами поведения, распространившимися 407 к тому времени на общественно-политическую сферу. Две интермедии к «Ромео и Джульетте» написаны, конечно, не в подтверждение старой истины, гласящей «чужая радость — твое горе», а для того, чтобы Ромео и Джульетта в исполнении актеров были живыми людьми, полными противоречий.
СЦЕНА НА ПАРОМЕ
(Играется между 3-й и 4-й сценами IV акта «Гамлета» Шекспира)
На пароме Гамлет, паромщик и приближенный Гамлета.
Гамлет. Что это за постройка там на берегу?
Паромщик. Это форт береговой стражи, ваше высочество.
Гамлет. А для чего этот деревянный желоб, что спускается к воде?
Паромщик. Чтобы грузить рыбу на норвежские суда.
Гамлет. Странный форт. Там, что же, рыбы живут?
Паромщик. Там их солят. Его величество новый король, ваш батюшка, подписал торговый договор с Норвегией.
Гамлет. Раньше мы посылали в Норвегию солдат. Теперь их, стало быть, засаливают. Странная война.
Паромщик. Войны теперь нет. Мы уступили им прибрежную полосу, а они обязались покупать рыбу у нас. Теперь там к нашему голосу больше прислушиваются, чем раньше. Право, больше, сударь.
Гамлет. Значит, рыбаки служат теперь новому королю верой и правдой?
Паромщик. Они говорят: от войны сыт не будешь, сударь. Они за короля.
Гамлет. Но, как я слышал, послу его величества, моего первого отца, — не путайте его, пожалуйста, со вторым, — дали пощечину на придворном балу в Норвегии. Теперь это предано забвению?
Паромщик. Его величество, с позволения сказать ваш второй батюшка, как говорят, изволили заметить, 408 что господин посол был слишком хвастлив для дипломата страны, в которой слишком много рыбы.
Гамлет. Похвальная терпимость.
Паромщик. Полгода у нас на побережье все волновались: король колебался, подписывать договор или нет.
Гамлет. Неужели колебался?
Паромщик. Колебался. Еще как! Один раз даже усилили гарнизон форта. Все говорили: «Будет война! Никакой торговли, что делать с рыбой!» Все места себе не находили. Один день надеялись, другой — отчаивались. Но, с божьей помощью, наш добрый государь подписал договор.
Приближенный Гамлета. А честь?
Гамлет. Откровенно говоря, я не вижу в этом ущерба для нашей чести. Новые методы, друг мой. Ныне так принято повсюду. Запах крови теперь не в моде, вкусы изменились.
Приближенный Гамлета. Презренные мирные времена! Худосочное поколение!
Гамлет. Почему мирные? Может, теперь сражаются рыбой? Пикантная мысль: засаливать солдат. Минута стыда и много чести. Дал послу пощечину — изволь покупать рыбу. Стыд, того гляди, в могилу сведет, а честь можно рыбкой заесть. Смотришь, так и убийца оставит о себе добрую память: умел, скажут, человек сносить оскорбления. А недостойный сын в свое оправдание ссылается на богатую прибыль от рыбы. В заслугу ему поставят, что его обуяли угрызения совести, не по отношению к убитому — о нет! — по отношению к убийце. Трусость становится его главным достоинством. Перестань он быть подлецом — все скажут в один голос: вот подлец, и так далее и так далее. Одно остается сидеть сложа руки, а то, боже упаси, помешаешь рыбку удить.
Цветет торговля, склеп травой порос.
Вид запустенья сердце жжет укором.
Счет не сведен, но коль сведешь его,
Другие сразу спутаешь расчеты,
Что лучше: поспешить иль опоздать?
Итак, в живых останется подлец.
409 Подлец? С чего ты взял? Муж славный пред тобою.
Так говорят, да так и есть, пожалуй.
Разрушить хочешь ты все созданное им
Лишь потому, что на чужом несчастье
Построил счастье он? Что делать дальше?
Вернуть ландскнехтов в форт и вновь вершить
Кровавые, дела, с которых, не колеблясь,
Он начал путь свой? Боже! Не колеблясь!..
О если бы на миг заколебался он!
Эпилог
И вот, под грохот пришедшихся кстати
Чужих барабанов и воинским
Кличем ландскнехтов чужих упиваясь,
Сбросил он бремя разумных
Гуманных сомнений. Случай помог.
Как одержимый, в кровавом своем ослепленье
Он убивает подряд мать, короля и себя,
Так оправдал он слова Фортинбраса
О том, что, взойдя на престол,
Гамлет достойным бы стал королем.
СЛУГИ
(Играются между 1-й и 2-й сценами II акта «Ромео и Джульетты»
Шекспира)
I
Ромео с одним из своих крестьян-издольщиков.
Ромео. Говорят тебе, старик, мне нужны деньги. Не бойся, на доброе дело.
Крестьянин. Но куда же нам деваться, коль ваша милость возьмут и продадут участок? Нас ведь пятеро душ здесь.
Ромео. Наймешься куда-нибудь! Работник ты хороший — я тебя кому хочешь порекомендую. Мне нужны деньги — у меня свои обязанности. Ничего ты в этом не понимаешь! Ну как тебе втолковать, что не могу я выставить на улицу без подарка даму, которая пожертвовала для меня всем. «Прощай, милая, скатертью дорога!» Этого ты хочешь? Ну, знаешь ли, тогда ты последний 410 прохвост, эгоист ты бессовестный. Прощальные подарки стоят дорого. И дарят их от чистого сердца, бескорыстно, ничего не требуя взамен! Не так ли, старина? Будь другом, не порти мне всю музыку! Помнишь, как ты меня ребенком на коленях держал, как ты мне лук вырезал, помнишь? Подумай, что люди скажут: даже старый Гоббо не хочет помочь Ромео, бросил его в беде, плюет на его доброе имя. Пойми же, дурень, я люблю! Я всем готов пожертвовать. Пойду на все ради нее, моей любимой, — на злодеяние, на убийство! И гордиться этим буду! Тебе этого не понять — стар ты уже, Гоббо, слишком стар, душа у тебя зачерствела. Надо же мне отвязаться от моей прежней пассии. Видишь, я тебе все, как на духу, открыл. И вот я спрашиваю у тебя, Гоббо, можно на тебя рассчитывать, как прежде? Да или нет?
Крестьянин. Сударь, я не мастак речь держать. Но куда же мне с семьей деваться, если вы сгоните меня с земли?
Ромео. Эх, Гоббо, Гоббо. Жаль мне тебя. Ничего-то ты больше не понимаешь, толкуешь тебе битый час, что у меня душа горит, а ты свое заладил: земля, земля! При чем тут земля? Я о ней и думать забыл. Нет у меня земли! Была, да сплыла! Что мне земля, когда я как в огне!
Крестьянин. Что же нам, с голоду помирать, сударь?
Ромео. Осел! С тобой и говорить нельзя по-человечески. Экие вы звери бесчувственные! Не хочешь ничего понять — так вон отсюда, да поживей!
Крестьянин. Да, конечно, что же еще от вас ждать! Может, и рубаху последнюю возьмете, и шапку? И башмаки? Звери тоже жрать хотят!
Ромео. Ах, вот ты как заговорил! Показал свое истинное лицо! Двадцать пять лет ты камень за пазухой держал! И это награда за мою доброту. Я с тобой как с человеком, а ты… Вон! Проваливай отсюда, пока цел! Скотина!
Ромео прогоняет крестьянина; однако крестьянин, спрятавшись, наблюдает сцену свидания влюбленных.
Ромео. Рубцы у тех улыбку вызывают. Кому не наносили ран.
411 II
Джульетта и служанка.
Джульетта. И ты любишь своего Турио? Очень любишь?
Служанка. Еще как, барышня! Прочту «Отче наш» на ночь, а заснуть не могу. Кормилица уже, извините, храпит, а я — босиком на цыпочках к окошку.
Джульетта. Ждешь, не придет ли он?
Служанка. Приходил уже раз.
Джульетта. О, я тебя понимаю. Я теперь с упоением смотрю на луну — ведь мы вместе с Ромео глядели на нее. Ну, не молчи же, расскажи мне, как ты его любишь? Что сделаешь ты, если ему будет грозить опасность?
Служанка. Опасность? Это если уволят его? Побегу и в ноги брошусь его барину!
Джульетта. Ах, нет! Смертельная опасность!
Служанка. А, вы про войну! Я бы ему все уши прожужжала, чтобы он притворился больным и не вставал с постели.
Джульетта. Но ведь это трусость.
Служанка. Я бы из него сделала труса. Легла бы к нему в постель — небось не вылез бы из-под одеяла…
Джульетта. Нет, я не про то. Если бы ему грозила смерть и, чтобы спасти его, тебе пришлось бы пожертвовать жизнью…
Служанка. Стало быть, вы про чуму, барышня, говорите. Тогда я бы намочила платок уксусом и замотала им лицо и ходила бы за ним. Как же иначе?
Джульетта. Уксус, боже мой! В такую минуту думать об уксусе!
Служанка. А что, барышня?
Джульетта. Да он все равно не поможет!
Служанка. Почему? Иногда, говорят, помогает.
Джульетта. Так или иначе, ты ради него рисковала бы жизнью, как я — ради моего Ромео. Но скажи: вот если бы он вернулся с войны без…
Служанка. Без чего, барышня?
Джульетта. Ну, ты понимаешь.
412 Служанка. Ах, вот вы о чем. Да я бы ему тогда все глаза выцарапала!
Джульетта. За что?
Служанка. За то, что на войну пошел!
Джульетта. И между вами все было бы кончено!
Служанка. Ясно! Что же тут поделаешь?
Джульетта. Нет, ты, я вижу, его не любишь.
Служанка. А что же тогда такое любовь? Мне все время хочется быть с ним вместе.
Джульетта. Но ведь это плотская любовь, земная.
Служанка. А вам такая любовь не нравится?
Джульетта. Почему не нравится? Нравится! Но я люблю Ромео гораздо больше. Сказать не могу как.
Служанка. Что же, по-вашему, если я все время бегаю к Турио, так я его меньше люблю? Как знать, может, я ему простила бы и то, о чем вы говорили! Со временем, оправившись от волнения! Точно простила бы! Уж больно я его люблю!
Джульетта. Но у тебя были сомнения?
Служанка. Это от любви.
Джульетта (обнимает ее). Правда твоя! Сегодня ты обязательно должна пойти к нему.
Служанка. Верно, барышня! А то отобьет его та, другая. Спасибо вам, что отпускаете меня сегодня пораньше. Встретится он с той — и всему конец.
Джульетта. Ты уверена, что перехватишь его у калитки в саду?
Служанка. А как же. Он всегда через ту калитку ходит! Свиданье-то у них в одиннадцать назначено.
Джульетта. Иди сейчас же. Тогда успеешь! Вот, накинь мой платок. Он тебе к лицу. А чулки какие на тебе?
Служанка. Шелковые! И буду с ним сегодня такая ласковая, как никогда! Я так люблю его.
Джульетта. Чу! Ты слышишь — ветка хрустнула!
Служанка. Похоже, кто-то со стены в наш сад спрыгнул. Пойду погляжу.
Джульетта. Только скорее. Не опоздай к Турио!
Служанка (у окна). Знаете, кто это был? Кто сейчас в саду?
Джульетта. Ромео! О, Нерида, я выйду на балкон. Мне надо говорить с ним.
413 Служанка. А привратник? Его окно прямо под балконом. Он почует неладное; если в комнате все вдруг стихнет и он услышит голоса на балконе и в саду.
Джульетта. Верно! Ты пока походи по комнате взад-вперед и тазом греми, будто я умываюсь на ночь.
Служанка. Но я же Турио упущу. Тогда мне хоть в петлю лезь!
Джульетта. Может, и его хозяин задержит. Он ведь слуга. Так походи по комнате. И смотри, тазом греми, не забудь. Нерида, дорогая, не оставляй меня, я должна поговорить с ним.
Служанка. Ну, ладно. Только поскорей, барышня. Ради бога, поскорей.
Джульетта. Не волнуйся, я быстро. Ну, бери таз!
Джульетта выходит на балкон. В течение всей последующей сцены служанка ходит по комнате и время от времени толкает ногой таз. Часы бьют одиннадцать; она падает в обморок.
СОСТЯЗАНИЕ ГОМЕРА И ГЕСИОДА18*
Чтец
Некогда на острове Эвбее решил Ганиктор справить тризну по отцу своему царю Амфидаму. И призвал он на состязание всех мужей, отличавшихся телесною силой и быстротой, а также искусностью и знанием в свой город Халкиду, и установил в их честь ценные награды. Пустился тогда в дорогу и Гомер и, как повествуют, нечаянно повстречал в Авлиде певца Гесиода, и вступили они вместе в Халкиду. Знатные халкидцы назначены были судьями, и среди них Панед, брат опочившего царя. И вступили оба певца в достопамятное состязание, из коего победителем, как гласит предание, вышел Гесиод, 414 и вот как это случилось. Гесиод, оказавшись посреди круга, стал задавать Гомеру вопрос за вопросом, а Гомер отвечал ему. И начал Гесиод:
Гесиод
Брат любезный Гомер, тебя восхваляют за то, что
Ты великие мысли вложил в песнопение. Жаждем
Мысли твои услыхать. Сообщи нам, во-первых, о мудрый,
Что человекам всего благотворней? А также скажи нам,
Что из того благотворного людям нужнее сначала?
Гомер
Людям всего благотворнее вовсе на свет не родиться,
Если ж родиться пришлось, то в Аид опуститься немедля.
Гесиод
Славно. Хотя мрачновато.
Гомер
Не слишком.
Гесиод
А все же, пожалуй!
Ну, а теперь скажи, что всего нам приятней на свете?
Гомер
Вот что: когда хмельным ликованьем объятые гости
В дружном застолье сидят и внимают словам песнопевца,
А на столах громоздятся хлеба и душистые яства,
А виночерпий всем равно вино разливает по чашам, —
Вот что приятней всего и прекрасней всего в этом мире.
Чтец
Отзвучав, эти строки вызвали такое изумленное восхищение греков, что их называли «золотыми словами», и поныне еще стихи эти произносят, когда усаживаются за трапезу или совершают возлияние в честь бессмертных, собираясь на празднество жертвоприношений.
415 Гесиод же, увидев успех соперника, испытал досаду. И начал он ставить хитроумные вопросы, таящие двойной смысл. Произнося стихи, казавшиеся пустым набором слов, он требовал, чтобы Гомер после каждого стиха вставлял свой, — так, чтобы из сочетания получалось что-то понятное.
Гесиод
К ужину подали мясо, а выи дымящихся коней…
Гомер
Из ярма вынимают; они утомились от битвы.
Гесиод
Но усердием всех превосходит фригиец ленивый…
Гомер
И созывают бойцов к морю, отведать от пищи.
Гесиод
Он был отважен в бою, но в своей неуемной тревоге…
Гомер
Мать горевала о нем, ибо войны для женщин жестоки.
Гесиод
Так пировали они до ночи глубокой, с собою…
Гомер
Не прихватив ничего, но трактирщик их потчевал щедро.
Гесиод
Дружно ахейцы взялись за охваченный пламенем остов…
Гомер
Не догадавшись судно столкнуть в гасящие волны.
Гесиод
Жертву богам принеся и выпив соленую влагу…
416 Гомер
Снова готовы отплыть на своих кораблях крутобоких…
Гесиод
Громко воззвал Агамемнон к бессмертным богам: — Погубите…
Гомер
Нас, но не море!
Гесиод
Так рек Агамемнон, а после добавил:
— Воины, ешьте, не зная тревоги: из нас ни единый
Не достигнет вовек берегов вожделенной Эллады…
Гомер
В ранах и язвах, а все возвратятся домой невредимы!
Вот что хотел ты сказать, — ты вопросы подкидывал славно!
Чтец
Но Гесиод не мог оставить поле боя за Гомером, и он снова начал:
Гесиод
Ты мне скажи, о слепец, и ответь непременно стихами:
Как и когда народы полнее всего процветают?
Гомер
Если не терпят они, чтоб один наживался на деле,
Что разоряет других. И если им доблесть дороже,
Нежели грех и порок, — это значит, что доблести будут
Выгодны людям, пороки же будут сулить разоренье.
Гесиод
Надо ль, чтоб общая польза над личной всегда возвышалась?
Гомер
Нет, в государстве должно быть не так, ибо личная польза
Необходимо должна оказаться и пользою общей.
417 Гесиод
Значит, любимец богов, о себе пусть каждый печется?
Гомер
Пользу свою осознав, пусть каждый ее умножает.
Гесиод
Есть ли такой человек, кому бы дарил ты доверье?
Гомер
Тот человек, чьим делам угрожала бы та же опасность.
Гесиод
Что ты считаешь, певец, вершиною счастья для смертных?
Гомер
В жизни поменьше страдать, а радости видеть побольше.
Чтец
Когда завершился и этот круг, эллины единодушно потребовали увенчать Гомера лаврами победителя. Но царь Панед пожелал, чтобы каждый из чтецов исполнил лучший отрывок из собственных творений. И тогда начал Гесиод и произнес следующие стихи из «Работ и дней»:
Гесиод
В день, когда восстают семизвездием дщери Атласа,
Можно уборку начать, а заход их — начало посева.
Сорок ночей и дней семена от взоров сокрыты
И созревают в земле с течением теплого лета.
Так и на плоских равнинах, на ровных полях побережий,
И высоко в горах, отдаленных от шумного моря, —
Всюду, где землепашец зерно свое в землю бросает.
Чтец
Вслед за ним Гомер прочел из «Илиады»:
418 Гомер
Окрест Аяксов-героев столпилися, стали фаланги
Страшной стеной. Ни Арей, ни Паллада, стремящая рати,
Их не могли бы, не радуясь, видеть: храбрейшие мужи,
Войско составив, троян и великого Гектора ждали,
Стиснувши дрот возле дрота и щит у щита непрерывно;
Щит со щитом, шишак с шишаком, человек с человеком
Тесно смыкался; касалися светлыми бляхами шлемы,
Зыблясь на воинах, — так аргивяне, сгустяся, стояли;
Копья змеилися, грозно колеблемы храбрых руками;
Прямо они на троян устремлялись, пылали сразиться.
Чтец
Эллины снова были восхищены Гомером, они восторгались тем, как искусны его стихи, и требовали наречь его победителем. Но царь Панед увенчал Гесиода, сказавши, что победа по праву принадлежит тому, кто призывает к земледелию и миру, а не тому, кто повествует о войнах и побоищах.
419 ЧЕТВЕРТАЯ НОЧЬ
РЕЧЬ АВТОРА О СЦЕНЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ХУДОЖНИКА КАСПАРА НЕЕРА193
Иногда мы начинаем репетировать, ничего не зная о декорациях, и наш друг делает лишь небольшие эскизы к сценам, которые мы должны сыграть, скажем, шесть человек сидят вокруг работницы, которая за что-то их упрекает. Возможно, что потом в тексте мы обнаружим всего пятерых, наш друг ведь не педант какой-нибудь, но он показывает нам самое главное, что нам важно знать, а каждый из его эскизов неизменно является законченным маленьким шедевром. Мы сами выбираем на сцене место для женщины, ее сына и гостей, а наш друг при сооружении декорации соответственно размещает мебель. Иногда он рисует декорации заранее, а потом помогает нам в расстановке и разработке жестов персонажей и нередко также — в разработке образов и речевой характеристики героев. Его декорации пропитаны духом данной пьесы и возбуждают у актеров честолюбивое стремление успешно сыграть в ней свою роль.
Он по-своему читает всякую пьесу. Вот только один пример: в шестой сцене первого акта шекспировского «Макбета» король Дункан и его военачальник Банко, приглашенные Макбетом в замок, восхваляют последний в знаменитых стихах:
«В хорошем месте замок. Воздух чист,
И дышится легко. Тому порукой
Гнездо стрижа. Нам этот летний гость
Ручается, что небо благосклонно…»
Неер настоял на том, чтобы замок представлял собой серую полуразвалившуюся постройку на редкость нищенского вида. Хвалебные слова гостей — всего лишь 420 дань вежливости, — полагал он. А Макбеты — как он считал — были лишь мелкими шотландскими аристократами с болезненным честолюбием!
Его декорации — замечательные рассказы об окружающем мире. Создавая их, он исходит из широкого замысла, не допуская, чтобы какая-нибудь несущественная деталь или украшение отвлекли его от этого рассказа, являющегося рассказом художника и мыслителя. При этом общая картина прекрасна, а существенные детали выполнены с большой любовью.
Как заботливо он выбирает стул и как продуманно устанавливает его! И все помогает игре артистов! Он способен укоротить ножки стула и подобрать к нему стол соответствующей высоты, так, чтобы люди, обедающие за этим столом, сидели в особой позе, — разговор обедающих, ниже обычного склонившихся над столом, от этого приобретет какой-то необычный оттенок, проясняющий смысл эпизода. А сколько эффектов порождают придуманные им двери самой различной высоты!
Этому мастеру знакомо любое ремесло, и он заботится о том, чтобы мебель изготовляли искусно, даже если она бедная: чтобы показать скудную и дешевую обстановку, тоже необходимо мастерство. Поэтому всеми материалами — железом, деревом, полотном — он распоряжается со знанием дела, и они сочетаются в необходимой пропорции, в зависимости от нужд пьесы. Он сам идет в кузницу, чтобы заказать кривые сабли, или в мастерскую искусственных цветов, чтобы там изготовили жестяные венки. Многие предметы реквизита имеют музейную ценность.
Мелкие вещи, которыми он оснащает артистов, будь то оружие или инструмент, бумажник, столовый прибор и так далее, — всегда подлинные и выдерживают самую строгую проверку, но в архитектуре, иными словами, когда этот мастер сооружает интерьеры или экстерьеры, он ограничивается намеками, художественными и поэтическими эскизами пейзажа или жилища, которые в равной мере делают честь его наблюдательности и его фантазии. Здесь проступает в замечательном сочетании и его почерк и почерк автора пьесы. И еще — у него не увидишь такого дома, двора, мастерской или сада, которые, так сказать, не носили бы следов рук тех, кто 421 здесь жил или все это создавал. Можно составить себе представление о степени мастерства строителей и о привычках обитателей.
Создавая свои проекты, наш друг всегда отталкивается «от людей», от того, «что происходит с ними и благодаря им». Он не пишет «сценических картин», задников и рамок — он оборудует место, в котором «люди» что-то переживают. Он походя разделывается со всем, что обычно составляет главную заботу — эстетической, стилистической стороной. Конечно, Рим Шекспира был иным, чем Рим Расина. И Неер с блеском оформил сцену для обоих поэтов19*. Если только он захочет, посредством разных тонов и сочетаний белого и серого цвета он может создать куда более красочную картину, чем другие с помощью всей палитры. Он великий живописец. Но прежде всего он изобретательный рассказчик. Как никто другой он знает: все, что не служит интересам сюжета, вредит им. И потому он ограничивается лишь намеками на все то, что «не участвует в действии». Правда, и эти намеки — скорее стимул. Они возбуждают фантазию зрителя, которую неизменно парализует «полнота деталей».
Он часто пользуется находкой, которая затем стала международным достоянием, но сплошь и рядом применяется без всякого смысла. Это — деление сцены на две части, при котором спереди сооружаются в полвысоты комната, двор или мастерская, а позади проецируется на экран или наносится на холст дополнительное окружение, которое можно заменять в каждой сцене или же сохранять на протяжении всей пьесы. Эта дополнительная среда может создаваться также документальным материалом, картиной или панно. Подобное оборудование сцены, естественно, обогащает рассказ и в то же время постоянно напоминает зрителям, что сцену соорудил декоратор: под его взглядом вещи предстают иными, чем за стенами театра.
Этот прием, какие бы возможности он ни открывал, разумеется, лишь один из многих, используемых художником; 422 его декорации так же отличны друг от друга, как и сами пьесы. В основном перед зрителем предстают легкие, подвижные, красивые и удобные для игры конструкции, которые способствуют красноречивому воплощению замысла спектакля. Если упомянуть еще о художественном темпераменте оформителя, о его пренебрежении ко всему красивенькому и пресному и о жизнерадостности, которую излучают его декорации, то, надеюсь, это поможет создать хоть какое-то представление о мастерстве величайшего театрального художника нашего времени.
РЕЧЬ ЗАВЛИТА О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РОЛЕЙ
Роли распределяются неправильно и бездумно. Можно подумать, будто все повара обязательно страдают полнотой, все крестьяне лишены нервов, а государственные деятели — представительны на вид. Будто все, кто любит и кого любят, отличаются красотой! А все ораторы обладают бархатным голосом!
Разумеется, многое надо учитывать. Такому-то Фаусту подойдут такой-то Мефистофель и такая-то Гретхен. Бывают актеры, которых при самом большом желании не примешь за принца; принцы встречаются самые разные, но как бы то ни было, все они воспитаны, чтобы повелевать, а Гамлет — лишь один принц из многих.
Необходимо также заботиться о развитии актеров. Вот этот юноша станет лучше играть Троила194, сыграв сначала какого-нибудь чиновника Миттельдорфа! А вот той актрисе для исполнения роли Гретхен в последнем акте недостает бесстыдства: приобретет ли она необходимое качество, если сыграет Крессиду, которой обстоятельства навязывают это свойство, или ей лучше сыграть Груше, которой в нем и вовсе отказывают?
Бесспорно, у каждого актера есть свои излюбленные роли. И все же для актера опасно, если за ним закрепят лишь одно определенное амплуа. Только наиболее одаренные актеры способны создавать сходные друг с другом образы, так сказать, сценических близнецов, которых сразу опознаешь, как таковых, но ни за что не спутаешь.
423 Уж и вовсе глупо распределять роли по физическим признакам. «У такого-то королевская осанка!» Что это значит? Неужто все короли должны походить на Эдуарда VII? «Но у такого-то нет в облике ни малейшей властности!» А мало ли способов осуществления власти бывает в жизни? «У такой-то слишком благородный облик для мамаши Кураж!» А вы поглядите на торговок!
Можно ли распределять роли по характеру актеров? Нет, нельзя. Это тоже значило бы пойти по пути наименьшего сопротивления.
Конечно, одни люди кроткого, а другие — вспыльчивого, буйного нрава. Но верно и то, что в каждом человеке заложены все виды характеров. И чем талантливее актер, тем вернее эта истина. Свойства, обычно подавляемые им и вдруг извлеченные на поверхность, подчас производят особенно сильное впечатление. К тому же наиболее яркие роли (в том числе и эпизодические), наделенные рядом основных признаков, обычно оставляют некоторый простор для дополнений; они напоминают географическую карту с белыми пятнами. Актер должен развивать разные стороны своего характера: его персонажи будут мертвы, если он лишит их противоречивости. Чрезвычайно опасно поручать актеру большую роль, основываясь исключительно на каком-нибудь одном его свойстве.
424 ФРАГМЕНТЫ К ЧЕТВЕРТОЙ НОЧИ
ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ КРИТИКА
Актер. Сопереживание чувств театральных персонажей и мысленное соучастие в их поступках может доставлять удовольствие — это понятно. Но как может доставить удовольствие критика этих чувств и поступков?
Философ. Лично мне соучастие в поступках ваших героев часто доставляло одни неприятные ощущения, а сопереживание их чувств подчас — истинное отвращение. Напротив, меня забавляет игра, в которую я вовлекаю ваших героев, точнее, меня занимает сама возможность иных поступков и сопоставление поступков ваших героев с действиями, существующими в моем представлении и в равной мере возможными.
Завлит. Но как могли бы те же персонажи поступать по-другому, будучи такими, какие они есть, или став тем, чем они стали? Как же можно ждать от них каких-либо других поступков?
Философ. Можно. Кроме того, я ведь могу сравнивать их с самим собой.
Завлит. Значит, критика — не дело одного лишь разума?
Философ. Конечно, нет. В своей критике вам никак не удастся ограничиться одной лишь рассудочной стороной. Ведь и чувства также участвуют в критике. Может быть, ваша задача в том и состоит, чтобы организовать критику с помощью чувств. Помните, что критика порождается кризисами и углубляет их.
Завлит. А что, если у нас недостанет знаний, чтобы показать какую-нибудь, пусть самую мелкую сцену? Что тогда?
425 Философ. Знание многообразно. Оно таится в ваших предчувствиях и мечтах, заботах и чаяниях, в симпатиях и подозрениях. Но прежде всего знание проявляется в уверенности, что ты сам все знаешь лучше другого, — иными словами, в духе противоречия. Все эти сферы знания вам подвластны.
Актер. Выходит, мы опять возьмемся поучать! Нет ничего более ненавистного публике. Зритель не хочет снова садиться за парту!
Философ. Видно, ваши парты чудовищны, раз они вызывают такую ненависть. Но что мне за дело до ваших скверных парт! Выкиньте их!
Завлит. Никто не станет возражать против того, чтобы в пьесе была заложена идея, только бы она не вылезала на каждом шагу. Поучение должно осуществляться незаметно.
Философ. Поверьте мне: тот, кто настаивает, чтобы поучение было незаметно, вовсе не хочет никакого поучения. А вот с другим требованием — чтобы идея не вылезала на каждом шагу, — дело обстоит несколько сложнее.
Завлит. Итак, мы старались наилучшим образом изучить многочисленные указания, с помощью которых ты мечтаешь добиться, чтобы искусство в поучительности сравнялось с наукой. Ты пригласил нас поработать на твоей сцене с намерением превратить ее в научно-исследовательское учреждение, служение искусству не должно было входить в наши цели. Однако в действительности, чтобы удовлетворить твои пожелания, нам пришлось призвать на помощь все наше искусство. Сказать по чести, следуя твоему сценическому методу во имя поставленной тобой задачи, мы по-прежнему служим искусству.
Философ. Я тоже это заметил.
Завлит. Как я теперь понимаю, все дело в следующем: упразднив столь многое из того, что обычно считают непременным условием искусства, ты все же сохранил одно.
Философ. Что же это?
Завлит. То, что ты назвал легкостью искусства. Ты понял, что эта игра в «как будто», это представление, 426 рассчитанное на публику, осуществимо лишь в том жизнерадостном, добродушном настроении, с каким, например, пускаешься на разные проказы. Ты совершенно верно определил место искусства, указав нам на разницу в поведении человека, который обслуживает пять рычагов одного станка, и того, кто одновременно подбрасывает в воздух и ловит пять мячей. И эта легкость, по твоим словам, должна сочетаться с необыкновенно серьезным, общественным характером нашей задачи.
Актер. Больше всего меня поначалу расстроило твое требование обращаться лишь к рассудку зрителя. Понимаешь ли, мышление — это нечто бесплотное, в сущности, нечеловеческое. Но даже если считать его, напротив, характерным свойством человека, тут все равно не избежишь ошибки, потому что это означало бы забыть о животном начале человека.
Философ. А какого мнения ты держишься теперь?
Актер. О, теперь мышление уже не кажется мне таким бесплотным. Оно нисколько не противоречит эмоциям. И я пробуждаю в душе зрителя не только мысли, но и чувства. Мышление скорей представляется мне теперь известной жизненной функцией, а именно функцией общественной. В этом процессе участвует все тело вместе со всеми чувствами.
Философ. В одной русской пьесе195 показывали рабочих, доверивших бандиту оружие, чтобы он охранял их самих, занятых работой, от бандитов. Глядя на это, публика и смеялась и плакала… В старом театре герою противопоставлялся шарж. В карикатуре выражен критический элемент показа, основанного на вживании. Актер критикует жизнь, а зритель вживается в его критику… Эпический театр, однако, сможет показывать карикатуры, вероятно, только при условии раскрытия самого процесса шаржирования. Карикатуры будут проходить перед зрителем точно маски карнавала, разыгрываемого на сцене. Скользящие, мимолетные, устремляющиеся вдаль, но не увлекающие зрителя за собой картины необходимы здесь еще и потому, что коль скоро выделяется каждый поступок каждого персонажа, необходимо также раскрыть ход, взаимосвязь, совокупность поступков. Подлинное понимание и подлинная критика возможны лишь на основе понимания частного и 427 целого, как и соответствующих взаимоотношений частного и целого и критического их рассмотрения. Человеческие поступки неизбежно противоречивы, а потому необходимо раскрывать противоречие в целом… Актер не обязан создавать законченный образ. Он и не смог бы этого сделать, да это и не требуется. Его задача не в том только, чтобы дать критику предмета, но также и прежде всего в том, чтобы показать сам предмет. Он черпает свои изобразительные средства из кладезя увиденного и пережитого.
Актер. И все же, дорогой друг, созданию твоего театра сильно мешает наша игра. Возможность использования нашего мастерства, взращенного в театре и для театра, значительно умаляется оттого, что мы умеем еще и кое-что другое, помимо того, чего ты добиваешься; в том же, другом, ты навряд ли ощутишь необходимость. Помеха равно возникает оттого, что мы в известном отношении способны на большее, как и оттого, что мы не все умеем, что требуется.
Философ. Как понять, что вы способны на большее?
Актер. Ты ясно объяснил нам разницу между подсматривающим и критически наблюдающим зрителем. Ты дал нам понять, что первый должен быть заменен последним. Итак, долой смутные чувства, да здравствует знание! Долой подозрение, подайте сюда улики! Прочь чувство, нужны аргументы! К черту мечту, подавайте план! Долой тоску, решимость на бочку!
Актриса аплодирует.
Актер. А ты почему не аплодируешь?
Философ. Вряд ли я высказывался столь решительно о задачах искусства в целом. Мое выступление было направлено против обратных лозунгов: долой знание, да здравствуют чувства, и т. д. Я протестовал против того, чтобы искусство воздействовало лишь на второстепенные области сознания. К творениям бурных эпох, созданным прогрессивными классами общества, эти лозунги неприменимы. Но поглядите, что делается в наши дни! С каким несравненно большим искусством создаются у нас произведения, построенные на принципах, 428 которые я отвергаю! Смутные чувства преподносятся куда более умело, чем знания! Даже в произведениях с ясно выраженной идеей — и то находишь искусство в другом — в неясном, смутном. Конечно, ты ищешь его не только там, но находишь, между прочим, и там тоже.
Завлит. Ты считаешь, что знание не может быть воплощено в художественную форму?
Философ. Боюсь, что это так. Зачем бы мне стараться отключить всю сферу смутных чувств, мечтаний и эмоций? Ведь отношение людей к общественным проблемам проявляется и в этом. Чувство и знание не суть противоречия. Из чувства рождается знание, из знания — чувство. Мечты превращаются в планы, а планы — в мечты. Ощутив тоску, я отправляюсь в путь, но в пути я вновь ощущаю тоску. Мысли — мыслятся, чувства — чувствуются. Но в этом процессе случаются зигзаги и заторы. Бывают фазы, когда мечты не превращаются в планы, чувства не становятся знанием, а тоска не толкает в путь. Для искусства это скверные времена, и оно становится скверным. Взаимное притяжение между чувством и знанием, рождающее искусство, иссякает. Электрическое поле разряжается. То, что случается с художниками, погрязшими в мистике, в данный момент не слишком меня интересует. Гораздо больше заботят меня те, кто, нетерпеливо отворачиваясь от беспланового мечтательства, переходит к бескрылому планированию, то есть некоторым образом к голому прожектерству.
Завлит. Понимаю. Именно нам, стремящимся служить обществу, частью которого мы являемся, надлежит полностью охватить все сферы человеческих устремлений!
Актер. Выходит, надо показывать не только то, что мы знаем?
Актриса. И то, что мы чувствуем.
Философ. Учтите: многое из того, что вам неизвестно, поймет и опознает зритель.
Актер. Говорил ли автор что-нибудь о своем зрителе?
Философ. Да, вот что он сказал:
Недавно я встретил моего зрителя.
429 Он шел по пыльной мостовой,
Держа в руках отбойный молоток. На миг
Он поднял взгляд. Тут я поспешно раскинул мой театр
Между домами. Он
Взглянул на меня с любопытством. В другой раз
Я встретил его в пивной. Он стоял у стойки.
Пот градом стекал с него. Он пил, держа в руке
Краюху хлеба. Я быстро раскинул мой театр. Он
Взглянул удивленно.
Сегодня снова мне повезло. У вокзала
Я видел, как гнали, тыча прикладом в спину,
Его под барабанный шум на войну.
Прямо в толпе
Я раскинул мой театр. Обернувшись,
Он посмотрел на меня
И кивнул.
Философ. Противники пролетариата — не какая-нибудь целостная реакционная масса. Также и единичный человек, принадлежащий к враждебному классу, не является целостным существом с абсолютной и всеохватывающей враждебной настроенностью. Классовая борьба находит свое продолжение в его сердце и уме. Его раздирают противоречивые интересы. Живя среди масс, как бы изолирован он ни был, он все же разделяет массовые интересы. Во время демонстрации советского фильма «Броненосец “Потемкин”», когда на экране матросы сбросили за борт кровопийц-офицеров, в зале наряду с пролетариями аплодировали также и некоторые буржуа. Хотя офицерство и защищало буржуазию от социальной революции, буржуазии все же не удавалось подчинить себе эту военную касту. Буржуазия боялась офицерства и беспрерывно терпела от него всевозможные издевательства. При случае буржуа были готовы выступить вместе с пролетариями против феодализма. В такие моменты эти представители буржуазии вступали в подлинный вдохновляющий контакт с прогрессивной движущей силой человеческого общества — пролетариатом; они ощущали себя частью человечества, 430 как такового, широко и властно решающего определенные вопросы. Таким образом, искусству все же удается в известной мере создавать единство своей публики, в наши дни расколотой на классы.
Философ. В интересах выполнения наших новых задач мы уже отказались от многого из того, что до сих пор было принято считать неотъемлемой частью сценического искусства. Но, на мой взгляд, одно мы непременно должны сохранить — это легкость самого театрального жанра. Она нисколько не помешает нам, а отказавшись от нее, мы подвергли бы наше орудие непосильному испытанию и в результате загубили бы его. По самой природе театрального искусства в нем заложена известная легкость. Накладывать грим и принимать заученные позы, воспроизводить действительность по немногим заданным элементам, представлять картины жизни, отбирая из нее самое смешное и яркое, можно лишь с веселой непринужденностью, — иначе все это покажется глуповатой затеей. Любая ступень серьезности достижима при помощи развлекательности, без нее это невозможно. И потому мы должны дать всякой проблеме соответственное сценическое воплощение, и притом забавное. Мы словно ювелиры за работой, каждому нашему движению присущи безупречная точность и изящество, хотя бы земля и горела у нас под ногами. Одно то уже может показаться неуместным, что сейчас, в перерыве между кровавыми битвами и отнюдь не с целью ухода от действительности, мы вдруг затеяли обсуждение таких театральных проблем, которые, казалось бы, порождены исключительно тягой к развлечениям. Что ж, пусть завтра ветер развеет наши кости! Но сегодня мы займемся театром, и как раз потому, что нам надо подготовить орудие, которым мы хотим воспользоваться в своих интересах, — представьте, и оно может пригодиться. Недопустимо, чтобы опасность нашего положения побудила нас уничтожить средство, которое нам необходимо. Как говорится, скоро делают, так слепо выходит. Выполняя серьезную операцию, хирург должен ловко орудовать крошечным ланцетом. Конечно, мир трещит по всем швам, и, чтобы привести его в порядок, понадобятся мощные усилия. Но среди орудий, используемых 431 для этой цели, может оказаться также и хрупкий, ломкий инструмент, требующий легкого, непринужденного обращения.
Философ. Театр, в котором нельзя смеяться, — это театр, над которым будут смеяться. Люди, лишенные чувства юмора, смешны.
К торжественности обычно прибегают, пытаясь придать какому-либо делу значение, которого оно начисто лишено. Когда же дело само по себе значительно, одно сознание этой значимости уже порождает торжественность. Ощущение торжественности исходит от снимков, где запечатлены всенародные похороны Ленина. Сначала видно лишь, что люди провожают в последний путь человека, со смертью которого не могут примириться. Но видно также, что людей очень много, и к тому же все это «маленькие» люди, их участие в шествии еще и вызов тем немногим, кто давно уже мечтал избавиться от того, кто сейчас лежит в гробу. Людям с такими заботами незачем заботиться о торжественности.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСКУССТВА
Философ. Мы достаточно толковали о целях искусства, его методе и предпосылках, а также — в ходе четырех минувших ночей — и сами творили искусство на сцене. А потому я отважился высказать ряд осторожных суждений общего характера об этой изумительной способности человека, в надежде, что эти суждения не будут рассмотрены в отрыве друг от друга, а восприняты чисто умозрительно. Можно было бы, например, для начала определить искусство как умение создавать изображения общественной жизни, способные вызвать определенные чувства, мысли и поступки, равных которым по интенсивности и по характеру не может вызвать созерцание подлинной действительности или познание ее на собственном опыте. На основе созерцания и познания действительности художник создает изображение, также предназначенное для созерцания и познания и отражающее его чувства и мысли.
432 Завлит. Верно у нас говорят: художник выражает себя.
Философ. Что ж, отлично, если понимать это в том смысле, что художник выражает себя как человека, что искусство возникает тогда, когда художник выражает свою человеческую сущность.
Актер. Вероятно, этим не исчерпываются возможности искусства, всего этого еще довольно мало. Где же тут мечты мечтателей, где красота с ее страшной властью, где жизнь во всей ее многогранности?
Завлит. Да, поговорим о наслаждении. Похоже, что, усматривая назначение всякой философии в том, чтобы сделать жизнь как можно приятнее, ты стремишься сделать искусство таким, чтобы оно-то как раз и не доставляло наслаждения. Высоко ценя вкусную еду, ты строго судишь тех, кто кормит народ одной картошкой. Но искусство, с твоей точки зрения, не должно знать наслаждения, которое дает еда, питье или любовь.
Философ. Итак, искусство — это специфический природный дар, которым наделен человек. Искусство — не только замаскированная мораль, не только приукрашенное знание, но еще и совершенно самостоятельная область, дающая сложное, противоречивое отражение всех других областей.
Определить искусство как царство прекрасного означало бы проявить слишком общий и пассивный подход к этой задаче. Художник вырабатывает какое-то умение, — с этого все начинается. То и прекрасно в творениях искусства, что они умело сотворены. И если кто-либо возразит, что одного умения недостаточно для создания произведения искусства, то под словосочетанием «одно умение» следует понимать умение одностороннее и пустое, ограниченное рамками какой-нибудь одной области и не распространяющееся на другие области искусства. Иными словами, умение неумелое с точки зрения нравственности или науки. Прекрасное в природе есть свойство, которое дает человеческим органам чувств возможность вырабатывать художественное умение. Глаз выражает себя. Это отнюдь не самостоятельный процесс, на котором «все кончается». Это явление подготовлено 433 другими явлениями, а именно, явлениями общественными, также производными. Разве ощутит горный простор тот, кто не знает тесноты долины, разве оценит образную безыскусственность джунглей тот, кто не видел искусственного безобразия большого города? Глаз голодного не насытится. А у человека усталого или случайно «занесенного судьбой» в какую-либо местность самый «великолепный» пейзаж, коль скоро он лишен всякой возможности им воспользоваться, вызовет лишь слабую, тусклую реакцию, — невозможность представившейся возможности обусловливает эту тусклость.
У человека неискушенного ощущение красоты часто возникает при обострении контрастов, когда синяя вода становится синее, желтые хлеба — желтее, вечернее небо — ярче.
Философ. Мы можем сказать, что с точки зрения искусства нами проделан следующий путь: мы пытались усовершенствовать те изображения действительности, которые вызывают всевозможные страсти и чувства, и, нарочито игнорируя все эти страсти и чувства, построили свои изображения так, чтобы всякий, кто увидит их, смог деятельно совладать с представленной в них действительностью. Мы обнаружили, что эти усовершенствованные копии также вызывают страсти и чувства, более того, что эти страсти и чувства могут служить осмыслению действительности.
Завлит. Собственно, уже не приходится удивляться тому, что, оказавшись перед новой задачей, состоящей в разрушении людских предрассудков относительно общественной жизни, искусство поначалу едва не захирело. Теперь мы знаем: это произошло оттого, что оно взяло на себя новую задачу, не отказавшись в то же время от предрассудка, связанного с его собственной функцией. Весь аппарат искусства прежде служил идее примирения человека с судьбой. Этот аппарат вышел из строя, когда на сцене вдруг было показано, что судьба человека — это человек. Короче, вознамерившись служить новой задаче, искусство предполагало остаться прежним искусством, И потому все его шаги были робкими, половинчатыми, эгоистичными, явно недобросовестными, 434 а ведь ничто так не вредит искусству, как половинчатость. Только отказавшись от всего, что прежде составляло его сущность, оно вновь обрело себя.
Актер. Понимаю. Нехудожественным казалось то, что просто не могло сообразоваться со старым искусством, а это не значит, что оно не могло сообразоваться с искусством вообще.
Философ. Потому-то кажущаяся слабость, вернее, ослабление нового искусства, по всей видимости вызванное новыми задачами, при том, что и эти задачи выполнялись им далеко не блестяще, заставила многих повернуть вспять и вовсе отказаться от новых задач.
Актер. Вся эта затея с демонстрацией действенных выводов представляется мне пустой и скучной. Мы будем потчевать зрителя одними решенными проблемами.
Завлит. Нет, и нерешенными тоже!
Актер. Да, чтобы и они получили свое решение! Это не жизнь. Можно рассматривать жизнь как клубок решенных — или нерешенных — проблем, но все же проблемы — это еще не жизнь. В жизни встречается и беспроблемное, не говоря уж о неразрешимых проблемах, которые тоже существуют! Не хочу играть одни шарады!
Завлит. Я понимаю его. Он хочет, как говорится, «добыть лопатой глубинный пласт». Чтобы ожидаемое смешалось с неожиданным, понятное — с непостижимым. Он хочет смешать ужас с восхищением, радость — с печалью. Короче, он хочет творить искусство.
Актер. Не выношу всей этой болтовни об искусстве как о слуге общества. Вот восседает всесильное общество, но искусство не спутник ему, оно обязано обслуживать его как официант посетителя. Неужто все мы непременно должны быть слугами? Разве мы не можем стать господами? Разве искусство не может господствовать? Давайте упраздним всех слуг, в том числе и слуг искусства!
Философ. Браво!
Завлит. К чему это «браво»? Этим необдуманным возгласом ты сводишь на нет все, что говорил. Стоит только кому-нибудь заявить, что его угнетают, как ты сразу принимаешь его сторону!
435 Философ. Твоими бы устами… Теперь я понял актера. Он тревожится, как бы мы не превратили его в государственного чиновника, в церемониймейстера или проповедника, оперирующего «средствами искусства». Успокойся, этого — не будет. Сценическое искусство можно рассматривать как элементарное человеческое проявление, а потому как самоцель. Этим оно отличается от военного искусства, которое не может быть самоцелью. Сценическое искусство принадлежит к числу первозданных общественных сил, в его основе — непосредственная способность людей получать наслаждение сообща. Искусство подобно языку, оно и есть своего рода язык. Я предлагаю всем подняться, чтобы как-то запечатлеть это признание в нашей памяти.
Все встают.
Философ. А теперь — коль скоро мы встали — предлагаю воспользоваться случаем и выйти помочиться.
Актер. О, этим ты все испортил! Я протестую!
Философ. Но почему? Тут я также следую порыву, я уважаю его и повинуюсь ему. И в то же время забочусь о том, чтобы торжественная минута нашла достойное завершение в будничном акте.
Наступает пауза.
АУДИТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ196
Философ. Как мы уже убедились, наш «таетр» будет существенно отличаться от театра — этого общедоступного, испытанного, прославленного и необходимого учреждения. Важное отличие должно заключаться в том — и надеюсь, это немало вас успокоит, — что он будет открыт не на вечные времена. Он должен служить лишь нуждам дня, нуждам нашего сегодняшнего дня, хотя бы и окутанного мраком.
Философ. Не могу дольше таить от вас, не могу скрывать: у меня нет ни средств, ни дома, ни театра, ни костюмов, ни даже баночки с гримом. Мои покровители — 436 «Никто» и «Вон пошел». Я ничего не смогу платить вам за усилия, которые должны быть несравненно больше прежних, но и славу я не могу вам обещать. Славы тоже не будет, — ведь у меня нет газет, которые прославили бы моих помощников.
Пауза.
Актер. Значит, требование таково: работать во имя самой работы.
Рабочий. Очень скверное требование! Лично я ни от кого не стал бы этого требовать, потому что сам я все время только это и слышу. «Разве тебе не нравится твоя работа?» — недовольно спрашивают меня, когда я требую своей платы. «Разве ты не трудишься во имя самого дела?» Нет, я все же стал бы хоть что-нибудь платить. Мало, конечно, потому что денег у нас мало, но все же это лучше, чем ничего, потому что за работу надо платить.
Завлит. Думается мне, вам будет легче заполучить актеров, если вы ничего не станете платить, чем если вы предложите им какие-то жалкие гроши. Играя задаром, они по крайней мере очутятся в положении дающих.
Актер. Значит, какие-то гроши вы все-таки готовы платить? Что до меня, я взял бы их. Можете не сомневаться. Это упорядочит наши отношения, превратив их в самые обыкновенные, будничные. К тому же вы, может, постеснялись бы слишком часто смотреть в зубы дареному коню, а ведь этому новому искусству не грех почаще заглядывать в рот. Я и сам понимаю: конь будет рад, если ему станут смотреть в зубы. Считаю финансовый вопрос принципиально урегулированным.
Завлит. Легкомыслие актеров — вам на руку. Наш приятель совсем позабыл о том, что отныне он уже не сможет каждый вечер превращаться в короля.
Актер. Зато мне как будто позволили превращать в королей зрителей моего нового театра. И они будут не вымышленными, а настоящими королями. Государственными деятелями, мыслителями, инженерами. Что за публика у меня будет! Я буду отдавать на их суд все, что случается в этом мире. А каким благородным, полезным, 437 славным местом будет мой театр, когда он станет лабораторией всех людей труда! Я же буду следовать призыву классиков: «Преобразуйте мир! Он в этом нуждается!»
Рабочий. Эти слова звучат несколько высокопарно. Впрочем, почему бы им так не звучать, коль скоро за ними стоит великое дело?
438 СТИХИ ИЗ «ПОКУПКИ МЕДИ»197
(Мечты автора)
МАГИ
Но разве нет в магах величия, разве они не околдовывают всех вокруг? Они никому не позволяют чувствовать иначе, чем чувствуют сами, они всех заражают своими мыслями. Разве это не великое искусство? Для того чтобы гипнотизировать, несомненно, требуется ловкость, искусность и даже, может быть, когда маги впадают в транс, некоторое искусство; но переживание, вызываемое ими, неполноценно, — оно ослабляет и унижает.
Смотрите: маг чудодейственным жестом
Кролика извлекает из шляпы.
Но дрессировщику кроликов тоже
Свойствен порой чудодейственный жест.
Поднимитесь на сцену и ударьте мага палочкой по икроножным мышцам в то время, как он колдует, — и сила его исчезнет. Ибо мышцы его напряжены до судорог, настолько это трудно — заставить нас поверить в невероятное, продать нам глупое за умное, низменное за возвышенное, эффектную красивость за красоту.
НЕЗАКОНЧЕННОЕ
Многие исходят из того, что человек — нечто законченное; в таком-то освещении он выглядит так-то, а в другом так-то, в такой-то ситуации он говорит то-то, а в другой то-то; и потому они стремятся с самого начала охватить данную фигуру и придать ей целостность. Но лучше рассматривать человека как нечто незаконченное 439 и добиваться постепенного его становления — от высказывания к высказыванию и от поступка к поступку. Изучая роль, вы, конечно, можете себя спрашивать, что за человек говорит именно то или другое, но вы должны также знать (и из этого знания исходить), что человек как данная индивидуальность возникнет и станет зримым лишь после того, как все его высказывания и поступки, связанные между собой определенной закономерностью, будут представлены вами достаточно выразительно и правдоподобно.
Как он говорит «да», как он говорит «нет»,
Как он бьет и как бьют его,
Как он дружит с одним, как он дружит с другим;
Так образуется человек, изменяясь,
И так возникает в нас его образ,
Будучи схожим с нами и будучи с нами несхожим.
Значит, спросите вы, мы не должны представлять человека, который остается равен самому себе, выступая различно в различных ситуациях? Разве этот человек не должен быть определенной особью, которая меняется определенным образом — иначе, чем меняется другая особь? Ответ таков: он будет определенной особью, если только вы будете все подряд хорошо выполнять, а также помнить о людях, которых вы наблюдали. Вполне возможно, что этот определенный некто будет меняться определенным образом и долгое время будет данной определенной особью, а в один прекрасный день он станет другой определенной особью — это может случиться. Вам только не следует гоняться за каким-то одним лицом, за персонажем, который с самого начала содержит в себе все и разыгрывает только свои карты, каждую по обстоятельствам. Исполняйте только все по порядку, изучайте все, удивляйтесь всему, делайте все легко и правдоподобно, и человек непременно получится — вы ведь и сами люди.
ЛЕГКОСТЬ
Когда ваша работа окончена, она должна казаться легкой. Легкость должна напоминать об усилиях; легкость — это преодоленное усилие или, иначе, усилие 440 победоносное. Поэтому, едва только вы приступили к работе, вам следует выработать позицию, направленную на достижение легкости. Не нужно отбрасывать трудности, — их следует накоплять и при помощи работы делать так, чтобы они становились легкими для вас. Ибо ценна только та легкость, которая является победоносным усилием.
Поглядите на легкость,
С которой могучий
Поток прорывает плотины!
Землетрясение
Почву колеблет небрежной рукой.
Страшное пламя
С легким изяществом овладевает домами,
Их пожирая со смаком:
Опытный хищник.
Есть такая позиция начинания, которая благоприятна для достижения легкости. Этой позиции можно научиться. Вы знаете, что овладение ремеслом означает: научиться тому, чтобы учиться. Если хочешь напрячь все силы, то нужно их беречь. Не следует делать того, что не можешь; не следует до поры делать и того, что еще не можешь. Надо так расчленить свою задачу, чтобы каждую из частей можно было легко одолеть, ибо тот, кто перенапрягается, не достигает легкости.
О, радость начала! О раннее утро!
Первая травка, когда ты, казалось, забыл,
Что значит — зеленое! Радость от первой страницы
Книги, которой ты ждал, и восторг удивленья!
Читай не спеша, слишком скоро
Часть непрочтенная станет тонка! О первая пригоршня влаги
На лицо, покрытое пóтом! Прохлада
Свежей сорочки! О начало любви! И отведенный взгляд!
О начало работы! Заправить горючим
Остывший двигатель! Первый рывок рычага,
И первый стрекот мотора! И первой затяжки
Дым, наполняющий легкие! И рожденье твое,
Новая мысль!
441 О ПОДРАЖАНИИ
Человек, который только подражает,
И не может сказать
Ничего о том, чему он подражает,
Подобен шимпанзе, который
Подражает куренью того, кто его дрессирует, однако
Не курит при этом. А дело-то в том, что,
Когда подражанье бездумно,
Оно никогда настоящим
Подражаньем не станет.
О ПОВСЕДНЕВНОМ ТЕАТРЕ
Вы, артисты, устраивающие свои театры
В больших домах, под искусственными светочами,
Перед молчащей толпой, — ищите время от времени
Тот театр, который разыгрывается на улице.
Повседневный, тысячеликий и ничем не прославленный,
Но зато столь жизненный, земной театр, корни которого
Уходят в совместную жизнь людей, В жизнь улицы.
Здесь ваша соседка изображает домохозяина, ярко показывает она,
Имитируя поток его красноречия,
Как он пытается замять разговор
Об испорченном водопроводе. В скверах
Молодые люди имитируют хихикающих девушек,
Как те по вечерам отстраняются, защищаются и при этом
Ловко показывают грудь. А тот вот пьяный
Показывает проповедующего священника, отсылающего неимущих
На щедрые эдемские луга. Как полезен
Такой театр, как он серьезен и весел
И какого достоинства исполнен! Он не похож на попугая или обезьяну:
442 Те подражают лишь из стремления к подражанию, равнодушные
К тому, чему они подражают, лишь затем, чтобы показать,
Что они прекрасно умеют подражать, но
Безо всякой цели. И вы,
Великие художники, умелые подражатели, вы не должны
Уподобляться им! Не удаляйтесь,
Хотя бы ваше искусство непрерывно совершенствовалось, слишком далеко
От того повседневного театра,
Который разыгрывается на улице.
Взгляните на этого человека на перекрестке! Он демонстрирует, как
Произошел несчастный случай. Он как раз
Передает водителя на суд толпы. Как тот
Сидел за рулем, а вот теперь
Изображает он пострадавшего, по-видимому,
Пожилого человека. О них обоих
Он рассказывает лишь такие подробности,
Которые помогают нам понять, как произошло несчастье, и, однако,
Этого довольно, для того чтобы они предстали перед вами. Обоих
Он показывает вовсе не так, чтобы создалось впечатление: они-де
Не могли избежать несчастья. Несчастный случай
Становится таким понятным и все же непостижимым, так как оба
Могли ведь передвигаться и совершенно иначе, дабы несчастья
Не произошло. Тут нет места суеверию:
Очевидец не подчиняет смертных
Власти созвездий, под которыми они рождены,
А только власти их ошибок.
Обратите внимание также
На его серьезность и на тщательность его имитации. Он сознает,
Что от его точности зависит многое: избежит ли невинный
443 Гибели и будет ли вознагражден Пострадавший. Посмотрите,
Как он теперь повторяет то, что он уже однажды проделал. Колеблясь,
Хорошо ли он подражает, запинаясь
И предлагая другому очевидцу рассказать о тех
Или иных подробностях. Взирайте на него
С благоговением! И с изумлением
Заметьте еще одно: что этот подражатель
Никогда не растворяется в подражаемом. Он никогда
Не преображается окончательно в того, кому он подражает. Всегда
Он остается демонстратором, а не воплощением. Воплощаемый
Не слился с ним, — он, подражатель,
Не разделяет ни его чувств,
Ни его воззрений. Он знает о нем
Лишь немногое. В его имитации
Не возникает нечто третье, из него и того, другого,
Как бы состоящее из них обоих, — нечто третье, в котором
Билось бы единое сердце и
Мыслил бы единый мозг. Сохраняя при себе все свои чувства,
Стоит перед вами изображающий и демонстрирует вам
Чуждого ему человека.
Таинственное превращение,
Совершающееся в ваших театрах якобы само собой
Между уборной и сценой: актер
Оставляет уборную, король
Вступает на подмостки, то чудо,
Посмеивающимися над которым с пивными бутылками в руках
Мне столько раз случалось видеть рабочих сцены, — это чудо
Здесь не происходит. Наш очевидец на перекрестке
Вовсе не сомнамбула, которого нельзя окликнуть. Он не
444 Верховный жрец в момент богослужения. В любую минуту
Вы можете прервать его: он ответит вам
Преспокойно и продолжит,
Побеседовав с вами, свой спектакль.
Не говорите, однако: этот человек
Не артист. Воздвигая такое средостение
Между собой и остальным миром, вы только
Отделяете себя от мира. Если вы не называете
Этого человека артистом, то он вправе не назвать
Вас людьми, а это было бы куда худшим упреком. Скажите лучше:
Он артист, ибо он человек. Мы
Сможем сделать то, что он делает, совершенней и
Снискать за это уважение, но то, что мы делаем,
Есть нечто всеобщее и человеческое, ежечасно
Происходящее в уличной сутолоке, почти столь же
Необходимое и приятное человеку, как пища и воздух!
Ваше театральное искусство
Приведет вас назад, в область практического.
Утверждайте, что наши маски
Не являются ничем особенным, это просто маски.
Вот продавец шалей
Напяливает жесткую круглую шляпу покорителя сердец,
Хватает тросточку, наклеивает
Усики и делает за своей лавчонкой
Несколько кокетливых шажков, показывая
Замечательное преображение, которое,
Не без помощи шалей, усиков и шляп,
Оказывает волшебное воздействие на женщин. Вы скажите, что и наши стихи
Тоже не новость: газетчики
Выкрикивают сообщения, ритмизуя их, тем самым
Усиливая их действие и облегчая себе многократное
Их повторение! Мы
Произносим чужой текст, но влюбленные
И продавцы тоже заучивают наизусть чужие тексты, и как часто
Цитируете вы изречения! Таким образом,
445 Маска, стих и цитата оказываются обычными явлениями, необычными же:
Великая Маска, красиво произнесенный стих
И разумное цитирование.
Но, чтобы не было никаких недоразумений между нами,
Поймите: даже когда вы усовершенствуете
То, что проделывает этот человек на перекрестке, вы сделаете меньше,
Чем он, если вы
Сделаете ваш театр менее осмысленным, менее обусловленным событиями,
Менее вторгающимся в жизнь зрителей и
Менее полезным.
РЕЧЬ К ДАТСКИМ РАБОЧИМ-АКТЕРАМ ОБ ИСКУССТВЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Вы пришли сюда, чтобы играть на театре, но вас
Спросят теперь: для чего?
Вы пришли показать себя людям,
Показать все, что вы умеете делать,
Показать людям то,
Что созерцанья достойно…
И люди, надеюсь,
Будут рукоплескать вам: ведь вы поднимете их
Из тесного быта в высокие сферы,
Они, как и вы, испытают головокруженье на горной круче,
Страсти большого накала. И вот
Теперь задают вам вопрос: для чего?
Дело в том, что здесь, на низких скамейках
Зрителей, разгорелся спор: упрямо
Одни утверждают, что вы
Не должны им себя демонстрировать, но
Показывать мир. Для чего, говорят вам,
Смотреть нам все снова и снова, как этот
Умеет быть грустным, другой — бессердечным, а третий
446 Умеет представить тирана? К чему
Постоянно нам видеть повадки и жесты
Людей, над которыми властна судьба?
Вы нам представляете одних только жертв, делая вид,
Что сами вы — жертвы таинственных сил
И собственных страстей.
Незримые руки внезапно бросают вам радости жизни.
Словно вы псы, которым
Швыряют кость. И так же внезапно
Вокруг вашей шеи ложится петля — заботы,
Что сверху нисходят на вас. Мы же, зрители, мы
На низких скамьях сидим и, остекленевшим взором
Следя за каждым движеньем, за вашей мимикой, взглядом
Ловим крохи от радости, даруемой вами,
И от ниспосланной свыше заботы.
Нет, говорим мы, недовольные, сидящие на низких скамьях,
Нет, хватит! Нам этого мало! Вы разве
Не слышали: ведь теперь уже стало известно,
Как соткана эта сеть, накинутая на людей.
Уже отовсюду — от городов стоэтажных,
Через моря, бороздимые многолюдными кораблями,
До отдаленнейших сел — все повторяют друг другу,
Что судьба человека — сам человек. Потому
Мы от вас, актеров
Нашей эпохи, эпохи великого перелома,
Власти людей над миром и над людской природой,
Требуем: играйте иначе и покажите
Нам мир человека таким, каков он на самом деле:
Созданный нами, людьми,
И подверженный изменению.
Примерно так говорят на скамьях. Конечно, не все
С этим согласны. Еще большинство, угрюмо
Голову в плечи втянув, сидят, и на лбу их морщины,
Как борозды на бесплодных полях. Обессилев
От бесконечной борьбы за кусок хлеба,
Ждут они жадно того, что так отвергают другие:
447 Легкой встряски для вялых чувств. Легкого напряженья
Для расслабленных нервов. И чтобы таинственная рука
Увела их из этого мира, который навязан им
И с которым нельзя совладать. Кому же из зрителей ваших
Вы подчинитесь, актеры? Мой вам совет:
Недовольным.
Но как
Можно это представить? Как
Показать сосуществование людей,
Чтобы его можно было понять и им овладеть? Как
Показать не только себя, а в других — не только
Их поведенье, когда они
Попадаются в сеть?
Показать, как сплетается и набрасывается сеть судьбы?
Сплетается и набрасывается на людей
Людьми? Первое,
Что вам следует изучить, — это
Искусство наблюдения.
Ты, актер,
Прежде всех искусств
Овладей искусством наблюденья.
Ибо важно не то, как выглядишь ты, но
Чтó ты видел и показываешь людям. Людям важно узнать,
Чтó ты знаешь,
Тебя будут наблюдать, чтоб увидеть,
Хорошо ли ты наблюдал.
Но познанье людей недоступно тому,
Кто наблюдал лишь себя самого. Слишком много
Скрывает он сам от себя. И нет никого,
Кто был бы хитрей, чем он сам.
Обученье свое вы должны начать
В школе живых людей. И пусть вашей первой школой
448 Будет рабочее место, квартира, квартал,
Улица, метрополитен, магазин… Всех людей
Вы там должны наблюдать,
Чужих, словно они вам знакомы, знакомых —
Словно они вам чужие.
Вот человек, который платит налоги, и он не похож
На всякого, кто платит налоги, хотя
Каждый платит их неохотно. Да и сам он
Не всегда похож сам на себя, когда платит налоги.
А человек, взимающий их,
Разве он в самом деле совсем не похож на того,
Кто платит?
Он ведь не только платит налоги и сам, но много
Общего есть у него с тем, кого он угнетает.
А эта женщина
Не всегда говорила так резко, да и не с каждым
Она так резка. А та, другая,
Не с каждым любезна. А этот надменный клиент,
Разве он только надменен? Разве не полон боязни?
А женщина эта, ставшая малодушной,
У которой нет обуви для ребенка,
Разве с остатком ее мужества нельзя побеждать государства?
Смотрите, она беременна снова! А видали ли вы
Взгляд больного, когда он узнал, что уже не будет здоров?
А если он будет здоров, что из того, —
Ведь он не сможет работать. Теперь он, смотрите,
Проводит остаток своей жизни, листая книгу,
В которой написано, как превратить землю
В планету, пригодную для жилья.
И не забудьте об изображениях на экране и газетных листах!
Смотрите, как говорят и как ходят они, власть имущие,
Держащие нити вашей судьбы
В белых жестоких руках.
К ним присмотритесь внимательно. И теперь
Представьте себе все, что вокруг,
Все эти битвы,
Словно событья истории,
Ибо так вы должны их потом представить на сцене:
449 Борьбу за рабочее место, разговор жестокий и нежный
Между женою и мужем, споры о книгах,
Мятеж и смиренье, попытку и неудачу —
Все вы представите после как событья истории.
(Даже то, что происходит в эту минуту,
Вы можете так увидеть: вот эмигрант-писатель
Вас поучает искусству Наблюденья.)
Чтоб наблюдать,
Нужно делать сравненья. Чтоб делать сравненья,
Нужно многое наблюдать. Мы, наблюдая,
Приобретаем знанья. Но для наблюденья
Необходимы знанья. И вот еще что:
Дурной наблюдатель тот, кто не знает, что делать
С тем, что он наблюдал. Прохожий на яблоню смотрит
Не тем проницательным взглядом, которым смотрит садовник,
Мало увидит человек тот, кто не знает, что
Человек — судьба человека.
Искусство Наблюденья,
Примененное к человеку, это лишь ветвь
Искусства обращенья с людьми. Ваша задача, актеры,
Быть учеными и наставниками
В искусстве обращенья людей друг с другом.
Познавая природу людей и ее воплощая,
Вы учите их обращенью друг с другом.
Вы учите их великому
Искусству общежития.
Но как же, спросите вы, должны мы,
Униженные и травимые, угнетенные и зависимые,
Мы, что коснеем в невежестве и не видим просветов,
Как же можем мы встать, голову гордо подняв,
В позу ученых и землепроходцев,
Изучивших неведомый край, чтобы его подчинить
И присвоить себе богатства его? Ведь доселе
На нас наживались другие, кто был поудачливей. Разве
450 Можем мы, бывшие только
Плодоносящею яблоней, стать садовником? Да,
Именно это и кажется мне тем искусством,
Которое вам надлежит изучить, вам, актеры
И в то же время — рабочие люди.
Не может быть невозможным
Учиться тому, что полезно. Именно вы ежедневно
Копите тьму наблюдений. Мáстера слабость и силу,
Привычки товарищей, образ их мыслей
Всесторонне обдумать — вам и полезно и нужно.
В классовых битвах беспомощны те, кто
Не знает людей. Я вижу, как все вы,
Как лучшие среди вас жадно тянутся к знанью,
К знанью, что делает ярче все наблюденья, а эти
К новым знаньям ведут. И уже изучают
Многие среди вас законы общенья людей.
Класс ваш готов победить свои трудности и вместе с этим
Трудности
Всего человечества. И тогда вам удастся,
Вам, актеры рабочих, изучая и обучая,
Своей игрою вмешаться в битвы
Людей вашей эпохи, и так
Серьезностью изученья и смелой веселостью знанья
Помочь тому, чтобы опыт борьбы
Стал достоянием всех
И справедливость — страстью.
ОБ ИЗУЧЕНИИ НОВОГО И СТАРОГО
Когда вы читаете свои роли,
Изучая, готовые всегда удивляться,
Ищите новое и старое, ибо наше время
И время наших детей — это время борьбы
Нового со старым. Хитрость работницы,
Которая берет у учителя его знанья,
Словно облегчая ему слишком тяжелую ношу, это
Новое, и как новое это надо показывать. А старым
Является страх рабочих во время войны
Перед листовкой, несущей знанья; и это
451 Как старое нужно показывать. Но
Справедливо народ говорит: в новолунье
Новый месяц целую ночь держит в объятиях старый.
Испуганный медлит —
И это призрак новых времен. Постоянно
Прибавляйте «уже» и «еще». Борьба классов,
Борьба между старым и новым
Бушует и в душе отдельного человека.
Готовность учителя учить:
Брат не видит ее, но видит
Чужая женщина…
Рассматривая все побужденья и действия ваших героев, помните
О новом и старом. Надежды торговки Кураж
Несут ее детям смерть; но отчаянье
Немой, вызванное войною,
Относится к новому. Беспомощные ее движенья,
Когда она тащит на крышу спасительный барабан,
Великая помощница,
Должны вас исполнить гордостью, а деловитость
Торговки, которая ничему не научилась, —
Состраданьем.
Читая свои роли,
Изучая,
Готовые всегда удивляться,
Радуйтесь новому,
Стыдитесь старого.
ЗАНАВЕСЫ
На Большом Занавесе пусть будет написан
Воинственный голубь мира
Моего брата Пикассо. Позади
Натяните проволоку и повесьте
Легкую раздвижную занавеску,
Которая, ниспадая, волнами пены скрывает
Работницу, распределяющую листовки,
И отрекающегося Галилея.
452 В зависимости от пьесы занавеска
Может быть из грубого полотна, или шелка,
Или из белой кожи, или из красной…
Только пусть не будет она слишком темной,
Потому что на ней должны читаться
Проецируемые вами надписи,
Которые служат заглавьем для сцен.
Они ослабят напряжение зрителя
И сообщат ему, чего ожидать…
Пусть занавес мой, спускаясь от середины,
Не закрывает мне сцены!
Откинувшись в кресле, пусть зритель видит
Все деловые приготовления, которые хитро
Делаются для него: как отпускают
Жестяную луну и как вносит крышу, покрытую дранкой…
Не показывайте ему слишком многого,
Но кое-что покажите! Пусть он видит,
Что вы не колдуете здесь,
А работаете, друзья.
ОСВЕЩЕНИЕ
Осветитель, дай нам побольше света на сцену!
Как можем мы, драматург и актеры,
При полутьме представлять наши картины жизни?
Мертвенный сумрак
Наводит на зрителя сон. Нам же нужно, чтобы
Был бодр он и бдителен. Пусть же
Он мечтает при свете. А если понадобится ночь,
Можно порой намекнуть на нее
Луной или лампой, а также наша игра
Может дать представленье о времени суток,
Когда это будет нужно. О вечерней степи
Елизаветинец написал нам такие стихи,
Которых не заменит ни осветитель,
Ни даже сама степь. Так что ты освети
Нашу работу, чтоб зритель увидел,
Как оскорбленная крестьянка
Садится на тавастландскую землю198,
Словно это — ее земля.
453 ПЕСНИ199
Отделяйте песни от остального!
Пусть эмблема музыки, пусть изменение света,
Пусть проекции надписей или картин возвещают,
Что другое искусство выходит на сцену. Актеры
Певцами становятся. С новых позиций
Они обращаются к публике, все еще
Персонажи из пьесы, однако уже и открыто
Глашатаи авторской мысли.
Нанна Кальяс, круглоголовая дочь арендатора,
Продаваемая, словно цесарка на рынке,
Поет свою песню о смене
Хозяев, и песня ее непонятна
Без качания бедрами, этого знака
Профессии, превратившей стыдливость в рубец
На сердце. И непонятна
Песня маркитантки о Великой Капитуляции, если
Гнев драматурга
Не превратился в гнев маркитантки Кураж.
Но суховатый Иван Весовщиков, большевик, рабочий,
Поет железным голосом непобедимого класса,
И Власова, добрая мать,
Собственным голосом, осторожным,
Извещает нас в песне о том, что
Знамя разума — красное знамя.
РЕКВИЗИТ ЕЛЕНЫ ВАЙГЕЛЬ
Как агроном, сажающий просо на опытном поле,
Отбирает тяжелые зерна, и как для стиха
Поэт отбирает точное слово, так
Отбирает она вещи, сопутствующие на сцене
Ее персонажам. Оловянную ложку,
Которую носит мамаша Кураж в петлице
Ватной куртки, партийный билет
Приветливой Власовой или рыбачью сеть
Другой, испанской матери, или чашу из бронзы
Антигоны, сбирающей прах200. Как отличны одна от другой:
454 Ветхая сумка работницы
Для листовок сына — и денежная сума
Вспыльчивой маркитантки. Каждый предмет,
Которым торгует она, тщательно выбран: ремни,
Пряжки, банка из жести,
Каплун и мешочек для пуль, отобрана даже оглобля,
За которую, взявшись, старуха тащит фургон,
И противень испанки, пекущей хлеба,
И чугун русской матери,
Который так мал в руках жандармов…
И отобрано это
В соответствии с возрастом, целью и красотой
Глазами знающей
И руками пекущей хлеба, плетущей сети,
Варящей суп женщины,
Знающей мир.
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ В ЕДИНСТВЕ
То, что вы представляете, вы стараетесь представить
Происходящим сейчас. Оторванная
Ото всего на свете, сидит в темноте молчаливая толпа, уведенная
Вами от будничности: сейчас принесут
Рыбачке ее сына, убитого генералами.
Все, что здесь происходит, происходит
Сейчас и только сейчас. Так вы привыкли играть.
Однако советую вам
Присоединить к этой привычке еще одну. Пусть ваша игра
Равным образом выразит, что этот момент
Играли на вашей сцене часто, что еще вчера
Вы исполняли его и завтра должны исполнять,
Что, как только придут зрители, начнется представление.
Кроме того, настоящее не должно заслонять
Прошлое, будущее и все сходные явления,
Происходящие в настоящем, но за стенами театра.
А все несходные явления вы должны отбросить.
455 Итак, представляйте момент, не затушевывая
Его корней и причин. Придайте
Вашей игре глубину и последовательность. Развивайте
Своими поступками действие. С помощью этого
Вы покажете поток событий и в то же время ход
Вашей работы над пьесой, заставите зрителя
Многогранно пережить это настоящее,
Приходящее из прошлого и уходящее в будущее,
А также все, с чем настоящее связано.
Зритель почувствует, что он не только сидит в театре, но и живет во вселенной.
О СУДЕ ЗРИТЕЛЯ
Вы, художники, на радость себе или на горе
Предстающие перед судом зрителя,
Представьте на суд зрителя
Также и мир, который вы изображаете.
Вы должны представлять то, что есть, но также
То, что могло быть и чего, к сожалению, нет, всей вашей игрой фиксируя внимание
Именно на том, что есть. Потому что представление
Учит зрителя, как отнестись к представленному.
Такая система радостна. Когда искусство
Учит учиться и учит отношению к людям и вещам
И делает это средствами искусства,
Тогда заниматься искусством радостно.
Конечно, вы живете в смутное время. Вы видите,
Как злые силы играют людьми
Словно мячиками. Беззаботно
Живут одни сумасброды. Осужденный
Не подозревает — приговор подписан.
Что землетрясения седой старины
Рядом с испытаниями, постигшими наши города?
Что неурожаи
Рядом с нуждой, которую мы терпим
Посреди изобилия?
456 О КРИТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ
Критическое отношение
Некоторые считают бесплодным.
Это потому, что в государстве
Ихней критикой многого не достигнешь.
Но то, что считают бесплодной критикой,
На самом деле — слабая критика. Критика оружием
Может разгромить и государства.
Изменение русла реки,
Облагораживание плодового дерева,
Воспитание человека,
Перестройка государства —
Таковы образцы плодотворной критики
И к тому же
Образцы искусства.
ТЕАТР ПЕРЕЖИВАНИЙ
Между нами, мне кажется низким занятьем —
С помощью театральной игры
Расшевеливать сонные чувства. Так массажисты
Погружают пальцы в тучный живот, словно в тесто,
Чтобы согнать у ленивца жирок. На скорую руку
Сляпаны сценки, задача которых —
Платящих деньги заставить испытывать ярость
Или страдание. Зритель
Стал ясновидцем. Пресыщенный оказался
Рядом с голодным.
Чувства, что вызваны вами, тупы и нечисты,
Слишком общи и смутны, они и не менее ложны,
Нежели ложные мысли. Тупые удары
Бьют в позвоночник — и вот уже грязь
Со дна души поднимается на поверхность.
Отравленный зритель —
Лоб его потом покрылся, напряглись его икры —
Остекленевшим взглядом следит
За лицедейством вашим.
457 Странно ли, что они покупают
Билеты попарно и любят сидеть в темноте,
Которая их укрывает от взоров.
ТЕАТР — МЕСТО, ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ МЕЧТАНИЙ
Многие считают театр местом,
Где фабрикуют мечты. На вас, актеров,
Смотрят, как на торговцев наркотиками.
В ваших темных залах
Становятся королями и героями, не подвергаясь при этом опасности.
Гордясь собой или горюя о своей судьбе,
Сидят беглецы, забыв о тяготах будней,
И радуются, что их развлекают.
Умелой рукой вы смешиваете всякие байки,
Чтобы тронуть нас, добавляете к этому
Факты, взятые из действительности. Конечно,
Те, кто опоздали и входят в зал с еще звенящим
В ушах уличным гулом, те, кто еще трезвы,
Вряд ли узнают на ваших подмостках
Мир, из которого они пришли.
Точно так же, выходя из театра, они,
Переставшие быть королями,
Снова ставшие мелкими людишками,
Не могут узнать мир,
Не находят себе места в действительности.
Многие, правда, считают, что эти превращения — безвредны.
Они говорят, что наша жизнь настолько
Низменна и пошла, что надо приветствовать мечту.
Без мечты не выдержишь!
Так, ваш театр становится местом,
Где люди учатся терпеть низменную,
Однообразную жизнь и отказываться
От великих дел и жалеть самих себя.
Вы, актеры,
Представляете фальшивый, неряшливо слепленный мир,
Мир, поправленный желаниями
Или искаженный страхом,
Мир, предстающий пред нами в мечтах.
Вы — печальные брехуны.
458 ОЧИСТКА ТЕАТРА ОТ ИЛЛЮЗИЙ
Ныне только в ваших развалюхах люди
Еще надеются, что у несчастья может быть счастливый конец,
Жаждут хоть у вас вздохнуть с облегчением
Или же в ужасном конце
Обнаружить чуточку счастья, то есть примирение с несчастьем.
Во всех других местах
Люди готовы своими руками ковать свою судьбу.
Люди самолично завершают то, что сами начали.
Угнетенный, в пользу которого вы протягиваете шляпу,
Собирая скупые слезинки заодно с высокой входной платой,
Уже планирует, как бы ему обойтись без слезинок,
И обдумывает великие дела для создания общества,
Способного на великие дела. Кули
Уже вышибает опиум из рук хозяйчика, а издольщик покупает
Газеты вместо сивухи, покуда вы
Все еще подливаете в немытую посуду
Старое дешевое умиление.
Вы демонстрируете ваш сколоченный наспех
Из нескольких выбракованных досок мир,
Делая гипнотические пассы при магическом освещении,
Стремясь вызвать учащенное сердцебиение.
Одного я застукал, когда он молил
О сострадании к угнетателю.
А вот парочка кривляется в любовной сцене, имитируя истошные вопли,
Подслушанные у обиженной ими же самими прислуги.
А этот, я вижу, представляет полководца, изнывающего от отчаяния.
Того самого отчаяния, которое он испытал сам,
Когда ему уменьшили жалованье.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ах, ваш храм искусства наполнен визгом торговцев.
Кто со жреческими ужимками
Продает два фунта мимики,
Замешенной в подозрительной темноте
Руками,
459 Грязными от валютных махинаций и всяких отбросов.
Кто смердит былыми столетиями.
Кто представляет дерзкого мужичину,
Которого он (еще совсем мальцом)
Однажды видел — не на пашне,
А в бродячем театре.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В естественной стыдливости детей,
Отвергающих актерское притворство,
В нежелании рабочих кривляться,
Когда им нужно показать мир
Таким, какой он есть,
С тем чтобы его можно было переделать, —
Сказывается то, что фальшь
Ниже человеческого достоинства.
Фрагменты
НУЖНО ПОКАЗЫВАТЬ ПОКАЗ
Вы показываете — так покажите же это!
За приемами вашей игры,
Которые нужно вам показать, когда
Показывать будете вы, как ведут себя люди,
Нельзя никогда забывать о приеме показа.
В основании всех приемов лежит он, прием
Показа.
Вот упражнение: прежде чем показать,
Как человек предает, или как он ревнует,
Или как заключает торговую сделку, — взгляните
На зрителей, словно хотите сказать:
Вниманье! Теперь он предаст, и вот как предаст он.
Вот какой он, когда он ревнует, вот так он торгует,
Когда он торгует. Тем самым
Показ усложнится приемом показа.
Изображением понятого, утвержденьем
Вечного хода вперед. Так покажете вы,
Что то, что вы здесь показали, вы показываете ежевечерне
И многократно уже показали,
И в вашей игре будет нечто от ткацкой работы ткачей,
460 Нечто от ремесла. К тому же еще покажите
Все, что к показу относится, — то, например,
Что всегда вы стремитесь помочь
Смотренью и выбрать для зрителя угол
Зренья на все происшествия. Только тогда
Это свершенье предательства, и заключенье сделки,
И содроганье от ревности приобретет
Нечто от будничных дел, — каковы, например,
Еда, и приветствие, и
Работа. (Ведь вы же работаете?) И позади
Ваших героев вы будете видимы сами,
Вы, которым пришлось
Представить их людям.
О ПЕРЕВОПЛОЩЕНИИ
Вы можете заключить, что плохо играли,
На том основании, что зрители кашляют,
Когда вы кашляете.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вы представляете крестьянина, погружаясь
В такое состояние ущербной умственной деятельности,
Что вам самому начинает казаться,
Будто вы в самом деле крестьянин, и вот
Зрителям в эту минуту тоже кажется,
Будто они в самом деле крестьяне,
Но актерам и зрителям
Может казаться, будто они крестьяне, тогда лишь,
Когда все то, что они ощущают, совсем не
То, что ощущает крестьянин.
Чем истиннее представлен крестьянин,
Тем меньше зрителю может казаться,
Будто бы сам он крестьянин, поскольку
Тем будет отличнее этот крестьянин
От него самого, который совсем
Никакой не крестьянин.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Не отнимайте того у крестьянина, что
У него от крестьянина, или того у хозяина,
Что у него от хозяина, чтобы они
461 Стали просто людьми, как ты или я,
И чувства их отделялись от тебя и меня.
Ведь и мы с тобой не одинаковы
И не просто люди, поскольку и мы
Хозяева или крестьяне,
И кто сказал, что чувства должны отделяться от нас?
Пусть крестьянин крестьянином будет, актер,
А ты оставайся актером! И пусть он
Будет отличен от прочих крестьян.
А хозяин пусть тоже отличен от всех
Прочих хозяев, — ибо как ни различны они,
Но крестьянам своим, которые тоже различны,
Они уготовят похожий удел, или им
Крестьяне когда-нибудь в надлежащее время
Уготовят похожий удел,
Так что крестьянин крестьянином снова, хозяин хозяином будет.
Фрагмент
УПРАЖНЕНИЕ В РЕЧИ ДЛЯ АКТЕРОВ
Я возникаю,
Спрашивая и отвечая, из вопроса и ответа.
Они творят меня, они изменяют меня,
Покуда я их творю и изменяю.
(Новое слово вгоняет в новую краску
Побледневшее лицо, ах, в ответ на мои речи —
Такое молчание, что мои щеки
Вваливаются, как пядь земли,
Под которой некогда был колодец,
А теперь туда ступила нога.)
Когда я вышел на сцену, для зрителей я был ничто,
Когда я заговорил, меня оценили,
Когда я ушел, то опять превратился в ничто.
Но ведь я же добросовестно
Произносил те слова, которые велели,
Делал соответствующие движения и
Стоял
Именно там, где мне приказали.
462 Я говорил то, что было условлено,
И как следует поработал над своею смертью.
Я сделал мгновенную паузу
Между третьей и четвертой строкой
И, таким образом, не преминул подчеркнуть свою лживость.
Мое стенание также было не слишком истошным,
И с первого раза
Я нашел светлое и заметное место для падения.
(В третью речь у стены я внес изменения,
Но только после тщательного обдумывания, да и то — на пробу.)
Лучшие силы я отдал раскрытию смысла.
Всегда думал, прежде чем сказать,
Всегда выставлял на удивление свою игру,
Оставлял в тени свою личность.
Играя великих, не давал себе потешаться
Над малыми и подмешивал в свое величие
Немного их ничтожества. Точно так же,
Играя малых, не забывал о собственном достоинстве
И не был лишен величия.
Великое и ничтожное я заменял величайшим и ничтожнейшим.
Никогда
Ни мои реплики, ни мое сердцебиение
Не выдали зрителю, что я чувствую.
Отходя от роли для самопроверки,
Я никогда не изменял роли.
Я играю так:
Сваленный врагом,
Падаю, как бревно.
Лежу и кричу,
Молю о пощаде изо всей мочи.
Но тут же поднимаюсь.
Без всякого промедления
Легко вскакиваю. Пружиня шаги,
Подхожу к поверженному
И, не обращая внимания на его крики,
Поднимаю ногу, чтобы растоптать его,
463 И растоптал бы, если бы немедля
Не сразили меня самого
И мне не пришлось продолжать умирать, —
Безмолвным, раздавленным — именно так, как положено.
Все же равнодушным я не был и если
Мог выбирать, что говорить, — всегда говорил, как получше.
Получив задачу на завтрашний день,
Я действовал исходя из завтрашних условий.
Однако
Ничего не навязывал зрителю.
Он и я — каждый сам по себе.
Я не стыдился и я не был унижен.
Великое представлял великим, малое — малым.
Из ничего не делал кое-что, кое-что не превращал в ничто.
Уходя, не стремился остаться.
Не уходил, пока не высказал все.
Итак, я ничего не упускал и ничего не прибавлял.
Хорошее орудие, аккуратно смазанное, многократно проверенное
Постоянной практикой.
АКТРИСА В ИЗГНАНИИ201
Посвящается Елене Вайгель
Теперь она гримируется. В каморке с белыми стенами
Сидит, сгорбившись, на плохонькой низкой скамейке
И легкими движениями
Наносит перед зеркалом грим.
Заботливо устраняет она со своего лица
Черты своеобразия: малейшее его ощущение
Может все изменить. Все ниже и ниже
Опускает она свои худые, прекрасные плечи,
Все больше сутулясь, как те,
Кто привык тяжко работать. На ней уже грубая блуза
464 С заплатами на рукавах. Башмаки
Стоят еще на гримировальном столике.
Как только она готова,
Она взволнованно спрашивает, били ли барабаны
(Их дробь изображает гром орудийных залпов)
И висит ли большая сеть.
Тогда она встает, маленькая фигурка,
Великая героиня,
Чтобы обуть башмаки и представить
Борьбу андалузских женщин
Против генералов.
ОПИСАНИЕ ИГРЫ Е. В.202
Хотя она показывала все,
Что было нужно для пониманья рыбачки,
Все же не превратилась совсем, без остатка
В эту рыбачку, но так играла, как будто,
Кроме того, еще занята размышленьем,
Так, как если бы спрашивала постоянно:
— Как же все это было?
И хотя не всегда было можно
Угадать ее мысль о рыбачке, но все же она
Показывала, что думает эти мысли;
Так она приглашала других
Думать такие же мысли.
ПЕСНЬ АВТОРА
Я — драматург. Показываю то,
Что видел. На людских базарах
Я видел, как торгуют людьми.
Это
Я показываю, — я драматург.
Как они в комнаты входят друг к другу с планами,
Или с резиновой дубинкой, или с деньгами,
Как они стоят на улицах и ждут,
Как они готовят западни друг для друга,
Исполнены надежды,
465 Как они заключают договоры,
Как они вешают друг друга,
Как они любят,
Как они защищают добычу,
Как они едят —
Показываю.
О словах, которыми они обращаются друг к другу, я повествую.
О том, чтó мать говорит сыну,
Чтó подчиняющий приказывает подчиненному,
Чтó жена отвечает мужу,
Обо всех просительных словах и о грозных,
Об умоляющих и о невнятных,
О лживых и о простодушных,
О прекрасных и об оскорбительных,
Обо всех повествую.
Я вижу, как обрушиваются лавины,
Я вижу, как начинается землетрясенье,
Я вижу, как на пути поднимаются горы,
И как реки выступают из берегов, — я вижу.
Но на лавинах красуются шляпы,
У землетрясений в нагрудном кармане бумажник,
Горы вылезают из экипажей,
А бурные реки повелевают полицейским отрядом.
И я все это разоблачаю.
Чтоб уметь показать, что я вижу,
Я читаю сочинения других эпох и других народов.
Несколько пьес написал в подражанье, стремясь
Испытать все приемы письма и усвоить
Те, которые мне подходят.
Изучил англичан, рисовавших больших феодалов,
Богачей, для которых весь мир только средство раздуться.
Изучил моралистов-испанцев,
Индийцев, мастеров изысканных чувств,
Китайцев, рисующих семьи,
И пестрые судьбы людей в городах.
466 В мое время так быстро менялся облик
Городов и домов, что отъезд на два года
И возвращение было путешествием в другой город,
И гигантские массы людей за несколько лет
Меняли свой облик. Я видел, как толпы рабочих
Входили в ворота завода, и высокими были ворота,
Когда же они выходили, приходилось им нагибаться.
Тогда я сказал себе:
Все меняется, все существует
В свое только время.
И каждое место действия снабдил я приметой,
И выжег на каждом заводе и комнате год, —
Так цифру пастух выжигает на спине у коровы, чтобы не спутать ее.
И фразы, которые люди произносили,
Снабдил я тоже приметами, так что они
Стали как изречения минувших времен,
Которые высекают на камне,
Чтобы их не забыли.
Что говорит старуха в рабочей одежде,
Склонясь над листовками, — в наши годы;
И как финансист говорит со своим маклером на бирже,
Сбив на затылок шляпу, — вчера, —
Все я снабдил приметами бренности —
Точною датой.
Но я все обрекал удивленью,
Даже привычное.
Как мать давала грудь сосунку —
Я рассказывал так об этом, будто мне никто не поверит.
И как привратник захлопывал дверь перед мерзнущим —
Как такое, чего еще не видал никто.
Фрагмент
467 ОТЗВУК
Я произношу мои фразы прежде,
Чем зритель их слышит; то, что услышит он, будет
Канувшим в прошлое. Каждое слово, сорвавшееся с языка,
Опишет дугу и потом лишь достигнет
Уха слушателя, — я дожидаюсь и слышу,
Как оно падает в цель, и я знаю:
Мы чувствуем с ним разное и
Мы чувствуем в разное время.
РАЗМЫШЛЕНИЕ
Конечно, когда бы мы были царями,
Мы поступали бы, как цари, но, как цари поступая,
Мы поступали б иначе, чем мы.
ГРИМ
Лицо мое покрыто гримом, очищено от
Всех отличительных черт и стало пустым, чтоб на нем
Отражались мысли, и теперь изменчиво, как
Голос и жест20*.
РАССЛАБЛЕННОЕ ТЕЛО
Тело мое так расслаблено — все мои члены
Легки, независимы, — все предписанные движенья
Будут приятны для них.
468 ОТСУТСТВУЮЩИЙ ДУХ
Дух мой отсутствует, — все, что мне следует делать,
Делаю я наизусть, мой рассудок
Бодрствует, наводя порядок21*.
РАЗМЫШЛЕНИЯ АКТРИСЫ ВО ВРЕМЯ ГРИМИРОВКИ
Я буду играть забулдыгу,
Продающую своих детей
В Париже, во время Коммуны.
У меня только пять фраз.
Но есть у меня и проход — по улице вверх.
Я буду идти как освобожденный человек,
Человек, которого, кроме спирта,
Никто не стремился освободить, и я буду
Озираться как пьяный, когда он боится,
Что за ним кто-то гонится, буду
Озираться на публику.
Свои пять фраз я так рассмотрела,
Как рассматривают документы, — их смачивают кислотой, — может быть,
Из-под надписи зримой проступит другая.
Я каждую буду произносить
Как пункт обвинительного заключения
Против меня и всех, кто на меня смотрит.
Когда б я не думала, я бы гримировалась
Просто-напросто старой пропойцей,
Опустившейся или больной.
Но я буду играть
Красивую женщину, которую разрушила жизнь,
469 С мягкой прежде, теперь пожелтевшей кожей,
Желанная прежде, теперь она ужас внушает,
Чтобы каждый спросил: — Кто
Это сделал?
РЕДКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ МАСТЕРОВ-АКТЕРОВ
В театрах предместий, как предложил Диалектик,
Мастера-актеры обычно играли одну только сцену. Они
Создавали ее в этот вечер, достаточно часто
Повидав перед тем исполнителей, что, со своей стороны,
Следовали образцу, созданному мастерами
На репетициях. Так самокритика помогала актерам,
Исполнение не застывало, спектакль был в движенье
Безостановочном, вспыхивая то здесь, то там
Постоянно новый и постоянно
Опровергающий сам себя.
ПОГРЕБЕНИЕ АКТЕРА
Когда Изменявшийся умер,
Они положили его в побеленной каморке
С окном на цветы — для гостей,
К ногам его на пол они положили
Седло и книгу, взбивалку коктейлей и ящичек с гримом,
Прибили к стене железный крючок —
Чтобы накалывали записки
С незабытыми дружескими словами, и
Впустили гостей. И вошли его друзья
(А также те из родственников, которые желали ему добра),
Его сотрудники и ученики, чтобы наколоть на крючки записки
С незабытыми дружескими словами.
470 Когда они несли Изменявшегося в дом мертвецов,
Впереди него они несли маски
Из пяти его больших представлений —
Из трех образцовых и двух опровергнутых.
Но покрыт он был красным флагом,
Подарком рабочих —
За его заслуги в дни переворота.
И у входа в дом мертвецов
Представители Советов огласили текст его увольнения
С описанием его заслуг и отменой
Всех запретов, и призывом к живым —
Подражать ему и
Занять его место.
Потом погребли его в парке, где скамьи стоят
Для влюбленных.
471 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ТЕОРИИ ТЕАТРА, ИЗЛОЖЕННОЙ В «ПОКУПКЕ МЕДИ»
ЗАМЕЧАНИЕ ПЕРВОЕ
Теория эта отличается сравнительной простотой. Предмет ее составляют взаимоотношения между сценой и зрительным залом, тот способ, с помощью которого зритель осваивает события, разыгрывающиеся на сцене. Театральные эмоции, как констатировал в своей «Поэтике» еще Аристотель, возникают в результате акта вживания. В числе элементов, из которых складываются возникшие подобным образом театральные эмоции, как правило, отсутствует элемент критический: для него тем меньше остается места, чем полнее вживание. Если и возникает критическое отношение, то оно касается лишь самого процесса вживания, а отнюдь не событий, изображение которых зритель видит на сцене. Впрочем, когда речь идет об аристотелевском театре, говорить о «событиях, изображение которых зритель видит на сцене», представляется не вполне уместным. Назначение фабулы, как и сценической игры, аристотелевский театр усматривает отнюдь не в том, чтобы создавать изображения жизненных событий, а в том, чтобы порождать совершенно определенные театральные эмоции, сопровождаемые известным ощущением катарсиса. Разумеется, ему не обойтись без действий, напоминающих подлинные жизненные поступки, и действия эти должны быть в какой-то мере правдоподобны, чтобы вызвать иллюзию, без которой невозможно вживание. Однако при этом театр не видит никакой необходимости непременно выявлять также причинную связь событий, — довольно и того, что само по себе наличие подобной связи 472 не ставится под сомнение22*. Только тот, чей главный интерес устремлен непосредственно на жизненные события, которые обыгрываются в театре, способен воспринимать явления, происходящие на сцене, как изображения действительности и занять по отношению к ним критическую позицию. Подобный зритель покидает область искусства, поскольку искусство основную свою задачу усматривает отнюдь не в изображении действительности. Как уже было сказано, искусство интересуется лишь изображением особого рода, иначе говоря, изображением, обладающим совершенно особым воздействием. Акт вживания, вызванный искусством, был бы нарушен, вздумай зритель заняться критическим рассмотрением самих событий, легших в основу представления. Вопрос стоит так: неужели и впрямь невозможно сделать изображение жизненных событий задачей искусства, а критическое отношение зрителя к жизненным событиям — позицией, не противоречащей восприятию искусства? Изучение этого вопроса показывает, что подобный серьезный поворот предполагает изменение во взаимоотношениях между сценой и зрительным залом. При новом методе сценической игры вживание утрачивает свое господствующее положение. Ему на смену приходит эффект очуждения, который также является сценическим эффектом, вызывающим театральные эмоции. Суть его в том, что при показе событий действительной жизни на сцене прежде всего вскрывается их причинная связь, что и должно увлечь зрителя. Такой сценический метод также вызывает эмоции, — волнение зрителя порождено приобретенным благодаря спектаклю пониманием действительности. Эффект очуждения — старинный театральный прием, встречающийся в комедиях, в некоторых отраслях народного искусства, а также на сцене азиатского театра.
ЗАМЕЧАНИЕ ВТОРОЕ
Материалистическая диалектика в рамках настоящей теории находит свое выражение в следующих положениях:
473 1
Привычность, иными словами, тот особый облик, который приобретает в нашем сознании жизненный опыт, разрушаясь под влиянием эффекта очуждения, превращается в понимание. Всякий схематизм отныне устраняется. Личный опыт индивидуума коррегирует или же, напротив, подтверждает представления, заимствованные у общества. Возобновляется первоначальный акт открытия.
2
Противоречие между вживанием и дистанцированием, углубляясь, становится одним из элементов спектакля.
3
Историзация предполагает рассмотрение определенной общественной системы с точки зрения другой общественной системы: угол зрения определяется степенью развития общества.
Важно подчеркнуть, что аристотелевская драматургия не учитывает, вернее, не позволяет учитывать объективные противоречия в тех или иных процессах. Это возможно лишь при условии субъективизации этих противоречий (воплощении в образах сценических героев).
2 августа 1940 г.
ЗАМЕЧАНИЕ ТРЕТЬЕ
Потребность современного зрителя в развлечении, уводящем от повседневной борьбы, постоянно вновь порождается самой этой борьбой, но столь же постоянно она сталкивается с другой потребностью — взять в руки собственную судьбу. Противоречие между этими двумя потребностями — в развлечении и в поучении — носит искусственный характер. Развлечение, уводящее от жизни, постоянно ставит под угрозу поучение, так как зрителя уводят не в пустоту, не в какую-нибудь неземную обитель, а в некий фальсифицированный мир. За эти пиршества фантазии, которые представляются ему всего-навсего безобидными развлечениями, зритель жестоко расплачивается в реальной жизни. Многократное вживание 474 в образ врага не проходит для него бесследно, — в результате он сам становится собственным врагом. Удовлетворяя потребность, суррогат отравляет организм. Зрители хотят, чтобы их одновременно отвлекли от чего-то и к чему-то привели, — то и другое нужно им, чтобы подняться над повседневной борьбой.
О новом театре можно сказать просто: это театр для людей, решивших взять свою судьбу в собственные руки. Три столетия техники и организации в корне изменили человеческий характер. Театр же слишком поздно осуществил необходимый поворот. Шекспировский человек абсолютно подвластен своей судьбе, иначе говоря, своим страстям. Общество не протягивает ему руки помощи. В известных, строго обозначенных рамках проявляется величие и жизнеспособность того или иного человеческого типа.
Новый театр обращается к социальному человеку, поскольку с помощью техники, науки и политики человек сумел добиться социальных достижений. Отдельные человеческие типы и их поступки изображаются на сцене так, чтобы были видны социальные мотивы, движущие ими, — ведь только осознание этих мотивов указывает путь к воздействию на подобных людей. Индивидуум остается индивидуумом и в то же время становится социальным явлением; его страсти, равно как и его судьба, приобретают социальный характер. Положение индивидуума в обществе, о котором уже не скажешь, будто оно «предопределено природой», отныне ставится в центр внимания. Эффект очуждения — мероприятие социальное,
2 августа 1940 г.
ЗАМЕЧАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
1
Аристотелевская драматургия вместе с соответствующим ей сценическим методом (с таким же правом можно говорить о методе и соответствующей ему драматургии) искажает представление зрителя о том, как возникают и разыгрываются в действительности события, изображаемые на сцене, по той причине, что сюжет представляет 475 собой здесь некое абсолютное целое. Отдельные элементы не могут быть сопоставлены с элементами, соответствующими им в реальной жизни. Их невозможно «вырвать из контекста», чтобы сопоставить с контекстом действительности. Сценический метод, основанный на эффекте очуждения, упраздняет подобное построение. В новом театре сюжет расчленен, пьеса разбита на ряд самостоятельных частей, которые можно и даже должно безотлагательно сопоставлять с соответствующими элементами действительности. Новый сценический метод решительно опирается на постоянное сопоставление с действительностью, иными словами, он постоянно ставит во главу угла причинную связь изображаемых событий.
2
Применяя эффект очуждения, актер должен отказаться от полного перевоплощения в образ того или иного сценического героя. Он только показывает этот образ, только цитирует текст, только повторяет событие, имевшее место в действительности. Не пытаясь окончательно «заворожить» публику, не навязывая ей собственное душевное состояние, актер нового театра не вызывает у зрителя и фаталистического отношения к событиям, показанным на сцене. (Зритель подчас ощущает гнев там, где сценический герой испытывает радость, и т. д. Ему предоставляется, а иногда даже прямо предлагается возможность вообразить или даже найти иной возможный поворот событий и т. д.) Сами события историзируются и обусловливаются определенной социальной средой. Принцип историзации, естественно, распространяется прежде всего на события современности; зрителю как бы говорят; то, что мы сейчас наблюдаем, не всегда было и не всегда будет. Второй принцип — социальный — беспрерывно ставит под сомнение данный общественный строй. Практическое применение эффекта очуждения — это техника, которую можно в главных чертах изучить.
3
Чтобы установить те или иные закономерности, необходимо воспринимать самые обычные события как бы с изумлением, иными словами, нужно отказаться от укоренившегося 476 представления о них как о чем-то «само собой разумеющемся», — только так и можно осмыслить их. Желая осознать закономерность падения какого-либо предмета, следует мысленно представить себе также другие возможности перемещения того же тела: при рассмотрении всех этих гипотетических возможностей единственно реальной в конечном счете окажется та, что осуществилась на самом деле, все же остальные, вымышленные возможности, на поверку оказываются невозможными. Театр, вызывающий с помощью эффекта очуждения такое изумленное, пытливое и критическое поведение зрителя, отнюдь не превращается в научное учреждение, хотя позиция зрителя здесь сродни позиции ученого. Просто это театр эры науки. Ту самую позицию, которую занимает его зритель в жизни, он использует для возбуждения театрального переживания. Иными словами: вживание отнюдь не единственный источник эмоций, которым может воспользоваться искусство,
4
В пределах категорий аристотелевского театра описанный сценический метод мог бы; рассматриваться лишь как стилевая разновидность. В действительности же он представляет собой нечто гораздо большее. Между тем применение этого метода отнюдь не означает, что театр должен утратить свои старинные функции развлечения и поучения, напротив, он получает возможность наполнить их новым содержанием. Представление вновь обретает совершенно естественный характер. Оно может быть выдержано в любом стиле: Само по себе обращение к реальности уже дает плодотворный толчок фантазии. Творческая критика равно пробуждает веселье и серьезные раздумья. Главная задача состоит в том, чтобы придать старинному культовому учреждению мирской характер;
3 августа 1940 г.
477 ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
479 ЗАМЕТКИ К ПЬЕСЕ ЭРВИНА ШТРИТТМАТТЕРА «КАЦГРАБЕН»203
ПОЛИТИКА НА ТЕАТРЕ
Когда от театра требуют только познания, только поучительных отражений действительности, то этого недостаточно. Наш театр должен вызывать радость познания, должен организовать удовольствие от преобразования действительности. Наши зрители должны не просто слышать, как освобождают прикованного Прометея, но и воспитывать в себе желание освободить его. Наш театр должен быть школой всех радостей и удовольствий, свойственных открывателям и изобретателям, он должен воспитывать триумфальные чувства освободителей.
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ «КАЦГРАБЕН» ТЕНДЕНЦИОЗНОЙ ПЬЕСОЙ?
Б. Я не считаю ее тенденциозной. «Цианистый калий» Вольфа — вот это тенденциозная пьеса, кстати сказать, очень хорошая. Она написана во времена Веймарской республики, и автор отстаивает в ней право пролетарской женщины на аборт в условиях капиталистического общества. Это тенденциозная пьеса. Даже «Ткачи» Гауптмана, пьеса, в которой много прекрасных мест, является, по-моему, тенденциозной. Это апелляция к человечности буржуазии, хотя и скептическая. «Кацграбен», напротив, — историческая комедия. Автор показывает свое время и стоит за прогрессивные, творческие, революционные силы. Там есть некоторые указания на то, как должен действовать новый класс, но автор не стремится устранить определенную неурядицу, а демонстрирует 480 свое новое, заразительное ощущение жизни. Точно так же должны сыграть пьесу и мы; мы должны пробудить у пролетарской публики желание преобразовать мир (и передать ей кое-какие полезные знания об этом).
НОВОСЕЛ, СЕРЕДНЯК И КУЛАК
К. Не скажут ли, что автор поступил слишком схематично, наделив бедняка фамилией Клейншмидт, середняка — Миттельлендер, а кулака — Гросман204?
Б. Да, вероятно, скажут.
К. Вы сами таких пьес не писали и не стали бы ставить.
Б. Нет. Если я вас правильно понял, пусть эти фамилии вас не шокируют: в комедии это вполне законно. Что же касается вашего замечания о схематизме, то я о нем, разумеется, тоже подумал. Я очень тщательно проверил, не являются ли персонажи — как это обычно бывает при схематизме — безликими, обескровленными, одними формулами социальных типов, но нашел ярко выраженные индивидуальности, настоящие роли, крестьян, так сказать, из круга знакомых Штриттматтера. Они — представители своих классов, как в старых народных сказках. Или в пьесах Раймунда205.
К. Хорошо, но все же в этой пьесе есть нечто такое, что не совсем…
Б. Да, есть.
К. Мы охотно поселяем реализм совсем рядом с натурализмом.
Б. Что и неплохо. Я никогда не был приверженцем натурализма, никогда его не любил, и все же — при всех его недостатках — вижу в нем порыв к реализму в современной литературе и современном театре. Это фаталистический реализм; не существенное для исторического развития занимает непомерно много Места, картина действительности, преподносимая им, не пригодна для использования, поэтическое начало довольно убого и так далее и так далее. И все же сквозь все это пробивается действительность, хотя перед нами еще много идейно не обработанного сырья. Несмотря ни на что — это великая эпоха литературы и театра, превзойти которую может только социалистический реализм!
481 К. А «Кацграбен»?
Б. Либо у социалистического реализма будет много разновидностей стиля, либо один-единственный, который погибнет от монотонности (удовлетворяя слишком мало потребностей). Мы должны внимательно следить за тем, что же возникает. Возникающее мы должны развивать. Нет никакого смысла создавать эстетику, выдумывать ее, склеивать из известных понятий и ждать, что авторы пьес станут поставлять затем то, что выдумали эстетики. Особенно плохо сколачивать модель того самого произведения искусства, сидя за письменным столом. Тогда художественные произведения начинают разбирать только с точки зрения их соответствия этой модели.
К. Будет ли это означать, что мы просто должны одобрять изготовляемое авторами пьес?
Б. Нет.
ДЕКОРАЦИЯ
Первым вопросом было: как передать хроникальный характер этой комедии?
Б. В декорациях должна быть подлинность. Мы показываем горожанам события в деревне. Я умышленно не говорю: «положение в деревне». «Хроникальный» — это значит, что то-то и то-то происходит именно сейчас, вчера оно было другим и иным станет завтра. Нам нужно все «зафиксировать», позднее это будет трудно восстановить, а это исторически важно.
Было решено придать декорациям документальный характер, то есть написать их так, чтобы они напоминали фотографию. И, разумеется, использовать подлинные мотивы. Театральный художник фон Аппен206 и Палич поехали со Штриттматтером в Лаузиц и выбрали эти мотивы. Было испробовано много комбинаций, чтобы найти то существенное, передать которое с помощью одной фотографии нельзя.
Брехт придавал большое значение тому, чтобы показать мрачность, безобразие и бедность прусской деревни, «неуютность» этих обобранных и замордованных юнкерами и правительством областей.
482 Это был край, который крестьяне под руководством коммунистов должны были сделать пригодным для жизни; это была старая, скверная среда с новыми людьми.
Были использованы такие задники, перед которыми можно было бы ставить мебель. Благодаря задникам было легко делать перемены, что облегчало выездные спектакли в деревне. Чтобы лишний раз вызвать ассоциацию с документальной фотографией, решено было для задников сделать раму, которая напоминала бы паспарту.
Костюмы, разумеется, следовало разработать тоже на основе совершенно натуралистических образцов. Только отобрав их, можно было приступить к художественному процессу типизации.
АРАНЖИРОВКА СЦЕН
Б. ставил пьесу очень быстро. Режиссерского плана у него не было, но было у него несколько подсознательных, как он говорил, соображений по поводу особенно выразительных событий, вроде того как в первой картине от группы (новосел, дочь, молодой шахтер) отделяется крестьянка и безмолвно идет к плите. (Это после того, как она узнает, что дочь выдержала экзамен и уедет учиться в школу агрономов, в город, из-за чего на плечи крестьянки свалится еще больше работы.)
Итак, говорил Б., я знаю, что рабочая скамья крестьянина должна находиться как можно дальше от плиты. Нет, вообще-то я не придаю этому особого значения и не подгоняю заранее все к тому, чтобы получить такую группу. Но незадолго до того, как крестьянка узнает об отъезде дочери, то есть незадолго до момента, когда мне нужна такая группа, я заставляю молодого шахтера выйти из-за стола и пройти к девушке, которая сидит рядом с отцом и помогает ему в работе. Шахтер подходит к ней, чтобы спросить ее, каково было в городе.
В. У вас иногда нападают на красивые группировки. Говорят, они производят формалистическое впечатление.
Б. Это может сказать только тот, кто не рассматривает их с точки зрения общественной значимости. В обыденной 483 жизни крестьянка может стоять рядом с крестьянином, а девушка сидеть рядом с парнем в момент, когда мать узнает об отъезде дочери. Но противоречие интересов станет особенно отчетливо, когда другие увидят, что мать уходит в угол, где уже не видно ее лица. Любой исторический живописец компонует картину таким образом, чтобы выявилось главное, собственно исторический момент. Еще в детстве я видел большую, правда, жалко написанную картину «Встреча Бисмарка с Наполеоном III на улице в…». Наполеон искал этой встречи, он хочет капитулировать. Бисмарк едет на коне, Наполеон идет пешком. Бисмарк повернул лицо к зрителям, а Наполеона видно через плечо. Не нужно ломать голову, чтобы узнать, кто победитель! И живописец не показывает обоих в профиль, а избирает диагональ. Бисмарк подъезжает сзади, справа, а Наполеон шагает слева, впереди: на императора движется сама судьба. Для диалектических пьес театру следует особенно настоятельно пользоваться такими запоминающимися картинами, ибо в них дается развитие, а зритель должен держать в памяти предшествующие стадии наготове, чтобы противопоставить их новым. Кстати, это напомнило мне о том, что еще не найдено убедительной картины для сцены, где беднячка исступленно кричит своей дочери, имея в виду кулака: «Доучись до того, чтобы этот пес околел!» Подумайте-ка об этом!
На аранжировочных репетициях Б. расстояния между мебелью, дверьми и окнами ни в коем случае не закрепляются, да и все оформление воспринимается только в развитии, когда развиваются те группировки, которые «призваны рассказывать фабулу».
НЕОЖИДАННОСТИ
Вновь поступающие актеры в большинстве случаев поражаются нашей манере репетировать. Она кажется им какой-то несерьезной. Прежде всего не проводится читка, во время которой обсуждались бы содержание и стиль пьесы. Актер словно бы даже не читал пьесы — во всяком случае, поначалу. Б. почти не ссылается на более поздние события из последующих актов. Создается 484 впечатление, будто у него самого нет никакого режиссерского плана и он позволяет развиваться сценам «как придется». Так обычно работают в маленьких и бездумно руководимых театрах.
Но в последнее время Б. считает полезным, чтобы актер знакомился с пьесой и со своим персонажем целиком на практике и узнавал обо всем в ходе исполнения. Тогда все отыскивается при создании образа, а создание образа приобретает характер поисков. Хотя все начали рассказывать, никто не знает, что произойдет дальше. Каждое событие должно обладать внутренней достоверностью — во всяком случае, в общих чертах, а персонажи уточняются лишь постепенно, в ходе повествования. Тогда скачки в развитии, которые так важны для Б., окажутся менее затушеванными, окольные пути не отрезанными, а противоречия не окажутся «разрешенными», то есть сглаженными.
Короче говоря, произведение строится на неожиданностях. А неожиданность — главный элемент поэзии.
НАТУРАЛИЗМ И РЕАЛИЗМ
По поводу маленькой сцены «Возвращение домой крестьянки Клейншмидт» завязался следующий разговор:
Р. Разве тут кое-что не выглядит довольно-таки натуралистически?
Б. Что, например?
Р. Ну вот это выколачивание деревянных башмаков, вынос метлы за дверь, перевешивание куртки Клейншмидта.
Б. Если эти действия показывают нечто выходящее за пределы изображения домашней повседневности; если они совершаются не просто ради создания иллюзии, будто мы находимся в доме бедняка, — это не натурализм. В натурализме такая иллюзия является целью и создается с помощью бесчисленных деталей, потому что тогда легче сопереживать более или менее неясные настроения, чувства и прочие душевные реакции персонажей.
485 Р. Я знаю, вы добиваетесь того, чтобы определенные действия, например крестьянки Клейншмидт, скорее переживались задним числом, чем сопереживались. Но служат ли этому названные мною детали?
Б. Надеюсь. Мы видим, как после полевых работ крестьянка выполняет еще работу по дому. Она выполняет ее в одиночку: ей приходится вешать на место куртку крестьянина, затем выметать из комнаты оставленные им стружки, словом, на нее ложится большая часть работы. Решение этой общественно чрезвычайно важной проблемы — вне пределов нашей пьесы, оно последует позднее, когда произойдет перераспределение труда в товариществах или госхозах. Зато в пределах нашей пьесы другое — что в отличие от мужа крестьянка Клейншмидт не может радоваться отъезду дочери в город на учебу, потому что тогда ее, матери, львиная доля работы станет еще больше. Следовательно, наши детали не просто создают атмосферу вечера в семье бедняка; с этого уже началось действие.
Р. Вы полагаете, что речь идет о существенных деталях, имеющих отношение к экономике?
Б. Имеющих отношение к человеку, о котором узнают, каково его положение, как он с ним справляется. Крестьянка Клейншмидт — это же не агрегат общественных экономических сил, она живой, достойный любви человек. Натуралисты показывают человека, как показали бы дерево прохожему. Реалисты показывают человека, как показывают дерево садовнику.
ДЕТАЛИ
Эрну, служанку, выгоняют из-за стола, потому что крестьянин хочет еще поговорить о ней с крестьянкой. Служанка останавливается вне собственно декорации. Она взяла с собой картофелину. Актриса начинает есть эту картофелину.
Б. Почему вы едите картофелину без творога? Это на руку вашим хозяевам, если вы наедаетесь картошкой в мундире, а творог бережете для них! Подержите картофелину в руке, пока вас снова не позовут к столу.
486 После своей победы в вопросе о строительстве дороги кулак приходит домой в сопровождении одного крестьянина. Исполнитель роли крестьянина проходит через всю сцену и уходит.
Б. Стоп! Пожалуйста, вернитесь на место! Если вы живете в следующем доме, то есть если вы продолжите свой путь в том направлении, в котором следовали, то мы не увидим, что вы по-собачьи провожали кулака до его дверей. Для вашей роли это может быть и безразлично, поскольку вас не знают, но вы должны играть фабулу.
КРИЗИСЫ
Брехт попросил Штриттматтера разыскать вместе с ним такие места в пьесе, где наступают или назревают кризисы. Сегодня Б. прервал репетицию на том месте, когда входит новосел и признается, что не знает, чем кормить нового своего вола, не имея лугов.
Б. Сыграйте здесь так, словно вы стоите на краю пропасти, а не просто беспомощность в данный момент. У нас в театре существует дурная привычка преодолевать критические положения симпатичного нам персонажа, играя их вяло и затушевывая. Нам так не терпится ответить на вопрос, что мы часто вовсе не ждем, чтобы его задали. Показывая решение проблемы как победу, всегда нужно показывать и угрозу поражения, иначе покажется, что речь идет о легких победах. Мы всюду должны вскрывать кризисы, проблемы, конфликты новой жизни; как нам иначе показать ее творческую сторону?
Актер Гнас, который еще в молодости играл пролетариев в прогрессивных пьесах, сумел хорошо передать моменты кризиса.
Б. Большинство актеров не понимают глубины кризисов в этих областях. Они не могут сходу понять, что усиливающееся высыхание почвы
(Клейншмидт. Нет грунтовой воды. Совсем ушла.
Гюнтер. Так где же воду ты возьмешь для поля?
Клейншмидт. Пока не знаю.)
заботит новосела Клейншмидта так же, как короля Ричарда Глостера исчезновение одного из его врагов. Об этом мы говорили в начале репетиций.
487 ПАРТОРГ ШТЕЙНЕРТ
1
Б. о роли парторга Штейнерта: Мы играем его как шахтера, который по вечерам кладет свой обушок и ведет партийную работу в соседней деревне Кацграбен. Физически он утомлен. Это трудно сыграть на протяжении целой пьесы; нельзя обойтись тем, что при первой же возможности он присаживается отдохнуть. Некоторые другие проявления признаков усталости отпадают, например, он не может, как это сделал Клейношег, проводить рукой по лицу. Он вымазал бы лицо углем. Но остается много других возможностей. Одна из них, например, состоит в том, чтобы сыграть Штейнерта особенно бодрым, но с небольшими рецидивами усталости. Из этого нужно сделать упражнение. Самое главное, чтобы от такой внешней характеристики выиграло бы действие, фабула. Усталость хороша хотя бы уже потому, что можно показать, как Штейнерт ее преодолевает, как снова становится бодрым, как оживает, когда чует попутный или неблагоприятный политический ветер. Как в конце картины, которую мы как раз репетируем. Упоминание о тракторах воодушевляет новосела, он готов для агитации… Здесь, между прочим, перед нами снова пример того, что жест должен рождаться не из отдельных фраз или высказываний, а из всего контекста роли.
Клейншмидт.
А тракторами
Так глубоко вспахать мы можем землю,
Что в борозде увязнешь до пупа.
Штейнерт. Ну, Карл наш снова пашет в облаках.
Фраза Штейнерта звучит укором, ворчливо. Но Штейнерт безусловно радуется радости Клейншмидта. Значит, эта фраза должна прозвучать ласково!
2
Роль парторга Штейнерта уготовила нам большие трудности.
Б. Вы играете учителя крестьян, который что-то знает и что-то задумал и соответственно относится к крестьянам. Но речь идет об учителе нового типа. Это 488 учитель, который учится сам. Вы — один из них; пусть вы не крестьянин, но все же вы из тех, кто противостоит кулакам. Вы непрестанно должны выяснять, что знают и что задумывают они. Вы должны наблюдать, пробовать (то есть пробовать выяснить это разными способами), вы должны даже прислушиваться, когда говорите!
То, что делает партия, — это лишь самое умное из того, что могли бы сделать рабочие и крестьяне, и осуществляется это лишь тогда, когда они действительно способны это делать.
Как воспринимают новоселы распределение волов? Ах, они находят их жалкими, а корма, чтобы их прокормить, у них нет? Но вот уже кто-то старается найти выход из положения, верно? Вот так непрерывно вы должны наблюдать и учиться.
КОМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ
Кулацкая семья мрачно обсуждает предстоящее голосование по поводу строительства новой дороги. От кулака отошло так много крестьян, что он оказался в относительной изоляции. Неожиданно, в минуту раздумья, «приемный сын» мечтательно произносит: «Хотел бы я стать трактористом».
Г. Мне еще недостает какой-то комической реакции на такое желание моего приемного сына.
Б. Почему комической?
Г. А разве это не комедия?
Б. Да, но не все в ней комично, да и комичное комично по-своему. Кулак находится в состоянии кризиса, это должно быть выявлено в первую очередь. Отступничество приемного сына означает для него новый удар. Публика должна это заметить прежде всего. Мы показываем большие классовые бои в деревне. Если мы покажем их «чисто комически», то их легко смогут воспринять чрезмерно облегченно, а ничего более вредного для борьбы нет. Кулак все еще остается очень опасным общественным явлением. Неумно было бы относиться к противнику легкомысленно, он может заявить о себе самым неприятным образом.
489 Г. Значит, без комической реакции?
Б. Сначала без. Сначала кулак будет, вероятно, реагировать тем, что мрачно уставится на сына. Комическая реакция наступит несколько позднее. Она заключается в том, что, когда приемный сын выйдет, кулак скажет: «Придется давать ему деньги на карманные расходы», — то есть революционное развитие в деревне вы пытаетесь задержать карманными деньгами.
ЗАВИСИМОСТЬ НОВОСЕЛА
В третьей сцене кулак издевается над Клейншмидтом, который не может прокормить своего нового вола:
Дохлятина твоя, как та собака,
Что нищему однажды подарили:
Чем прокормить ее? Есть у тебя луга?
Актер Гнас произносил ответ Клейншмидта — «Покамест нет, ведь у тебя их много» — в тоне резкой отповеди.
Б. В данном акте и в данном году (1948) это еще не оправданно. Клейншмидт еще не отвык от издевательств, чтобы оскорбиться, к в этом вопросе он пока не агрессивен. Кроме того, в его ответе таится такое открытие, которое слишком ново, чтобы не раздумывая пустить его в ход. Его класс еще борется за такие открытия. Вы должны произнести это так, словно перед вами стоит трудная, но не неразрешимая проблема. Следовательно, ответить совсем спокойно. Вы потому не можете прокормить вашего вола, что луга пока принадлежат Гросману. Вы уже знаете, что для вашего вола вам недостает лугов именно Гросмана, но еще не знаете, как их приобрести. А теперь нечто важное для исполнения всей пьесы. Наша основная задача — показать новый образ жизни в деревне, волнующее развитие, новую высокую производительность труда, новое поведение в борьбе со старым даже на примере одного и того же лица. И мы должны не только приобрести познания, но — и это особенно важно — испытать радость от такой новой жизни, гордость за новые решения и новых людей.
490 СТИХИ
Б. Чему служат стихи? Прежде всего политике, нуждам классовой борьбы. Стихи поднимают события, происходящие с такими простыми, «примитивными» людьми, как рабочие и крестьяне, которые в прежних пьесах говорили только ломаным языком, на высокий уровень классических пьес и показывают благородство их идей. Бывшие «объекты истории и политики» говорят теперь как Кориолан, Эгмонт, Валленштейн. В стихах отпадает много случайного, незначительного, половинчатого и остается только то, что вскрывает главную линию. В этом смысле стихи подобны большому ситу. Кроме того, стихи проясняют все высказывания и проявления чувств, подобно тому как хорошая аранжировка проясняет отношения между персонажами пьесы. Стихи делают иные слова более весомыми и памятными, а атаку на умы более мощной.
ИЗОБРАЖЕНИЕ НОВОГО
Б. Наши актеры, как и наши писатели, за немногими исключениями — в их числе Штриттматтер, — не могут изображать новое новым. Для этого необходимо историческое чутье, которого у них нет. Советские писатели почти все обладают им. Они видят (и показывают) не только новые электростанции, плотины, поля, фабрики, но и новую манеру труда, новую совместную жизнь, новые добродетели. Для них нет ничего само собой разумеющегося. Я вспоминаю один эпизод из «Молодой гвардии» Фадеева. Население спасается от вторжения нацистской армии в начале войны. На обстреливаемом мосту скопились беженцы, автомобили, разрозненные воинские части. Молодой солдат спас ящик с инструментами, но ему нужно уходить, и он ищет, кому бы его доверить. Солдат не может просто бросить его. Это без всяких комментариев описано так, что ты уверен, что присутствуешь при новом поведении, видишь человека, которого раньше не было. Наши же писатели описывают новое, встречающееся повсюду, словно описывают, как идет дождь. В такой же манере играют и наши актеры.
491 Х. Но это не касается исполнителей ролей середняков и кулаков.
Б. Их тоже. Эти люди участвуют в борьбе, которая раньше не велась. И у них новые мысли и новые замыслы. А актер должен уметь этому удивляться и сохранить свое удивление в игре, чтобы и публике стало заметно, что новое ново.
СОЗДАНИЕ ОБРАЗА ГЕРОЯ
При выявлении кризисов и конфликтов мы дошли до того места, когда парторг Штейнерт получает известие о том, что снижение уровня грунтовых вод угрожает деревне и крестьяне не собираются до разрешения этой главной проблемы продолжать строительство дороги в город. Б. добивался от Клейношега, исполнителя роли парторга, показа подлинной растерянности.
К. Но ведь не такой это человек, которого так легко опрокинуть неблагоприятным известием!
Б. Простите, но это не тот момент в пьесе, чтобы показывать непоколебимость парторга.
К. Да нужен ли такой парторг, который не знает, что предпринять? Ведь он не может стать примером!
Б. Человек оказывается перед крахом политической работы, которой он отдал много сил и в важности которой для деревни и для классовой борьбы он убежден. Если это его действительно не поразит, значит, он просто тупица. Если он даже сделает вид, будто это его совершенно не поразило, — впрочем, вам все равно пришлось бы сыграть этот удар! — он просто потеряет доверие идущих за ним крестьян.
К. Но ведь он тотчас находит выход из положения:
Тогда понадобятся нам машины —
Землечерпалки, трактора. И с ними
Мы выкрутимся быстро.
Б. Я советую вам именно этими строчками показать всю глубину его растерянности. Как утопающий хватается за соломинку, так старый рабочий ищет спасения в машине. Она наведет порядок, нет ничего, с чем бы она не справилась! Машины — вот средство, которым 492 рабочие пытаются инстинктивно, «априори», преодолеть трудности.
К. Боюсь, я не подойду для этого персонажа нового типа. Поймите, я не считаю героем всякого функционера, а в истории, о которой рассказывает наша пьеса, без Штейнерта вообще не смогли бы произойти большие, полезные изменения в Кацграбене.
Б. Верно. Но я против того, чтобы вы изображали героя, который совершает то одни, то другие героические подвиги. Достаточно вашему Штейнерту выполнить те дела, о которых говорится в пьесе, и он окажется героем. Если создавать образ героя не из тех конкретных дел и не из того определенного поведения, которых от вас требует пьеса, а из другого материала, например, из общих суждений о героизме, то неверные о нем суждения могут встать нам поперек пути. Например, слабый человек не тот, кто боится опасностей или не в состоянии скрыть своего страха перед другими, а тот, кто практически пасует перед опасностью. Не забывайте, к какому классу принадлежит наш герой! Идеал человека с непроницаемым лицом игрока в покер — это идеал капиталистический или, может быть, феодальный. При определенных сделках торговцу нельзя показывать, поразил ли его аргумент противника, поскольку любая неуверенность может подорвать его кредит, и так далее. Угнетатель капиталистического или феодального толка также не имеет права обнаруживать страх. Но вождь рабочих, вроде Штейнерта, находится в гуще народа, жребий народа — его жребий, судьба народа — его судьба. Он ничего не должен скрывать, он только должен быстро действовать, причем заодно с массой, чьи интересы совпадают с его интересами. Правда, при капитализме лица толпы тоже приобрели тупое, непроницаемое выражение; это выражение лица людей, вынужденных скрывать свои мысли и реакции, показывать которые, кстати, и незачем, так как от них ничего не зависит. Человеческое лицо при социализме снова должно стать зеркалом переживаний. Так оно снова похорошеет. Нет, вы покажите Штейнерта искренне потрясенным, а потом покажите, как он переходит к действиям и заставляет действовать каждого, кому это необходимо; и тогда вы получите вашего пролетарского героя.
493 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ГЕРОЙ
БЕ. Существует мнение, будто зритель должен настолько вжиться в сценический персонаж, чтобы он, зритель, захотел подражать ему в жизни.
Б. Если простое вживание и вызовет охоту подражать герою, вряд ли оно воспитает такую способность. Чтобы можно было положиться на идеологические убеждения, перенимать их нужно не только импульсивно, но и разумно. Чтобы можно было подражать правильному поведению, оно должно быть понятно настолько, чтобы его принцип мог быть использован и в ситуациях, не совсем похожих на изображенную. Задача театра — так представить героя, чтобы он вдохновлял на сознательное, а не на слепое подражание.
БЕ. Не очень ли это трудно?
Б. Да, очень трудно. Героев получать нелегко.
РАЗГОВОР
Б. Разговор между молодым агрономом и парторгом — она спрашивает Штейнерта, можно ли выйти замуж за политически отсталого приемного сына кулака — один из тех великолепных новых разговоров социалистического типа, которые представлены в нашей пьесе. Мы должны его особенно, отрепетировать. У шахтера большие политические заботы, но он обстоятельно отвечает на личный вопрос девушки. Не без юмора переводит он этот вопрос в политический план, отнюдь не отметая, однако, личной его стороны, чувства девушки к молодому человеку. Просто он придает ее чувству политическое направление и ставит перед ним политическую задачу, рассматривая любовь как творческую силу. Девушка должна переделать возлюбленного, сделать его достойным своей любви. У него, старого коммуниста, политическая жизнь неотделима от личной.
ЭПИЧЕСКИЙ ТЕАТР
П. Почему так часто приходится читать описания вашего театра, — в большинстве случаев это отрицательные отзывы, — на основании которых нельзя представить себе, каков он в действительности?
494 Б. Моя ошибка. Эти описания и многие оценки относятся не к тому театру, который я создаю, а к театру, который возникает в воображении моих критиков, при чтении моих трактатов. Я не могу отказаться от посвящения читателей и зрителей в свою технику и в свои замыслы, а это мстит за себя. Я грешу — по крайней мере в теории — против основополагающего положения, по крайней мере против одного из моих любимых положений: вкус пудинга познается во время еды. Мой театр — и это вряд ли может быть поставлено в упрек — театр философский, если воспринимать это понятие наивно; под этим я понимаю интерес к поведению и мнениям людей. Все мои теории вообще намного наивнее, чем думают и чем это позволяет предположить моя манера выражаться. В свое оправдание я могу, пожалуй, сослаться на Альберта Эйнштейна, который рассказывал физику Инфельду, что с мальчишеских лет размышлял, собственно, только о человеке, бегущем за световым лучом, и о человеке, запертом в падающем лифте, и вот какая сложная вещь получилась из этого! Я хотел использовать для театра положение, что главное не в том, чтобы объяснять мир, а в том, чтобы преобразовать его. Изменения, порожденные таким намерением — намерением, которое я сам осознавал медленно, — были меньшими или большими, но всегда ограничивались пределами театральной игры, то есть множество старых правил оставалось, «естественно», без всяких изменений. В словечке «естественно» и заключается моя ошибка. Я почти никогда не заговаривал об этих сохранившихся правилах, а многие читатели моих указаний и разъяснений вообразили, будто я собираюсь отменить и их. Если бы критики взглянули на мой театр так, как это делают зрители, не придавая сначала значения моим теориям, то наверняка увидели бы обыкновенный театр, не лишенный, надеюсь, фантазии, юмора и смысла; и только при анализе своих впечатлений они заметили бы некоторые новшества, объяснение которых нашли бы потом в моих теоретических выкладках. Я думаю, беда началась с того, что для правильного воздействия моих пьес на зрителя их следовало и правильно ставить, и поэтому мне пришлось описывать — о несчастье! — неаристотелевскую драматургию и — о, ужас! — эпический театр.
495 АРАНЖИРОВКА МАССОВОЙ СЦЕНЫ
При всей пластичности отдельных крохотных сценок, где завершаются линии персонажей, в заключительную картину нужно было внести ту сумятицу, которая вызывается весельем и вызывает веселье.
Б. разделил сцену на четыре части (барак для строителей, пивная, центр сцены и тележка с мороженым) и все, что там происходит, поделил между ассистентами режиссера. Бессону он поручил группу детей, предложив начать с ними работу так, как тому заблагорассудится.
Б. Важно, чтобы режиссер не превращался в регулировщика уличного движения. Обычно выходящие «сталкиваются» с входящими. Маммлер — Труда, несущая мороженое мальчику на столбе, проталкивается между деревенскими жителями, которые пришли со строительства дороги и хотят переодеться в бараке. Барак безусловно мал для такого количества желающих переодеться (разве только режиссура выстроит его таким, чтобы в него «вошли» все). Поэтому один-два человека станут переодеваться перед бараком. (К тому же это покажет публике, что делают внутри барака те, кого она не видит). До сих пор я ни разу не видел, чтобы Маммлер — Труда, которая должна раздать переодевшимся маки для петлиц, но сначала отправилась купить мороженое, брала с собой коробку с цветами, чтобы они оказались у нее под рукой. Ничего подобного не требуется! Когда она увидит выходящих из барака женщин, пусть задержит их движением руки и помчится за своей картонкой. Давайте покажем, что на праздниках масса любит толкучку! Разумеется, режиссер хочет, чтобы все «ладилось», но «ладиться» должно и то, что на подобных праздниках, к счастью, не «ладится».
Из случайностей часто можно извлечь сильные эффекты, если воспользоваться тем, что на первый взгляд кажется недочетом. Для Германа, который пришел со строительства дороги и очень хочет рассказать, как против воли отца использовал на строительстве лошадей — тоже своего рода героизм, — для Германа не хватило публики на сцене, поскольку все ушли либо переодеваться, либо есть мороженое. Нам следовало бы подумать, как найти для Германа хоть нескольких слушателей. А мы 496 как раз на этом и построили сцену: у других другие заботы, и вот Герман не может собрать слушателей, ему не с кем поделиться своими новостями, он стоит в одиночестве. Впоследствии это тоже оказалось выгодным: когда кулак «отказывался» от молодого человека, можно было показать, что его действительно принимают в коллектив. Короче говоря, к распоряжениям, которые отданы режиссером в интересах естественности (в данном случае движение массы людей), нужно относиться серьезно, приспособляя к ним тот или иной частный эпизод (рассказ Германа). Не надо слишком много запланированного, искусственного, нарочитого!
НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Мы и так и сяк репетировали, как должны обниматься Элли и Герман. Сначала режиссура отослала девушку в барак переодеваться и выпустила ее оттуда как раз для объятий. Это отдавало опереттой, и Элли оставалась на сцене. Было решено, что прежде чем выйти к Герману Элли должна с Вейдлингом делать расчеты, касающиеся инструментов или рабочих часов. Когда приемный отец лишит Германа наследства, она отдаст список Вейдлингу и, не закончив расчетов, бросится Герману на шею. Пока аранжировали это и кое-что еще, многое находилось, потом отбрасывалось, и кто-то спросил Б., не лучше ли режиссуре приходить с готовыми решениями.
Б. Нет. Это приводит к тому, что пока нет решения, неверное затушевывают, а пока нет ответа, избегают вопросов. Потом обычно неверное остается, если решение не приходит. Нерешенную проблему следует ставить публично, а неверные ходы отбрасывать, даже если верные не найдены.
ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ РЕПЕТИЦИИ НА СЦЕНУ
В перерывах между картинами и во время игры примерялись костюмы, которые изготовил Пальм по эскизам фон Аппена. Эскизы основывались на подлинных 497 образцах. Образцы эти были заготовлены фон Аппеном и Штриттматтером в Лаузице. Штриттматтеру демонстрировали каждый костюм и изменения обсуждали совместно с ним, Пальмой, фон Аппеном и Брехтом.
В это же время пьеса тщательно репетировалась. Пальм тоже давал советы, касавшиеся манеры игры.
ПА. Особенно на примере молодежи, за исключением великолепной Лютц207, видно, как труден шаг из помещения для репетиций на сцену. Все, что они говорят, — правда, но они говорят это тихо. А если начинают говорить громко, то им кажется, что они перестают быть правдивыми. Они должны говорить громко.
Б. Меня еще больше тревожит стремление опытных актеров на этой фазе перевести все «в единый поток», в котором все тонет. То, что публике должно показаться новым, для них, после стольких репетиций, старо; важное они прячут среди второстепенного, чтобы это важное «не выпячивалось», действия становятся «внутренними», то есть «уходят» в актеров и, следовательно, исчезают, и так далее. Бедняк должен предать свои идеи под угрожающим взглядом кулацкого сына, а теперь он о кулаке позабыл и предает их и так. Середняк должен быть сначала смущен, когда жена открывает его шуры-муры со служанкой, а потом рассердиться на жену, теперь же он сердится сразу, и так далее и так далее.
ЕВ. А как обстоит дело с остротами и финалами актов? Это же комедия.
Б. Это проще простого. Мы сделаем это под конец.
КОМЕДИЯ
Б. Итак, мы обострили все конфликты, углубили все кризисы. Иногда я пользовался выражением «до трагизма» и постоянно указывал на серьезность того или иного положения или вопроса. А теперь все нужно перевести в комедию, соединить остроту с легкостью, нужно развлекать!
ГН. Значит, то на гору, то с горы?
Б. Да.
498 НЕ СЛИШКОМ ЛИ МРАЧЕН «КАЦГРАБЕН»?
Когда мы увидели декорации и костюмы и когда в актерском исполнении — как и предполагалось — были полностью воплощены конфликты и кризисы, произошел следующий разговор:
Х. Не слишком ли мрачен «Кацграбен»?
Б. Конечно, мрачен. Но таков смысл пьесы. Деревня потому и должна быть преобразована, что слишком мрачна.
Х. Вы знаете, что я имела в виду другое.
Б. Да. Вы думали, не слишком ли все это мрачно для комедии? Нет. В комедии нужно делать веселым не все, а только веселое. Что касается «Кацграбена», то в пьесе есть оптимизм автора и преобразователей. Это не основания для лакировки.
Х. Но публика!
Б. О, как известно любому практику, смех публики можно убить излишним смехом на сцене. Существует рутинный оптимизм, вызывающий пессимизм в зрительном зале. Только тот оптимизм правомочен и действен, который вытекает из событий, из характеров и общей направленности пьесы.
Х. Приведите пример.
Б. Вы обратили внимание на то, что публика, смеявшаяся на первом спектакле над женщинами, которые требовали пива в трактире, на втором уже не смеялась? Причина: женщины смеются уже не над возмущением мужчин, как это задумано, а просто так, вероятно, от хорошего настроения. И сразу же становится не смешно и не весело.
ПАФОС
Б. У многих актеров есть привычка извлекать из страстных пассажей, особенно из так называемых взрывов, присущий им пафос и более или менее равномерно распределять его по всему пассажу. Тогда отдельные фразы превращаются просто в части повозки, которой предназначено везти пафос. Из-за этого бóльшая часть смысла пропадает, все превращается в чистейшую 499 арию и уже не исполняется в характере персонажа. А нужно, наоборот, передавать смысл, передавать характер действующего лица и, продолжая тянуть нить фабулы, не заботиться о пафосе, который пусть возникает там, где это вызвано смыслом, характером, фабулой.
ТЕМП
Накануне заключительных репетиций еще раз тщательно проследили за отдельными персонажами на протяжении всей пьесы, чтобы выяснить, развиваются ли они логически и без пробелов; то же самое было проделано с ситуациями, с фабулой. Лишь после этого режиссура начала устанавливать темп, сообщать движение всему в целом, упорядочивать подъемы и спады.
Б. Только одно предостережение. Теперь, когда мы пытаемся внести в спектакль подъем, мы должны ограничиться проработкой подъема отдельных ситуаций и персонажей. Мы ни в коем случае не должны прибегать к внешнему, театральному подъему, к темпу, желательному лишь из соображений театральности, к рассчитанному лишь на эффект у публики форсированию темперамента.
МИНИМУМ
На репетициях только самого текста Б. во время диалогов любил наблюдать за молчавшим актером. Таким образом он мог видеть, как тот реагирует. Даже на таких репетициях, где текст только намечается и устраняются главным образом провалы между репликами, хорошие актеры играли реакцию на реплики других актеров, хотя и сводили ее до минимума. Вероятно, Б. ничто не интересовало так, как этот «минимум».
ПИСЬМО
Во время последних репетиций один эксперт прислал в театр письмо, в котором упрекал драматурга в незнании и упрощении событий в деревне.
Б. В отличие от науки, изображение действительности в искусстве должно быть образным. Бедняк может 500 зависеть от кулака в значительно большей степени, чем только в отношении лошадей для пахоты — например, в отношении фосфатов, распределения посевного клина и так далее и так далее, как это и указано в письме. Важен факт зависимости, а лошади, которые на будущий год могут быть заменены волами, дают образ.
Р. По мнению эксперта, все предпосылки для пьесы отпадают. Шахта обязана возместить ущерб, связанный с разрушением дороги и упадком грунтовых вод.
ШТ. В 1947 году у шахты для этого не было денег. Было невыразимо трудно пустить в ход рудник.
Б. Во всяком случае, инициатива деревни более революционна, чем судебная тяжба.
Р. Эксперт считает борьбу за дорогу не лучшим вариантом показа развития классовой борьбы в деревне.
Б. Это чепуха, эксперту нечего соваться в эту область; здесь он уже не эксперт. Перед нами снова созданная драматургом, большая и простая картина тех самых процессов, которые эксперт пытается выразить сложным путем: тяготения к городу — местопребыванию промышленных рабочих с их революционной партией, наукой и техникой.
Р. Эксперт говорит, что кулаки не выступили бы против такой дороги в город; они производят больше товаров, а поэтому больше нуждаются в дороге.
ШТ. Кулак Гросман в «Кацграбене» против дороги. У него есть лошади, на которых он проедет и по имеющейся плохой дороге, а в отрыве от города ему властвовать легче.
Б. Даже если бы строительство дороги было совершенно исключительным событием, то и тогда оно могло быть использовано в пьесе как повод для развертывания типических ситуаций. Неверно избирать для широкого поэтического показа столкновения решающих исторических сил тысячекратно повторявшийся обыденнейший случай, обыкновенное предприятие! В поэтическом произведении развязать эти силы может и марсианин.
Тем не менее Б. попросил Штриттматтера по возможности подробнее изучить письмо эксперта, чтобы 501 извлечь из него максимальную пользу, и Штриттматтер приписал четыре новые строки. Молодой шахтер стал произносить:
У шахты денег нет,
а Гросман (2 картина III акта):
Мы правы, и права свои докажем,
на что Штейнерт отвечал:
Беги! Беги же в Таннвальде. Быть может,
Ты право обретешь, но вряд ли воду!
Так письмо чуждого театру эксперта все-таки на что-то пригодилось.
КРЕСТЬЯНЕ КАК ПУБЛИКА
Б. Крестьяне, которые смотрели наш спектакль и с которыми мы дискутировали, разумеется, уже не те, какими они были каких-нибудь пять лет тому назад. Они передовики в своем деле, а что они редко бывали в театре, заметно только по тому, что в театр они приходят не как в баню, то есть не ради совершенно определенного удовольствия. Хуже всего зрители-рутинеры, которые хотят, чтобы их захватывали, увлекали, взвинчивали и так далее, безразлично какими средствами, и которые настаивают на том, чтобы совершалось это в привычной для них манере. Тогда для театра лучше, если зритель, не имея возможности сравнивать, не замечает особенностей определенных работ. (Впрочем, крестьяне уже на прогоне отлично поняли — на основании крохотной роли! — что Вайгель большая актриса.)
Они не говорили: «актриса нас увлекла или заинтересовала». Они говорили: «Кулачка была первый сорт». Они не знали театра, но знали кулаков и поэтому тотчас же поняли и театр. Но обратимся к тем, которые театр знают. Они научились воспринимать определенные сценические эффекты, они извлекают возможности для сравнения из определенного, имеющегося у них опыта и, вероятно, знают несколько правил достижения определенных эффектов. Наши театры и наши драматурги находятся по отношению к этой публике в положении в известном смысле трудном. Театры и драматурги выражают себя, публика получает впечатления. 502 Кажется, просто, а на самом деле не очень. Театры и драматурги могут вызывать только такие впечатления, которые публика разрешает им вызывать у себя. Ходячее мнение, будто искусство может (или должно уметь) производить впечатление на любого человека и в любое время, неверно. Например, оно не может объединить разные классы, а к одинаковой для них выгоде и подавно. (Другие примеры: фуга Баха производит не одинаковое впечатление или не одинаково глубокое впечатление на всех слушателей; человек, только что получивший плохое известие, не может восхищаться гравюрой Рембрандта в такой же мере, как другой человек.) Кроме того, в наше время у пьес и спектаклей есть еще и новая задача — задача, которая без всякого ущерба для художественного восприятия может отсутствовать в спектаклях и пьесах прошлого. Задача эта — показать совместную жизнь людей так, чтобы ее можно было преобразовать, причем совершенно определенным образом. Эта задача вполне может изменить прежде всего эстетическое восприятие. В классических пьесах есть поучительное начало. За полтора века жизни на сцене поучительность их несколько ослабела, отчасти потому, что поучения становились известнее, отчасти же потому, что они искажались. В эстетическом восприятии нынешней публики может и должно снова играть большую роль поучительное начало новых пьес и спектаклей. Таким образом, то новое, незнакомое, что является ныне предметом изображения, вносит нечто новое, незнакомое в само эстетическое восприятие. Нужна готовность к этому новому, а следовательно, незнакомому. От создающихся новых пьес мы не должны ожидать такого же эстетического впечатления, к какому нас приучили старые пьесы. Это не значит, что мы должны принимать их какими бы они ни были. Мы вправе сравнивать их со старыми пьесами. Пусть нас не уговаривают, что мы должны отказаться от знакомых и желаемых эстетических впечатлений. Но мы не должны держаться какой-то определенной схемы и одновременно взваливать на нее новые задачи. Мы должны критиковать новые произведения в соответствии с задачами, которые перед ними стоят, задачами старыми, не изменившимися, и новыми!
503 НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ — НОВАЯ ФОРМА
П. Не придется ли публике сначала разбираться в новой форме, в которой написан «Кацграбен»?
Б. Я думаю, что именно новая форма поможет публике разобраться в «Кацграбене». Самое незнакомое для нее в этой пьесе — это ее тема и марксистский подход.
П. Вы полагаете, что все непривычное в пьесе объясняется только этим?
Б. В основном.
П. Не считаете ли вы, что построение фабулы у Штриттматтера определяется тем, что он романист?
Б. Нет. Большинство непривычных художественных средств, использованных им в этой пьесе, были бы необычны и для романа. Возьмем разделение на годы. Дело не в том, что берутся именно годы, это вытекает из того, что в деревне год с его сборами урожаев представляет собой показательный отрезок времени. Само это постоянное возвращение в Кацграбен напоминает рюккертовского Цидгера208, вечного странника, который, постоянно возвращаясь через определенное время, всегда находит новое.
П. Вы имеете в виду то, что публика неожиданно видит в хозяйстве новосела сначала вола, затем трактор?
Б. Разумеется, не только это.
П. Хорошо. Сначала сильного кулака, а затем несколько ослабленного?
Б. Не только. Она видит и другого Клейншмидта, и другую крестьянку Клейншмидт, и другого парторга Штейнерта, и так далее. Других людей вообще.
П. Не совсем других.
Б. Верно. Не совсем других. Одни черты у них развились, другие сгладились. Но мы сейчас забываем, что перед нами не изменившиеся, а изменяющиеся люди. Драматург всегда избирает такие моменты, когда развитие идет особенно бурно. Возьмем для примера Клейншмидта. Мы встречаемся с ним, когда он начинает особенно болезненно, чувствовать свою зависимость от кулака и когда посевной план заставляет его напрячь все свои творческие силы. Встречаем мы его и 504 в период душевного кризиса: новые отношения в деревне настолько развили его чувство собственного достоинства, что для него особенно унизительно кланяться кулаку. И на следующий год (второй акт) мы тоже встречаем его в ситуации, которая вызывает, так сказать, скачок в его развитии.
П. Нельзя ли было такие ситуации уплотнить во времени, чтобы избежать непривычных на театре скачков?
Б. Я не очень дорожу старыми привычками во времена, когда создается так много новых. Штриттматтеру просто необходимы такие скачки во времени, поскольку развитие сознания его персонажей зависит от развития их общественного бытия, а это развитие совершается не так быстро.
П. Очень интересно, что сказали некоторые крестьяне после спектакля. Они нашли весьма полезным окинуть взглядом прошедшие годы. «Мы пережили то же самое, но только видя все это как бы с птичьего полета, оглядывая значительный отрезок времени, мы понимаем, что произошло. Изо дня в день это ощущаешь тоже, но не так сильно».
Б. Они пережили, так сказать, великий подъем событий и дел, а это, в свою очередь, обещает великий подъем в будущем. Короче говоря, эта цидгеровская техника, при всей своей непривычности, имеет большие преимущества как раз для этой пьесы. А другие художественные средства Штриттматтер использует по иным соображениям. С ним происходит то же самое, что и с его новоселом, которого социально необходимый прогрессивный план толкает на новый путь — к новой технике.
П. А именно?
Б. Здесь люди характеризуются чертами, имеющими историческое значение, а люди выбраны такие, которые имеют значение для классовой борьбы. Здесь есть фабула, позволяющая произвести в последнем акте замену одного героя (Клейншмадта) другим (Штейнертом). Здесь поступки определяются другими движущими силами, чем в прежних пьесах.
П. Многим недостает в новом театре больших страстей.
Б. Они не знают, что им недостает только тех страстей, которые они застали и застают в старом театре. 505 В новом театре они находят или могут найти новые страсти (наряду со старыми), которые развились или развиваются. Даже когда люди сами чувствуют эти новые страсти в жизни, они еще не чувствуют их на сцене, поскольку выразительные средства театра изменились и непрерывно меняются. Всякий еще готов признать за страсти ревность, властолюбие, скупость. Но страстное желание вырвать у земли как можно больше плодов или же страстное стремление сплотить людей в творческие коллективы, то есть страсти, обуревающие новосела Клейншмидта и шахтера Штейнерта, пока еще ощущаются и находят отклик с трудом. Кроме того, эти новые страсти ставят их носителей в совершенно иные отношения с окружающими людьми, чем старые. Поэтому и столкновения будут протекать иначе, чем к этому привыкли на театре. Форма столкновений между людьми — а ведь эти столкновения для драмы, самое важное, — очень изменились, Например, по правилам старой драматургии конфликт между новоселом и кулаком весьма обострился бы, если бы кулак, скажем, поджег сарай новосела. Это подстегнуло бы интерес публики даже сегодня, но не было бы типично. Типично лишение одолженных лошадей, это тоже акт насилия, хотя и куда меньше волнующий нашу публику. Когда новосел побеждает кулака тем, что уступает посевной картофель середняку, это тоже боевая операция нового рода, хоть и она производит «меньшее впечатление», чем если бы новосел выдал свою дочь замуж за сына середняка. Политическая зоркость нашего зрителя развивается медленно — покамест новые пьесы идут ей на пользу больше, чем она им.
Кулак хватается в отчаянии за голову и говорит:
— Как? Для деревни пять волов? Удар!
Я смеюсь, когда это слышу, но кто еще? А кому интересно, что кулак сразу же понимает политическое значение распределения волов между бедняками, тогда как бедняк, получивший вола, только отчаивается оттого, что ему нечем его прокормить?
П. Я слыхал, как зрители говорили, что они «не понимают, что к чему», то есть не понимают, как одно приводит к другому, почему сначала рассказывается о 506 чем-то, а потом это бросают. Возьмите вторую картину первого акта, в которой показывается, как середняк пристает к молодой служанке. Один критик, человек умный и с юмором, сказал мне: «Везде висят ружья, которые не стреляют».
Б. Понимаю. Мы вызываем ожидания, которых затем не удовлетворяем. По своему театральному опыту зритель ждет, что отношения между крестьянином и служанкой как-то продолжатся, но в следующем акте (и в следующем году) о них вообще не упоминается. Что о них больше не упоминается, я, кстати сказать, и нахожу комичным.
П. Вы усилили комизм тем, что крестьянин в ответ на жалобы крестьянки на все возрастающее непослушание прислуги печально кивает головой.
Б. Но это найдет смешным, к сожалению, только тот, кому в первом акте интересней всего было видеть, как разрушаются патриархальные отношения и как крестьянка довольна этим, потому что Союз свободной немецкой молодежи защищает служанку от приставаний ее мужа. Во втором акте такой зритель ждет только продолжения процесса эмансипации, и он может посмеяться, когда увидит крестьянина и крестьянку озабоченными и объединившимися, поскольку теперь служанка уже энергично требует выходных дней. Разумеется, предпосылкой для такого взгляда является собственный опыт.
П. А зритель, лишенный такого опыта, сочтет, что и вражда в «Кацграбене» не очень сценична.
Б. Возможно. В нашей действительности все труднее находить противников для ожесточенного столкновения на сцене, вражда которых казалась бы публике само собой разумеющейся, непосредственной и смертельной. Если борьба идет из-за собственности, она представляется естественной и интересной. У Шейлока и у Гарпагона209 есть деньги и дочь, и это «естественно» приводит к великолепным столкновениям с противниками, которые хотят отнять у них либо деньги, либо дочь, либо и то и другое. Дочь бедняка Клейншмидта не является его собственностью. Он борется за строительство дороги, владеть которой тоже не будет. Множество волнений, движений души, столкновений, шуток 507 и потрясений, типичных для старого времени и его пьес, отпадают или становятся второстепенными мотивами, тогда как мотивы, типичные для нового времени, приобретают важность.
П. Вы снова говорите о новом зрителе, которому нужен новый театр.
Б. (с сознанием своей вины). Да, мне не следовало бы делать это так часто. Мы действительно должны больше винить себя, чем зрителей, если задуманного эффекта не получается. Но тогда я должен получить право защищать известные новшества, необходимые нам для «завоевания» публики.
П. Только эти новшества не должны идти за счет человеческого начала. Или вы полагаете, что публика должна перестать требовать полнокровных, всесторонне интересных людей в полный рост?
Б. Публике вообще не нужно отказываться ни от каких требований. Единственное, чего я от нее жду, это чтобы она к прежним требованиям прибавила новые. Публика Мольера смеялась над Гарпагоном, над его скупцом. Стяжатель и скупец стал смешным в эпоху, когда появился крупный торговец, который брал кредиты и шел на риск. Наша публика могла бы смеяться над скупостью Гарпагона еще больше, если бы увидела эту скупость изображенной не как свойство характера, не как чудачество, не как нечто «слишком человеческое», а как некую болезнь сословия, как поведение, которое стало смешным только теперь, короче говоря, как общественный порок. Мы должны уметь изображать все человеческое не как навеки данное.
П. Вы хотите сказать, что решающее значение для нового искусства писать пьесы имеет указание классиков о том, что сознание людей определяется общественным бытием.
Б. Которое они создают. Да, это новая точка зрения, она не учитывалась в старом искусстве писать пьесы.
П. Но вы же постоянно подчеркиваете необходимость учиться на старых пьесах?
Б. Но не их технике, связанной с устаревшим видением! Учиться нужно как раз той смелости, с которой старые драматурги создавали новое для своего 508 времени. Нужно изучать изобретения, с помощью которых они приспосабливали имевшуюся уже технику к новым задачам. Нужно учиться у старого создавать новое.
П. Я не ошибусь, если предположу, что некоторые наши лучшие критики не доверяют новым формам?
Б. Нет, не ошибетесь. Уж очень плох был опыт с новшествами, правда, новшествами ненастоящими. Буржуазная драматургия и буржуазный театр в своем непрерывном и все более быстром падении пытались с помощью дикой смены мод во внешних формах сделать приемлемым прежнее, неизменно реакционное общественное содержание. Эти чисто формалистические усилия, игра формами без содержания, привели наших лучших критиков к тому, что они потребовали изучения классических пьес. Там действительно многому можно научиться: находить общественно значимую фабулу, умело излагать ее драматически, создавать интересные образы людей, заботиться о языке; выдвигать великие идеи, быть на стороне всего общественно-прогрессивного.
ЭПИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Б. Кстати, не совсем правильно было мною недавно сказано, будто в театре, который мы создаем, нет ничего странного для публики. По правде говоря, наши ошибки и те уже иного рода, чем ошибки других театров. Если у их актеров подчас слишком много ложного темперамента, то у наших подчас слишком мало подлинного. Отвергая искусственный пыл, мы ощущаем недостаток в тепле естественном. Мы не стараемся разделять чувства своих персонажей, но эти чувства нужно показывать полнокровно и живо и подходить к ним следует не холодно, а с чувством силы: например, отчаяние нашего персонажа может вызвать у нас подлинный гнев, а его гнев — подлинное отчаяние, смотря по обстоятельствам. Если актеры других театров «переигрывают» порывы и настроения своих персонажей, то мы не должны их «недоигрывать», а также не должны «переигрывать» фабулу, которую актеры других театров могут «недоиграть».
509 МОДЕЛИ
ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ
Автор не раз имел возможность разрешать споры на сцене о физических действиях или интонации, осуществляя во время репетиций конкурирующие предложения. Иной раз это озадачивало актеров, потому что репетирование обычно означало лишь проверку предложений режиссера, который, осуществив нужную ему пробу, делал свой окончательный вывод. Когда было предложено использовать модели спектаклей, поднялся громкий протест против того, что называли диктатурой, — она якобы сковывает «свободное творчество». Автор, желая предотвратить слишком уж свободное творчество при постановке его пьес, и в самом деле прибег к деликатному насилию — в течение некоторого времени он разрешал ставить свои пьесы только тем театрам, которые пользовались моделью спектакля.
СКОВЫВАЕТ ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ТВОРЧЕСКУЮ СВОБОДУ?210
Виндс. Для подготовительной работы, предшествующей здешней постановке «Мамаши Кураж», вы предоставили в наше распоряжение весь материал берлинского спектакля. Ваша уполномоченная, госпожа Берлау211, во всех подробностях информировала меня, режиссера, а также художника и актеров о ваших пожеланиях, причем подкрепила их многочисленными фотографиями мизансцен, снабженными комментирующим текстом и вашими письменными режиссерскими указаниями. Ввиду того что столь энергичное вмешательство автора во все детали подготовки спектакля является не совсем обычным для театральной практики 510 и что мы в Вуппертале впервые осуществляем подобный опыт в столь последовательной форме, нам было бы интересно узнать, какие причины побудили вас создать постановку-образец и предложить ее в качестве модели, на которую должны быть ориентированы другие спектакли.
Брехт. В сущности, «Мамаша Кураж и ее дети» может быть поставлена и старыми методами. (Ведь наши театры способны ставить все — от «Эдипа»212 до «Бобровой шубы»213, и не благодаря яркому индивидуальному стилю, который впитывает создания многих культур, но благодаря отсутствию всякого индивидуального стиля.) При этом были бы безусловно утрачены специфические особенности данной пьесы и не осуществилась бы ее социальная функция. Если бы поставить извозчиков лицом к лицу с автомобилем, они, вероятно, прежде всего бы сказали: «Что ж тут нового?» После этого они впрягли бы в машину восьмерку лошадей. К методам эпического театра нет чисто теоретического пути; более всего оправдывает себя практическое копирование, связанное с усилием понять причины, обусловившие те или иные мизансцены, передвижения и жесты. Вероятно, прежде чем самому создать модель, нужно создать копию. Литература творит художественные образы людей и их развитие, внося тем самым исключительно важный вклад в самопознание человека. Самые первые ростки нового можно сделать зримыми. Столь важную самостоятельную роль способно сыграть только подлинно реалистическое искусство. Значит, реализм — это не только предмет замкнуто-литературной дискуссии, но основа того значения, которое имеет искусство в жизни общества, и вместе с тем основа общественной позиции художника. Наши книги, наши картины, наш театр, наши фильмы могут и должны самым существенным образом помогать в решении жизненных проблем нашего народа. Наука и искусство занимают в общественном строе нашей республики столь выдающееся место потому, что такое место подобает значению прогрессивной науки и реалистического искусства. Такая культурная политика требует от нашей интеллигенции творческого сотрудничества в сознании высокой цели. Эту политику создает литературное, театральное 511 и кинематографическое направление, которое помогает тысячам людей понять настоящее и прошлое, а также познать будущее, ее создают художники, скульпторы, композиторы, которые в своем искусстве отражают существенные черты нашей эпохи и которые своим оптимизмом помогают тысячам людей.
Виндс. Не следует ли опасаться того, что использование спектакля-модели, как вы его понимаете, то есть копирование сценического решения, приведет к известной утрате художественной свободы?
Брехт. Сетований на утрату свободы художественного воплощения следует ожидать — в эпоху анархического производства это неизбежно. Однако и в нашу эпоху существует преемственность развития — например, в технике и науке наследуются достижения предшественников, существует стандарт. Если же присмотреться внимательнее, то окажется, что «свободные» художники театра не так-то уж и свободны. Обычно они последними освобождаются от вековых предрассудков, традиций, рутинных привычек. Прежде всего они находятся в совершенно несовместимой с их достоинством зависимости от «своей» публики. Они должны «завоевать ее внимание»; должны во что бы то ни стало «держать ее в напряжении», то есть так строить самые первые сцены, чтобы «купить» самых последних зрителей; должны делать публике душевный массаж; должны распознать ее вкус, чтобы к нему приспособиться; одним словом, их деятельность должна приносить удовлетворение не им самим, — им приходится строить, пользуясь чужими мерками. В сущности, относительно публики наши театры все еще занимают позицию поставщиков, — откуда же у них может быть свобода, которую жаль терять? В лучшем случае они располагают свободой выбирать тот способ, которым надо обслужить публику.
Виндс. А не следует ли опасаться того, что теория модели приведет к известному шаблону и омертвению и что за спектаклем сохранится всего лишь значение копии?
Брехт. Нужно освободиться от ходячего презрительного отношения к созданию копий. Это вовсе не «легкий путь». Копирование не позор, а искусство. Лучше 512 сказать, копированию еще предстоит развиться в искусство, — при этом так, чтобы не возникало ни шаблона, ни омертвения. Поделюсь собственным опытом: в качестве драматурга я создавал копии японских, греческих, елизаветинских пьес, в качестве режиссера копировал разработки народного комика Карла Валентина и сценические эскизы Каспара Неера; и никогда я не чувствовал себя несвободным. Дайте мне разумную модель «Короля Лира», и мне доставит удовольствие следовать за ней. В тексте пьесы вы прочтете, что Кураж перед своим уходом дает крестьянам деньги на погребение немой Катрин, а изучая модель, вы еще к тому же увидите, что она отсчитывает деньги, держа их на ладони, и одну монету бросает обратно в свою кожаную сумку, — какая же разница? Действительно, в тексте пьесы вы найдете первое, а второе — в модели, в описании игры Вайгель. Значит ли это, что первое вам следует усвоить, а второе — забыть? В конце концов в театре мы ведь и вообще даем лишь копии человеческих действий. Мизансцены и характер передвижений по сцене представляют — если они вообще что-либо представляют — высказывания об этих действиях. Наш театр уже потому не реалистичен, что он недооценивает наблюдение. Наши актеры всматриваются в себя, вместо того чтобы всматриваться в окружающий мир. События, в которых участвуют люди и которые являются единственным предметом сценического воплощения, служат им только средствам для того, чтобы выставить напоказ свой темперамент и т. п. Режиссеры используют пьесы лишь для воплощения собственных «видений», — это относится и к новым пьесам, которые являются отнюдь не видениями, но попыткой исправить действительность. Чем раньше мы с этим покончим, тем лучше. Конечно, нужно сначала научиться создавать художественные копии, равно как и строить модели. Чтобы моделям можно было подражать, нужно, чтобы они годились для подражания. Неподражаемое должно уступить место образцовому. Кроме того, существует подражание двух родов — рабское и творческое. При этом следует учесть, что последнее отличается не тем, что содержит количественно меньше «сходного». Говоря практически, будет вполне достаточно, если режиссерская экспозиция, 513 при помощи которой в спектакле-модели излагается фабула, будет использована в качестве исходной точки для репетиций. Независимо от того, что экспозиции, рассказывающие фабулу, нашим режиссерам чужды и что им также неведома, а частью неприятна общественная функция фабулы новых пьес, — давно пора установить у нас в театре форму работы, отвечающую нашей эпохе: коллективную, обобщающую опыт всех участников, работу над спектаклем. Мы должны добиваться все более близкого описания действительности, и это — с эстетической точки зрения — будет все более тонким и все более впечатляющим описанием. Достичь этого можно, используя предшествующие достижения; разумеется, останавливаться на этом нельзя. Изменения, которые будут внесены в модель с единственной целью — придать отражению действительности (во имя воздействия на эту действительность) большую точность, дифференцированность, пластичность и привлекательность, — окажутся тем выразительнее, что они явятся отрицанием существующего. Это поймут знатоки диалектики.
Виндс. В ваших режиссерских разработках «Мамаши Кураж» говорится об эпическом театре и, в частности, об эпическом стиле игры. Могу ли я просить вас кратко охарактеризовать последний, поскольку не одни лишь деятеля театра, но и вся театральная общественность стремится ближе познакомиться с ним, — тем более что речь, видимо, идет о новых стилистических принципах.
Брехт. Дать краткое описание эпического метода игры необыкновенно трудно. Там, где его пытались ввести, он в большинстве случаев приводил к досадным недоразумениям и вульгаризации. (По внешней видимости, этот метод якобы требует вытравления эмоционального, индивидуального, драматического начал и т. п.) Более или менее подробное изложение можно найти в «Опытах». Я хотел бы также указать на то, что этот метод исполнения еще проходит стадию разработки и требует совместной работы многих художников театра.
Виндс. Полагаете ли Вы, что эпический стиль игры годится только для «Мамаши Кураж» как драматической 514 хроники, или он может иметь практическое значение для всей нашей современной работы в области театра, и, например, может быть использован при постановке произведений классических и романтических авторов, а также драматургов конца XIX – начала XX века?
Брехт. Эпический метод игры не в равной степени годится для постановки всех классических произведений. Видимо, его легче всего использовать (точнее говоря, он сулит наиболее плодотворные результаты) при работе над такими вещами, как пьесы Шекспира или ранние произведения наших классиков (включая «Фауста»). Все зависит от того, какова общественная функция этих вещей, то есть в какой мере отражение действительности сопряжено в них с целью воздействовать на действительность.
Виндс. Мне хотелось бы сказать, что я в эпическом методе игры вижу средство освобождения от пут индивидуалистического восприятия и представления и что эта объективация сулит возрождение и оживление художественной работы театра. Ибо нет сомнений, что современный зритель и слушатель уже не согласен во всем поддаваться театральной иллюзии, тому «как будто», которое требует отождествления актера с исполняемым им и субъективно им политым персонажем. Сцене безусловно необходима новая сила иллюзионности, чтобы властно приковать к себе внимание в первую очередь простого, но открытого для живого восприятия человека. Мне кажется, что вопрос не только драматургического материала, — это вопрос о праве на существование театра нашей эпохи. Следует приветствовать практические предложения поэта и драматурга, когда они дают новые жизненные импульсы театру и помогают ему преодолеть кризис, если в области искусства вообще бывают кризисы.
1949
ОШИБКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДЕЛЕЙ
Можно представить себе очень высокий уровень театральной культуры, при котором персонажи часто исполняемых пьес хорошо известны, — причем известен 515 не только произносимый ими текст, но и их сценическое воплощение; известны не только ситуации, но их традиционное воплощение на сцене. Тогда новые режиссеры ориентировались бы на мизансцены предшествующих классических спектаклей в такой же степени, в какой режиссер фильма о Горьком, когда ему нужно было поставить эпизод приезда Горького к Ленину, вероятно (надо надеяться), использовал известную фотографию, где запечатлены Ленин и Горький на скамье. — Не нужно долго доказывать, что нам предстоит еще немало учиться, дабы осуществлять столь же классически убедительные постановки пьесы в живой и одухотворенной форме, — учиться и для того, чтобы самим создавать модели, и для того, чтобы использовать таковые. (При более или менее серьезном введении принципа модели можно было бы, даже создавая совершенно новую модель, учитывать для уже моделированной пьесы идеи и характер воздействия прежней модели.) Нет надобности некритически заимствовать такие элементы спектакля-модели, как головной платок Вайгель в роли Кураж или как специфическое выражение горя в третьей сцене. И повсюду, в каждой детали, как и во всем замысле в целом, должно быть создано новое. Неразумно отказываться от использования модели (например, из честолюбия), но столь же ясно, что модель лучше всего использовать, изменяя ее.
КАК ПОЛЬЗУЕТСЯ МОДЕЛЬЮ ЭРИХ ЭНГЕЛЬ
Копирование — это особое искусство, одно из тех искусств, которым мастер должен владеть. Владеть хотя бы уже потому, что иначе он сам не будет в состоянии создать оригинал, с которого можно снять копию. Рассмотрим, как работает над копией выдающийся режиссер.
Эрих Энгель редко приносит с собой на репетицию выношенный замысел режиссерского решения. Как правило, он намечает некоторые предварительные позиции; затем он их изучает и начинает в них «входить», то есть предлагать улучшения, которые со все большей чистотой и изяществом выявляют сущность фабулы. При таком 516 индуктивном методе проведения репетиций никакая модель не может прийти в противоречие с материалом, — она просто служит предварительной гипотезой, которую режиссер изучает и исправляет. (Причем она порой может быть и вовсе отброшена.) Мастер обнаруживается в обращении с такими образцами, которые он признает ценными. Модель решения он изучает с такой же бережностью, с какой пальцы великого скрипичного мастера скользят по скрипке Страдивариуса, — под ними закругления, лакировка, размеры инструмента кажутся созданными впервые. Не поняв до конца внутренний смысл уже существующего решения, он не приступит к какому бы то ни было его изменению. Это, однако, значит, что он должен быть в состоянии восстановить свой образец в приблизительной форме, как нечто предварительное, но существенное. Он полностью использует образец, извлекает из него указания на поворотные моменты в том или ином эпизоде и его истолкование. Он внимательно оценивает преимущества и недостатки данного решения для своих актеров. Поначалу, когда он предлагает им повторить мизансцены и передвижения образца, кажется, что он не слишком интересуется особенностями каждого актера; но это только кажется, потому что именно по их усилиям он каждый раз оценивает, в какой степени данный образец для них приспособлен; не всегда необходимость прилагать значительные усилия говорит о негодности образца. Если Энгель предпринимает изменения, то лишь после того как обнаружит своеобразную особенность эпизода, оставшуюся невыраженной в данном решении, или своеобразную особенность актера, которая в предложенных рамках не может раскрыться. С какой логичностью он в этом случае рассматривает причины и последствия. И как уверенно он сообщает персонажу и эпизоду новую напряженность и новое равновесие. Изменения возникают вследствие того, что новое, открытое режиссером, сплавляется с прежним решением. Возникшие таким образом изменения могут быть настолько значительны, что в итоге рождается нечто совершенно новое. Но уже в существующем образце мастер находит трещины, которые сами собой возникли при разработке образца, и находит равновесие, в котором непримиримые 517 противоречия удерживаются. Он знает, как часто во время работы некая истина кажется помехой, элементом, не укладывающимся в концепцию, — его хочется отбросить, потому что он искажает гармонию. Например, несправедливо гонимый совершает мерзкий поступок, — не покажется ли публике, если ей показать этот поступок, что преследователи правы? Или умный при тех или иных обстоятельствах оказывается глупым, любимый оказывается отталкивающим, — нужно ли это скрыть? Или скачки в развитии, — нужно ли их убрать? Противоречия, — нужно ли их так или иначе примирить? Мастер обнаруживает все это в данном ему образце, он оказался способен нащупать трудности, которые уже преодолены.
НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ НОВЫХ ПЬЕС
Во времена, когда театры не обладают творческой силой, художественным вкусом и прогрессивными стремлениями, необходимыми, чтобы обеспечить старым пьесам успешное воздействие на публику, они (театры) не умеют правильно ставить и новые пьесы. Будучи не в силах понять направленность действия пьесы (будь то старая или новая), они создают спектакли, форма которых никак уже не является формой их содержания. Мизансцены уже не рассказывают фабулы пьесы, игра актеров лишена реализма, все детали и подробности выполняются спустя рукава, совершенно необязательная, искусственная экзальтация мешает показать развитие образа или ситуации, идея драматурга остается темной, невысказанной.
В нашу эпоху, эпоху грандиозных переворотов, человеческие взаимоотношения подвергаются серьезным испытаниям. Перед театром стоит почетная задача сотрудничать в коренной перестройке форм человеческого общежития. Новая публика накладывает на него обязательство и дает ему привилегию бороться с устаревшими воззрениями по этому вопросу и распространять свежие идеи и социалистические импульсы. Он должен это делать в прекрасной, доставляющей радость манере, должен для решения этой новой задачи проверить и усовершенствовать свои художественные средства.
518 ОБУЧЕНИЕ АКТЕРОВ И АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО
СОВЕТЫ АКТЕРАМ
1. НЕ-А
Помимо того что актер делает на сцене, он должен во всех важных местах заставить зрителя увидеть, понять, почувствовать еще что-то, чего он не делает. Например, он не говорит: «Ты за это поплатишься!», а говорит: «Я тебя прощаю!», он не падает в обморок, а оживляется. Он не любит своих детей, а ненавидит их. Он идет не назад направо, а вперед налево. Имеется в виду следующее: актер играет то, что стоит за А, но играть это он должен так, чтобы публика понимала, что стоит за НЕ.
2. ЗАПОМИНАНИЕ ПЕРВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Актер должен читать свою роль, как бы удивляясь и возражая тому, что он читает. Прежде чем запомнить слова роли, он должен запомнить, чему он удивлялся и против чего возражал. Если он выделяет эти моменты во время игры, то он сумеет заставить и публику удивляться и возражать, и это он как раз обязан сделать.
3. СОЧИНЕНИЕ И ПРОИЗНЕСЕНИЕ ВСЛУХ КОММЕНТАРИЕВ К РОЛИ
Актер должен придумать ремарки и комментарии к своему тексту во время репетиций произносить их вслух; например, перед тем как произнести свою реплику, он должен сказать себе: «Я ответил очень зло, потому что был голоден» или «Я тогда еще ничего не знал о случившемся и потому сказал». Очень хорошо, если актер прочитает свою роль сначала в первом лице, 519 потом в третьем. Если под «третьим лицом» он представляет себе определенное действующее лицо пьесы, например, враждебно настроенное, то он научится сохранять свою интонацию вопреки комментариям и ремаркам. Пример. В первом лице было: «Я высказал ему свое настоящее мнение и добавил», в форме третьего лица это звучит так: «Он разволновался и стал придумывать, чем бы меня оскорбить, и в конце концов сказал». А потом все, что было сказано в тоне того, кто действительно это говорил по ходу пьесы, может быть сказано в тоне того, кто это слышал. Решающей для создания образа является, конечно, та форма третьего лица, при которой говорящим является актер, так что ремарки и комментарий отражают мнение актера об его герое.
4. ОБМЕН РОЛЯМИ
Актер должен обмениваться ролями со своим партнером, один раз копируя его, другой раз демонстрируя ему собственную манеру игры.
5. ЦИТИРОВАНИЕ
Вместо того чтобы стараться создать впечатление, будто он импровизирует, пусть лучше актер покажет правду: а именно, что он цитирует.
6. ИСКУССТВО ИМПРОВИЗАЦИИ
необходимо актеру. Он должен быть в состоянии усвоить любой стиль, то есть импровизировать в манере автора. Но особенно важно, если он научится записывать свою импровизацию, и лучше всего до того, как он произнесет ее вслух.
7. БЫТЬ ПРИЯТНЫМ
— главная задача актера. Все, особенно страшное, он должен изображать с наслаждением и при этом показывать свое наслаждение. Кто не учит развлекая и не развлекает поучая, тому нечего делать в театре.
520 СТАРАЯ ШЛЯПА
Когда в Париже репетировалась «Трехгрошовая опера»214, мое внимание с самого начала привлек молодой актер, исполнявший роль бродяги Фильча, подростка, который стремится приобрести квалификацию профессионального нищего. Быстрее большинства остальных он понял, как именно надо репетировать: осторожно, словно прислушиваясь к собственной речи, предлагая наблюдательности зрителей те человеческие черты, которые они сами могли наблюдать в человеке. И я нимало не был удивлен, когда застал его как-то утром в одной из самых больших костюмерных, куда он пришел по собственному почину вместе с исполнителями главных ролей; он вежливо пояснил, что ему надо найти шляпу для своей роли. Я помогал исполнительнице главной роля выбрать костюмы, на что ушло несколько часов, и краешком глаза наблюдал за тем, как он ищет шляпу. Он заставил порядком поработать служащих костюмерной, и скоро перед ним возвышалась труда головных уборов; прошло около часа, пока он отделил две шляпы из этой груды, и теперь должен был наконец сделать окончательный выбор. На это ему потребовался еще час. Я никогда не забуду выражения муки на его изможденном подвижном лице. Он никак не мог решиться. Полный сомнений, он взял одну из шляп и долго смотрел на нее с видом человека, который вкладывает свои последние, скопленные за долгое время деньги в заведомо безнадежную авантюру, из которой потом не выпутаешься. Полный тех же сомнений, положил он ее обратно, но отнюдь не так, как кладут вещь, к которой никогда более не прикоснутся. Конечно, шляпа несовершенна, но, пожалуй, она лучшая из всех, какие здесь есть. С другой стороны, хотя она и лучшая, она все же несовершенна! И он взял другую, все еще не сводя глаз с той, которую только что отложил в сторону. Вторая шляпа, по-видимому, тоже имела свои преимущества, только они были совсем другого характера, чем недостатки первой. Именно это так затрудняло выбор. Здесь были запечатлены все оттенки упадка, недоступные беглому взгляду; первая из этих двух шляп в бытность свою новой была, пожалуй, дорогой, но пребывала теперь в еще 521 более плачевном состоянии, чем вторая. Но носил ли Фильч когда-нибудь дорогую шляпу или, во всяком случае, более дорогую, чем вторая? Насколько она износилась? Берег ли Фильч ее в своем падении и имел ли он возможность ее беречь? Или это вообще была не та шляпа, которую он носил в лучшие времена? Давно ли были эти лучшие времена? Как долго может носиться шляпа? Воротничка Фильч не носил, — это было установлено в одну из бессонных ночей, — лучше совсем не носить воротничка, чем ходить в грязном (великий боже, так ли это?). Но все равно, решение принято, все внутренние дебаты по этому поводу закончены. Галстук был — это тоже решено. Но как должна выглядеть при этом шляпа? Я увидел, что он закрыл глаза и как бы оцепенел. Он снова проходил все стадии падения, одну за другой. Так и не осененный свыше, он открыл глаза и машинально надел шляпу на голову, по-видимому, делая попытку решить вопрос чисто эмпирически, и тут его взгляд снова упал на ту шляпу, которую он отложил в сторону. Его рука потянулась за ней, и он долго стоял так, с одной шляпой в руке и другой на голове — художник, разрываемый сомнениями, с отчаянием вопрошающий свой опыт, мучимый почти неутолимым желанием найти тот единственный путь, который позволит ему за четыре минуты на сцене воплотить всю судьбу и все свойства своего героя — словом, кусок жизни. Когда я опять взглянул на него, он решительным жестом снял шляпу, резко повернулся на каблуках и отошел к окну. Он смотрел на улицу невидящими глазами и только спустя некоторое время снова взглянул на шляпы, на этот раз небрежно, почти со скукой. Он глядел на них издалека, холодно, без всякого интереса. Затем, не посмотрев больше ни разу в окно, он ленивой походкой подошел к шляпам, взял одну из них и бросил на стол, чтобы ее завернули. Во время следующей репетиции он показал мне старую зубную щетку, которая высовывалась из верхнего кармана его куртки и должна была свидетельствовать о том, что Фильч и под арками моста не решается отступить от главнейших признаков цивилизации. Эта зубная щетка показала мне, что никакая шляпа, даже самая лучшая, не могла удовлетворить актера.
522 «Вот это, — подумал я радостно, — и есть актер нашего века, века науки».
1937
КАК СТАВИТЬ КЛАССИЧЕСКИЕ ПЬЕСЫ БЕЗ ВЫДАЮЩИХСЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
(В секцию театрального искусства Академии искусств)
Мы обсуждали сложную проблему: как удовлетворить потребность публики в классическом репертуаре без выдающихся исполнителей. Я высказал мнение, что наши театры могут ставить классические пьесы и силами более или менее средних актеров, если только:
не требовать от среднего актера подражания великим («взрыва» чувств и т. д., ибо для этого нужен уже не только сценический темперамент, но и подливная страсть);
следить за тем, чтобы актерское исполнение и художественное оформление спектакля находились в строгом соответствии, то есть чтобы актеру не нужно было «заполнять» своей игрой пышную декорацию или конкурировать с декорацией самобытной.
Тщательно изучив драматическое произведение, подбирать актеров к пьесе, а не пьесу к актерским амплуа.
Произнося текст, не впадать в пафос, а думать о ритме, заботиться не об эффектах, а о смысле и выразительном жесте. (Разумеется, каждая пьеса потребует особого режиссерского решения, чтобы отсутствие выдающихся исполнителей не слишком сказалось на всей постановке.)
Мне хотелось бы, кстати, обратить ваше внимание на ряд попыток «Берлинского ансамбля» решить проблему так называемых массовых сцен. В спектаклях «Процесс Жанны д’Арк» и «Кацграбен» массовые сцены идут без статистов. Эти (крошечные) роли были распределены между лучшими актерами, и каждая разрабатывалась особо. Количество действующих лиц в таких сценах предельно ограничено. «Берлинский ансамбль» заинтересован в обсуждении своих опытов. Они тоже относятся к попыткам интересной и художественно убедительной 523 постановки пьес — путем той точнейшей и тщательнейшей реалистической разработки деталей, которая необходима, когда не хватает актеров с яркой индивидуальностью.
ОБУЧЕНИЕ АКТЕРОВ
На современном этапе исканий, связанных с происходящей в специфически сложных условиях Германии перестройкой экономического базиса, всякое сектантство, всякие претензии на монополию, всякое стремление «разрешить» проблемы административным путем и так далее приносят искусству только вред и тормозят его развитие. Хранить чашу св. Грааля215 и спорить о праве на интерпретацию системы Станиславского бесплодно; чтобы покончить с этим и дать дорогу творческим поискам, соревнованию идей, дискуссиям и воспитанию в молодых актерах самостоятельности, нужно, я думаю, сделать следующее.
Профессиональное обучение актеров проходит сейчас в театральных училищах. Преподаватели выступают при этом как режиссеры. Без опыта и таланта в этой области ничего не добьется даже самый выдающийся педагог. Поэтому квалификацию преподавателей театрального училища нужно, проверять. Секция театрального искусства Академии искусств могла бы взять на себя такую проверку, привлекая по возможности к этой работе и других заинтересованных лиц. Но вообще преподавание этого главного предмета должно проходить под знаком соревнования в мастерстве (а не под чуждым искусству знаком экзамена).
Группы учащихся должны — по крайней мере иногда — играть одни и те же сцены, чтобы ученики почувствовали разницу в постановке и могли обсудить ее. (Теперь, как я слышал, каждая группа ставит другую сцену, а затем происходит своего рода экзамен, на котором синклит учителей выявляет бесталанных, причем учащиеся редко разделяют этот авторитетный приговор.) Кроме того, каждую группу, по крайней мере какое-то время, должен вести один педагог; это нужно хотя бы потому, что среди педагогов существуют различные направления, а учеников нельзя вечно тянуть в 524 разные стороны. «Господствующее» сейчас направление (оно господствует неограниченно, диктаторски, административно) дает, увы, результаты, которые вызывают у специалистов большие сомнения…
Предоставляя больше внутренней самостоятельности, следует заодно подумать и о том, чтобы сосредоточить школы в одном месте. А именно в Берлине, где театры лучше и где их больше, чем, скажем, в Лейпциге. Для воспитания актеров нужны образцы: молодежь должна видеть зрелых, больших мастеров и в спектаклях, и на репетициях. Вообще нужно привлекать к преподавательской работе лучших актеров. Кроме упражнений, этюдов и т. д. нужно обучать нашу смену творческому, живому актерскому мастерству.
Действительно, трудно понять, почему мы подчиняемся принципу отрыва школы от жизни — «То школа, а то жизнь» — и почему мы не привлекаем к столь важному делу — воспитанию нашей смены — такую силу, как секция театрального искусства Академии искусств, где сосредоточены лучшие актеры, режиссеры, руководители театров и критики!
Постскриптум. Часто бывает, что учеников отчисляют из школы после второго курса как неспособных. По-видимому, их еще даже не допустили к «святая святых»! Конечно, способности бывают различны, и они могут проявиться в полную силу лишь годы спустя, уже после окончания школы; кстати, большинство актеров так и остается на маленькой сцене. Ставить на ученике крест после двух дорогостоящих лет обучения — безумие.
ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЫХ АКТЕРОВ
«Берлинский ансамбль» не любит, когда молодые актеры отгораживаются монастырской стеной от жизни и от профессионального театра. «Ансамбль» принимает в свою труппу одаренную молодежь прямо после театральных училищ. Конечно, молодые актеры должны быть талантливы, а талант обнаружить не так-то легко. Нельзя искать актера на определенное амплуа, искать чудака или положительного героя, владеющего всеми приемами актерского штампа, настоящую Гретхен, прирожденного Мефистофеля, готовую Марту Швердлейн216. 525 Нужно отказаться от тех представлений о красоте и характерности, которыми руководствовались при подборе актеров в бывших придворных театрах и которые Голливуд (и УФА) пустили в серийное производство. Полотна великих художников дают нам совсем иные, куда более ценные образцы красоты и характерности. Молодые и не очень молодые актеры должны немедля включиться в кипучую жизнь театра и как можно скорее выступать перед зрителем. Тогда они увидят мастеров сцены на репетициях, за работой и смогут играть вместе с ними. И неотъемлемую часть воспитательной работы проделает публика.
НАБЛЮДЕНИЕ И ПОДРАЖАНИЕ
В наших театральных школах не уделяют достаточного внимания наблюдению и воспроизведению увиденного. Актерская молодежь склонна выражать себя, не используя впечатлений, которым она обязана самовыражением. Молодой актер довольствуется тем, что чувствует себя Гамлетом или Фердинандом217, но на сцене от этих образов почти ничего не остается, то есть остается только то, что «созвучно» актеру, что его «волнует», что «есть» в нем самом. А ведь в нем может быть лишь то, что вылепила из него жизнь, да и в дальнейшем он будет только таким, каким его сделает жизнь, хотя он, конечно, не просто аппарат, регистрирующий впечатления. Актеру недостаточно литературных впечатлений, он должен постоянно дополнять их, наблюдая реальных людей, живущих вокруг и вне его круга. В каком-то смысле для актера весь мир — театр, а он зритель в нем. Он непрестанно усваивает «чуждое» своей натуре, но оно остается достаточно чуждым ему, то есть чуждым в той мере, в какой это необходимо, чтобы сохранить индивидуальность.
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА АКТЕРСКОЙ ИГРЫ
1
Играя стариков, мерзавцев и правдолюбцев, не следует говорить измененным голосом.
526 2
Образ крупного плана нужно давать в развитии. Так, в пьесе «Мать» Павел Власов становится профессиональным революционером. Но вначале он еще не революционер, и, значит, не нужно его играть как революционера.
3
Нельзя изображать смелого человека так, будто ему вообще неведом страх, труса — словно он не может проявить когда-нибудь мужество, и так далее. Опасно приклеивать к образу ярлычок «героя» или «труса».
4
Быстрая речь не должна быть громкой; повышая голос, не нужно впадать в патетику.
5
Если актер хочет растрогать зрителя, он не должен быть просто растроган сам. Вообще правда всегда страдает, когда актер «играет на сочувствии» или на восхищении: и так далее.
6
Большинство персонажей, действующих на немецкой сцене, — это почти всегда не живые люди, а театральный штамп. Это театральный старик, шамкающий и трясущийся, увлекающийся или по-детски беззаботный юнец, кокотка с лживым голосом, виляющая бедрами, и театральный борец за правду, который шумит на всех перекрестках, и так далее.
7
Актеру необходимо общественное чутье. Но оно не заменяет знания социальных условий. А знание социальных условий не заменяет постоянного их изучения. Работая над каждым образом, над каждой драматической ситуацией, над каждой репликой, нужно изучать эти условия снова и снова.
527 8
Целых сто лет в актере ценили темперамент. Да, темперамент нужен, вернее, нужна полнота жизненных сил, но не для того, чтобы увлечь зрителя, а чтобы достичь яркости, которая необходима сценическим образам, ситуациям и репликам.
9
В посредственной драме подчас нужно «из ничего создать что-то». Но из хорошей пьесы не нужно выжимать больше, чем в ней есть. Неувлекательное незачем делать увлекательным, а то, что не волнует, — волнующим. В каждом произведении искусства — в этом смысле они как живой организм — есть свои подъемы и спады. Пусть так и будет.
10
О пафосе: если речь идет не об изображении патетического героя, нужно быть очень осторожным с пафосом. Недаром говорится: «не полезешь в гору — не скатишься под гору».
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ, С КОТОРЫМИ НУЖНО БОРОТЬСЯ АКТЕРУ
Стремиться к середине сцены.
Отделяться от группы и стоять особняком.
Приближаться к партнеру, с которым ведется диалог.
Непрерывно глядеть на партнера, с которым ведется диалог.
Не глядеть на партнера, с которым ведется диалог.
Двигаться только параллельно рампе.
Повышать голос при быстрых движениях.
Играть не одно за другим, а одно вследствие другого.
Сглаживать противоречия в характере героя.
Не вникать в замысел драматурга.
Подчинять собственный опыт и собственные наблюдения предполагаемому замыслу драматурга.
528 КОНТРОЛЬ НАД «СЦЕНИЧЕСКИМ ТЕМПЕРАМЕНТОМ» И БОРЬБА ЗА ЧИСТОТУ СЦЕНИЧЕСКОГО ЯЗЫКА
Чтобы овладеть искусством реалистической игры, ненеобходимо покончить с условностями, которые появились на нашей сцене. Существует так называемый сценический темперамент, который независимо от содержания пьесы привычно пускают в ход, как только поднимается занавес, и который представляет собой обычно уже бессознательное стремление актеров взволновать зрителя собственной взволнованностью. Он находит выражение в чрезмерно громком или искусственно приглушенном голосе, причем переживания актеров нередко заслоняют переживания героев пьесы. Живая человеческая речь становится большой редкостью, и возникает впечатление, что в жизни все происходит как на сцене, тогда как нужно, чтобы в театре все было как в жизни. Этот показной темперамент не может ни привлечь зрителя, ни заставить его переживать. Существует еще так называемая сценическая речь, ставшая для актеров пустой формальностью. Слишком подчеркнутая артикуляция речи не облегчает, а скорее затрудняет понимание. А ведь литературный немецкий язык имеет живое звучание только тогда, когда в нем слышны народные говоры. Язык актеров должен быть близок к жизни, актерам нужно, «развесив уши», слушать, как говорит народ. Только тогда можно будет читать стихотворный текст как стихи, а прозу произносить возвышенно и все-таки не искажать ситуации и характера героя. Пафос речи и поведения, подобающий Шиллеру и шекспировским спектаклям во вкусе шиллеровских времен, противопоказан авторам нашего времени да и самому Шиллеру теперь, так как пафос этот стал штампом. Художественная форма может быть только новаторской, ее должна постоянно питать постоянно меняющаяся живая жизнь.
ТРУДНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ПОСТУПКОВ
Когда актер изображает противоречивые поступки своих героев, он сталкивается с различными трудностями. Вот играют, например, честную женщину. В каком-то 529 месте я говорю: «Разумеется, она лжет». — «Что вы, она честная», — возражают мне. Или речь идет о безупречно смелом человеке. «Сейчас он очень взволнован», — замечаю я. — «Но ведь он смелый» — слышу я в ответ. Или актер изображает прогрессивную личность, а я говорю: «Он, кажется, скуповат». — «Как можно, ведь он прогрессивен», — не соглашается актер. Мне часто приходится слышать: «Я не могу так играть, это противоречит характеру моего героя». Исполнители нередко выносят поспешное суждение о своем герое, и это приводит их к предвзятости.
ТРУДНОСТЬ МАЛЕНЬКИХ РОЛЕЙ
Об одном молодом актере Б. сказал: «Он талантлив, но не владеет техникой. Маленькие роли ему еще не под силу». Этим Б. как бы подчеркнул сложность небольших ролей. В то же время он, несомненно, знал, что есть актеры на большие и актеры на малые роли. Он любил рассказывать о Нурми218 — финском бегуне на длинные дистанции, который из-за глупости и жадности своих антрепренеров однажды принял участие в беге на короткую дистанцию. Он не сумел ускорить свой равномерный, рассчитанный на дальние расстояния бег и, ко всеобщему удивлению, проиграл состязание.
СЦЕНИЧЕСКИЙ ЖЕСТ
Говоря о сценическом жесте, мы имеем в виду не пантомиму, ибо она является самостоятельной ветвью сценического искусства, так же, как драма, опера или балет. Пантомима выражает без слов все, даже слова. Мы же подразумеваем те жесты, которые приняты в обыденной жизни и разрабатываются актером на сцене.
Кроме того, существуют отдельные жесты, заменяющие определенные выражения; их традиционность делает их общепонятными — например (у нас) кивок головой в знак согласия. Есть еще описательные жесты — те, что поясняют, какова величина огурца или какой вираж сделала гоночная машина. И, наконец, многие жесты отражают человеческие чувства: презрение, нетерпение, нерешительность.
530 Итак, мы говорим о сценическом жесте. Под этим мы понимаем совокупность отдельных жестов и высказываний, лежащую в основе какого-то определенного события в кругу людей и связанную с поведением всех участников этого события (осуждение человека другими людьми, совещание, борьба и т. д.). Это может быть и совокупность жестов и высказываний, которая, проявляясь у отдельного человека, вызывает определенные события (нерешительность Гамлета, оппортунизм Галилея и т. д.) Это может быть и просто основа поведения человека (удовлетворенность или ожидание). Сценический жест раскрывает взаимоотношения людей; трудовые движения — это еще не сценические жесты, если в них не отражаются общественные отношения, — например эксплуатация или сотрудничество.
ПОКАЗЫВАТЬ — ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ БЫТЬ
Вначале я не без тревоги следил за репетиционной работой Раймунда Шельхера — одного из крупнейших артистов Германии, — он только два года работает в «Берлинском ансамбле». В «Меловом круге» он играет солдата, который обручен с батрачкой. Актер яркого темперамента и большой души, он, как никто другой, мог бы «сразить наповал» любых зрителей, а тут ему пришлось отказаться от своего искусства «захватывать» и только показать немного неуклюжего парня, который должен в несколько минут сделать предложение девушке, на которой сможет жениться через два-три года. Но как трудно далось актеру это «только». Этому прекрасному артисту, конечно, ничего не стоило сыграть робкого человека. Но он должен был теперь робеть и как исполнитель, претендуя на сдержанность, критикуя симпатичного парня и вызывая критическое отношение к нему у зрителей. В конце концов он создал замечательный образ. Правда, когда я стою за кулисами и смотрю на него, я каждый раз вижу, как трудно ему дается сдержанность, которая так много дает зрителям.
531 ОРГАНИЗАЦИЯ СЦЕНЫ
ДОСТАТОЧНО САМОГО НЕОБХОДИМОГО
В местах, где работают, часто висит табличка: «Посторонним вход воспрещен». Такую табличку должны были бы повесить и театральные художники над своей игровой площадкой. Все, что стоит на сцене, должно играть, а тому, что не играет, нет места на сцене. Большинство театральных художников характеризуют жилье мелких буржуа с помощью канареек или безделушек. Они переносят на сцену эти характерные признаки совершенно механически. Так же механически их можно убрать. Наличие этих признаков само по себе еще ни о чем не говорит. По ним трудно составить ясное представление о классовых различиях. Только после сопоставления скаковых конюшен крупных буржуа с канареечными клетками мелких буржуа и статуй в вестибюлях у одних с безделушками на полочках у других, когда характерным признаком становится сама мизерность собственности мелкого буржуа, можно создать общую характеристику частной собственности и поставить вопрос, насколько она стала противоестественной в наше время. Однако в сатирических произведениях какие-нибудь безделушки и канарейки в каюте пиратского судна помогли бы раскрыть мелкобуржуазную природу этих мелких пиратов.
НЕ СКРЫВАТЬ ИСТОЧНИКИ СВЕТА
Открыто показать осветительные приборы важно потому, что наряду с другими средствами это может рассеять ненужные иллюзии. Едва ли при этом рассеется нужное внимание. Если осветить актеров и сцену так, чтобы осветительные приспособления оказались на глазах 532 у зрителя, его иллюзия, будто он присутствует при происходящем в данный момент, спонтанном, незаученном, подлинном действии, будет несколько нарушена. Зритель наблюдает подготовку к действию, затем он видит, как действие повторяется в особых условиях, — например, при очень ярком свете. Пусть показ источников света опрокинет старую театральную традицию их маскировки. Вряд ли кто-нибудь считает, что во время спортивного состязания, скажем, по боксу, нужно прятать лампы. Как ни отличается современное театральное представление от спортивных состязаний, различие это отнюдь не в том, что источники света должны быть, как то принято в старом театре, скрыты от зрителя.
РЕПЕТИЦИЯ И СЦЕНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Незавершенность сценического оформления можно во многом возместить игрой актера, но актера сценическое оформление не освобождает ни от чего. Общественное назначение отдельных сцен определяется в ходе работы, и, следовательно, художник-оформитель обязан в ней участвовать.
Хорошо также, если он экспериментирует наравне с актером и пробует несколько вариантов. И плохо, если только к концу, когда оформление готово, он задумывается над освещением. Утверждения, что он-де по опыту знает эффекты света, — пустые разговоры: опыт этот он собирает таким образом, что в дело его пустить нельзя, ибо он может реализовать свой опыт лишь в следующей пьесе, если в этой ошибся. К тому же свет — не краска, которую накладывают вторым слоем на первый. Создавая спектакль, нужно работать с вещами, людьми и светом одновременно.
ОСНОВНЫЕ МИЗАНСЦЕНЫ
Многие актеры считают, что чем чаще они меняют положение, тем интереснее и правдивей делается мизансцена. Они без конца топчутся на сцене, присаживаются, снова встают и т. д. В жизни люди не так уж много двигаются, они подолгу стоят или сидят на одном месте 533 и не меняют положения до тех пор, пока не изменится ситуация. В театре актеру надлежит не чаще, а даже реже, чем в жизни, менять положение. Здесь все должно быть особенно продуманно и логично, так как в сценическом воплощении явления должны быть очищены от случайного, мало значащего. Иначе произойдет настоящая инфляция всяких движений и все потеряет свое значение. Актеру необходимо побороть в себе нервозность, которую он сам склонен нередко считать темпераментом, и удержаться от естественного стремления быть в центре сцены, чтобы привлечь своими движениями внимание зрителей, когда его герой по ходу действия остается в тени.
О СОВОКУПНОСТИ ДЕЙСТВИИ
Под выражением совокупность действий следует понимать комплекс жестов, мимики и, как правило, слов, которые один или несколько человек обращают к одному или нескольким людям.
Человек, продающий рыбу, показывает, среди другого, и совокупность действий, характеризующую продавца. Человек, пишущий завещание, женщина, завлекающая мужчину, полицейский, избивающий человека, человек, увольняющий десятерых других людей, — во всем этом заключена совокупность социальных действий. Человек, обращающийся к своему богу, при таком определении обнаруживает эту совокупность действий только тогда, когда обращается к нему в расчете на других, или в обстановке, где проявляются отношения между людьми (молящийся король в «Гамлете»).
Совокупность действий может быть выражена и просто словами (например, в радиопередачах); в подобных случаях в эти слова уже вошли определенные жесты и определенная мимика, и их легко уловить (униженный поклон, похлопыванье по плечу).
Точно так же жесты и мимика (например, в немых фильмах) или одни жесты (в игре теней) могут заключать в себе слова.
Слова могут заменяться другими словами, жесты — другими жестами без изменения совокупности действий.
534 ЯРКОЕ РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Для некоторых пьес — к ним относится и «Господин Пунтила и его слуга Матти» — желательно яркое и равномерное освещение сцены. Это освещение не дает зрителям забыть, что перед ними театр, а не подлинная жизнь, даже в том случае, когда актеры играют естественно и правдиво, как, собственно, и должно быть. Иллюзия, будто на сцене происходят реальные события, полезна для пьес, где публика может просто сопереживать действие, не очень-то задумываясь, то есть где задумываться ей нужно только о том, о чем задумываются герои на сцене. Пьесы, доставляющие зрителю радость раскрытием общественных связей во всем, что делают герои на сцене, выигрывают от яркого равномерного света. При этом освещении зритель не впадает в мечтательность, как в полумраке, не теряет трезвости взгляда, а остается начеку. Художнику, когда он заботится о красках и цветовых контрастах, необязательно прибегать к подкрашенному свету. Яркое и равномерное освещение помогает актерам в комедии: при ярком свете комическое лучше доходит до зрителя — это известно каждому комику. В серьезных пьесах отсутствие полумрака, создающего настроение, «атмосферу», заставляет актеров играть особенно мастерски. Но почему бы их и не заставить хорошо играть? Актеры шекспировского театра «Глобус» играли всегда при трезвом свете лондонского дня.
ПОКАЗ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ИЗБЕЖАТЬ ПОЛНОЙ ИЛЛЮЗИИ
1
Для многих театральных художников цель всех честолюбивых устремлений — заставить зрителя, когда тот смотрит на сцену, поверить, будто он присутствует на подлинном месте подлинных событий. Но художникам следовало бы добиваться того, чтобы зрителю казалось, что он находится в хорошем театре. Больше того, хорошо было бы, если бы зрителю и на подлинном месте 535 подлинных событий казалось, что он в театре. Ибо театр должен научить зрителей совершенно особому, внимательному, оценивающему отношению к происходящим событиям, привить им способность быстро обнаруживать смысл этих событий и уже в соответствии с ним распределять людей по тем или иным группам.
2
В театре большое место отводится подражанию. Театральным художникам, как и артистам, нужно знать, что подражание немыслимо без фантазии, в нем должен присутствовать элемент видоизменения. В свободе же в свою очередь должен быть элемент необходимости.
3
Театр имеет свои собственные правила игры, которые в любое время могут быть дополнены либо пересмотрены, если видеть в них лишь правила игры. — У китайцев, например, символом бедности являются шелковые полосы на их шелковой одежде, которые обозначают, что в этом месте платье разорвано или положена заплата. Театр добивается серьезности своим собственным путем. Самый элемент игры лишен, конечно, в театре какой бы то ни было несерьезности и должен постоянно ощущаться. Так, например, декорация, призванная передать крайнюю нужду или опаснейшую ситуацию, может быть выполнена в легких и даже веселых тонах. Это вполне отвечает театральному приему китайского театра, где старых людей принято изображать главным образом немощными, еле-еле передвигающими ноги, но показано это должно быть ярко и выразительно. Безобразность места действия не передается безобразностью декорации. Так, в пьесе «Ваал», изображающей крушение человека, который только наслаждается и в конце концов полностью утрачивает способность наслаждаться жизнью, великий художник сцены Каспар Неер с помощью демонстративной небрежности (полоса, прочерченная тушью на простом холсте, изображает в конце пьесы лес) заставляет нас догадываться об ослабевающем интересе окружающего мира 536 к этому типу. Здесь сам театр обнаружил этот ослабевающий интерес — правда, в яркой, артистической форме. Таким образом, и декоратор располагает ярким и поучительным сценическим жестом.
К ГАСТРОЛЯМ В ЛОНДОНЕ
Гастролируя в Лондоне, мы должны учитывать две вещи. Во-первых, большинству зрителей мы показываем лишь пантомиму, своего рода немой фильм на сцене, ибо они не понимают по-немецки (в Париже у нас была фестивальная, международная публика, и выступали мы лишь несколько дней). Во-вторых, в Англии распространено старое опасение, будто немецкое искусство (литература, живопись, музыка) страшно тяжеловесно, медлительно, обстоятельно и «пешеходно».
Поэтому мы должны играть быстро, легко и энергично. Не нужно суетиться, но надо спешить, нужно не только быстро играть, но в еще большей мере быстро думать. Мы должны соблюдать темп прогонных репетиций, придав им, однако, силу и извлекая из них удовольствие. Нельзя подавать реплики, словно колеблясь при этом, как предлагают кому-нибудь свою последнюю пару туфель, — их следует швырять как мячики. Пусть все видят, что многочисленные артисты, объединенные в коллектив (ансамбль), дружно работают над тем, чтобы донести до публики истории, идеи, приемы.
Желаю вам успешной работы!
3 августа 1956 г.
537 КОММЕНТАРИИ
1 539 Статья опубликована в газете «Berliner Börsen-Courier» от 6 февраля 1926 г.
2 Нелепость (англ.).
3 Газета «Vossische Zeitung» в начале 1926 г. задала немецким деятелям культуры вопрос: «Умирает ли драма?» 4 апреля 1926 г. газета опубликовала ответы ряда драматургов, поэтов и актеров, в том числе и Брехта, предпослав им следующее вступление: «Все чаще раздаются голоса людей, предсказывающих или даже констатирующих гибель театра — такого, каким он является в настоящее время. Мысль о том, что наша эпоха неспособна создать трагедию, не нова. Новым является утверждение, будто бы собственно драма изжила себя как форма искусства. Любители произносить скороспелые надгробные речи хоронят драму и провозглашают ее наследниками кино, радио, оперетту, ревю, бокс. Полагая, что эта проблема представляет жизненную важность для немецкой культуры, мы обратились к ряду специалистов с вопросом о том, думают ли они тоже, что драма обречена на гибель…»
4 Трагедия немецкого драматурга Фридриха Геббеля (1813 – 1863).
5 Шедевр французской готической архитектуры (XIII – XIV вв.), который во время первой мировой войны был варварски обстрелян немецкой дальнобойной артиллерией.
6 См. прим. к стр. 290 1-го полутома.
7 Латинский родительный падеж принадлежности, обозначающий лицо, которому принадлежит что-либо.
8 540 Отрывок первый был опубликован в еженедельнике «Die Szene» (VI, 1926) вместе с заметками писателей Эрнста Толлера, И. Р. Бехера и других под общим заголовком «Движение “Народного театра” и молодое поколение».
9 Нестрипке Зигфрид и Hефт Генрих — руководители буржуазного «Народного театра», с которым в 20-е годы боролись Брехт и его соратники.
10 Э. Пискатор в 1926 г. поставил на сцене «Народного театра» две пьесы — «Прилив» А. Паке и «Пьяный корабль» П. Цеха.
11 Ответ на анкету, опубликованный в «Berliner Börsen-Courier» от 25 декабря 1926 г. Анкета, предложенная газетой «ведущим деятелям театра и литературы», содержала следующие вопросы: «В какой мере вы считаете возможной постановку пьес классического репертуара в современном театре? На какой основе могут быть изменены старые произведения? С какого момента начинается произвол? Какую роль играет изменение социального состава публики при осуществлении или перестройке репертуара?»
12 Драма Шиллера, была поставлена Э. Пискатором в 1926 г. (премьера — 11 ноября) в берлинском «Штатстеатер». В этом спектакле режиссер перестроил пьесу, сделав ее центральным героем вместо Карла Моора разбойника Шпигельберга, выступающего в качестве последовательного мятежника.
13 То есть время, истекшее со дня первой постановки «Разбойников» на немецкой сцене (1782).
14 Опубликовано в берлинской газете «Der neue Weg» от 16 мая 1927 г. в качестве ответа на анкету газеты о роли режиссера в современном театре.
15 В газете «Berliner Börsen-Gourier» от 12 мая 1927 г. появилась статья некоего «господина Икс» под заголовком: «Гибель драмы. Письмо драматургу». Ею была начата «Полемическая переписка о современной драме». В газете от 2 июня появилось возражение Брехта «Не ликвидировать ли нам эстетику?» и ответ г-на Икс, который оказался социологом Фрицем Штернбергом. (См. прим. к 1-му полутому).
16 Ответ на вопрос журнала «Theater», где он и был напечатан в январском номере 1928 г. Вместе с заметкой Брехта напечатаны заметки других драматургов: А. Броннена — «Человек за письменным столом», К. Цукмайера — «Человек в кресле партера» и др.
17 541 Немецкий редактор напечатал этот текст, относящийся к 1928 г., по рукописи Брехта, которая содержит не только запись беседы на кельнском радио, но и цитаты из сочинений собеседников Брехта, явно добавленные автором позднее.
18 Хардт Эрнст (1876 – 1927) — поэт неоромантического направления, драматург, переводчик.
19 Йеринг Герберт (р. 1888) — немецкий театральный критик и историк театра, в то время — рецензент «Berliner Börsen-Courier», поддерживавший Пискатора и Брехта.
20 Обычный в баварских горах вид народного суда, при котором обвиняемый первоначально закутывался в козлиную шкуру. Таким сравнением Брехт хочет сказать как о подчинении всех этапов драмы последнему, так и о «варварском» характере такой драмы.
21 Имеется в виду легкое развлекательное буржуазное драмодельство.
22 Газенклевер Вальтер (1890 – 1940) — немецкий поэт и драматург-экспрессионист. Пьеса «Браки заключаются на небесах» поставлена на камерной сцене Немецкого театра (Берлин) в 1928 г.
23 Пьеса (1926) А. Броннена (см. прим. к стр. 218 1-го полутома), в которой сделана попытка вывести одного-единственного персонажа («Ein-Mann-Stück»).
24 Флейсер Марилуиза — немецкая писательница, драматург, автор пьесы «Пионеры Ингольштадта», поставленной в 1927 г. в театре на Шиффбауэрдамме, и других («Ингольштадтские драмы»).
25 Кайзер Георг (1878 – 1945) — немецкий драматург-экспрессионист, автор ряда пацифистских и антиимпериалистических пьес; написал более 60 пьес ярко экспериментального характера. «С утра до полуночи» — драма 1916 г.
26 Лампель Петер-Мартин (р. 1894) — немецкий драматург. Его пьеса «Бунт в воспитательном доме» (1928) вызвала большую дискуссию по вопросам воспитания.
27 Ответ на анкету эссенского журнала «Scheinwerfer», опубликованный в ноябре 1928 г. в ряду ответов других деятелей культуры.
28 Видимо, эта статья, оставшаяся в рукописи, относится к 1932 году.
29 Mоэм Сомерсет (р. 1874) — английский романист и драматург, снискавший известность комедиями «Леди Фредерик» (1907), «Человек чести» (1904), «Каролина» (1916), «Круг» (1921), «Письмо» (1927) и др. Собрание пьес Моэма в шести томах вышло в свет в 1931 – 1932 годах.
30 Сулла Луций Корнелий (138 – 78 до н. э.) стал в 82 г. до н. э. бессрочным диктатором, а в 79 г. до н. э. сложил свои полномочия.
31 542 В 1613 г., в расцвете сил, сорока восьми лет, Шекспир, по неведомым его биографам причинам, оставил театр. (См.: А. Аникст, Шекспир, М., «Молодая гвардия», ЖЗЛ, 1964, стр. 303 сл.).
32 Ответ на анкету газеты «Berliner Börsen-Courier»; вопрос гласил: «Чего, по Вашему мнению, ждет от Вас Ваш зритель?» Опубликовано 25 декабря 1926 г. вместе с ответами многих театральных деятелей (Л. Йесснер, А. Броннен, Г. Кайзер, Э. Толлер, К. Цукмайер, К. Штернгейм, М. Флейсер и другие).
33 Имеется в виду пьеса Брехта «В чаще городов» (1921 – 1924).
34 Написано Брехтом после спектакля «Прилив» А. Паке на сцене «Фольксбюне» 21 февраля 1926 г.
35 «Кориолан» Шекспира был поставлен режиссером Эрихом Энгелем в берлинском «Лессинг-театр» 27 февраля 1925 г.; главную роль исполнял Фриц Кортнер.
36 Первая пьеса Брехта, написанная в 1918 г.
37 Буррис Эмиль — драматург, соратник Брехта, автор пьес «Американская молодежь» (1925), «Скудная трапеза» (1926). См. о нем две заметки Брехта: «Плодотворные препятствия» и «Объективный театр» (В. Brecht, Schriften zum Theater, B. I, S. 169 – 172).
38 Опубликовано в литературном приложении газеты «Frankfurter Zeitung» от 27 ноября 1927 г.
39 Имеется в виду Мюнхенский художественный театр (1907 – 1908), зрительный зал которого был расположен амфитеатром, а сцена длиной в 10 метров, лишенная глубины, ограничивалась с боковых сторон башнями; на фоне задней стены выделялись силуэты актеров. Этот театр с успехом ставил «Двенадцатую ночь» Шекспира.
40 543 Опубликовано в газете «Berliner Börsen-Courier» от 11 февраля 1929 г. «Эдип» был поставлен Леопольдом Йесснером в берлинском «Штатстеатер» 4 января 1929 г. Соединение «Царя Эдипа» и «Эдипа в Колоне» в одну пьесу (автор Гейнц Липман). Главную роль исполнял Фриц Кортнер.
41 Опубликовано в газете «Berliner Börsen-Courier» от 31 марта 1929 г. вместе с заметками ряда других театральных деятелей под общим заголовком «Завтрашний театр». Редакция поставила следующие вопросы: «Какие новые тематические области могут оплодотворить театр? Требуют ли эти темы новой драматической формы или новой техники игры?»
42 Эти наброски, оставшиеся неопубликованными, относятся к 1930 г.
43 Дейтон — город в США, в штате Огайо; здесь имел место суд над школьным учителем, пропагандировавшим учение Дарвина.
44 Написано в связи с гастролями театра имени Мейерхольда в 1930 г.; в Берлине игрались спектакли «ревизор» Гоголя, «Рычи, Китай!» С. Третьякова и «Лес» Островского.
45 Предводитель гуннов (434 – 453), известный своей свирепостью.
46 Отдельные наброски 1929 – 1930 гг., оставшиеся неопубликованными и извлеченные из архива Брехта.
47 Керр Альфред (1867 – 1948) — немецкий театральный критик, постоянный идейно-художественный противник Брехта.
48 Брехт имеет в виду роман Альфреда Деблина (1878 – 1957) «Три прыжка Ван Луня» (1915), под влиянием которого он написал свою раннюю комедию «Что тот солдат, что этот» (1924 – 1926).
49 Имеется в виду стихотворение Шиллера «Саисское изваяние под покровом» (1796), где утверждается кантианское положение о непознаваемости «вещи в себе»: любознательный юноша сорвал со статуи покров, скрывавший Истину, и навеки онемел.
50 Статья написана в 1936 г., впервые опубликована в 1957 г. в сб. «Schriften zum Theater». На русском языке печаталась в кн.: Б. Брехт, О театре, М., ИЛ, 1960.
51 Жуве Луи (1887 – 1935) — французский режиссер, руководитель театра «Атеней». Жуве был театральным новатором, искавшим новые пути режиссуры.
52 544 Кочран — английский режиссер и актер.
53 Еврейский театр, в котором Е. Б. Вахтангов в 1921 г. поставил спектакль «Гадибук» («Бесноватая»), имевший большой резонанс в Европе.
54 См.: Аристотель, Искусство поэзии, М., Гослитиздат, 1967, стр. 53.
55 Теория психологии, созданная австрийским ученым З. Фрейдом, согласно которой духовная жизнь человека объясняется подсознанием и главным образом половым инстинктом.
56 Направление в новейшей американской психологии, рассматривающее поведение человека как совокупность реакций на внешние воздействия.
57 Брехт имеет в виду учение Шиллера о театре как школе нравственности, выдвинутое им в ряде эстетических статей и трактатов: «Театр, рассматриваемый как нравственное учреждение», «О трагическом искусстве», «О патетическом», в «Письмах об эстетическом воспитании человека».
58 Ницше, который питал к Шиллеру неприязнь, иронически называл его так, используя заглавие известного лиро-эпического рассказа в стихах Иозефа Виктора Шеффеля «Зекингенский трубач» (1854).
59 Эта статья была опубликована по-английски в «Left Review», Лондон, июль 1936 г.
60 Антибуржуазная пьеса французского писателя Октава Мирбо (1903).
61 Нашумевшая модернистская пьеса немецкого писателя Клабунда (1924), обработка старинной восточной драмы.
62 Натуралистическая драма шведского писателя Августа Стриндберга (1888).
63 «Бравый солдат Швейк» был поставлен Пискатором в берлинском театре на Ноллендорфплац (премьера 23 января 1928 г.) по роману Гашека, обработанному для сцены Брехтом.
64 Сатирическая пьеса Вальтера Меринга (р. 1896), поставленная Пискатором в театре на Ноллендорфплац (премьера 6 сентября 1928 г.).
65 Гросс Георг (1893 – 1959) — немецкий график, сотрудничавший в 1928 – 1929 гг. с Пискатором, в театре которого оформил «Похождения бравого солдата Швейка». См. о нем в кн. Э. Пискатора «Политический театр», М., 1934.
66 Учебная пьеса Брехта (1929), позднее переименованная в «Полет над океаном».
67 Хиндемит Пауль (р. 1895) — немецкий композитор, один из лидеров музыкального модернизма.
68 545 Наброски, оставшиеся неопубликованными. В рукописи Брехта приведенный заголовок относится только к первому отрывку.
69 Доклад, прочитанный 4 мая 1939 г. участникам Студенческого театра в Стокгольме. Для повторного чтения доклада перед ансамблем Студенческого театра в Хельсинки в ноябре 1940 г. Брехт переработал текст. Впервые опубликован в «Studien», № 12, приложение к журналу «Theater der Zeit», 1959, № 4.
70 Антуан Андре (1858 – 1943) — французский режиссер, теоретик и новатор театра.
71 Брам Отто (1856 – 1912) — немецкий театральный деятель, основоположник немецкого сценического натурализма, последователь Антуана.
72 Крэг Гордон (р. 1872) — английский режиссер, художник и теоретик театра, сторонник единовластия режиссера в театре, видевший в актере лишь «сверхмарионетку».
73 Рейнгардт Макс (1873 – 1943) — немецкий режиссер, неутомимый экспериментатор, новаторски использовавший все компоненты современного спектакля (музыка, свет, танец, живопись).
74 Рейнгардт осуществлял постановку на цирковых аренах и т. п. в форме массовых народных зрелищ. «Сон в летнюю ночь» был поставлен в 1905 г. — этот спектакль пользовался особым успехом.
75 «Каждый человек» (или «Всякий») — драма австрийского драматурга Гуго фон Гофмансталя (1874 – 1924) «Каждый человек, игра о смерти богача» (1911); представляет собой обработку средневековой мистерии.
76 Тренделенбург Фридрих (1844 – 1924) — хирург, создатель новых методов операций на легких и сердце.
77 Григ Нурдаль (1902 – 1943) — норвежский драматург, автор эпической драмы «Наша честь, наше могущество» (1935), привлекавшей Брехта изображением народной массы, и «Поражения» (1937), драмы, которую Брехт переделал в свою пьесу «Дни Коммуны».
78 Лагерквист Пер (р. 1891) — шведский писатель, последователь драматургии А. Стриндберга, позднее создавший произведения высокого философского и общественного значения.
79 Оден Уистан Хью (р. 1907) — английский писатель и поэт.
80 Абелль Кьель (1901 – 1961) — датский драматург. См. прим. к стр. 181 1-го полутома.
81 Нильс Бор (1885 – 1964) — датский физик, с 1920 г. возглавлявший институт теоретической физики. Под впечатлением упоминаемого в тексте сообщения Брехт написал пьесу «Жизнь Галилея» (см. об этом т. 2 наст. изд., стр. 437).
82 В своей «Поэтике» Аристотель все виды поэзии вслед за Платоном называет подражательными искусствами 546 или подражанием. Термин «мимезис» (μιμησις) означает «подражание».
83 Имеется в виду «Курс лекций по эстетике», читанных Гегелем в 1817 – 1819 гг. в Гейдельберге и в 1820 – 1821 гг. в Берлине. Приводимая Брехтом мысль — во «Введении» (см.: Гегель, Собрание сочинений, М., 1938, т. XII).
84 Нидерландский живописец Питер Брейгель Старший, прозванный Мужицким (1525 – 1569).
85 Статья написана в 1940 году, опубликована в «Versuche», № 11, Берлин, 1951. На русском языке — в кн.: Б. Брехт, О театре, М., ИЛ, 1960.
86 Пьеса Б. Брехта и Л. Фейхтвангера (1923), переделка драмы Кристофера Марло, английского драматурга эпохи Возрождения, предшественника Шекспира.
87 Пьеса Марилуизы Флейсер.
88 Книга И. Рапопорта «Работа актера» («The Work of the Actor») произвела на Брехта большое впечатление и неоднократно обсуждалась им. См. специальную заметку в «Schriften zum Theater», B. III, Suhrkamp Verlag, 1963, S. 212 – 213.
89 При жизни Брехта эти заметки не публиковались.
90 При жизни Брехта не публиковалось. Разделы «Историзация» и «Неповторимость образа» включены в данный цикл заметок составителем немецкого издания В. Хехтом.
91 То есть одноактную пьесу Брехта «Винтовки Тересы Каррар».
92 Елена Вайгель.
93 Эта и следующие заметки написаны преимущественно в 1951 – 1953 гг. Часть из них создана до и после конференции, организованной Немецкой Академией искусств в Берлине на тему: «Как мы можем усвоить Станиславского?» Другие возникли летом 1953 г. в связи с чтением рукописного перевода книги Н. Горчакова «Режиссерские уроки К. С. Станиславского», 2-е изд., М., «Искусство», 1951, написанной известным советским режиссером на основе репетиций и бесед со Станиславским.
94 547 Написано Брехтом в связи с постановкой пьесы Э. Штриттматтера «Кацграбен» (1953) — см. прим. к стр. 479 [В электронной версии — 203].
95 Пьеса, написанная Б. Брехтом в сотрудничестве с Бенно Бессоном по одноименной радиопьесе Анны Зегерс (1952).
96 Персонаж этой пьесы.
97 Часть вместо целого (лат.).
98 Относится к заметкам, написанным в связи с постановкой «Кацграбена».
99 Актриса «Берлинского ансамбля».
100 Отрывок из большой работы, оставшейся незавершенной.
101 Пьеса В. П. Ставского (1931), поставленная Н. П. Охлопковым в московском Реалистическом театре.
102 Кнутсон Пер — датский режиссер, поставивший в копенгагенском театре «Ридерсален» пьесу Брехта «Круглоголовые и остроголовые» (премьера — 4 ноября 1936). См. наст. изд., т. II, стр. 430.
103 Ганнибал у ворот (лат.). Слова Цицерона, означающие грозящую большую опасность.
104 Гилд-Тиэтр — американский драматический театр, созданный в 1919 году; здесь существующей в Америке системе «звезд» противопоставлялся крепкий актерский ансамбль. См. «Театральная энциклопедия», т. I, стлб. 1169 – 1170.
105 Статья написана в 1935 г. Впервые опубликована в кн.: «Schriften zurn Theater», 1957. В русском переводе — Б. Брехт, О театре.
106 То есть пьеса Брехта «Ваал» (1918).
107 548 Снимай, раздевайся (англ.).
108 Пьеса американского писателя Юджина О’Нила (1888 – 1953).
109 Основная теоретическая работа Брехта, написанная в 1948 г. Впервые опубликована в 1949 г. в специальном, посвященном Брехту выпуске журнала «Sinn und Form», затем в «Versuche», № 12 В аннотации автор написал: «Здесь дается анализ театра века науки».
Слово «органон» (означающее по-гречески в прямом смысле «орудие», «инструмент») у последователей Аристотеля означает логику как орудие научного познания. Словом «Органон» обозначено собрание трактатов по логике Аристотеля. Английский философ-материалист Фрэнсис Бэкон (1561 – 1626), желая противопоставить логике Аристотеля свою индуктивную логику (то есть основанную на умозаключениях от частных фактов к общим выводам), полемически назвал свой труд «Новый органон». Б. Брехт называет свой основной теоретический трактат «Малый органон», продолжая борьбу за новый, «неаристотелевский» театр. Таким образом, уже в самом названии заключена полемика против традиционной драматургии и театра.
110 Оппенгеймер Роберт (р. 1904) — американский физик; во время войны, с 1943 года, руководил одной из основных американских ядерных лабораторий. Впоследствии подвергся суду за антиамериканскую деятельность.
111 Лафтон — см. 1-й полутом, стр. 516.
112 Пьеса Фридриха Вольфа, поставленная Пискатором в «Вальнертеатер» (премьера 15 мая 1931 г.).
113 Добавления написаны Брехтом в 1952 – 1954 гг. с использованием опыта работы в «Берлинском ансамбле».
114 Согласно повериям древних римлян, сова — священная птица, сопровождающая богиню мудрости Минерву.
115 Разрозненные заметки, объединенные под таким заголовком составителем немецкого издания В. Хехтом.
116 Эта беседа Брехта с его сотрудниками по театру «Берлинский 549 ансамбль» имела место в 1953 г. Трагедия Шекспира «Кориолан» была переведена и обработана Брехтом в 1952 – 1953 гг.
117 Отечество (лат.).
118 Пьеса Н. А. Островского «Воспитанница» была поставлена в «Берлинском ансамбле» в режиссуре Ангелики Хурвиц (премьера 12 декабря 1955 г.).
119 Пьеса «Винтовки Тересы Каррар» была поставлена в «Берлинском ансамбле» Эгоном Монком под художественным руководством Брехта (премьера 16 ноября 1962 г.).
120 «Зимняя битва», трагедия И. Р. Бехера, была поставлена в «Берлинском ансамбле» Б. Брехтом и Манфредом Веквертом (премьера 12 января 1955 г.). Роль младшего Гердера исполнял Эккехард Шалль.
121 Арндт Эрнст Мориц (1769 – 1860) — немецкий писатель, публицист периода освободительных войн против Наполеона.
122 Альбом, составленный Брехтом во время войны, представляющий собой фотографии со стихотворными подписями, сочиненными Брехтом.
123 В греческой легенде супруга царя Фив Амфиона, дети которой были убиты богами; от горя Ниоба превратилась в скалу. Ниоба — олицетворение страдания.
124 Пьеса китайских драматургов Ло Дина, Чань Фана и Чу Джин-нана «Просо для Восьмой армии» в обработке Элизабет Гауптман и Манфреда Векверта была поставлена в «Берлинском ансамбле» М. Веквертом (премьера 1 апреля 1954 г.).
125 Готшед Иоганн Кристоф (1700 – 1766) — немецкий писатель эпохи раннего Просвещения. Его «Опыт критической поэтики для немцев» опубликован в 1730 г.
126 Брехт ошибается: Пол был не римским актером, он был афинянином эпохи Перикла.
127 Эта «беседа в литературной части театра» имела место в 1955 г. после премьеры «Зимней битвы» И. Р. Бехера. Опубликовано впервые в «Sinn und Form», 1957, № 1 – 3. Русский перевод (частичный) в кн.: Б. Брехт, О театре.
128 Рилла Пауль (р. 1896) — немецкий критик, теоретик и историк литературы, автор книги «Литература, критика и полемика», Берлин, 1950.
129 Роза Берндт — героиня одноименной трагедии Г. Гауптмана (1903).
130 Эрпенбек Фриц (р. 1897) — немецкий писатель и театральный критик.
131 550 Букв. новость (фр.). «Théâtres des Nouveautés» — так назывались многие парижские театры, из которых наиболее известен театр, основанный Брассером-старшим на итальянском бульваре в 1878 г., где игрались водевили, оперетты и комедии-буфф.
132 Диалоги, составляющие эстетическую программу Брехта и объединенные автором в книгу под общим названием «Покупка меди», написаны преимущественно в 1939 – 1940 гг. как своеобразное подражание «Диалогам» Галилея — так писал сам Брехт в дневнике. Он не завершил своей книги, многие диалоги сохранились в виде фрагментов, да и общий план сочинения окончательно не установлен. В книге «Theaterarbeit» (Дрезден, 1952) Брехт определил «Покупку меди» как «Разговор вчетвером о новом способе играть на театре». По замыслу автора, книга должна была делиться на четыре «Ночи». О содержании первой из этих частей Брехт писал в дневнике (17 октября 1940 г.):
«Содержание первой Ночи “Покупки меди”».
1. Линия опытов, имеющих целью достичь более полного отображения человеческого общества, идет от английской комедии Реставрации через Бомарше к Ленцу. Натурализм (Гонкуров, Золя, Чехова, Толстого, Ибсена, Стриндберга, Гауптмана, Шоу) свидетельствует о влиянии европейского рабочего движения на сцену. Комедия превращается в трагедию (потому что point of view [точка зрения (англ.).] не меняется в соответствии с изменением классовых отношений). Все больше обнаруживаются помехи, чинимые театру аристотелевской драматургией: отображение общества становится недейственным.
2. Действие должно содержать «события, вызывающие страх и сострадание» («Поэтика» Аристотеля, IX, 9). Необходимость вызывать такие или сходные коллективные эмоции затрудняет создание действенных отображений. По меньшей мере становится ясно, что для вызывания этих эмоций действенные отображения человеческого общества не необходимы. Отображения должны быть правдоподобны. Однако вся театральная техника — техника внушения и иллюзии — делает невозможной критическую позицию публики по отношению к отображаемым событиям. Большие проблемы могут быть поставлены на сцене лишь при том условии, что в центре их окажутся те или иные частные конфликты. Это сковывает зрителя, между тем как его следует освободить.
3. Значительные теоретические трудности возникают из понимания того, что действенность отображения аристотелевской драматургии (драматургии, ориентированной на катарсис) ограничена их функцией (вызывать определенные эмоции) и необходимой для этого техникой (внушение) и что зритель поставлен в такую позицию (перевоплощение), когда он не может достаточно критически 551 отнестись к отображаемому; точнее говоря, его критическое отношение возможно тем менее, чем лучше функционирует данный вид театрального искусства.
4. Так мы приходим к критике перевоплощения и к экспериментам с «эффектом очуждения».
Распределение материала по «Ночам» менялось; так, диалоги об эффекте очуждения, первоначально предположенные для первой Ночи, позднее были передвинуты в третью, а затем во вторую. Изучавший брехтовский архив Вернер Хехт, автор комментария к теоретическим сочинениям Брехта о театре, пишет: «В большинстве случаев Брехт указывал на листах рукописи, в какую Ночь он собирается включить данный текст. Но как общие планы, так и написанные диалоги в высшей степени различны. Так, планы предусматривают разделы, оставшиеся ненаписанными; с другой стороны, есть диалоги, которые нельзя включить ни в один из имеющихся разделов. Кроме того, часть глав, указанных в планах, написана в форме статей, — неясно, собирался ли Брехт преобразовать их в диалоги и не отодвигалась ли первоначальная идея “Покупки меди” все дальше от реального плана. В последнем случае понятие “Покупки меди” стало бы метафорой для теоретических работ о новом способе театральной игры. В пользу этого соображения говорит тот факт, что Брехт позднее так и не организовал написанные им фрагменты на основе единого плана» [B. Brecht. Schriften zum Theater, B. V (1937 – 1951), Frankfort / Main, Suhrkamp Verlag, 1963, S. 303.].
Публикуя «Покупку меди», настоящее издание повторяет расположение материала, предложенное Вернером Хехтом в названном собрании теоретических сочинений Брехта. Приведем мотивировку, выдвинутую редактором-составителем немецкого издания: «Составление представляет собой попытку организации материала на основании первоначальных планов… При этом оказалось необходимым включить в соответствующие Ночи ряд материалов, которые неоднократно упоминаются в брехтовских планах “Покупки меди”, но впоследствии не вошли в состав диалогов. Предлагаемый текст, отобранный и составленный редакцией, отступает от планов в том случае, когда последние не были реализованы автором. Так, первоначально предполагалось дать в четвертой Ночи нечто вроде “решения” поставленных проблем. Брехт писал: “В художественной сфере, которая, впрочем, отнюдь не рассматривается как стоящая "выше" теоретической, вопрос о поучительности становится вполне художественным вопросом, который должен решаться, так сказать, независимо. Утилитарное здесь исчезает и приобретает своеобразные черты: оно теперь существует в соответствии с тезисом, что полезное — прекрасно. Адекватные отображения реальности соответствуют чувству прекрасного нашей эпохи. "Мечтания" поэтов адресованы другому, иначе связанному с практикой зрителю, да и сами поэты — люди этой эпохи. Таков диалектический смысл четвертой Ночи "Покупки меди". Здесь идея философа — использовать искусство для целей поучения — растворяется в идее художников вложить их знания, их опыт и их социальные проблемы в искусство”.
552 Упоминание “автора” в третьей Ночи, а также написанная позднее “Речь автора” позволяют предположить, что в число “художников” должен был быть введен и автор. Однако, используя наличный материал, нельзя было дать того “решения”, которое имеется в виду в приведенной заметке.
Трудность была еще и в том, чтобы установить последовательность фрагментов “Покупки меди”. Составитель стремился, однако, к тому, чтобы “швы” были очевидны, — ведь книжная публикация не имеет целью дать обработку, но стремится представить материал в удобочитаемом расположении. Такие швы между фрагментами обозначаются пустыми строками» [В. Brecht, Schriften zum Theater, B. V, S. 303 – 305.].
133 Как указывает В. Хехт, для этой части сохранилось наибольшее количество планов и заметок Брехта. В диалоге, открывающем данный раздел (стр. 277 – 294), Брехт последовательно осуществил один из своих планов. Он является единственным текстом, представляющим структуру целой Ночи, хотя Брехт и не присоединил к нему предполагавшиеся первоначально «Обращение философа к работникам театра» и «Обращение философа к зрителям».
134 Здесь и ниже до конца абзаца имеются в виду пьесы драматургов конца XIX – начала XX в., которых Брехт называет «натуралистами» (прежде всего Ибсена, Стриндберга, Гауптмана).
135 Брехт полемизирует с теорией и практикой Мейнингенского театра (существует с 1860 г.) и его последователей.
136 Имеется в виду сочинение И. Рапопорта «Работа актера», опубликованное в «Тиэтр уоркшоп», октябрь 1936 г. (книга этого автора — «Работа актера», М.-Л., «Искусство», 1939). См. выше, стр. 110.
137 Мыс на западном побережье Греции, где в 31 г. до н. э. Октавиан Август в морском сражении разбил Антония. Место действия одной из сцен трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра».
138 Излюбленный образ зрителя у Брехта. См., например, наше изд., т. I, стр. 250: «Читая надписи на щитах, зритель внутренне принимает позу спокойно покуривающего наблюдателя».
139 Эти слова «философа» продолжают идею, выраженную в стихе «Трехгрошовой оперы», который Брехт неоднократно называл лучшим из того, что им написано: «Сначала хлеб, а нравственность — потом». См. т. I, стр. 220.
140 Этот диалог в рукописи Брехта озаглавлен «Натурализм и реализм».
141 553 Так Брехт называет буржуазный театр.
142 Бэкон Фрэнсис (1561 – 1626) — английский философ-материалист, автор «Нового органона» (1620), из которого взята цитированная фраза и в подражание которому Брехт написал свой «Малый органон для театра» (1948).
143 Брехт употребляет термин «натуралистический» применительно к крупнейшим драматургам конца XIX – начала XX в. (см. выше дневниковую запись Брехта от 17 октября 1940 г.).
144 Вероятно, имеются в виду такие постановки МХТ, как «Анатэма» Л. Андреева (1909), «Синяя птица» М. Метерлинка (1908) и др.
145 В МХАТ имени Горького сохранились на сцене такие постановки, как «Три сестры» Чехова, «На дне» Горького.
146 В рукописи эта тирада приписана Актеру. Однако редактор немецкого издания В. Хехт пишет: «Так как этот персонаж занимает в первых Ночах позицию театра иллюзии и аргументирует более от практики, чем от теории, то, видимо, здесь налицо описка. По стилю и аргументации этот текст должен быть произнесен Философом» («Schriften zum Theater», B. V, S. 305).
147 Героиня пьесы Ибсена «Нора, или Кукольный дом».
148 Героиня драм Софокла «Эдип в Колоне» и «Антигона».
149 Имеется в виду «метод физических действий», разработанный К. С. Станиславским в его труде «Работа актера над собой». См. выше, стр. 138 и комментарии [В электронной версии — 93].
150 В пьесе Ибсена «Нора, или Кукольный дом».
151 В одноименной трагедии Лессинга (1779).
152 Цитата из стихотворения Георга Гервега.
153 В известном теоретическом сочинении «Парадокс об актере» (1773, изд. 1830).
154 Гоген Поль (1848 – 1903) — французский художник, чьи декоративно-живописные произведения посвящены главным образом жизни таитян.
155 Гольбейн Ганс Младший (1497 – 1543) — немецкий художник эпохи Возрождения.
156 Из трагедии Шекспира «Макбет».
157 Как пишет В. Хехт, эти две главки (стр. 315 – 321), которые, судя по всем планам, входят в «Покупку меди», обнаружены в папке с философскими работами 554 Брехта без указания на то, куда их следует отнести. В данный раздел они включены составителем.
158 Параграф веймарской конституции, запрещавший аборты. Так называлась пьеса Креде, поставленная Э. Пискатором в «Вальнертеатер» (премьера в марте 1930 г.).
159 Статья написана в июне 1938 г., впервые опубликована в «Versuche», № 10, Берлин, 1950. В. Хехт включил ее в «Покупку меди» на основании следующей заметки Брехта: «Для “Покупки меди” следует разработать тему “прикладного театра”, то есть надо привести несколько принципиально важных примеров того, как люди разыгрывают друг другу те или иные сцены в повседневной жизни (das Einander-Vormachen im täglichen Leben), а также некоторых элементов театральных представлений в частной и общественной жизни». («Schriften zum Theater», B. V, S. 307).
160 Этот диалог намечен в одном из планов второй Ночи. На рукописи нет указания о его принадлежности к «Покупке меди». Однако составитель немецкого издания поместил его после «Уличной сцены», так как в его тексте содержатся явные ссылки на эту статью. В. Хехт считает, что он связан с «Разговором с Фомой неверующим» и с «Разговором втроем о трагическом».
161 См. примечания Брехта к пьесе «Карьера Артуро Уи» в т. III наст. изд., стр. 435.
162 Зигфрид — герой немецкого средневекового эпоса «Песнь о Нибелунгах», идеал германской доблести.
163 Так Брехт часто называет Гитлера, считая, что он «усердно замазывает краской трещины в стенах разваливающегося дома» (см. ниже, стр. 338, а также 1-й полутом, стр. 95, 115).
164 Поместье рейхспрезидента Гинденбурга.
165 Этот текст был предназначен Брехтом для четвертой Ночи. Составитель В. Хехт поместил его в дополнение ко второй, исходя из его темы, и приписал его Философу.
166 Имеется в виду герой трагедии Шекспира «Тимон Афинский» (1607 – 1608). Содержание ее В. Г. Белинский формулировал так: «Люди обманули человека, который любил людей, надругались над его святыми чувствами, лишили его веры в человеческое достоинство, и этот человек возненавидел людей и проклял их…» (В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 290).
167 Лучшая пьеса Гауптмана, посвященная восстанию пролетариев (1892).
168 Имеется в виду Г. Гауптман, остававшийся во время гитлеризма в Германии. Однако Брехт несправедлив к Гауптману — он не запятнал себя 555 сотрудничеством с фашистами, а после войны поддерживал демократическое возрождение Германии.
169 Имеется в виду «принцип неопределенности» Гейзенберга. Ср. рассуждение на ту же тему в «Разговорах беженцев», т. IV наст. изд., стр. 33.
170 Эти диалоги предназначены в рукописях Брехта для второй, частично для четвертой Ночи.
171 Предшественник Шекспира драматург Кристофер Марло (1564 – 1593) в трагедии «Тамерлан Великий» (1587) впервые в народном театре применил нерифмованный пятистопный ямб вместо обычного рифмованного.
172 Сенека Луций Анней (6 до н. э. — 65 н. э.) — римский трагик, автор «Медеи», «Федры» и др. пьес, которым подражали авторы «ученых драм» XVI века.
173 В комедии Шекспира «Венецианский купец» (1596 – 1597) соединены два мотива, как это явствует из заглавия первого издания пьесы: «Превосходнейшая история о венецианском купце. С изображением чрезвычайной жестокости еврея Шейлока по отношению к указанному купцу, у которого он хотел вырезать ровно фунт мяса; и с изображением домогательства руки Порции посредством выбора из трех ларцов».
174 Этот диалог (стр. 359 – 361) озаглавлен в рукописи «Трагическое у Шекспира».
175 Трагедия Шекспира «Гамлет» считается переделкой дошекспировской пьесы на тот же сюжет, игравшейся еще в 1536 году и написанной, как полагают, драматургом Томасом Кидом (1558 – 1694). Новейший исследователь так говорит о соотношении обоих произведений: «… в дошекспировской трагедии о Гамлете средоточие интереса было — как поступит герой; но у Шекспира важно и значительно — что думает герой» (А. А. Аникст, Творчество Шекспира, М., Гослитиздат, 1963, стр. 379).
176 Режиссер Эрвин Пискатор основал в 1920 г. в помещении театра на Ноллендорфплац «Пролетарский театр», на базе которого он пытался создать театр политический (см. его кн. «Политический театр», Берлин, 1928). Пискатору принадлежит идея эпического театра, подхваченная и развитая Брехтом.
177 Имеется в виду драма Креде «218» (1930). Той же теме посвящена пьеса Фр. Вольфа «Цианистый калий» (1929).
178 Пьеса по роману Я. Гашека была поставлена Э. Пискатором на «Первой сцене Пискатора» в театре на Ноллендорфплац. Премьера состоялась 23 января 1923 г.
179 Георг Бюхнер 556 (1813 – 1837) — немецкий революционный драматург, автор пьесу «Войцек» (1836), посвященной трагедии бесправного и Нищего пролетария. См. I-й полутом, прим. к стр. 204.
180 Ведекинд Франк (1864 – 1918) — немецкий драматург, близкий к принципам экспрессионизма.
181 См. 1-й полутом, прим. к стр. 85.
182 Имеется в виду первая пьеса, которую Брехт поставил в качестве режиссера — «Что тот солдат, что этот» (премьера состоялась 6 февраля 1831 г. в берлинском «Штатстеатер»).
183 См. 1-й полутом, прим. к стр. 85.
184 см. 1-й полутом, прим. к стр. 205.
185 Речь идет о пьесе Брехта «Винтовки Тересы Каррар» (1937), поставленной режиссером З. Дуловым в Париже с Е. Вайгель в главной роли.
186 Пьеса «Страх и отчаяние в Третьей империи», о которой здесь идет речь, была поставлена группой немецких эмигрантов 21 мая 1938 г. Подробнее об этом спектакле см. т. II наст. изд., стр. 432 – 433.
187 Имеется в виду роль вдовы Бегбик в спектакле «Что тот солдат, что этот», премьера которого состоялась 5 января 1928 г. в берлинском театре «Фольксбюне» (см. т. I наст. изд., стр. 496).
188 То есть Тересу Каррар в одноименной пьесе Брехта (1937).
189 См. прим. к стр. 366 [В электронной версии — 178].
190 См. прим. к стр. 297 [В электронной версии — 149].
191 Мей Лань-фан (1894 – 1961) — актер китайского театра, мастер перевоплощения, исполнявший главным образом женские роли.
192 Написаны в 1940 г. О работе актеров над ними Брехт писал: «Играется сцена (“Макбет”, ч. II), затем импровизированная сценка из повседневной жизни с аналогичным театральным элементом, затем снова шекспировская сцена. Ученики как будто очень живо реагируют на эффект очуждения». «Сцены для обучения актеров» были впервые опубликованы в сб. «Versuche» 1951 г., № 11. На русском языке — в кн.: Б. Брехт, О театре, стр. 333 – 350. Сцена «Состязание Гомера и Гесиода» на русском языке публикуется впервые.
193 «Речь автора о сцене театрального художника Каспара Неера», как и «Речь завлита о распределении ролей» (стр. 422 – 423), Публиковалась впервые в кн.: «Theaterarbeit», Berlin, 1952.
194 Троил и Кресида — герои трагикомедии Шекспира «Троил и Крессида» (1601 – 1602).
195 557 Имеется в виду пьеса Н. Погодина «Аристократы» (1934).
196 По плану Брехта «Покупка меди» завершается диалогом «Аудитория государственных деятелей».
197 Публиковалась в кн. «Theaterarbeit» (1952), в сб. «Versuche», 1952, № 14, и в 4-м томе Собрания стихотворений Брехта. Стихотворения «Об изучении нового и старого», «Занавес», «Освещение», «Песни» и «Реквизит Вайгель» написаны в 1950 – 1951 гг. Остальные — в 1937 – 1940 гг. Последние семь стихотворений (от «Отзвука» до «Погребения актера») не предназначены Брехтом для цикла «Покупка меди» — их присоединил к этому циклу немецкий составитель В. Хехт. На русском языке частично публиковались в кн.: «Театр за рубежом», Л., «Искусство», 1958, и Б. Брехт, О театре.
198 То есть на землю Финляндии. Имеется в виду эпизод из пьесы «Господин Пунтила и его слуга Матти»; см. т. III. наст. изд., стр. 288 – 289.
199 В этом стихотворении речь идет о песнях из пьес Брехта «Круглоголовые и остроголовые», «Мамаша Кураж» и «Мать».
200 Е. Вайгель играла заглавную роль в пьесе Брехта «Антигона» (1947).
201 См. прим. к стр. 368 [В электронной версии — 185].
202 См. прим. к стр. 368 [В электронной версии — 185].
203 Пьеса в стихах, посвященная земельной реформе в 1947 – 1949 гг., написана Э. Штриттматтером (р. 1912) в 1953 г. и поставлена Брехтом в «Берлинском ансамбле» в 1954 г.
204 Клейншмидт, Миттельлендер, Гросман — значимые фамилии, примерно соответствующие понятиям: бедняк, середняк, кулак.
205 Раймунд Фердинанд (1790 – 1836) — австрийский драматург, автор сказочных и крестьянских пьес, из которых самые известные — «Крестьянин-миллионер» (1826) и «Мот» (1833).
206 фон Аппен Карл — театральный художник, оформивший много спектаклей по пьесам Брехта.
207 См. 1-й полутом, прим. к стр. 422.
208 Герой немецкого поэта-романтика Фридриха Рюккерта (1788 – 1866).
209 В пьесах Шекспира «Венецианский купец» и Мольера «Скупой».
210 558 Этот текст — беседа Брехта с директором театра г. Вупперталя Э. А. Виндсом — был опубликован в кн. «Theaterarbeit», 1952.
211 Берлау Рут — многолетняя литературная сотрудница Брехта, участвовавшая в работе над «Добрым человеком из Сычуани», «Кавказским меловым кругом», «Днями Коммуны».
212 Герой трагедии Софокла «Эдип-царь», «Эдип в Колоне» (422 г. до н. э.).
213 Пьеса Г. Гауптмана.
214 То есть в 1937 г. (См. т. I наст. изд., стр. 502).
215 Об этой чаше повествуется в средневековых рыцарских романах, герои которых совершают бесчисленные подвиги, стремясь ею овладеть.
216 Персонаж из «Фауста» Гете (часть I, сцены: «Дом соседки», «Сад»).
217 Герой бюргерской трагедии Шиллера «Коварство и любовь» (1783).
218 Hурми Пааво — финский бегун, рекордсмен мира.
ПОСТРАНИЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
1* Именно в то десятилетие, когда театр всего решительнее обращался к пролетариату, самые большие дела на сцене делали с «человеческим». Это «человеческое» выжималось из человека мучением. Вслед за физической эксплуатацией бедности шла психологическая. Лицедеям, которые умели самым натуральным образом изобразить муки эксплуатируемых, выбрасывали в награду жалованье, вдвое превышающее оклад министра, и чем гуще эксплуататоры заполняли зал, где происходила эта демонстрация их жертв, тем больше поднималось их общественное реноме. К отвращению, вызванному запахом нищеты, примешивалось умиление, вызванное сострадательностью писателя. Из всех человеческих побуждений осталась только боль. Это была каннибальская драматургия.
2* «Звучал в долине, умолкал в горах».
3* Быть может, мы, более молодые, просто лишены каких-то качеств, которые бы позволили нам понять эту жажду переживаний, свойственную обреченной буржуазии, это болезненное стремление к тому, чтобы наслаждаться чужими переживаниями, чтобы извлекать боль из страданий матерей. Для нас театр не склад с эрзацами неиспытанных переживаний.
4* Разумеется, в опытах по этой линии выдающуюся роль сыграли большие театры. У Чехова был свой Станиславский, у Ибсена — Брам и т. д. Однако инициатива в вопросе усиления познавательной роли театра принадлежала явно драматургии.
5* Здесь нет необходимости подробно критиковать технократическую точку зрения великого ученого. Разумеется, самую большую пользу обществу приносят массы, а немногие изобретательные умы весьма беспомощны перед экономическим кругооборотом товаров. В данном случае нас удовлетворяет, что Эйнштейн и прямо и косвенно констатирует незнание интересов общества.
6* Цифры в квадратных скобках обозначают ссылки на примечания к тексту, сделанные Б. Брехтом в «Приложении»; см. стр. 108. (Прим. ред.)
7* И. Рапопорт, Работа актера, «Искусство», М.-Л., 1939. (Прим. ред.)
8* Если этого не знает Станиславский, то знает его ученик Вахтангов, который положению Станиславского: «Зритель должен забыть, что он в театре», противопоставляет положение: «Зритель будет сидеть в театре, и ни на минутку не забудет, что он в театре». Такие противоречивые мнения могут быть в пределах одного и того же художественного направления.
9* См. вполне самостоятельные рисунки Георга Гросса, спроецированные на экран в «Приключениях бравого солдата Швейка», и рисунки Каспара Неера для «Расцвета и падения города Махагони».
10* В «Трехгрошовой опере» Неер водрузил посреди сцены ярмарочный орган. Макс Горелик в нью-йоркской постановке пьесы «Мать» занял половину сцены двумя роялями [Горелик Макс (Мордекай) (р. 1899) — американский театральный художник, оформлявший постановку пьесы Брехта «Мир» в нью-йоркском «Тиэтр Юнион» (премьера 19 ноября 1935 г.). См. наст. изд., т. I, стр. 510.].
11* Применяя определенные материалы, можно вызвать у зрителя определенные ассоциации. Например, в иносказательной пьесе «Круглоголовые и остроголовые» ширмы на заднике, казавшиеся сделанными из пергамента, ассоциировались у зрителя со старинными книгами. Так как смысл этой пьесы мог встретить довольно холодный прием у буржуазного зрителя, то было полезно придать ей авторитетность старых, прославленных параболических пьес. Московский Еврейский театр, ставя «Короля Лира», использовал как элемент декорации деревянное сооружение, похожее на раскрывающуюся дарохранительницу, что вызывало ассоциацию со средневековой Библией. При постановке в театре Пискатора одной китайской пьесы Джон Хартфилд ввел в оформление большие рулоны бумажных знамен и сделал это успешнее, чем когда применил для пьесы Махоли Надя об инфляции конструкцию из никеля и стекла, что породило нежелательную ассоциацию с хирургическими инструментами [Хартфилд Джон (р. 1891) — немецкий плакатист и художник театра.].
12* Но сами-то производители целиком и полностью зависят от механизма и в экономическом и в социальном смысле, он монополизирует их деятельность, и плоды труда писателей, композиторов и критиков все больше становятся лишь сырьем: готовую продукцию выпускает уже механизм.
13* Письмо Шиллера к Гете от 26 декабря 1797 г.
14* Наши театры, ставя старинные пьесы, обычно стараются замазать различия, перекинуть мостики, приглушить специфику эпохи. Но где же тогда удовольствие от проникновения в глубь веков, от удаленности, необычности? А ведь это удовольствие одновременно и радость узнавания близкого и знакомого!
15* См.: Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, т. II, М., Изд-во иностранной литературы, стр. 450.
16* В. И. Ленин, Философские тетради, изд. 4, т. XXXVIII, стр. 358.
17* В действительности эта система не нашла применения в спектакле. Правда, картонные щиты и в самом деле были исписаны с той и с другой стороны, но лишь с тем, чтобы их можно было менять в промежутках между сценами, вследствие чего ими можно было воспользоваться дважды. Во время первых спектаклей Пискатор вместе с автором пьесы прохаживался по двору; следуя сложившейся у обоих давней привычке. Они обсуждали, что удалось, а что не удалось осуществить на репетициях, не имея почти никакого представления о том, что же происходит внутри театра, потому что очень многие поправки были внесены в самый последний момент и теперь могли быть реализованы только в порядке импровизации. В ходе этих бесед они открыли принцип переносного табеллария, его возможности с точки зрения раскрытия сюжета, его значение для стиля игры. Так случалось, что подчас результаты экспериментов не становились достоянием публики ввиду недостатка денег или времени, но все же они облегчили дальнейшую работу и, во всяком случае, изменили взгляды самих экспериментаторов.
18* Взято из древнегреческой легенды о Гомере и опирается на перевод Вольфганга Шадевальдта («Легенда о Гомере, странствующем певце». Издательство Эдуарда Штихноте, Потсдам). Упражнение дает возможность научиться читать стихи и в то же время показать характеры двух честолюбивых старцев, ведущих между собой борьбу, полную действия. Написано в сотрудничестве с Р. Берлау.
19* Ввиду убожества наших осветительных средств фотографии, к сожалению, не в состоянии передать всего блеска нееровских декораций.
20* В некоторых пьесах Вайгель перед каждой сценой меняла грим, так что, если она в какой-нибудь сцене выходила, не изменив грима, это производило особое действие.
21* Во время спектакля, когда актер свободен от игры, ему полезно читать. Концентрация должна быть естественной, участие — неравномерно активное, в зависимости от предмета. Поскольку на зрителя не должно оказываться давления, то и актер не должен сам оказывать на себя давления.
22* В принципе полноценные театральные эмоции могут быть порождены также совершенно ложным изображением того или иного жизненного события.

