3 ЧАСТЬ ВТОРАЯ
«ВИШНЕВЫЙ САД» А. П. ЧЕХОВА И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА
НАЧАЛА И КОНЦЫ
(1902 – 1904)
4 ГЛАВА I
ЛЮБИМОВСКИЙ КОНТЕКСТ «ВИШНЕВОГО САДА» А. П. ЧЕХОВА
Весной 1902 года Чеховы — Антон Павлович и Ольга Леонардовна пережили самую тяжелую полосу в своей супружеской жизни, едва перевалившей за первую годовщину. К легочной хронике Чехова добавилась серьезная болезнь Ольги Леонардовны, сопровождавшаяся такими нечеловеческими болями, что она «хотела покончить с собою», — свидетельствует друг семьи Чеховых артист Художественного театра Александр Леонидович Вишневский (I. 3. Оп. 3. Ед. хр. 21 : 8 об.). Когда у Ольги Леонардовны в Москве случались приступы, днем ли, ночью ли, вызывали Вишневского. Неженатый, он жил в меблированных комнатах в московской гостинице «Тюрби» на углу Неглинной и Звонарского переулка, в одном доме с Ольгой Леонардовной.
«Я, конечно, по обыкновению плакал и страдал, так как жаль ее и бедного Антона Павловича, который был кроток, беспомощен и необыкновенно жалок», — сообщал Вишневский Лилиной вслед за очередным вызовом к больной (I. 2. № 4844).
Лилина после окончания сезона отправилась с детьми за границу, поджидая там Станиславского. В Любимовке они намечали провести конец отпуска. Станиславский задержался в Москве, завершая свои директорские дела по фабрике и театру. Осенью предстоял переезд Художественного из «Эрмитажа», арендованного у Щукина, в собственный дом, выкупленный на деньги Саввы Тимофеевича Морозова, одного из директоров МХТ, у купца Лианозова, хозяина кавказской нефти. Особняк Лианозова в Камергерском переулке перестраивался для Художественного театра по проекту архитектора Шехтеля. Савва Тимофеевич оставался в Москве и сам работал на стройке круглосуточно, чтобы поспеть к сентябрю с завершением строительных работ и с техническим оснащением сцены.
Первый сезон на новой, шехтелевской сцене намеревались открыть горьковскими «Мещанами», премьеру которых сыграли весной на гастролях в Петербурге, постановкой «На дне» и новой чеховской пьесой. Художественный ждал ее. Премьера «Трех сестер», последняя чеховская премьера, прошла здесь 31 января 1901 года. В истекшем сезоне ее так и не дождались. Все надежды возлагали на предстоящий.
«На будущий сезон нам необходима Ваша новая пьеса, иначе интерес к нашему театру, боюсь, будет ослабевать, а Вы только одни пока сила нашего театра, — писал Вишневский Чехову в январе 1902-го. — 5 Клянусь, я далек от лести, но я близок к делу! Пьесу Вы должны дать весной, дабы при Вас репетировать, чтобы не было никаких недоразумений, и если бы открыть ею будущий сезон, мы и публика были бы счастливы» (II. 1. К. 39. Ед. хр. 9б.: 17 об.).
Но к песне новая чеховская пьеса не поспела.
Чехов и сам понимал, что обязан этому театру, его руководителям и труппе, вернувшим ему веру в себя как драматурга и прославившим его.
Замысел новой пьесы он вынашивал давно. В ноябре 1903-го говорил о том, что три года собирался писать «Вишневый сад» и три года предупреждал театр, чтобы искали старую актрису на роль Раневской (II. 13 : 294).
Если отсчитать назад, замыслу «Вишневого сада» к лету 1902 года — почти полтора года. Ровно столько, сколько прошло от премьеры «Трех сестер».
Чехову мерещилась «либеральная старуха», которая одевается, как молодая; мерещился в роли скряги-лакея Артем, актер Художественного театра, игравший в «Трех сестрах» Чебутыкина. «Скопил много денег и держит их в какой-то игрушечной коляске», — припоминал Станиславский штрихи первоначального чеховского замысла «Вишневого сада» (I. 7 : 467). «Потом появилась компания игроков на биллиарде. Один из них, самый ярый любитель, безрукий, очень веселый и бодрый, всегда громко кричащий. В этой роли ему стал мерещиться А. Л. Вишневский», — восстанавливал Станиславский по памяти процесс рождения пьесы в фантазии автора (I. 5 : 108).
Роль «либеральной старухи» — Раневской первоначального замысла — Чехов не предназначал для Книппер.
Он вообще не видел в труппе актрисы на эту роль. Таковой не было в молодом театре.
Немирович-Данченко, посвященный в планы Чехова, присматривал актрису на амплуа старух. Он знал о том, что в пьесе будет роль помещицы из Монте-Карло, старухи (III. 5 : 287).
«Помещицы», «старухи»…
Он разговаривал с А. Я. Азагаровой, когда-то служившей у Корша. Предлагал Чехову подумать о Марии Федоровне Андреевой в этой роли. Она пришла в Художественный вместе со Станиславским из его театра в Обществе искусства и литературы, в 1900-м сыграла на гастролях труппы в Ялте Нину Заречную, в премьерном составе «Трех сестер» — Ирину, для нее написанную, Чехову нравилась эта актриса. В 1900-м он даже раздумывал, на ком жениться: на Андреевой или на Книппер. Чехов сначала «очень» ухватился за идею Немировича-Данченко — Андреева в роли старухи, — но потом засомневался: «Вряд ли ей удастся 6 старуха — выйдет, пожалуй, ряженая. Но Чехов умный человек, что-то он в этом почуял», — вспоминал Немирович-Данченко (III. 5 : 287).
О «старухе» в первоначальном замысле «Вишневого сада» знал Н. Е. Эфрос. В статье от 18 мая 1913 года в «Одесских новостях» — к предстоящим гастролям художественников в Одессе — критик дал такую справку: «Есть некоторые основания думать, что первоначально Чехов хотел написать пьесу для О. О. Садовской, талант которой его совершенно покорил. Он думал поставить в центре будущей пьесы героиню много старше Раневской. В какой-то мере замысел этой пьесы для Садовской был близок к “Вишневому саду”».
Но никаких «оснований» и даже «слабых и далеких намеков» этого замысла пьесы «для Садовской», знаменитой актрисы Малого театра на роли старух, критик не привел. Хотя Чехов действительно обещал Садовской написать к лету 1901 года пьесу для ее бенефиса, извинялся перед ней за «невольную праздность» — «Весь июнь я пробыл на кумысе, а июль […] проболел» — и подтверждал, что если будет здоров, то пьесу ей непременно пришлет (II. 12 : 57 – 58).
Эфрос знал это, конечно, от самой О. О. Садовской.
Однорукий барин, обещанный Вишневскому, появился возле старухи-помещицы скорее всего к лету 1902-го. В марте 1902-го о том, «какая мне будет роль в новой пьесе А. Чехова», Вишневский еще не знал.
«Обрадуйте, дорогой Антон Павлович, и напишите мне, что и кого Вы предполагаете я буду играть […] Если бы наш новый театр в будущем сезоне открылся Вашей “новой” пьесой, было бы большое счастье!! А ведь это возможно. Дайте пьесу в конце июля», — писал Вишневский Чехову 17 марта из Петербурга, где гастролировал театр (II. 1. К. 39. Ед. хр. 9в : 21 и об.).
Когда Чехов восстановил барину «ампутированную руку» и он смог играть на биллиарде обеими руками — неизвестно. Но осенью 1902-го сюжет все еще строился вокруг старухи и однорукого барина. В письмах к Чехову из Москвы в Ялту Вишневский рассказывал, как весь сентябрь 1902-го художественники осваивали новую сцену в Камергерском, расхваливал Савву Морозова, который не пожалел денег на отделку внутренних помещений, и Шехтеля: «Мне страшно нравится, что эмблема нашего нового театра “Чайка”, которая проходит по всему театру, начиная от занавеса. Это до того красиво и интересно, что я Вам передать не могу, тем более, что все это в тонких и благородных тонах». Торопя Чехова с пьесой хотя бы к ноябрю 1902 года, чтобы выпустить премьеру до конца сезона, Вишневский все еще бредил своей ролью в ней и напоминал автору, как на дорожках алексеевского парка в Любимовке, где он оказался подле Чеховых летом 1902-го, он учился «ходить без руки!!!» Восклицания принадлежат Вишневскому (II. 1. К. 39. Ед. хр. 9б: 28 и об.).
7 К июню 1902-го, еще в Ялте, до отъезда в Москву, Чехов якобы сделал наброски к будущей пьесе. 6 июня просил Марию Павловну прислать ему листок, «исписанный мелко», из ящика ялтинского стола. Немирович-Данченко уверял Станиславского, ссылаясь на июньские заверения Чехова, что к 1 августа 1902 года тот кончит пьесу (II. 17 : 709). За июнь — июль Чехов намеревался завершить задуманное.
Когда старуха из Монте-Карло помолодела, превратившись в сорокалетнюю Раневскую, — неизвестно.
То ли Чехова в самом деле смущало отсутствие в труппе Художественного театра немолодой актрисы.
То ли за время от первоначального замысла до канонической редакции «Вишневого сада» — за 3 года — вмешались другие факторы, скорректировавшие намерения, скорее так.
С уверенностью можно сказать одно: в январе 1903 года пьеса называлась «Вишневый сад». 20 января 1903 года Книппер-Чехова писала мужу о том, как «жаждут» в театре «изящества, нежности, аромата, поэзии» его новой пьесы: «С какой любовью мы будем разбирать, играть, выхаживать “Вишневый сад”» (IV. 2 : 188).
О новой пьесе с этим названием в январе 1903-го Чехов вел переговоры с В. Ф. Комиссаржевской, просившей у него Раневскую для петербургского театра, который она собиралась открыть. Комиссаржевская мечтала о Раневской.
Барыня, владелица усадьбы, все еще была старухой.
Чехов отвечал актрисе из Ялты: «Насчет пьесы скажу следующее: 1) Пьеса задумана, правда. И название ее у меня уже есть (“Вишневый сад” — но это пока секрет) и засяду писать ее, вероятно, не позже февраля, если, конечно, буду здоров; 2) в этой пьесе центральная роль — старуха!! — к великому сожалению автора» (II. 13 : 134).
В конце января 1903 года замысел будущей пьесы — о разорившемся имении и о старухе-помещице, задолжавшей скряге-лакею, — еще сохранялся.
К январю 1903-го появились, наверное, и штрихи сюжета именно «Вишневого сада», запомнившиеся Станиславскому: окно, вишневые деревья в бело-розовом цвету. И в названии пьесы ударение в слове «Вишнёвый» на второй слог, с акцентом на его поэтичность, — толковал Станиславский. Чехов «напирал на нежный звук “ё”», «точно стараясь с его помощью обласкать прежнюю, красивую, но теперь ненужную жизнь, которую он со слезами разрушал в своей пьесе», — вспоминал Станиславский в 1920-х (I. 4 : 344). Он чувствовал в чеховском названии с ударением на второй слог в слове «Вишневый» ту же «нежность», что и в названии «Любимовка». «Вишневый сад» — это название усадьбы Раневской и Гаева, как «Любимовка» — название усадьбы Алексеевых, — проговорился Станиславский в конце 1930-х, когда работал над 8 чеховской пьесой с учениками Марии Петровны Лилиной в Оперно-драматической студии и писал очередные главы по методу творчества роли в процессе создания спектакля. Все так просто, безо всяких там семантики пространства и лотмановских топусов, которыми современные исследователи объясняют чеховский образ-символ, концентрирующий действие пьесы.
В январе 1903-го в задуманном «Вишневом саде» предполагалось три длинных акта. Ольга Леонардовна считала, что в четырех актах будет лучше. Чехов на трех не настаивал. Ему было все равно. Чуть позже он говорил, что четвертый акт будет у него «скудей по содержанию, но эффектен» (II. 13 : 253). Но даже в конце сентября 1903 года четвертый акт у него еще не был прописан. И в феврале 1903-го Раневская была старухой. «Кто будет играть старуху мать? Кто?» — спрашивал Чехов жену, собираясь приступить к пьесе. И неожиданно в письме к ней всплывала давняя идея, та, за которую он якобы «ухватился» — со слов Немировича-Данченко — летом 1902 года: старуха — Мария Федоровна Андреева. «Придется Марию Федоровну просить» (II. 13 : 151).
Книппер и Комиссаржевская для Раневской — слишком молоды, а Марию Федоровну, для которой он писал младшую из сестер Прозоровых двадцатилетнюю Ирину, «придется […] просить»?
Этот пассаж кажется чеховским юмором или какой-то игрой с одолевавшими автора дамами-примадоннами, заочно соперничавшими друг с другом за центральную роль в новой пьесе.
И в апреле 1903 Раневская была «старухой». «Писать для вашего театра не очень хочется — главным образом по той причине, что у вас нет старухи. Станут навязывать тебе старушечью роль, между тем для тебя есть другая роль, да и ты уже играла старую даму в “Чайке”» (II. 13 : 195), — снова и снова возвращался Чехов к своему первоначальному замыслу пьесы, в которой Ольге Леонардовне предстояло сыграть не старуху, а «глупенькую», как говорил ей Чехов, будущую Варю, Варвару Михайловну, «приемыша» Раневской, «двадцати двух лет» (II. 13 : 172).
Может быть, здесь и разгадка. Молодящаяся Аркадина, мать двадцатишестилетнего сына, — «старая дама», «старушечья роль». Рецензенты «Чайки» писали, что Книппер для роли Аркадиной слишком молода. Текстологи подсчитали: чеховской Аркадиной 43 года. Но Раневская канонической редакции пьесы, мать семнадцатилетней Ани, младше Аркадиной. Ей — 41 год. И на момент премьеры «Вишневого сада» актрисы-сверстницы Андреева и Книппер — моложе Раневской. Им — по тридцать пять. И сорокатрехлетний Чехов рядом с тридцатипятилетней женой — «старик».
То есть сорокаоднолетняя Раневская и есть «либеральная старуха»?
Ни Мария Федоровна Андреева, ни Комиссаржевская Раневскую не сыграли. Хотя кандидатура Андреевой обсуждалась при распределении 9 ролей. Немирович-Данченко говорил при этом, отстаивая Книппер, что Мария Федоровна будет «чересчур моложава» (III. 5 : 345).
А Комиссаржевская все же оставила свой след в пьесе Чехова.
От Комиссаржевской у Раневской — привычка пить кофе днем и ночью. В кулисах, когда Комиссаржевская играла спектакль, всегда стояла ее камеристка с эмалевой чашечкой наготове. И конечно, это она подсказала Чехову историю с маленьким сыном Раневской Гришей, утонувшим в пруду. Это история ее матери и утонувшего младшего брата, тоже Гриши. В канун отъезда Чеховых летом 1902-го в алексеевскую Любимовку Комиссаржевская, гастролировавшая в Москве, вела переговоры с Немировичем-Данченко о переходе в Художественный театр и была у Чехова с визитом.
Наверное, Чехов все же думал о Комиссаржевской, когда писал Раневскую. Ровесница Раневской — в 1904-м ей сорок лет, она и по опыту драматичной своей женской жизни, исковерканной порочным мужем, могла подойти к роли порочной Раневской ближе благополучной в семейной жизни красавицы Андреевой и угомонившейся после замужества Книппер.
Работа над пьесой с июня 1902-го растянулась, однако, еще на год с липшим.
В июне 1902-го работать над ней не пришлось.
В начале июня 1902 года консилиум врачей-светил приговорил Ольгу Леонардовну к повторной хирургической операции. Ее удалось избежать. Все обошлось. По, сильно ослабевшая, она нуждалась в абсолютном покое. Чехов должен был организовать ей постельный режим и домашний уход.
Отправив Лилину с детьми за границу, Станиславский просто дежурил у Чеховых в доме Гонецкой на углу Неглинного проезда по Звонарскому переулку. «Только в эти долгие дни, которые я просиживал вместе с Антоном Павловичем рядом с больной, мне впервые удалось найти […] простоту в наших отношениях. Это время сблизило нас», — вспоминал Станиславский (II. 21 : 338).
«Впервые…»
А в прошлом у них были совместные «Чайка», «Дядя Ваня», гастрольная поездка всей труппы Художественного театра к Чехову в Ялту, «Три сестры», вхождение писателя через женитьбу на Ольге Леонардовне, первой актрисе театра, в его семью и отношения самые дружественные, почти родственные.
Они много говорили о будущей пьесе. Станиславский тогда и узнал замысел автора: в центре пьесы — старуха.
И Чехов, видно, привязался в эти дни к Станиславскому. «Станиславский очень добрый человек», — писал он сестре в Ялту (II. 11 : 241).
10 Немировичу-Данченко, также навещавшему Чеховых, скоро пришлось уехать в Нескучное, в имение жены в Екатеринославской губернии. Он раньше всех возвращался из отпуска к началу сезона, чтобы подготовить его открытие. «Мыслями я, конечно, целые дни — у вас в квартире», — писал он Чеховым из Нескучного (V. 10 : 145). Судьбу Чеховых взялись решать Станиславский, Савва Тимофеевич Морозов, Алексей Александрович Стахович, друг Станиславского, генерал-адъютант великого князя Сергея, московского генерал-губернатора, и все тот же верный Вишневский. О своем летнем отдыхе он не думал, так как не мыслил оставить одного «бедного Антона Павловича», если вдруг Ольга Леонардовна вновь попадет в лечебницу или отправится с Константином Сергеевичем во Франценсбад.
О том, что Чехов во Франценсбад не поедет или если поедет, то только для того, чтобы отвезти жену и вернуться обратно в Россию, было известно. Чехов не выносил «неметчину», несмотря на ее комфортный бытовой уклад. «Не чувствуется ни одной капли таланта ни в чем, ни одной капли вкуса, но зато порядок и честность, хоть отбавляй. Наша русская жизнь гораздо талантливее», — писал он сестре из Баденвейлера в июне 1904 года (II. 14 : 123 – 124).
Надо же было ему умереть в Германии и с немецкими словами на устах — «Ich sterbe» («Я умираю») — под бокал искристого шампанского, выпадавший из рук. «Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего…» — бормотал его Фирс, укладываясь умирать.
Видно, этот немецкий был его последней шуткой — над собой. Тут было над чем посмеяться рожденному «под смешливой звездой». Русский писатель, кровно, генетически связанный с Россией, нелепой, бестолковой до абсурда, с ее безотцовщиной, разгильдяями и недотепами — его героями не-героями, привязанный к этой России, воплощенной в его литературном слове, — умирал в чужой, чистенькой, вылизанной, выстриженной стране, отпугивавшей его сухим, неодушевленно-схоластическим порядком и аккуратностью.
Было от чего заговорить по-немецки…
«Эх ты… недотепа!.. (Лежит неподвижно)» — он и это написал в своей комедии «Вишневый сад» (II. 3 : 254).
Станиславский не понял чеховской самоиронии, прокомментировав последние слова писателя «Ich sterbe»: «Смерть его была красива, спокойна и торжественна» (I. 4 : 348).
Но впереди у Чехова еще два лета, две зимы, «Вишневый сад» в Художественном, торжественное чествование по случаю 25-летия его литературной деятельности и последняя весна… «Новая пьеса», якобы существовавшая на листках, «мелко исписанных», которые Мария Павловна так и не нашла в ящиках ялтинского письменного стола брата, 11 еще не написана; еще не решено лето 1902-го с маячившим Франценсбадом, прописанным докторами Ольге Леонардовне.
Мария Петровна Лилина присматривала во Франценсбаде квартиру, пансион и врача для Ольги Леонардовны, сообщала ей о лечебных свойствах местной грязи и об особенностях курорта, давала житейские советы, как лучше добраться до Франценсбада и что брать с собой.
Станиславский, когда приехал к Лилиной и детям, чтобы примирить Ольгу Леонардовну с неизбежностью Франценсбада, посылал ей открытки с видами типичных улиц вполне милого курортного городка с гостиницами, парками, с грязелечебницей, ваннами и источниками. «Прогулки чудесные, много сосны […] Одно нехорошо — климат сырой. Запасайтесь теплым на случай дождливой погоды. Захватите даже ваточное пальто», — беспокоился он (I. 8 : 453 – 454).
Богатые друзья предлагали Чехову помощь.
Стахович звал в Пальну, свое имение на границе Тульской и Орловской губерний.
Морозов готов был устроить путешествие по Волге и Каме и отдых в своей вотчине на Урале.
На то время, пока Ольга Леонардовна будет лечиться во Франценсбаде, как планировалось, Станиславский приглашал Чехова пожить у него в Любимовке.
Этот проект долго и капитально обсуждался.
Чехов утверждал, что в Любимовке он был и что там очень хорошо.
В Любимовке он был, скорее всего, в конце августа 1898 года и по приглашению не хозяина дачи, а Немировича-Данченко. Станиславский в августе 1898-го уехал в Григоровку писать режиссерский план «Чайки», а Немирович-Данченко репетировал в Пушкине с молодой труппой еще не открывшегося Художественного театра «Царя Федора Иоанновича» и жил в кабинете Станиславского на втором этаже двухэтажного деревянного алексеевского дома, дома «с ушами», как называли его Алексеевы.
Елизавета Васильевна, должно быть, жила, как обычно, на своей половине, в своем флигеле — «ухе» — в окружении приживалок, и Чехов уже тогда приметил эту очаровательную полуфранцуженку, «либеральную старуху». В 1898-м Елизавете Васильевне — пятьдесят шесть. Он мог приметить и ее старшего сына Владимира Сергеевича, мягкого, конфузливого. Его дом, построенный в 1886-м, стоял подле родительского, на том же пятачке. Но они могли не встретиться. Владимир Сергеевич рано утром уезжал на фабрику и с вечерним поездом возвращался, усталый. Немирович-Данченко с утра до вечера проводил с артистами в Пушкине. Чехов, если поехал в Любимовку, то через Пушкино, как планировалось, смотрел, как приятель репетировал «Царя Федора», приглядывался к актерам. Ближе к ночи алексеевский кучер привозил 12 их на алексеевскую дачу и они допоздна разговаривали о постановке «Чайки» и о mise en scène Станиславского, присланной из Григоровки.
В Любимовке Чехов провел тогда день-два, вряд ли больше.
«Если начну пьесу, то Ольгу с собой на дачу не возьму, буду жить отшельником», — откликнулся Чехов на приглашение Станиславского (II. 12 : 245). Раньше он мог работать в любой обстановке. Даже когда за фанерной перегородкой в соседней комнате шумела богема: художники, певички и актерки, компания брата Николая Павловича. Он и сам поминутно забегал туда, отрываясь от стола, чтобы развлечься. Теперь писал трудно, мучительно и нуждался в полной тишине.
Елизавета Васильевна согласилась на приглашение Чехова. Только не сразу, Станиславскому пришлось ее уговаривать. Чехову «хочется писать, и в Любимовке он будет это делать» (I. 8 : 453); «необходимо дать возможность Чехову написать пьесу, без которой нам будет плохо в будущем сезоне», а положение Чеховых «безвыходно», — звучало рефреном в его уговорах (I. 8 : 460).
У Чехова была открытая форма туберкулеза, а Елизавета Васильевна панически боялась простуд и инфекций. Станиславский и Лилина разделяли этот страх. Вопрос тем не менее решили в пользу Костиного гостя.
Елизавета Васильевна июнь и часть июля ежегодно проводила во Франции. Вернувшись из-за границы, она должна была поселиться у Нюши в соседней Комаровке, в пяти минутах от своего любимовского дома, подальше от заразы, если Чехов согласится на Любимовку, а в комнате, куда предполагали поместить Чехова, Станиславский обещал мамане осенью, после отъезда гостя, переклеить обои.
И Чехова Станиславский уговаривал выбрать Любимовку, пока Ольга Леонардовна будет лечиться во Франценсбаде. «Антону Павловичу не мешает пожить в Любимовке. У нас много типов», — говорил Станиславский Ольге Леонардовне, заманивая писателя на свою дачу (I. 8 : 462). Он тут же указывал на них: на маманю Елизавету Васильевну, старую хозяйку имения, купленного в 1860-х у дворян Туколевых, — дома с разросшимся яблоневым садом, с хозяйственными постройками вокруг него, теплицами, конюшнями и каретным сараем; на сестру Нюшу — Анну Сергеевну и брата Владимира Сергеевича, ближайших соседей Чехова по даче; на их детей; на няню; на алексеевскую прислугу.
Маманя — эта «живая натура», которую Станиславский предоставлял писателю вместе с жильем, — беспокоила его едва ли не больше, чем старый дом и имение, пришедшие в запустение из-за отсутствия настоящих хозяев. Алексеевы были в подмосковной Любимовке дачники.
«Заглядываю в будущее и волнуюсь […] за Антона Павловича. Модели через две приедет мать […] Спешу предупредить и сделать Вам ее характеристику» (I. 8 : 461), — писал Станиславский Ольге Леонардовне 13 из Франценсбада, набрасывая в пространных письмах ей и Антону Павловичу психологический портрет Елизаветы Васильевны.
«Моя мать — это маленький ребенок с седыми волосами», — писал Станиславский Чехову (I. 8 : 461), приготавливая его к встрече с Елизаветой Васильевной, никудышной помещицей, как с «типом», подходящим к задуманной пьесе о старухе, проигравшей в Монте-Карло свое разоренное русское поместье.
Образ великовозрастного маленького ребенка Станиславский впоследствии закладывал в образ Раневской своего режиссерского плана.
Когда Раневской у Чехова, прибывшей из-за границы домой, что-то мерещилось из детства — ее покойная мать, например, проходившая в белом платье по саду, — она у Станиславского «так живо» уходила в прошлое, что забывала, «что она не ребенок» (I. 12 : 325).
На копне во втором действии «Вишневого сада» Раневская и Гаев у Станиславского возились, как «расшалившиеся дети».
В третьем действии Раневская режиссерского плана приходила в хорошее расположение духа и «по-детски» увлекалась фокусами Шарлотты в сцене бала. В плохом настроении Раневская у Станиславского «необыкновенно искренна и жалка», серьезное придавливает ее. Расстраиваясь, она горько плачет, плачет, как дитя, — намечал Станиславский.
Дорошевич, посмотревший премьеру «Вишневого сада» в Художественном театре, жалел и Раневскую, и Гаева, «жалкого» в исполнении Станиславского, как «провинившегося ребенка».
«Они беспомощны, как дети.
Как дети.
Вот это-то и наполняет чеховское произведение щемящей грустью.
Перед вами гибнут, беспомощно гибнут старые, седые дети. И как детей, вам их жаль», — писал Дорошевич после премьеры.
Образом маленького ребенка с седыми волосами образ матери в письмах Станиславского к Чеховым, однако, не исчерпывался. Если бы эта детскость была единственной характеристикой мамани, он бы не затевал ее портрет.
Он стеснялся маманиной необразованности — «на втором слове перепутает “Чайку” с “Тремя сестрами”, Островского с Гоголем, а Шекспира с Мольером». И опасался ее неуравновешенности, проистекавшей от гремучей смеси в ней русского купеческого характера со взбалмошным французским. Тут Станиславский напрягался.
«Она наполовину француженка и наполовину русская. Темперамент и экзальтация от французов, а многие странности — чисто русские», — писал он из Франценсбада, причисляя к «странностям» мамани ее склонность к перепадам в настроении — от приступов веселости и 14 даже кокетства к дрожащим в голосе слезам (I. 8 : 461). Елизавета Васильевна и сына удивляла резкими противоречиями при общем ее очаровании: властность и деспотизм уживались в ней со щедростью и чуткостью души, беспредельной добротой и безмерным состраданием к больным и бедным.
Станиславский сообщал Чехову, что он может стать свидетелем непристойных скандалов — маманя тиха и добра, но и вспыльчива, и может раскричаться на прислугу в полную меру своего купеческого темперамента: «Да как! Как, бывало, кричали на крепостных!.. Через час она пойдет извиняться или баловать того, на кого накричала. Потом она найдет какую-нибудь бедную и будет дни и ночи напролет носиться с ней, отдавать ей последнюю рубашку, пока, наконец, эта бедная не обкрадет ее. Тогда она станет ее бранить» (I. 8 : 462).
Тот же портрет мамани давала и Нюша, Анна Сергеевна Штекер, хозяйка соседней с любимовской комаровской дачи, сестра Станиславского, в своих мемуарных записках: «Вспылит, накричит, но скоро у нее это проходило, и она становилась опять ласковой, доброй, как будто ничего не случилось, и даже казалась сконфуженной, как будто ей было совестно за свою горячность»1.
Станиславский унаследовал этот маманин характер — купеческий в мягком, либеральном его варианте. Предупреждая Чехова о странностях мамани, он набрасывал, в сущности, свой автопортрет. Он, как маманя, смолоду и в зрелые годы в работе с актерами был склонен к вспышкам, всплескам, разносам, был несдержан, срывался с тормозов — точь-в-точь как Елизавета Васильевна, когда она кричала на слуг, подобно завзятой крепостнице. «Я видел, как Константин Сергеевич менялся в лице и доходил до исступления в сцене суда над нами», — вспоминал артист театра Общества искусства и литературы Н. Д. Красов одну из репетиций со Станиславским (I. 16 : 117). Черты купеческого самодурства вместе с конфузливостью и совестливостью прорывались в нем обычно накануне выпуска спектакля, когда он, первый человек в театре, его хозяин, терял контроль над собой. Это знали все. В таких случаях рядом с ним в Художественном появлялся, по взаимному соглашению, Немирович-Данченко.
За вспышками следовали извинения. Как у мамани. Записочки с извинениями получали от него многие артисты. Чаще других — самолюбивая Ольга Леонардовна. Она не умела тут же, на репетиции, на глазах у присутствовавших подчиниться режиссеру и выполнить его указания. Многих актеров Станиславский доводил до слез, добиваясь того, что хотел видеть на сцене. Его замыслы лучше реализовывал с актерами Немирович-Данченко: «Ступайте к Владимиру Ивановичу: это по его части»2, — отсылал Станиславский актеров к Немировичу-Данченко. 15 Тот терпеливо прорабатывал с ними на репетициях психологический рисунок роли, давая ей литературное освещение.
С годами, совершенствуясь и цивилизуя себя, Станиславский преодолевал свою наследственную неуравновешенность. Изживая в себе черты купеческой вседозволенности, срывался все реже и становился в манере общения с людьми типичным российским интеллигентом.
Станиславский боялся сцен, на которые способна маманя, а еще пуще — что маманя чрезмерной назойливостью в своих ухаживаниях за Чеховым отпугнет его и он потеряет «уютность».
Он опасался и няни, и старика управляющего, и «странностей» безобидного брата. И готовил к ним писателя, представляя их и как своих родных, домочадцев и челядь, и как типы, подходящие к чеховскому замыслу новой пьесы: «Обращаю особенное внимание на старую няню Феклу Максимовну. Это штучка!.. Недурен тип управляющего (он никогда ничем не управлял). Все ждут, когда можно будет его отправить на пенсию, и боятся почему-то сделать это… так он и живет. Все вокруг разрушается, а он живет в свое удовольствие, никогда не следит за хозяйством» (I. 8 : 462).
Старая няня Фекла Максимовна, бывало, «разливалась слезами», если ей становилось «скучно жить» (I. 8 : 452).
Оберегая покой «своих», не жаловала «чужих».
«Если бы, милая маманя, ты написала бы при случае Фекле Максимовне, чтобы она не выкинула какой-нибудь штуки по отношению к Чеховым. От нее это станется. Чехов болезненно деликатный человек. Если только он почувствует, что его присутствие кого-нибудь стесняет, он уложит чемодан и убежит» (I. 8 : 460), — просил Станиславский маманю урезонить Феклу Максимовну. А сам думал о неловкости, которая может случиться, если вдруг и маманя не сдержится, выкажет свои страхи или выкинет свои «штуки». Знал ее взрывной характер: и от нее «могло статься».
Няню в последние годы вывозили из красноворотского дома в Любимовку «подышать воздухом». Она тихо молилась в своем кутке перед киотом и образами, освещенными лампадой, — на проходе в детскую, в комнату Киры и Игоря Алексеевых, детей Станиславского и Лилиной, где стоял ее старенький продавленный кожаный диван.
Она была преданнейшим человеком, членом семьи Алексеевых, и жила исключительно ее интересами, как Фирс, верный своим господам и их великовозрастным детям до гроба. Ее, еще крепостной, ожидавшей ребенка, молочного братика первенца Елизаветы Васильевны — Владимира Сергеевича, — папаня Сергей Владимирович «откупил» у ее хозяев и у мужа-пьяницы. Это было как раз в 1861-м. Волей, данной крепостным, она не воспользовалась, никуда от Алексеевых не ушла и вынянчила 16 всех детей Алексеевых — Сергеевичей. Никого, кроме Алексеевых, у нее не было.
Владимира Сергеевича няня боготворила и была привязана к нему больше, чем к собственному ребенку. Дети вместе росли. Нянин сын, когда вырос, оказался вором.
И Владимир Сергеевич был привязан к няне. Она так избаловала своего любимца, что он и сорокалетний в 1902 году шагу не мог ступить без нее: нуждался в ее опеке, как пятидесятилетний Гаев — в опеке дряхлого Фирса. Няня умерла в 1909-м в его доме, где жила «на покое». Не то, что няня сестер Прозоровых. Той, уже никчемной, ни на что не годной, пришлось на старости лет, в свои восемьдесят два, съехать на казенную квартиру при Олечкиной гимназии. В 1909 году Владимир Сергеевич сделал такую запись в «Семейной хронике»: «Няня до моего отъезда в Азию стала путать слова и засыпать. По моему возвращению я нашел ее тихою […] 7 января скончалась няня и моя кормилица Фекла Максимовна на 73-м году жизни» (I. 2. № 16147 : 38 об, 39).
Фекле Максимовне в 1902-м — шестьдесят шесть.
«Если бы Антону Павловичу захотелось музыки и пения, то у брата он найдет консерваторию. Пусть Вишневский сведет его к Володе. Сам он по болезненной застенчивости не решится придти. И долго будет кланяться и сопеть при свидании от конфуза. Володя — это удивительный человек, большой музыкант, погубивший свою карьеру», — продолжал Станиславский представлять своих родных Чехову и Ольге Леонардовне, рассчитывая, что Вишневский будет сопровождать Чехова в Любимовку, когда Ольга Леонардовна будет лечиться во Франценсбаде (I. 8 : 462 – 463). Станиславский отдавал должное музыкальному таланту Владимира Сергеевича. И подтрунивал над его слабоволием, не позволившим ему стать профессиональным музыкантом, и над полным отсутствием в нем, хозяине алексеевских фирм и Даниловской прядильни, необходимой директору административной авторитарности. Все были сильнее его, и всякий, имевший с ним дело, мог бросить ему в лицо: «Баба!» — как Лопахин Гаеву. И не только покойный Николай Александрович Алексеев Володю ни во что не ставил, но и его подчиненные, и даже прислуга, трепетавшая перед Паничкой, могли быть с ним непочтительными, как впоследствии с Гаевым чеховский Яша.
Каждый чеховский герой — немножко «человек, который хотел», сказал о себе чеховский Сорин.
Владимир Сергеевич Алексеев в этом смысле — абсолютно чеховский тип. Он не сумел построить жизнь по-своему, и жизнь подмяла его. «Кто не овладел жизнью, тем она владеет, Кто не ее господин — ее раб», — писал Николай Ефимович Эфрос, размышляя над чеховскими персонажами, которых «перевернула» жизнь, пользуясь их слабостью. Его статья о «Вишневом саде» и чеховских героях, по-прежнему не-героях, 17 появилась в московской газете «Новости дня» через три дня после премьеры в Художественном.
Константин Сергеевич жалел брата и всех, кто слаб, вял, безволен, кто бесхарактерен. Жалел, любя, всех, вплоть до императора Николая II. «Бедный царь, должно быть, он очень беспомощен», — писал он мамане из Франценсбада о Николае II, прослышав, что немецкие газеты сообщили, будто царь намерен пригласить Льва Николаевича Толстого и «двести выборных из народа и интеллигенции, чтобы просить у них совета о новых государственных мероприятиях» (I. 8 : 460). Просить совета, пусть и у Толстого, было проявлением монаршей слабости.
Маманя больше, чем Чеховым, интересовалась «своим Государем», оттого Станиславский и писал Елизавете Васильевне о нем. Сказывалось ее петербургское детство. Ее отец старался для Государя, поставляя из финских каменоломен с риском для жизни цельную мраморную громаду для Александрийского столпа, украсившего площадь перед царским Зимним дворцом. А Елизавета Ивановна Леонтьева, гувернантка сестер Яковлевых, Мари и Адель, в молодости, до Яковлевых, служила то ли у знатного генерала, то ли у великого князя, бывала на балах у Николая I, знала Жуковского, наставника цесаревича Александра II, и воспитывала из девочек Яковлевых верноподданных государевых слуг. Этот дух сохранялся в мамане до конца ее дней. В этом духе она воспитала и своих детей.
Опомнившись, что перебарщивает в письмах Чеховым, возможным любимовским дачникам, со «странностями» ближайших их соседей по даче, их будущих знакомцев — мамани, брата и няни, Станиславский хватал себя за руку: «Однако! Зачем я все это пишу? Не то я осмеиваю своих, не то рекламирую их. Нет, это не так… Я их всех очень люблю» (I. 8 : 463). В этой оговорке Станиславского — «осмеиваю» и «люблю» — был весь Чехов с его интонацией юмора и сочувствующей, соболезнующей грусти, пронизывавшей его фельетоны в будильниковской рубрике «Среди милых москвичей». Их он вышучивал и, не хваля и не умиляясь, жалел: «осмеивал» и жалел, любя.
Сам того не сознавая, Станиславский смотрел на родных, их портретируя Чехову, чеховскими глазами, видел их чеховским, двойным зрением — любуясь ими и над ними посмеиваясь. Как только вспоминал смешную домашнюю сценку, так сразу же думал: ее «не мешало бы показать Чехову» (I. 8 : 452). Не отдавая себе отчета, он писал Чеховым свои письма в характерной чеховской стилистике. Если бы он так смотрел на чеховских персонажей, когда ставил «Вишневый сад», между ним и Чеховым не возникло бы противоречий, отметивших спектакль Художественного театра.
Станиславский готов был создать Чеховым соответствующие условия, если бы они захотели пожить в Любимовке вдвоем, так, чтобы 18 Чехов мог «отшельничать», а Ольга Леонардовна — приходить в себя. Он готов был отдать им в полное распоряжение обе половины большой алексеевской дачи, купленной для двух семей — папани и тетки Веры Владимировны Сапожниковой. Дом был настолько удобен, а сад и парк возле него так разрослись, давая тень, что Чеховы могли бы уединяться и не мешать друг другу.
Чеховы не имели ни собственного дома в Москве, ни дачи в Подмосковье, о которой мечтали. Особенно Ольга Леонардовна. Станиславский, чтобы снять со своих дачников все комплексы, связанные с его богатством и их интеллигентской бездомностью, каламбурил, элегантно обращая риторику в шутку — в духе Антона Павловича. Скромное подмосковное сельцо Любимовка, будь оно отмечено пребыванием Чеховых, не уступит в будущем по популярности туристическому мемориалу пушкинского Царского Села, — писал он Ольге Леонардовне из Франценсбада, Чехову не решился: «На стенах дачи мы поместим две мраморные доски. Одна из них будет гласить: “В сем доме жил и писал пьесу знаменитый русский писатель А. П. Чехов (муж О. Л. Книппер). В лето от Р. Х. 1902”. На другой доске будет написано: “В сем доме получила исцеление знаменитая артистка русской сцены (добавим для рекламы: она служила в труппе Художественного театра, в коем Станиславский был актером и режиссером) О. Л. Книппер (жена А. П. Чехова)”. Потом в саду появятся “березка Чехова”, “скамейка Книппер”, и все эти реликвии будут огорожены решеткой […] Когда же мы провалимся с театром, мы будем пускать за деньги осматривать наши места. Как видите: большой вопрос — кто кому окажет любезность и принесет пользу» (I. 8 : 456).
«В сем доме жил и писал пьесу знаменитый русский писатель А. П. Чехов…»
«Писал пьесу…» — проходит рефреном в письмах Станиславского.
Планы Чеховых в канун их любимовского лета непрерывно менялись.
Поездка Ольги Леонардовны во Франценсбад не состоялась.
Проплыв с Саввой Морозовым на пароходе до Перми, Чехов отдыхать на Урале не остался. Через три дня повернул обратно. Волновался за жену, хотя ежедневно получал от нее письмо или телеграмму, и сам с той же частотой отвечал ей.
5 июля 1902 года Чеховы с дозволения врачей и в сопровождении Вишневского водворились в Любимовке. Алексеевы умолили Вишневского задержаться подле Чеховых. Он оставался в России их связным доверенным лицом.
Чехов пробыл в Любимовке до 14 августа.
Станиславский и Лилина с детьми вернулись из-за границы 19 августа.
19 Ольга Леонардовна, дождавшись возвращения хозяев, оставалась в Любимовке вместе с ними до начала сезона в театре.
Радушные Станиславский и Лилина продумывали малейшие шероховатости, которые могли возникнуть у Чеховых в контактах с алексеевским родовым гнездом. Зная болезненную деликатность Антона Павловича, они старались предугадать каждое его желание, облегчить каждый его шаг. Оставляя Чеховым старый дом с бездарным управляющим в полное распоряжение и с няней в детской на первом этаже, Станиславский и Лилина велели Чехову и Вишневскому жить наверху, на втором этаже. Там тихо и даже в дождливую погоду сухо. Ольге Леонардовне, еще не оправившейся после болезни, велено было расположиться внизу, в спальне, чтобы не подниматься по крутой лестнице, и больше времени проводить на террасе, где можно целый день лежать и откуда видны лес, поле, деревня, железнодорожный мост с проходящими поездами и дорога в усадьбу Алексеевых со множеством хозяйственных построек.
«Займите нашу спальню и сделайте из нее свою», — собственноручно писал Станиславский Ольге Леонардовне (I. 8 : 456).
Лилина любила поэтичный вид, открывавшийся с террасы, любила с тех пор, как Станиславский в мае 1889 года, тринадцать лет назад, привез ее в Любимовку. И была уверена, что и Ольге Леонардовне он понравится.
Лежа на террасе, Ольга Леонардовна «пьянела» от воздуха, Сельский пейзаж утешал. Когда поздней осенью 1902-го, включившись в работу, она вспоминала Клязьму, Любимовку, нелепого садовника, сенокос на том берегу, запах липы, плотик, солнечные закаты, — на душе ее становилось «очень хорошо и мягко». «Здесь очень хорошо, просто, гладко, никаких красот, кроме реки Клязьмы», которая «протекает близко от дома», — писала она Евгении Яковлевне Чеховой, матери Антона Павловича (II. 1. К. 77. Ед. хр. 10 : 23).
«Если Вы привыкли к своей горничной, то возьмите ее, она может поместиться внизу в комнате рядом с детской […] Если не хотите брать горничной, то Дуняша Вам все сделает […] Насчет кухарки […] Если у Вас есть хорошая, к которой Вы привыкли, то мой совет: возьмите ее, потому что тогда Вы будете совсем как у себя. Кухня у нас отдельная и помещения для кухарки отдельные», — писала Лилина Ольге Леонардовне (I. 2. № 3384).
Чеховы своей горничной не взяли, согласились на алексеевскую Дуняшу — Авдотью Назаровну Копылову. По имени и отчеству ее никто не называл. И кухарку не взяли. Обеды из кухни им носил Егор, Егор Андреевич, лакей Станиславского. Он же прислуживал за столом.
20 Когда Чеховы поселились в Любимовке, Станиславский расширил свой список любимовских «типов», подходящих для пьесы, Дуняшей и Егором, советуя Чехову присмотреться и к ним.
По поручению Лилиной Вишневский свел Ольгу Леонардовну с Дуняшей, и они «до всего договорились, так что с этим вопросом можно считать дело поконченным, — отчитывался Вишневский Лилиной. — Вы не смейтесь, дорогая Мария Петровна, но было мне невыразимо приятно даже видеть Дуняшу, и на душе сделалось тепло в ожидании Любимовки», — добавлял он (I. 3. Оп. 3. Ед. хр. 21 : 13).
До переезда Чеховых Дуняша протопила дом. Погода в конце июня стояла холодная. «Сегодня, например, холод собачий и целый день и ночь проливной дождь», — писал Вишневский Лилиной, представляя, как «прескверно» при такой погоде в загородном доме, где никто не живет, «а жильцы будут здоровьем неважные».
За Дуняшу при Чеховых Станиславский был спокоен. Он знал ее со своих гимназических лет — деревенской девушкой. У Алексеевых она расцвела, превратилась в барышню и постарела. Это та самая Дуничка К, которая в начале 1880-х, двадцать лет назад, «утешала» баловня Костю Алексеева, потерпевшего фиаско у фифиночек — у Сонечки Череповой и у петербургской балерины Анны Христиановны Иогансон Родив ребенка, Дуняша не ушла от Алексеевых. Продолжала вести их хозяйство почти как экономка, помогала во всем — даже принимала роды у Лилиной. Трижды. Первая девочка Станиславского и Лилиной умерла младенцем.
Дуняша не занимала места в душе и сердце Станиславского. Мук совести он не испытывал и в герои толстовского «Воскресения» не годился. Человек другой среды, образа жизни и воспитания, чем князь Нехлюдов, дитя природы и патриархальных родителей, он не ведал, что творил. Мудреных толстовских вопросов молодые богатые купчики себе не задавали и об искуплении вины страданием или о нравственном совершенствовании, как и о возможности социального протеста униженных и оскорбленных, не задумывались. Да и Дуняша не испытывала, служа господам, ни униженности, ни оскорбления. Она чувствовала себя на своем месте. На месте горничной у барина Константина Сергеевича и барыни Марии Петровны.
Дуняшин Володя жил вместе с матерью. И рядом со Станиславским.
В лето 1902-го Дуняшиному Володе — девятнадцать.
Исполнительность Дуняши была проверена годами.
По поручению Константина Сергеевича и Марии Петровны она хлопотала по дому — протапливала и убирала комнаты, накрывала стол к утреннему чаю, ставила самовар и ходила за барыней Ольгой Леонардовной.
21 Егор присматривал за барином Антоном Павловичем и исполнял его поручения. Если бы Антону Павловичу вдруг что-нибудь понадобилось бы в Москве, пиво например (Станиславский знал, что Чехов любит мартовское пиво и стрицкое пиво «Экспорт»), он должен был написать записочку, Егору следовало передать ее Владимиру Сергеевичу Алексееву. Тот каждый день ездил на фабрику, кучер Пирожков утром отвозил его к ближайшей железнодорожной платформе Тарасовка, где останавливался поезд из города и в город, а вечером встречал. Владимир Сергеевич переправлял просьбу Чехова управляющему красноворотского дома и вечером привозил заказ в Любимовку.
Прикомандированный к Чехову, Егор внушал Станиславскому тревогу.
Станиславский волновался за пиво, столы, скамейки, экипажи и за лодки, находившиеся в ведении Егора. С лодки Чехов удил рыбу, сосредоточиваясь в тишине на чем-то своем. Удочки он возил свои. «Чувствую, что Егор забыл про лодку. Она существует, хотя, вероятно, в жалком виде. Скажите ему, чтоб ее спустили и поправили», — еще и еще раз напоминал Станиславский Ольге Леонардовне (I. 8 : 461). На управляющего, из-за которого все вокруг разрушалось и приходило в негодность, не надеялся.
Станиславский предупреждал Антона Павловича, что Егор ленив и демагог, и инструктировал его, как вести себя с ним, если тот будет отлынивать от дел и приставать с разговорами. Он сам частенько разговаривал с Егором, когда летом, отправив жену и детей в Любимовку или к Юре под Харьков, оставался в городе без семьи, в одиночестве. «Нет сил сидеть в компании с Егором», — жаловался он тогда Лилиной (I. 8 : 191).
Егор был грамотный, читал душещипательные романы, подтаскивая их из шкафов о трех растворах в библиотеке красноворотского дома, собранной Елизаветой Васильевной и Сергеем Владимировичем, и книги серьезные из режиссерской библиотеки Станиславского, не разрезанные барином. Тому было некогда. Егор мнил себя «развитым» не меньше господ и любил с господами потолковать о прочитанном. А по части городской московской жизни он точно был осведомленнее Станиславского, слишком загруженного делами фабричными и театральными. Егор приносил домой слухи о происшествиях. Он был в гуще московских событий. В мае 1896 года, например, во время коронации Николая II, его занесло на Ходынское поле, и Станиславский со слов Егора тогда же, в мае 1896 года, сообщал подробности жене, отдыхавшей с детьми под Харьковом: «Что пишут в газетах — неправда. Было что-то совершенно необъяснимое, Шеренга каких-то сумасшедших брались за руки и толкали народ вперед. Говорят, что этим занимались морозовские мастера. Давили до того, что падали в рвы и канавы. 200 человек попадали в колодцы, так как их забыли прикрыть. Егор был вечером и 22 говорит, что горы тел свалены. У многих оторваны челюсти, ноги, руки. По Тверской навстречу Государю возили возами тела» (I. 8 : 176).
Что Егор будет отлынивать от обязанностей, Станиславский не сомневался. «Прикажите Егору в разных уединенных уголках сада и парка поставить столы и стулья. Со свойственной ему привычкой он будет говорить, что это очень трудно сделать… что нет столов… Но Вы настойте, потому что столы есть, и это нетрудно. Во время Вашего пребывания я больше всего боюсь Егора. У него плохая школа и много пафоса. Если он задекламирует, гоните его и позовите Дуняшу, горничную, она поосновательнее», — писал Станиславский Чехову (I. 8 : 454 – 455). Подстраховываясь, он поручал Дуняшиному Володе быть у Егора на подхвате.
Чехов Егора не гнал. Напротив, проявлял к этому «типу» благосклонное внимание, а «тип» и с барином Антоном Павловичем не церемонился. Все лето пристраивался к нему с разговорами. «Чехов часто беседовал с ним», — вспоминал Станиславский (I. 4 : 342). Вишневский письменно докладывал ему обо всем.
«Егор, нельзя же быть лакеем, это ужасная служба — вы же грамотный», — говорил Чехов Егору, а Вишневский записал (II. 1. К. 66. Ед. хр. 136 : 4).
И с Дуняшей Чехов разговаривал. «В Любимовке Антон Павлович взбудоражил всю прислугу. Он стал ей говорить, что теперь такое время, что все должны быть образованными. Стал настоятельно советовать горничной, уже довольно пожилой женщине, чтобы она зимой ходила на вечерние курсы, лакею […] чтобы он учился французскому языку», — рассказывал Станиславский интервьюеру в 1914-м, вспоминая любимовское лето Чехова (I. 7 : 467). О том, что речь идет именно о Дуняше и Егоре, не названных по именам, свидетельствуют черновые записи Станиславского: «Жизнь Чехова в Любимовке. Прототип Дуняши — Дуняша […] Егор — прототип Яши, отчасти Епиходова по мудреной речи […] Они захотели учиться. Дуняша — по вечерам курсы, Егор — по-французски» (I. 14 : 20).
Поселившись в Любимовке, Чехов окунался в налаженный алексеевский быт с горничными, кухарками, прачками, лакеями, с другой прислугой. Челядь жила в постройке рядом с господским домом. Чехов явно приглядывался ко всем любимовским «типам», неожиданно ворвавшимся в его жизнь: к няне, управляющему, как велел Станиславский, к Егору и Дуняше, к Дуняшиному Володе, к обитателям соседних деревенек — Финогеновки, Комаровки, Тарасовки, к родственникам Станиславского: Сапожниковым, Штекерам, Смирновым и к их прислуге.
Ни к няне, ни к Егору с Дуняшей он претензий не имел. Он чувствовал себя на подмосковной даче Станиславского лучше, чем дома. Бессознательно, с таганрогской бездомности, он тянулся к такому, отлаженному предками, буржуазному быту. В сущности, он не обрел его в 23 Ялте, «у себя». Провинциальная Ялта, как и Таганрог, была слишком далеко от столиц, от Москвы, куда он всегда стремился. А Любимовка — близко.
Благодарные за гостеприимство, Чеховы и Вишневский при них писали Алексеевым во Франценсбад, в Люцерн, по всему их европейскому маршруту.
«Нянюшка Ваша славная», она скучает по детям и совсем не мешает нам, — успокаивала Ольга Леонардовна Станиславского и Лилину.
Тихо молившаяся на проходе в детскую, няня не причиняла Чеховым хлопот и не нарушала их покоя. Чехов испытывал к ней особую нежность. Ему и в детстве, и сейчас, в его годы, когда он нуждался в уходе, не хватало такой Феклы Максимовны, которая приголубила бы его, как нянька Марина — Серебрякова, поцеловала бы в плечо и попричитала бы над ним: «Пойдем, батюшка, в постель… Пойдем, светик… Я тебя липовым чаем напою, ножки твои согрею… Богу за тебя помолюсь. У самой-то у меня ноги так и гудут, так и гудут» (II. 4 : 78). Сурово-сдержанный Чехов, скрывавший от близких свою немощь, никого не обременявший его, посвятил няням пронзительные строки.
«Здесь как бы весь Чехов» — петербургский литератор Д. В. Философов на этой реплике няньки Марины из «Дяди Вани» построил свою знаменитую статью «Липовый чай», написанную к пятилетней годовщине со дня смерти Чехова3. Нянька Марина не вылечила больного профессора, не вернула на кафедру, где тот купался в счастье. Но Чехов, подобно Марине, несомненно помогал людям, внося в «атмосферу всеобщего недомогания и раздражения» «нелепую, человеческую ласку»: «Он с особым искусством умел поить нас лиловым чаем, а главное — за всеми его словами чувствовалось, что ножки у него так и гудут, так и гудут», — писал Философов, размышляя о творчестве Чехова4.
Будущее России, возрождение России — «не в свободном слове ума и науки, а лишь в последнем слове любви», сказанном няней или умирающим преданным Фирсом, в этом «липовом чае», — считала редакция религиозно-философского журнала «Новый путь» Философова -Мережковских5.
Отголоски няниной истории — алексеевской няни Феклы Максимовны Обуховой — слышатся в рассказе восьмидесятисемилетнего Фирса: «Воля вышла, я уже старшим камердинером был. Тогда я не согласился на волю, остался при господах» (II. 3 : 222). А отголоски истории няниного сына, осужденного за воровство, — в истории молодого Фирса, отбывшего за воровство срок. Рассказ Фирса о себе, безвинно пострадавшем, и о родителях Раневской и Гаева — Андрее Гаеве с супругой, пригревших его, когда он вышел из тюрьмы, — в опубликованный при жизни Чехова текст «Вишневого сада» не вошел. Чехов изъял его 24 по просьбе Станиславского, соглашаясь с требованиями «сценичности» пьесы.
Безымянной няни Раневской и Гаева нет среди действующих лиц чеховского «Вишневого сада». Однако она появлялась в пьесе Чехова собственной персоной. Может быть, застряла в пьесе из черновых заготовок Чехова? «Без тебя тут НЯНЯ умерла», — сообщал Гаев сестре, вернувшейся из Парижа, как только они оба, растрогавшись встречей, окунулись в детство, неотрывное от няни — вроде чеховской Марины или алексеевской Феклы Максимовны.
А Симов, бывавший в Любимовке и работавший над декорациями «Вишневого сада» в Художественном театре, как обычно, в тесном контакте со Станиславским, предусмотрел в обстановке первого акта комнату няни, которой тоже нет у Чехова, — она была как бы за перегородкой в детской. В проходе за «многоуважаемым шкафом» стоял «нянин» кожаный диван. «Кофе я буду пить на старом диване […] диван — вроде как стоял в длинной проходной комнате, рядом с нашей столовой. Помнишь?» — рассказывала Ольга Леонардовна Чехову о том, как поздней осенью 1903 года репетировали в Художественном премьеру «Вишневого сада».
И Егор, которого нет среди действующих лиц пьесы Чехова, появлялся в «Вишневом саде» под собственным именем — среди гаевской дворни. Видно, сильно озаботил Станиславский Чехова своими опасениями насчет Егора. Они оправдались не в реальности, к счастью, а в драматургической версии Чехова. Безответственность Егора в пьесе оказалась зловещей. Егор должен был отправить Фирса в больницу. И не отправил его. Именно Егор забыл Фирса в заколоченном доме:
«Аня (Епиходову, который проходит через залу). Семен Пантелеич, справьтесь, пожалуйста, отвезли ли Фирса в больницу.
Яша (обиженно). Утром я говорил ЕГОРУ. Что ж спрашивать по десяти раз!» (II. 3 : 246)
Чеховы и Вишневский в три голоса уверяли Станиславского, что няня им — совсем как родная и что Дуняша и Егор все отлично устроили. Вишневский писал накоротке Марии Петровне: «Дуняша и Егор так внимательны ко всякой нашей мелочи, что я сказать Вам не могу» (I. 3. Оп. 3. Ед. хр. 21 : 19). «Егор и Дуняша очень заботливы и радушны, — вторила Вишневскому Ольга Леонардовна, расписывая ялтинским Чеховым в подробностях, как ухаживает прислуга за Чеховым, как заботится о его покое. — При каждом появлении какой-нибудь барышни лица у прислуги делаются неприятными; даже, говорят, благовестить запретили громко» (II. 1. К. 77. Ед. хр. 16 : 15).
Барышни — это родные и двоюродные племянницы Станиславского с соседних с Любимовкой родительских дач в Тарасовке, Комаровке и Финогеновке: Маня, Наташа, Женя и Таня Смирновы, дочери Сергея 25 Николаевича и Елены Николаевны, урожденной Бостанжогло; Соня Штекер, дочь Анны Сергеевны, сестры Станиславского; девочки Сапожниковы, дочери Владимира Григорьевича и Елизаветы Васильевны, урожденной Якунчиковой.
Благовестившая на всю округу, старинная, XVII века, ровесница любимовского дома с ушами, церковь Покрова Святой Богородицы на территории алексеевской усадьбы была благоустроена и украшена покойными Сергеем Владимировичем, старостой Болшевского прихода, и Николаем Михайловичем Бостанжогло, хозяином тарасовской дачи. В этой церкви венчались в 1880-х одна за другой дочери Николая Михайловича — Александра Николаевна Бостанжогло-Гальнбек и Елена Николаевна Бостанжогло-Смирнова и старшие дети Елизаветы Васильевны и Сергея Владимировича: Владимир Сергеевич с Прасковьей Алексеевной; Зинаида Сергеевна с доктором Костенькой Соколовым; Анна Сергеевна с Андреем Германовичем Штекером, потомственным почетным гражданином Москвы, коммерсантом, служащим бумагопрядильной фабрики; Станиславский с Лилиной в 1889-м. В 1890-х венчались младшие Алексеевы — Люба с Г. Г. Струве и Борис с О. Н. Полянской. Свадьбы справляли по всем дедовским канонам — с шаферами, с детьми, держащими длинный шлейф невесты, с многолюдным застольем после венчания и непременным заграничным свадебным путешествием.
Старые тени витали над куполом церковки, оберегая покой любимовских, финогеновских, тарасовских, комаровских, куракинских прихожан. А Владимиру Сергеевичу Алексееву, подходившему к окну, когда она благовестила, казалось всякий раз, что вот-вот сам папаня в парадном черном сюртуке по случаю великого праздника, в шляпе и с тростью чинно прошествует по узкой тропинке, протоптанной от дома к церковке, откуда уже доносилось пение.
Когда в четвертом чеховском акте расчувствовавшийся Гаев надевает теплое пальто с башлыком, чтобы навсегда покинуть дом и сад, проданные с торгов за долги, и говорит, отворачиваясь к окну, чтобы скрыть подступающие к горлу рыдания: «Помню, когда мне было шесть лет, в Троицын день я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь…» (II. 3 : 252), — «Вишневый сад» просто размыкается в Любимовку. Кажется, что Андрей Гаев — уже не Гаев, а Сергей Владимирович Алексеев, и не Леонид Андреевич Гаев, а Владимир Сергеевич Алексеев переносится в свое любимовское детство.
«Летняя, славненькая, и слышно пение, когда сидишь в саду или на террасе», — писала о церковке Ольга Леонардовна ялтинским Чеховым, рассказывая им о своем с Антоном Павловичем житье-бытье (II. 1. К. 77. Ед. хр. 16 : 15).
Церковное пение и малиновый звон Чехов любил. Он любил, когда в юности жил в Москве, рано встать, зажечь свечи, сесть за письменный 26 стол, и если на дворе звонили — работа ладилась. А звон любимовской церковки ему не нравился, если верить Вишневскому. Чехов говорил Вишневскому, что вообще хороший звон можно слышать только в Страстном монастыре в Москве. Тем не менее весь месяц в Любимовке он каждую субботу и каждый церковный праздник приходил к ограде, садился на скамейку и слушал благовест. Вишневский как-то спросил у Чехова, когда они сидели у церковных ворот: «Скажите, Антон Павлович, отчего Вы так любите колокольный звон и так много говорите о нем?» Чехов, помолчав, посмотрел вверх на густую листву и ответил: «Это все, что у меня осталось от религии» (II. 1. К. 66. Ед. хр. 136 : 3).
И Зинаида Григорьевна, жена Саввы Тимофеевича Морозова, записала подобное и в тех же словах: «Я не могу равнодушно слушать церковный звон, — говорил Антон Павлович Зинаиде Григорьевне. — Я вспоминаю детство, как я […] ходил к заутрене. А в пасхальную ночь я теперь иду на Москворецкий мост, где на реке разливается звон сорока сороков. Вот и все, что у меня осталось от религии»6.
Первые две недели Чеховы провели в Любимовке без Елизаветы Васильевны — в соседстве с распорядительной Прасковьей Алексеевной, женой Владимира Сергеевича, и под деликатной опекой Анны Сергеевны Штекер. Подготовленный Станиславским, Чехов ждал приезда Елизаветы Васильевны из-за границы. Он видел, как готовились родные к встрече старой хозяйки имения. «Сейчас идут хозяйственные приготовления в Любимовке по поводу приезда Елизаветы Васильевны и Любовь Сергеевны в Комаровку», — сообщал Вишневский Лилиной (I. 3. Оп. 3. Ед. хр. 21 : 19). Чеховы наблюдали, как суетились алексеевские слуги, убирая и украшая ее апартаменты, — Дуняша; Дуняшин Володя; Егор; даже управляющий имением; садовник, срезавший для гостиной букет. Вся прислуга была на ногах. Андрей Германович Штекер, Нюшин муж, хлопотал под окнами в каретном сарае, отправляя экипажи на станцию к утреннему поезду из города, и сам с кучером, Дуняшиным Володей и Егором встречал Елизавету Васильевну с дочерью Любовью Сергеевной на железнодорожной платформе Тарасовка.
Кажется, сбывались надежды Станиславского на то, что «живая натура» будет полезна Чехову. У писателя, должно быть, вызревала ситуация первой сцены первого акта «Вишневого сада» и обрастал реальностью образ немолодой помещицы, мечущейся между Францией и Россией, между Парижем, дачей в Ментоне и запущенным загородным русским имением.
«Старуха из Монте-Карло» возвращалась домой из Франции…
… Молоденькая горничная Гаевых Дуняша, Авдотья Федоровна Козодоева в день приезда барыни встала рано-рано. Протопила дом. Смахнула последние пылинки со столетнего книжного шкафа. Сияла чехлы с полуразвалившейся мягкой мебели, ровесницы дома, и с такого 27 же возраста люстры в нижней гостиной. Накрыла стол скатеркой с вензелями Гаевых бабушек и прабабушек, вышитых в углах их крепостными мастерицами. Поставила в вазу цветы, присланные садовником. И обмерла, похолодела вся, заслышав цокот копыт под окном: «Едут! […] Я сейчас упаду… Ах, упаду!»
И Любовь Андреевна Раневская, урожденная Гаева, хозяйка имения, завещанного ей родителями, в сопровождении дочери, ее гувернантки и молодого лакея; приемной дочери, брата и старого лакея, встречавших ее на станции, впорхнула в детскую через нянину проходную.
Так начинается чеховский «Вишневый сад».
Любимовка и ее «типы», описанные Станиславским в письмах к Чеховым, годились для пьесы и могли попасть в нее, так что представления их Станиславским Чехову получались чем-то вроде заказа писателю — места действия и действующих лиц, очень деликатного, обернутого шутками, не заметного ни исполнителю, ни заказчику.
Благодаря Чеховым, Вишневскому и Елизавете Васильевне картина любимовского лета Чеховых восстанавливается объемной, с житейскими подробностями и широким кругом лиц из алексеевско-бостанжогловского клана в третьем и четвертом коленах, попавших в поле зрения Чехова. Антон Павлович и Ольга Леонардовна писали в Ялту Евгении Яковлевне и Марии Павловне Чеховым. Мать и сестра Антона Павловича не привыкли расставаться с ним надолго, на целое лето, и Ольга Леонардовна, невольная разлучница, считала своим долгом держать родных мужа в курсе всех дел. И Антон Павлович не забывал своих.
Переписка у них и у Вишневского, связного Чеховых и Алексеевых, получилась обширная.
Информация о Чеховых поступала к Алексеевым и через Анну Сергеевну. Нюша в отсутствие Елизаветы Васильевны присматривала за столом и хозяйством Чеховых, помогая Вишневскому, и исправно писала мамане, а маманя пересказывала Нюшины отчеты в письмах к Косте, отдыхавшему с семьей в Германии, во Франценсбаде, потом, по дороге домой, в Швейцарии.
Елизавета Васильевна вообще много писала писем, писала по ночам, путая день с ночью, писала всем детям и внукам, списываясь из Парижа, а потом из Любимовки еще и с младшей своей дочерью Маней, Марией Сергеевной. Маня с детьми от распавшегося первого брака — с Женей и Сережей Олениными — жила в июле и в августе в Кисловодске, лечилась у доктора Оболонского, приятеля Чехова его холостых лет и мужа Сонечки Череповой, Софьи Витальевны, бывшей Костиной подружки. Доктор нашел у Мани сильное нервное истощение.
Женя и Сережа Оленины получали от бабушки Елизаветы Васильевны иллюстрированные открытки с видами Парижа и с ее коротенькими 28 приписками. Например, такой — на открытке с изображением Парижской «Орет». Ее невозможно не привести: «Ангелочек мой родной Женюша, как поживаешь, не соскучился ли ты о бабе Лизе, а я так страшно скучаю по вас с мамой, кажется еще целую вечность не увижу вас. Здесь ты видишь оперный театр, верно папа твой будет в нем петь когда-нибудь, и вы с мамочкой сюда приедете. Только бабы Лизы с вами, верно, не будет, вот о чем я горюю, моя детка родная. Будь весел и здоров. Пиши бабе Лизе. Целую тебя. Лиза» (I. 2. № 16846).
Манины дети и дети Станиславского и Лилиной, Кира и Игорь, получали от бабы Лизы трогательные записочки и по возвращении ее в Россию. Об их любимовских собачках, например: «У нас пресмешной щенок, его все ужасно любят, он толстун и блестит шерсть его, точно он атласный. Он играет с Кубышкой» (I. 1).
«Кубышке и Цыгану поклон особый», — писал Чехов в одном из первых писем Ольге Леонардовне уже из Ялты в Любимовку (II. 13 : 14). Он привязался к ним.
Поселившись у Нюши, Елизавета Васильевна продолжала свою переписку: и с сыновьями Костей и Володей за границей, и с Маней в Кисловодске, и с внуками Олениными, и с внуками Алексеевыми. Им сообщала об их кузенах и кузинах, их сверстниках, о детях Володи Алексеева, Нюши Штекер, Лены Бостанжогло-Смирновой и Саши Бостанжогло-Гальнбек, об их забавах и шалостях, обо всей любимовской молодежи. Смирновы и Гальнбеки жили на даче в бостанжогловской Тарасовке. И хотя центр алексеевской жизни с конца 1890-х резко сместился в сторону Станиславского, театральной знаменитости, Елизавета Васильевна оставалась между всеми Алексеевыми и Бостанжогло, распавшимися на семьи, скрепляющим звеном.
Опасения Станиславского относительно мамани и Чеховых оказались напрасными. Вернувшись из Франции, Елизавета Васильевна все заботы о них взяла на себя, освободив Нюшу. И не сорвалась. Чехов симпатизировал Елизавете Васильевне, обставлявшей заботы о нем с Ольгой Леонардовной по-русски «талантливо и со вкусом»: без педантства, не стесняя ничьей свободы. Так могло быть только в родовом гнезде с патриархальными семейными отношениями, больше нигде. «Ваша мать — прекрасная женщина. И имение очень хорошее», — признавался Чехов Станиславскому (I. 7 : 467).
И Ольга Леонардовна успокаивала Станиславского: «Антон Павлович чувствует себя отлично, находит Вашу матушку интересной женщиной […] Она такой чудесный, такой необыкновенной доброты человек. От нее глаз не оторвешь, когда она говорит с такой любовью о своих детях, о своих внучатах. О нас она тоже заботится и хлопочет, но ради бога, не думайте, что это могло бы быть в тягость и нарушило бы покой 29 нашего писателя. Мы, наоборот, тронуты ее вниманием» (I. 2. № 8627).
Чехов давно так покойно не проводил лета.
Вставали в восемь утра, в час обедали, ужинали в семь, в десять или в половине одиннадцатого ложились спать. Как в санатории или как в усадьбе Войницких до приезда в нес Серебряковых, нарушивших привычный распорядок дня.
«Вот какую скромную и порядочную жизнь мы ведем в Любимовке. Хозяйничаю я здесь недурно, и сам заказываю обеды и ужины», — писал Вишневский Лилиной (I. 3. Оп. 3. Ед. хр. 21 : 18 об.).
«В доме питаемся и спим, как архиереи», — успокаивал Антон Павлович Станиславского (II. 13 : 11). Тот все волновался, как живется Чеховым на его даче.
За обедом, чаем и ужином Чехов всех, по обыкновению, смешил. «Насколько нам хорошо живется в Любимовке благодаря Вашей любезности, — писал Вишневский Лилиной, — можете судить по тому, что Антон Павлович часто говорит: “От такой хорошей жизни сделаюсь, пожалуй, оптимистическим автором и напишу жизнерадостную пьесу”. Но вот последнему я очень мало верю, ибо то, что он иногда проболтнет, уже чувствуется опять чеховская скорбь. Бог с ним, пусть пишет, что хочет, лишь бы была новая чеховская пьеса! А она будет к сезону — за это я Вам поручусь», — обнадеживал Вишневский Алексеевых (I. 3. Оп. 3. Ед. хр. 21 : 17).
«Проболтает…»!
Ко сну, к завтракам, обедам и ужинам, поднимавшим настроение дачников, относились с таким вниманием, что по письмам Вишневского и Чеховых можно восстановить их меню.
Часто ели белые грибы. Они росли прямо у крыльца. Белые грибы для Чеховых собирала Женя Смирнова, третья по старшинству из дочерей Клены Николаевны Бостанжогло-Смирновой после Мани и Наташи. Женя сидела на веслах, когда Чехов изъявлял желание покататься на лодке. Значит, лодку Егор все же приготовил к приезду Чеховых. Впрочем, и у Смирновых, и у Сапожниковых, и у Третьяковых, куракинских дачников, были собственные лодки.
Свое письмецо Антону Павловичу зимой 1902 года, уже после Любимовки с Чеховыми, Женя Смирнова так и подписала: «Уважающий Вас гребец Женя Смирнова».
Часто варили уху из щук, окуней, ершей, плотвы. Особенно много рыбы водилось в смирновской купальне. Станиславский рекомендовал Чехову ловить там. Даже Ольга Леонардовна однажды, когда собралась удить, поймала там с ходу двух ершей.
Елизавета Васильевна, как только водворилась в Комаровке, стала баловать Чеховых своим фирменным блюдом — мятными лепешками. 30 «Скажи Елизавете Васильевне, что я каждый день вспоминаю ее и благодарю за мятные лепешки», — просил Чехов жену в письме к ней в августе 1902-го, уже из Ялты (II. 13 : 19).
Антон Павлович пил деревенское — из-под коровы — молоко и сливки и прибавлял в весе, что всех радовало. К чаю Вишневский распоряжался приготовить «разных печений, сливок, малины», что не радовало Ольгу Леонардовну. Она боялась от этого чревоугодия потерять творческую форму: «Я при таких харчах и без движения, без работы разжирею адски здесь» (II. 1. К. 77. Ед. хр. 16 : 6 об.).
Вдобавок ко всему, угощения присылали Костиным гостям соседи. Отовсюду в алексеевский дом несли фрукты, конфекты, как говорили тогда, печенье, мороженое.
По конфектам специализировалась Елизавета Васильевна. Она и в театр приходила с огромными кулями и раздавала содержимое артистам за кулисами и знакомым в зале.
Фрукты пошли с августа. Первый Яблочный Спас (его еще называют Медовым), открывавший фруктовый сезон, отмечали водосвятием. Для водосвятия над Клязьмой перед церковью был сооружен специальный помост. Чеховы смотрели водосвятие с лодки, стоявшей у другого берега. «Очень было красиво», — писала Ольга Леонардовна Евгении Яковлевне (II. 1. К. 77. Ед. хр. 16 : 29).
«Помните водосвятие в этот день, мы были с Вами на лодке; я даже помню, что Антон Павлович говорил тогда», — писала Маня Смирнова Ольге Леонардовне два года спустя, в день чеховских сороковин, воскрешая в памяти то славное любимовское лето (IV. 1. № 4909).
На второй Яблочный Спас, на праздник Преображения — 6 августа по старому стилю, когда разрешалось яблоки убирать и употреблять в пищу, — все ходили к обедне. «Сегодня освящали яблоки, мы все были около церкви, так как войти невозможно было. И Антона Лили притащила», — писала в тот день Ольга Леонардовна Евгении Яковлевне (II. 1. К. 77. Ед. хр. 10 : 29).
Лили — это Лили Эвелин Мод Глассби, англичанка, гувернантка детей Бостанжогло-Смирновых. Елена Николаевна и Сергей Николаевич Смирновы наняли ее в середине 1890-х. Лили выучила английскому барышень Смирновых, теперь возилась с младшим Смирновым — Кокой. Ему в лето 1902-го — десять лет.
От Смирновых присылали Чеховым кофейное мороженое. В архиве Антона Павловича сохранилась записочка от Лили, приложенная к мороженому. Чехов аккуратно пометил на ней карандашом: «Е. Р. Глассби, 1902, VII». Лили называла себя на русский лад — Еленой Романовной. Старательно выписывая русские слова и «яти», она просила Чехова:
31 Брат Антон! Мороженое для тебе, но хорошо если ты други тожа буду дать, только не простудес. Будет здоров. Христос с тобой. Твой друг Лили (II. 1. К. 59. Ед. хр. 2 : 3)7.
Однажды Смирновы затащили Ольгу Леонардовну к себе на шоколад.
Лили развлекала Чехова. Ольга Леонардовна чуть-чуть ревновала мужа к легкой, подвижной и веселой англичанке. Маленькая, 153 сантиметра ростом, по-балетному хрупкая и очень женственная, Лили заплетала волосы в две длинные косы и носила мужской костюм, если верить мемуарам Станиславского.
Чехов и Лили встречались каждое утро, до завтрака, у церковки. Лили приводила в церковку Коку Смирнова. Идя по тропинке навстречу, Чехов издали махал ей рукой вместо приветствия. Ходил он очень медленно и опирался на палку. Лили думала, что палка для рисовки. Она не предполагала, что он так слаб и без опоры не смог бы двигаться. Они много смеялись. Лили шутила: если он уедет и бросит ее, она покончит с собой. Чехов отвечал ей, что они слишком похожи и слишком благоразумны, чтобы сделать это. Так свидетельствуют приятельницы Лили, знавшие ее в 1930-х, когда она уехала из СССР в Англию. Их опросил и записал их рассказы английский славист Харви Питчер, автор поэтичной документально-художественной новеллы о Лили, Чехове и Смирновых8.
Лили говорила, что никогда не могла понять, шутит Чехов или говорит всерьез.
О ее шалостях и словесных турнирах с Чеховым ходили легенды. Одну из них подхватил или сочинил Станиславский в «Моей жизни в искусстве». Он считал, что Лили — прототип чеховской Шарлотты: «Рядом, в семье наших соседей, жила англичанка, гувернантка […] прототип Шарлотты» (I. 4 : 342). Он писал о гувернантке Смирновых: «Она обращалась с Антоном Павловичем запанибрата, что очень нравилось писателю. Встречаясь ежедневно, они говорили друг другу ужасную чепуху. Так, например, Чехов уверял англичанку, что он в молодости был турком, что у него был гарем, что он скоро вернется к себе на родину и станет пашой, и тогда выпишет ее к себе. Якобы в благодарность, ловкая гимнастка-англичанка прыгала к нему на плечи и, усевшись на них, здоровалась за Антона Павловича со всеми проходившими мимо […] то есть снимала шляпу с его головы и кланялась ею, приговаривая на ломаном русском языке, по-клоунски комичном: “Здласьтс! Здласьте! Здласьте!” При этом она наклоняла голову Чехова в знак приветствия» (I. 4 : 342).
А в записной книжке, набрасывая тезисы интервью к очередной чеховской годовщине о том, как Чехов обдумывал в Любимовке свой 32 «Вишневый сад», и этот сюжет о гувернантке, Станиславский назвал ее имя: «Лили у Смирновых (садилась на плечи, здороваясь за Чехова: здравствуй, Антоша). Рассказы его о гареме, о том, что он был султаном. Узнали Шарлотту» (I. 14 : 19).
Станиславский не мог видеть этой картинки. Он приехал в Любимовку, когда Чехов отбыл в Ялту, его не дождавшись. Ольга Леонардовна встречала Алексеевых одна. Станиславский все же, наверное, фантазировал, путая, по обыкновению, жизнь и искусство: родители чеховской Шарлотты Ивановны в «Вишневом саде» — бродячие цирковые артисты. В таком ярмарочно-балаганном ключе Станиславский решал Шарлотту Ивановну в своей постановке.
На самом деле Лили Эвелин Мод Глассби — дочь придворного королевского художника. Видимо, драматургический, а потом и сценический образ гувернантки затмил у Станиславского оригинал.
А он мог, если бы хотел, восстановить подлинную реальность любимовского лета Чехова. В 1926-м, когда вышло русское издание «Моей жизни в искусстве» с отдельной главой, посвященной «Вишневому саду», где приведена эта легенда, Лили все еще жила в басманном доме Бостанжогло на Разгуляе. Станиславский мог бы встретиться с Лили. Но в русском издании мемуаров он создавал свой миф о Чехове как о пророке русской революции, и подлинная русская жизнь первых лет начала века, да еще связанная с иностранкой в России, не вписывалась в него.
А вот о том, что Лили смешно — «прекурьезно» — коверкала слова и ко всем, в том числе и к Чехову, обращалась на «ты», — свидетельствует и Ольга Леонардовна в письмах к родным Чехова в Ялту.
Это «ты» придавало Лили первозданную естественность, почти экзотичность, пленявшую Чехова. Она действительно, как сказал Станиславский, выглядела «оригинальным существом» — на фоне робко заискивавших перед Чеховым соседей. Все старались не отвлекать писателя от раздумий над пьесой для Художественного театра, уважали его стремление к отшельничеству, не знали, как ему угодить, и невольно в его присутствии тушевались. За исключением, пожалуй, Егора, пристававшего к Чехову с разговорами.
Даже Станиславский, встречаясь и беседуя с Чеховым, чувствовал себя перед ним, как психопатка в присутствии кумира. Это его собственное признание. «Я всегда помнил, что передо мной знаменитость, и старался казаться умнее, чем я есть. Эта неестественность, вероятно, стесняла Антона Павловича. Он любил только простые отношения», — не раз повторял он (II. 21 : 337).
А Лили Чехову «тыкала» с их первого любимовского дня. Для нее, верующей евангелической христианки, все люди были братья и сестры 33 во Христе. И Чехов был как все: братом во Христе, «братом Антоном». Что Станиславский ошибочно принял за «панибратство».
Еще до отъезда в Россию Лили вступила в члены «Армии спасения». Эта организация евангелических христиан существовала в Англии с 1878 года. И Чехов, и Суворин испытывали к «Армии спасения», помогавшей нищим и больным, нескрываемый интерес. Суворин посещал собрания, заседания «Армии» в Париже. Чехов — когда был на Цейлоне, на обратном пути с Сахалина и Москву. «Впечатление оригинальное, но давящее на нервы. Не люблю» (II. 7 : 219), — обмолвился он в письме к Суворину, вспомнив молельный зал с рядами стульев, с подмостками, на которые с божьим словом к собравшимся поднимались «генералы», «офицеры» и «солдаты» «Армии», и самих «спасителей» — мужчин и женщин всех возрастов в положенной им форме одежды: в томных платьях и пиджаках с символикой движения на воротниках и лацканах и в одинаковых для всех черных шляпах. Насладившись словом и хоровым пением, Чехов не принял религиозного фанатизма верующих.
Лили была прилежной христианкой. Она и в самые тяжелые советские времена гонений на религию посещала храм святого Никиты-великомученика на Старой Басманной, хоть и православный, — свою домашнюю московскую церковь. Пока его не закрыли. Оттого, может быть, она и Чехова, балансировавшего на грани непосредственной веры и сознательного неверия, тащила за собой в переполненную по христианским праздникам душную любимовскую церковку. Исполняя миссию солдата «Армии спасения», хотела, видимо, укрепить его в вере: «И Антона Лили притащила» на второй Яблочный Спас, — как писала Ольга Леонардовна Евгении Яковлевне Чеховой.
«Притащила…»
Из всех милых дачных радостей Чехов предпочитал все же уединение.
Подмосковная природа — лесистые берега и глубокая Клязьма — пришлись ему по вкусу. Он ведь не любил Ялту, а любил среднерусскую полосу и большие, шумные города зимой. «Я ловлю рыбу в превосходной глубокой реке — и мне хорошо. Зелени очень много, зелени густой, какой в Ялте не найдешь», — писал он сестре (II. 13 : 13).
«Я живу в Любимовке, на даче у Алексеева и с утра до вечера ужу рыбу. Речка здесь прекрасная, глубокая, рыбы много», — писал он Горькому (II. 13 : 13).
«Местоположение чудесное, река глубокая» — восхищался природой, оглядываясь вокруг, подвыпивший в ресторане Лопахин.
Погода с начала июля стояла отличная, и Чехов целый день просиживал на берегу или на плотике в «смирновской купальне», — как советовал Станиславский, — поглощенный созерцанием окрестностей и 34 рыбной ловлей. «Ловится недурно», — радовался он, прислушиваясь к звуку пастушьего рожка, доносившемуся из деревни на другом берегу.
«Антон Павлович в отличном настроении, пошучивает и с утра сидит на речке с удочкой», — читал Станиславский в очередном послании Ольги Леонардовны (IV. 5 : 41).
Вишневский о той же идиллии с пастушком на другом берегу писал с подробностями и с пристрастием. Знал, адресат оценит: «Антон Павлович по целым дням ловит рыбу и обдумывает новую пьесу, ибо он мне говорил, что нигде и никогда так хорошо не обдумаешь произведение, как за рыбной ловлей! Я чувствую, что ему осталось вынашивать пьесу еще несколько дней, и он засядет писать. Это чувствует и Ольга Леонардовна, и мы с ней об этом очень часто толкуем, ибо видим, как он с каждым днем все больше и больше загорается, и поэтому мы оставляем его совершенно одного» (I. 3. Оп. 3. Ед. хр. 21 : 16 об.).
«Обдумывает новую пьесу», «загорается»…
Дело, казалось, двигалось.
Вопреки «всяким маленьким незадачам», которые «преследовали» писателя, — вспоминал Станиславский.
Отклонение от режима, от идиллического деревенского монотона выбивало Чехова из колеи. Он с трудом восстанавливал равновесие.
Крайне тяжелой — бессонной — выдалась ночь 11 июля, в Ольгин день — именин Ольги Леонардовны. Из-за пустяка.
В ту ночь почтальон разбудил Чехова телеграммой.
Телеграммы Чеховы и Вишневский получали от Алексеевых. Устраивая быт дорогих дачников, Станиславский и Лилина бомбардировали их письмами и телеграммами. «Алексеев каждый день пишет и телеграфирует, чтобы мы распоряжались Любимовкой, как своей собственностью», — писала Ольга Леонардовна Марии Павловне Чеховой в Ялту (II. 1. К. 77. Ед. хр. 16 : 11 об.). Эти телеграммы сохранились в чеховском архиве.
Ночная телеграмма была не от Алексеевых.
«Сегодня я целый день смеялся, — рассказывал Вишневский Марии Петровне Лилиной в письме к ней, — ибо произошло следующее: утром приходит ко мне бледный и расстроенный Антон Павлович и показывает телеграмму, которую принесли в 4 часа утра с уплатой одного рубля нарочному от Тихомирова, который поздравляет Ольгу Леонардовну с днем ангела. Вам нужно было видеть это лицо и тон, которым он мне жаловался! — продолжал Вишневский, приводя гневный монолог писателя. — “Я терпеть не могу телеграмм и кому это нужно и зачем, да еще платить за такие глупые телеграммы рубль нарочному! Никогда Тихомиров у меня не получит роли за эту телеграмму, и пусть мне не попадается на глаза”. А я катался по полу […] ибо он как заслышит лай собак 35 или стук, кричит: “Это опять от кого-нибудь телеграмма и мне платить за нее рубль”» (I. 3. Оп. 3. Ед. хр. 21 : 17 об., 18).
Вишневский весь день в именины Ольги Леонардовны смеялся и смеясь, рассказывал эту историю Алексеевым. А Чехов всерьез сердился на артиста Художественного театра, ученика Немировича-Данченко по Филармоническому училищу милейшего Иосафата Александровича Тихомирова, Медведенко в «Чайке» и Федотика в «Трех сестрах». И в памяти Вишневского и в его мемуарной книге «Клочки воспоминаний», изданной в 1928 году, осталось отнюдь не смешное: Чехов «был скуповат, и эта телеграмма испортила ему все настроение. Он прибежал ко мне наверх, взволнованный, и кричал: “Ольга Леонардовна совсем не русская, а немка. Поэтому она не именинница”»9.
Что это? Из Чехова вылез таганрогский мещанин?
Письма свои к Чехову с осени 1902-го Вишневский посылал с оплаченным ответом.
В «Вишневом саде» Тихомиров роли не получил. Но осенью 1903 года, когда распределялись роли в «Вишневом саде», он в театре не работал.
И следующий день после именин Ольги Леонардовны оказался у Чехова нелегким, насыщенным визитами соседей.
12 июля, накануне отъезда за границу, к Чеховым зашли проститься Владимир Сергеевич и Прасковья Алексеевна. Они отправлялись в Европу, чтобы проводить маманю, завершавшую отдых во Франции, Любовь Сергеевну с Иосифом Ивановичем Коргановым, третьим Любиным мужем, и маманину приживалку Лидию Егоровну Гольст в обратный путь до поезда в Париже, а потом отдохнуть за границей — без детей — в свое удовольствие.
Дети Владимира Сергеевича — мальчики Кока, Шура, Мика и дочь Вера, Вева, как звали девочку в семье, оставались в Любимовке с гувернерами и гувернанткой, с горничными и лакеями и под присмотром родных — Сапожниковых, Смирновых и Штекеров.
Вырывавшийся из своей фабричной повседневности, застенчивый Владимир Сергеевич за границей преображался. За границей его как будто подменяли.
Фабричная повседневность его угнетала. А когда он думал про хлопковое дело, которым приходилось заниматься, ему становилось тошно. Он постоянно огорчался из-за него. Но от Владимира Сергеевича зависело благосостояние всех его братьев и сестер и всех его и их детей. Такая уж доля — старшего из сыновей, доля наследника, — выпала ему от рождения. Он появился на свет первым и покорялся фамильному долгу.
За границей он летал как на крыльях, превращаясь в настоящего «богемца».
36 «Богемцы» — его любимое словцо, Чувствовать себя богемцем среди рабочих будней доводилось редко. Он расслаблялся, расцветал, становился богемцем, то есть свободно-артистичным, легким, только на домашних вечеринках, когда брал в руки гитару и глушил тоску по несостоявшейся жизни. Или за фортепиано, когда подыгрывал себе, напевая шансонетки. Или аккомпанировал друзьям, гостям-певцам — Собинову, Шаляпину или Виктору Николаевичу Мамонтову, служившему хормейстером в Большом театре. Виктор Николаевич жил в Финогеновке у Сапожниковых с семьей Елизаветы Григорьевны Мамонтовой, супруга Саввы Ивановича, его кузена.
За границей Владимир Сергеевич распрямлялся в полный высокий свой рост, чуть меньший, чем у Кости, и счастливо окунался в ту жизнь вольного музыканта, о которой только мог мечтать: ходил в оперу, в оперетку, на концерты, знакомился с певцами, инструменталистами и композиторами, известными, как Пуччини и де Фалья, и не очень; обегал нотные магазины и закупал оперные клавиры, отдельные издания арий, песен, хоров. Словом, предавался любимым занятиям, которых был лишен в своих фабричных и хлопковых буднях.
Чехов Владимира Сергеевича «богемцем» так и не узнал: «консерватории» не захотел и к Владимиру Сергеевичу на вечерок с музыкой и шансонетками не заглянул.
Кроме Владимира Сергеевича и Прасковьи Алексеевны, 12 июля к Чеховым прикатил артист Художественного театра В. В. Лужский, Сорин в «Чайке», первый исполнитель ролей Серебрякова в «Дяде Ване» и Андрея Прозорова в «Трех сестрах». Лужский отдыхал с семьей по той же Ярославской железной дороге. Сказал, что приедет в Любимовку завтра, то есть 13 июля, чтобы идти вместе с Чеховыми и Вишневским к Анне Сергеевне Штекер. «13 июля рождение Софьи Андреевны, будет оркестр и музыка», — сообщал Вишневский Лилиной, вспоминая при этом, как они вместе с ней год назад улизнули из гостеприимного Нюшиного комаровского дома пораньше (I. 3. Оп. 3. Ед. хр. 21 : 18).
Каждое лето 13 июля Нюша давала бал в честь дня рождения своей старшей дочери Сони, Софьи Андреевны Штекер. Летом 1902 года отмечали Сонино шестнадцатилетие.
Нюша до балов была охотница и мастерица их устроить и в городе, в родительском красноворотском доме в осенне-зимний сезон, и на даче, в Комаровке, где она поселилась после свадьбы с Андреем Германовичем Штекером. Ей, «вертушке», «ветренице», как говорил о ней папаня, самой беспечно-веселой и самой общительной из Алексеевых третьего колена, Елизавета Васильевна передала все правила дедовских стрешневских балов — конца 1850-х. Нюшины девические дневники полны описаний веселых котильонов и кокетливых нарядов, вперемешку с разборами многочисленных поклонников, кого держать «в первых 37 рядах», кого «в хвосте». Бальные танцы она ставила сама. «Готовила котильон, который, благодаря тебе, моя милая мамочка, выйдет у нас преинтересный, и очень оригинальный, я придумала одну фигуру, наверное, всем очень понравится […] Приезжай, чтобы увидеть фигуры», — посылала Нюша записочку Елизавете Васильевне, приглашая ее к себе на вечеринку в начале 1880-х (I. 2. № 5729).
Нюша знала, как устроить праздник по дедовской рецептуре: с обедом, ужином, с музыкой, с бальными танцами под полковой оркестр. Она умела организовать фейерверк и заезды лодок с оркестром в одной из них. Ей ведомы были секреты того, как принять гостей, без счета прибывавших в Любимовку, Финогеновку и Комаровку из города; как поддержать в день бала атмосферу флирта и влюбленности — «подъема духа», как говорил чеховский доктор Дорн; как разместить всех на ночлег и с утра вновь веселиться — до следующего утра.
Нюшины балы в Комаровке отличались от гаевских — чеховских стариков, родителей Раневской и Гаева, и дедовских, Владимира Семеновича — покровско-стрешневских, — только тем, что почетное место адмиралов и генералов с белыми плюмажами, о которых говорили старый чеховский Фирс и Семен Владимирович Алексеев, покойный дядя Станиславского, занимали у нее артисты.
12 июля Нюша явилась к Чеховым — пригласить их к себе.
Чеховы от приглашения вежливо уклонились, сославшись на нездоровье. Прошла всего неделя, как они уехали из Москвы, так что резоны отказаться от многолюдья, утомительного для дачников, «здоровьем неважных», были веские и ни для кого не обидные. Прощаясь с Анной Сергеевной, Чехов попросил ее прислать ему мартовского пива.
Он и Вишневского отговаривал идти к Анне Сергеевне: «Антон Павлович говорит, что не следует тратить таких дней на такое шумное празднество, тем более, что пользы от этого никакой, а только какой-нибудь гимназист втихомолку напьется где-нибудь, а потом начнет блевать. Я, конечно, все хохочу, ибо он меня смешит до упаду» (I. 3. Оп. 3. Ед. хр. 21 : 18 об.). Но Вишневский не мог пропустить традиционного бала у коллеги по театру. Было неудобно отказать гостеприимной Нюше. Он не хотел и не мог ее обидеть, хотя и сам, переутомленный от нагрузки в истекшем сезоне (он завершился напряженными гастролями в Петербурге) и от хворей — собственной и Ольги Леонардовны, — избегал шумных сборищ. «По правде сказать, так я отвык от большого общества, а там будет так много народу, что я уже с ужасом подумываю, как я буду завтра мучиться», — жаловался Вишневский Лилиной.
И Станиславский, наверное, хохотал над «пробалтываниями» Чехова. По жадно ловил и запоминал их. Через полтора года, когда он работал над режиссерским планом «Вишневого сада», в сцене бала у Раневской 38 в третьем акте среди прочих гостей появился гимназист, танцующий с девочкой в малороссийском костюме. Его нет в чеховской пьесе. А критик московской газеты «Курьер» П. И. Кичеев, оценив сцену бала в спектакле как настоящий помещичий бал, от которого веяло чем-то уютно-патриархальным, заметил «неутомимого танцора-гимназиста и бравого военного»10.
Гимназист, отсутствующий в пьесе, появился в спектакле Станиславского, минуя пьесу, — непосредственно из «пробалтываний» Чехова, из его фантазий на тему Нюшиного и других балов.
Нюша Штекер была, конечно, «штучка», как говорил Станиславский о любимовских типах, которые просились в пьесу. «Штучка» и «первый сюжет». Так называли в старину исполнителей главных ролей на императорской сцене.
Любвеобильные младшие Нюшины сестры, богатые купеческие дочки Люба и Маня, меняли сердечные привязанности и семьи. Мои сестры кокотки, — смеялся Станиславский. Он и сам в юности был не без греха.
Люба, по первому мужу Струве, вторым браком вышла за кузена Васю Бостанжогло, Василия Николаевича, ученого-орнитолога. И тоже ненадолго. Третий Любин муж — помещик Корганов — владел имением Спасское в Воронежской губернии. С 22 июля он вместе с Любой и Елизаветой Васильевной жил у Нюши в Комаровке.
Станиславскому сначала казалось, что «Гаев во втором акте одет, как Корганов. Сапоги, белые брюки (коленкоровые), такая же куртка со стоячим воротником и наглухо застегнутая. Русская рубаха цветная, нижняя, шелковая. А может быть, просто по-русски, по мужицки (контраст с барским тоном)» (I. 6 : 185).
Впоследствии костюм Гаева изменился.
Корганова рядом с Любой сменил ее четвертый, гражданский муж, доктор А. Д. Очкин, университетский сокурсник Мики, ее племянника, сына Владимира Сергеевича. Гимназисту Мике в 1902-м — шестнадцать. Люба перепутала колена, как когда-то, в середине прошлого века, перепутали колена своими браками сестра и брат Александра Михайловна и Николай Михайлович Бостанжогло.
Детей у Любы не было.
Доктор Очкин в 1930-х работал в кремлевской больнице.
Люба была красива, хоть и хромоножка.
Маня, Мария Сергеевна, урожденная Алексеева, младшая в третьем колене Алексеевых, музыкальная и артистичная, от Любы в смысле мужей не отставала. Она училась пению, выступала в любительских и провинциальных оперных спектаклях и отбирала в мужья знаменитых оперных певцов: Мамонтовской Частной русской оперы в Москве, Большого театра или Мариинского в Петербурге. И ото всех имела детей. Их 39 у нее было девять, как у мамани. Между артистами-певцами, ее мужьями: П. С. Олениным, В. С. Севастьяновым и С. В. Балашовым — чуть не затесался драматический артист Леонид Миронович Леонидов, первый Лопахин «Вишневого сада». Но родители воспрепятствовали их браку, как и другим, и Леонид Миронович не разбавил славную плеяду вокалистов подле Мани. Кажется, и Балашов — не последний ее муж.
Нюша, Анна Сергеевна Штекер, урожденная Алексеева, была замужем всего два раза: за Андреем Германовичем Штекером и за Владимиром Николаевичем Красюком, репетитором ее старшего сына Андрея и Сониным женихом. Роман Анны Сергеевны с Красюком завершился ее последним, девятым ребенком, Володей Красюком.
Нюша была замужем всего два раза, но сестрам по части мужчин не уступала.
Главным в ее жизни, как сказал Амфитеатров о чеховской Раневской, был марьяжный, самочий интерес. Нюша не противилась вспышкам неразборчивой, биологической страсти. Натура широкая, беспечная и порочная, характер легкий, увлекающаяся, она чуть ли не каждую влюбленность отмечала ребенком. Чехов, смеясь, звал ее «живой хронологией». Артисты Художественного театра уверяли, что героиня его рассказа «Живая хронология» — точь-в-точь Анна Сергеевна.
Летом 1902-го Ольга Леонардовна была у Нюши в Любимовке на детском празднике в честь ее восьмого ребенка — годовалого сына Глеба — и сплетничала Чехову, что отец Глеба — не Андрей Германович Штекер, а какой-то заезжий музыкант. Родные Анны Сергеевны и она сама не скрывали, что все ее дети — от разных мужчин, хотя они носили фамилию Андрея Германовича. Как-то в 1920-х артистка Художественного театра С. С. Пилявская, восхищаясь портретом юной Людмилы Андреевны Штекер, Милуши, младшей из дочерей Анны Сергеевны, сказала: «Итальянская головка!» А та в ответ и с гордостью за мать: «А я от заезжего итальянца!»11
Марьяжный интерес, наверное, и погубил Нюшину артистическую карьеру. Обаятельная, с шармом и на сцене, с гибким голосом, Нюша с 11 лет принимала участие во всех театральных затеях брата: играла и в Алексеевском кружке, и в театре Общества искусства и литературы, откликаясь на первый зов Станиславского. Играла и первые роли, и бессловесные, если нужно было для его спектакля, пусть это была хотя бы роль статистки, просто красивой дамы, кокетничавшей с кавалерами в массовой сцене «Уриэля Акосты». Станиславский ставил ее ближе к рампе, к зрителю. Ее шарм добавлял спектаклю успех.
Лучшей ее ролью в театре Общества искусства и литературы была роль Юлии Тугиной в «Последней жертве» Островского, которую она играла в паре с Дульчиным — Станиславским. Он считал, что у Нюши есть способности к сцене и что играет она «изящно и грациозно».
40 Со второго сезона Художественно-общедоступного, оправившись после очередных родов, Нюша состояла в труппе театра, не получая жалованья, как и брат, и играла под псевдонимом Алеева, безропотно, как и прежде, подчиняясь Косте. Не потому, что была уж вовсе несамостоятельна, нет, у нее были свои мечты о ролях, но она не смела даже высказать их. «Я помнила твои слова и верила им, что артисты должны уметь играть все с интересом и любовью к делу, которому они служат; я подавляла в себе всякое стремление к личным желаниям — хоть они и жили во мне, даю тебе в этом слово», — писала она брату, когда тот отказывал ей в художественном чутье, вкусе и любви к сцене (I. 2. № 4535).
Он был к ней несправедлив и до обидного невнимателен.
Она смирилась со своей участью — сестры руководителя театра.
В Алексеевском кружке и в Обществе она получила хорошую ансамблевую закваску. И у нее хватало такта не лезть в Художественном театре в примы: «Будьте уверены, что я не из тех артисток, что сами выбирают и назначают себе роли и добиваются этого», — говорила она брату.
Немирович-Данченко относился к ней с симпатией и ценил как актрису. Когда в конце второго сезона Художественного театра он намечал ставить «Иванова», он выбрал Анну Сергеевну на роль купчихи Бабакиной как подходящий женский тип. Но она отказалась от роли: хотела расти, развиваться как актриса, а не эксплуатировать свою природу.
«Иванов» тогда не состоялся.
Анна Сергеевна играла эпизоды в «Царе Федоре Иоанновиче», безымянные роли в народных сценах, как раньше называли массовки, и Марию Годунову в «Смерти Иоанна Грозного». Хотя чувствовала, что не хуже Савицкой и Роксановой, учениц Немировича-Данченко, могла бы играть царицу Марию Федоровну из рода Нагих, жену Ивана Васильевича, и сам Станиславский ей это говорил. Ее тянуло к ролям Ирины в «Царе Федоре Иоанновиче» и Аркадиной в «Чайке». По в труппе была Книппер, и ей дублерш не назначали. Вообще в театре дублерши были у одной Лилиной. Хрупкое здоровье не позволяло ей, как другим актрисам, работать с нагрузкой — на износ.
Анна Сергеевна играла ведущую роль Ганны в «Возчике Геншеле» Гауптмана, Елену Прекрасную в «Снегурочке» Островского и не отказывалась от последней, крохотной, хотя ей хотелось играть в «Снегурочке» Весну, и она, выступив однажды в роли Весны, была в ней хороша. Но роль отдали Савицкой, которая для Весны была суховата, а потом ставили совсем юную и никому не известную ученицу школы МХТ. Только не ее. Ее считали ненадежной. Слишком часто она ждала ребенка. И она играла Елену Прекрасную много раз подряд не из любви к роли и интереса к ней, а только потому, что не играть вообще было для нее еще тяжелее. Кроме Елены Прекрасной, ей «нечего было делать!!» — это ее восклицания.
41 На театр как на развлечение она не смотрела. И брат мог бы это знать.
По когда Немирович-Данченко принес свою новую пьесу «В мечтах» и Нюша заикнулась, что роль Костромской ей нравится больше, чем роль Широковой, на которую ее наметил брат, она лишилась всякой роли. Станиславский написал ей гневную отповедь: «Я в сотый раз повторяю тебе, что ты на ложной дороге, как актриса. Ты не вчиталась в пьесу и не понимаешь, что Широкова — это роль, на которой артистка делает себе карьеру. После Княгини и Костромского — главная роль в пьесе, как противовес мечте, — это Широкова. Ты говорила, что мечтаешь о положении в нашем театре. Знай же, что это положение ты завоюешь на ролях Широковой и тому подобных, но не на ролях, о которых ты мечтаешь» (I. 2. № 5980).
Роль Широковой репетировали Раевская, Савицкая, Муратова, пробовали кого-то из учениц школы МХТ, но трала премьеру и блистала в Широковой Книппер. В роли Костромской остановились на Савицкой. Супруга Костромской — героя пьесы Немировича-Данченко — играл сам Станиславский. Он же вместе с Саниным режиссировал немировическую пьесу. Немировическая Костромская ставила идею выше семьи, Станиславский таких недолюбливал и эту роль «душил», превращая Костромскую в режиссерском плане в «поющую бабу», «каковой она и остается в глазах всех интеллигентных людей», — писал он Нюше, укоряя ее: «Твоим отказом после моих хлопот ты очень навредила себе». И предлагал ей исправить положение и репетировать Широкову в очередь с другими претендентками, включая Книппер. Нюша вовсе не собиралась отказываться от роли, она просто сказала, прочитав пьесу, что роль Костромской ей нравится больше, и все. И, не имея возможности встретиться с братом, чтобы объясниться с ним, — из-за его занятости и своих хлопот с новорожденным Глебом, — писала ему, набрасывая в сохранившемся черновике, что и он, и Немирович-Данченко неверно поняли ее, и оправдывалась: «Если роль Костромской и произвела на меня большее впечатление, то, во всяком случае, роль Широковой я не могу не признать эффектной и подходящей к моим данным; но неужели можно было, зная меня, усмотреть, что я отказываюсь играть Широкову из одного личного, мелкого расчета? Вот что больно было мне читать в твоем письме и что не обидело, но глубоко огорчило меня» (I. 2. № 4535).
Это отношение к ней Станиславского, Немировича-Данченко и Санина, ее старинного приятеля (они вместе играли со времен театра Общества искусства и литературы), лишило ее энергии. После случившегося с ней в театре она впала в «невдух». Этот семейный бич, поразивший Костю и Володю, поразил и ее. Она «здорово захандрила», «занервничала до малодушия», «в результате теперь царит надо мной полное 42 убеждение, что я в настоящее время ненадежна как артистка (да и вообще никакая актриса), что взяться и не выполнить хуже, нежели признать открыто свою несостоятельность, что я и сделала».
Не став соревноваться с другими претендентками, Нюша этим неприятным инцидентом к лету 1902-го завершила свою артистическую карьеру. И получилась у Анны Сергеевны Штекер, урожденной Алексеевой, талантливой сестры Станиславского, жизнь «живой хронологией», а не хронологией ролей, как у Книппер.
Конечно, брат был отчасти виновен в этом.
Нюша обожала гостей, шум, музыку, танцы. В фамильных бальных действах она возрождалась, обретая свое природное, первородное артистичное естество, сбрасывала «невдух».
13 июля 1902 года родные, соседи и московские гости собрались у Нюши в шестнадцатый раз на день рождения Софьи Андреевны Штекер, старшей Нюшиной дочери.
Елизавета Васильевна к шестнадцатилетию внучки не поспела. Но Нюша описала ей все, что в тот день произошло. А произошло ЧП. Вся Любимовка бурлила…
Через десять дней после бала, когда Елизавета Васильевна поселилась у Нюши и наговорилась с ней, Станиславский и Лилина получили от мамани новые подробности того бального комаровского дня.
Злополучный Нюшин бал 13 июля 1902 года в честь совершеннолетия Сони Штекер стал прообразом чеховского в «Вишневом саде». А если не бояться категоричности, можно сказать больше: обещавший быть счастливым день рождения Сони Штекер решил новую чеховскую пьесу. Материал, во всяком случае, на балу у Штекеров в Комаровке был самый что ни есть чеховский. В нем смешались веселье, смех — и предчувствие трагического.
13 июля 1902 года — и число выпало на это бальное действо роковое, чертова дюжина, — все начиналось, как у деда в Покровском-Стрешневе и как ежегодно в Любимовке с конца 1860-х десятилетиями прежде. Правда, и на артистов вместо генералов с белыми плюмажами в 1902-м был неурожай. Не было Кости с Марусей. Но были, как всегда, Вишневский и Лужский.
Торжество было пышное. К Штекерам в Комаровку съехались гости из окрестных деревень и из города, гремела музыка, по всему дому и парку стояли накрытые столы, столы ломились от еды и питья. Во время и после ужина по заведенной дедовской традиции танцевали польки, камаринские, непременные котильоны, grand rond’ы, кадрили, вальсы. Танцы, шуточные затеи и фокусы сменяли друг друга, не давая гостям перевести дух.
Гимназистов и гимназисток, Сониных сверстников, набежала тьма-тьмущая — вся любимовская, финогеновская, комаровская и тарасовская 43 родня: Алексеевы, Сапожниковы, Штекеры, Смирновы, Гальнбеки. Кто-нибудь из гимназистов, наверное, напился.
С утра до трех часов ночи в тот роковой день «13 с/м» — сего месяца, — сообщала Елизавета Васильевна Константину Сергеевичу в своем июльском к нему письме, — играл полковой оркестр. Под музыку обедали, ужинали, говорили глупости, танцевали. Как всегда. Нюша, как прежде ее мать, в девичестве Адель, была царицей бала. Она задавала pas и в паре с Андреем Германовичем или с Владимиром Николаевичем Красюком начинала фигуру. И никто не догадывался о том, как тяжело переживала она свое театральное фиаско и беду, нежданно случившуюся с Андреем Германовичем.
Henri, мешала полуфранцуженка маманя русский с французским в отчете Косте, дирижировал и тостами, и танцами, и играми, и заездом разукрашенных лодок, и фейерверками у воды, и другими затеями.
Вдруг перед самой закуской он закашлялся и ушел к себе наверх. «Наверху ему сделалось дурно и потом à force de tousser, он потерял горлом целый стакан крови. Но, немного оправившись, сошел к обеду, и вечер на террасе дирижировал танцующей молодежью. А вечер был свежий. По разъезде гостей после 3 часов он почувствовал себя еще раз очень плохо. Нюша говорит, что совсем умирал. Собрали Гетье, Остроумова и еще забыла какого и посылали исследовать, и, к великому горю, нашли touberkouli» (I. 1).
Доктор Гетье, Федя, Федор Гетье, сокурсник Владимира Сергеевича Алексеева по гимназии, наблюдавший Елизавету Васильевну, впоследствии лечил Ленина.
Доктор Остроумов лечил Чехова.
Консилиум Алексеевы — Штекеры собрали солидный.
Туберкулеза, преследовавшего поколения семей Алексеевых и Бостанжогло, очень боялись. Андрею Германовичу предстояло долгое лечение на заграничных курортах. Скорее всего, в Ментоле, на юге Франции. В Ментоне собирались состоятельные русские туберкулезники. Чехов бывал в Ментоне. В Ментоне лечился занемогший городской голова Василий Михайлович Бостанжогло. Его с женой и доктором московские власти, учитывая его заслуги перед горожанами, отправили в Европу на средства из городского бюджета. Умирающую в Ментоне больную туберкулезом сестру Варвару Ивановну Немирович-Данченко в 1901 году навещал Владимир Иванович.
Конечно, дачу в Ментоне чеховская Раневская купила для своего любовника, который, несомненно, был болен туберкулезом. Как и Антон Павлович Чехов. И как Андрей Германович Штекер.
«Выписали Циммлера, чтобы передать ему дела, и в среду 31-го он уезжает», — добавляла Елизавета Васильевна к своему отчету Косте.
44 Но бальное действо 13 июля 1902 года не прекращалось ни на минуту. Несмотря ни на что. Все было по Чехову: люди обедали, только обедали или ужинали, а в это время слагалось их счастье и разбивались их жизни. Гости, оторвавшись от застолья, танцевали, а наверху, на втором этаже комаровской дачи «умирал» Андрей Германович Штекер, отец новорожденной, и Нюша то хлопотала вокруг мужа в критические моменты, то, оставив его на прислугу, спускалась вниз к гостям, поддерживая праздник, и снова бежала наверх.
«Веселье, в котором слышны звуки смерти», — напишет Мейерхольд о третьем чеховском акте «Вишневого сада» (V. 16 : 45). Хотя ничего такого угрожающе предсмертного, как с Андреем Германовичем на балу у Нюши, в бальном чеховском акте «Вишневого сада» не произошло.
Смерть, ее предвестие, отсутствующие в пьесе, могли войти в нее отзвуками любимовско-комаровских реалий.
Вишневский ушел домой пораньше, в половине одиннадцатого, поскольку устал и знал о беде, которая стряслась с Андреем Германовичем «перед самой закуской». Ода, конечно, омрачала бал для тех немногих, кто знал о ней. Анна Сергеевна не задерживала артистов, как обычно, до утра и отпустила их, нагрузив Вишневского лакомствами для Ольги Леонардовны и Антона Павловича, и Антону Павловичу — она не забыла о его просьбе — послала мартовское пиво.
Но веселье и без артистов продолжалось.
Драматургию Нюшиного бала — драматургию жизни — Чехов знал от Вишневского. А болезнь Нюшиного мужа, сам врач и пациент того же Остроумова, принял близко к сердцу.
Любимовка, любимовско-комаровские «типы» и житейские ситуации, безусловно, подпитывали его живыми впечатлениями.
Уже к середине июля 1902 года отчетливо вырисовался образ старинного дворянского имения с благовестившей на всю округу церковкой Покрова Святой Богородицы. Она доминировала над равнинной сельской местностью, превращая алексеевскую Любимовку в центр драматического сюжета. Что-то крутилось у Чехова вокруг Любимовки, когда он обдумывал пьесу, сидя с удочкой на берегу, что-то аукалось с ее обитателями, с их образом жизни. Уже попали в пьесу старая хозяйка имения, вернувшаяся домой из Франции; няня; детская; Дуняша и Егор; гувернантка Смирновых Лили Глассби; Владимир Сергеевич Алексеев и Анна Сергеевна Алексеева-Штекер — брат и сестра. И этот веселый-невеселый бал в двухэтажной комаровской Нюшиной даче…
Связь Нюшиного бала с вишневосадским — Чехова — в спектакле Станиславского просматривалась еще отчетливее. Осенью 1903 года, когда готовилась премьера «Вишневого сада» и репетировался третий, бальный акт, Станиславский был на бале, который давала Нюша в красноворотском доме. Кроме родных и друзей семьи, Нюша пригласила к 45 себе, по просьбе брата, всех актеров, занятых в спектакле, вплоть до статистов.
«Было скучно», — писала Чехову жена, любительница шумных домашних вечеринок (IV. 4 : 338). Привычная патриархальность была нарушена. Художественники сидели за одним столом, отдельно от других гостей. Станиславский, работавший над режиссерским планом «Вишневого сада», наблюдал за «живыми картинами» с блокнотом в руках, что-то записывал и зарисовывал. Кто знает, не тогда ли подсмотрела Ольга Леонардовна для своих сцен с Петей Трофимовым роман Анны Сергеевны с Владимиром Николаевичем Красюком, репетитором ее старшего сына и Сониным женихом, вспыхнувший еще в Любимовке.
Станиславский проводил прямые аналогии между имением Гаевых и Алексеевых, между действующими лицами «Вишневого сада» и своими родными и прислугой. В спектакле дом Гаевых он обживал, как алексеевские дома в Любимовке и Комаровке. Он и прислугу Гаевых, бессловесную в пьесе Чехова, поименовал, расписывая в режиссерском плане мизансцены третьего, бального чеховского акта, по именам своей прислуги: Поля, Ефимьюшка, Карп, Евстигней. А в биллиардной, за кулисами, откуда доносился стук шаров, с Епиходовым играл «управляющий — старик». Тот, видимо, которого Алексеевы боялись перевести на пенсию, который ничем не управлял, «никогда не следил за хозяйством» и жил в Любимовке в свое удовольствие.
У Алексеевых служили две Поли — старшая и младшая, молодая. Полю, старую прислугу, Пелагею Моисеевну, не забыла в своем завещании маманя Елизавета Васильевна. Станиславский взял тип Пелагеи Моисеевны как действующее лицо третьего акта «Вишневого сада». Она не попала в пьесу Чехова, но попала в спектакль. В 1930-х в роли Полюшки, старой прислуги Раневской, выходила Лилина.
Наверное, Станиславский имел право на аналогии Гаевых и Алексеевых. Все же он был «заказчик» пьесы, над которой Чехов работал в Любимовке, и понимал, из какого сора росли цветы на чеховских вишневых деревцах.
Через три июльские недели Чехова в Любимовке Вишневский и Ольга Леонардовна обнадеживали Станиславского: пьеса будет. «Пьесу он, по-видимому, всю крепко обдумал и на днях, вероятно, засядет писать. Очень ему здесь нравится шум поезда, и все думает, как бы это воспроизвести на сцене. Он здесь совершенно другой человек», — радовалась Книппер-Чехова, радуя и Станиславского (IV. 5 : 43).
Тот впивался в вести из Любимовки.
Все, что нравилось Чехову в Любимовке и соседних деревеньках, всплывало впоследствии перед его глазами, когда он читал «Вишневый сад». Он был уверен, что любимовские типы захватили Чехова. И все, что любимовского попало в пьесу, в ее фабулу и сюжет, в ее ремарки, диалоги, 46 отдельные реплики действующих лиц и в ее ауру, попало и в спектакль: через декорации, через обстановку и ее детали, через решение ролей, через атмосферу сценического действия, создаваемую светом, звуками, интонациями актеров, исполнителей ролей, через темпо-ритмический и пластический рисунок мизансцен. Это был чеховский — и его материал. Тут он чувствовал свою творческую силу. Тут его фантазия «пламенела».
В спектакль попала любимовская зелень, какой нет в Ялте, и панорама, открывавшаяся с террасы алексеевского дома, которая пришлась по душе Ольге Леонардовне: с полем и дорогой к усадьбе Алексеевых за ним; с рядом телеграфных столбов, уходящих за горизонт, где в ясную погоду был виден город; со скамейкой у старой церкви. Церковку Чехов заменил часовней. Все это — любимовское и наро-фоминское (в Наро-Фоминске Чеховы жили следующим летом) — появилось у Чехова в ремарке, предварявшей второй акт «Вишневого сада». А потом в режиссерском плане Станиславского, с которого, как было заведено в Художественном театре, начиналась работа над спектаклем.
В декорации Симова города не было видно, к концу акта вечерело и с земли поднимался туман, перекрывавший дальние планы.
От сенокоса, которым любовалась Ольга Леонардовна, лежа на террасе, у Чехова остался один стог. Зато в режиссерском плане Станиславского в финале второго акта у полукруглого горизонта проходила с сенокоса группа крестьян в разноцветных сарафанах с торчащими граблями и блестящими косами, и слышалось их стройное пение. Его должны были подхватить Раневская, Гаев, Аня, Варя, Лопахин и Петя Трофимов.
Эту картинку Станиславский знал с детства, только все же, наверное, без идиллических цветистых сарафанов. Мизансценированная в плане, в спектакле она была купирована.
Все Чехову нравилось в Любимовке, все было по душе. Все, кроме садовника. Кроме «нелепого садовника», которого с такой ностальгической нелепостью, как и церковку, и сенокос, и плотик на Клязьме, вспоминала Ольга Леонардовна.
Чехов садовника невзлюбил.
Он не так поливал диковинные декоративные деревья вроде пальм, высаженных в кадках у парадного крыльца.
Чехов знал толк и в лесах, и во фруктово-ягодном садоводстве, как и в рыбной ловле. Сам выращивал цветы и деревья на своем участке в Мелихове и теперь — в Ялте. Он объяснил садовнику, когда поселился в Любимовке, как следует правильно поливать деревья. Тот, улыбнувшись, согласился, но продолжал поливать по-своему. Чехов не мог этого выносить и, отвечая Станиславскому по прошествии времени, почему он 47 так внезапно, до срока, не дождавшись возвращения Алексеевых, сорвался в свою Ялту, свалил причины отъезда на строптивого садовника.
Конечно, тот был ни при чем.
И через год, следующим летом, проведенным в подмосковном Наро-Фоминске, Чехов убеждал Станиславского, когда тот с Лилиной приехал его навестить, что садовника надо заменить, он даже подыскал Алексеевым подходящего. И еще как-то раз, посреди постороннего разговора, вдруг вставил: «Послушайте, садовник у Вас — отвратительный человек» (I. 7 : 467).
Сад, нерадивый садовник — что-то застряло, застопорилось у Чехова вокруг них. Дикий, неухоженный алексеевский яблоневый сад, примыкавший к дому, с нестрижеными ветками, залезавшими в окно, рос, как рос целое столетие. Или два. Без признаков садовничьего усердия и без вмешательства ножниц. Рос со времен помещиков Туколевых, старых хозяев усадьбы с садом.
Садовник этот тоже попал в пьесу. И тоже собственной персоной, как няня и Егор. Чехов вспомнил его в первой сцене «Вишневого сада» садовник присылал букет для встречи Раневской. Он велел Епиходову поставить цветы в гостиной. Войдя в пьесу в скрипучих, до блеска начищенных сапогах, конторщик гаевского имения Епиходов, споткнувшись, ронял букет. А потом, поднявшись, вручал его Дуняше, горничной Раневской и Гаева, чтобы та поставила его в вазу на стол. Это по Чехову. Дуняша, — решал Станиславский, — думала, что букет этот — для нее, потому что накануне Епиходов сделал ей предложение и она обдумывала его. Выходило нелепо и смешно. Так виделось Станиславскому на склоне лет. Должно быть, так было в его спектакле.
Все подтверждало уверенность Вишневского, Ольги Леонардовны и Станиславского — но письмам из Любимовки, — что пьеса к началу сезона будет: и отличное настроение Антона Павловича, и его «пробалтывания». Воображению Чехова могло рисоваться окно старого помещичьего дома, через которое лезли в комнату нестриженые нерадивым садовником ветки деревьев, обсыпанные бело-розовым цветом. И могло мерещиться слово в заголовке и в центральном образе будущей пьесы: сад. Факт, зафиксированный документально лишь в январе 1903-го.
А он все сидел и сидел с удочкой над водой с утра до вечера, а не за письменным столом.
Но и его не оставляла надежда на то, что пьеса скоро будет. Он только чуть сдвигал срок начала литературной работы, переносил его на август. 18 июля писал Станиславскому, посылая ему за Любимовку «тысячи благодарностей, прямо из глубины сердца»: «Все очень хорошо. Только вот одно плохо: ленюсь и ничего не делаю. Пьесы еще не начинал, только обдумываю. Начну, вероятно, не раньше конца августа» (II. 13 : 11). И с Горьким он делился в письме к нему в конце июля 1902 года; 48 «Я так обленился, что самому даже противно становится» (II. 13 : 13). С мыслями о Горьком, как и о Станиславском, он не расставался этим подмосковным летом. Прошедшей зимой Горький жил в Ялте. Чехов привязался к нему.
Уже не Вишневский и Ольга Леонардовна, а Чехов сам сказал: пьесу обдумываю. Сам. И это его обнадеживающее: «Начну», — хотя и поздновато, к открытию сезона пьеса вряд ли поспевала. Но ближе к его окончанию спектакль можно было поставить.
А вообще ни один человек не мог знать в точности, что происходило в душе Чехова. Маня Смирнова, старшая дочь Елены Николаевны, поклонница Ольги Леонардовны, наблюдавшая за писателем, сидевшим с удочкой на плотике то в смирновской купальне, то в алексеевском гроте, никак не разделяла оптимизма Вишневского и Ольга Леонардовны, уверявших Станиславского, что пьеса к началу сезона будет. Майя видела в рыболовных бдениях Чехова отвлекающий, расслабляющий момент, нерасположенность его к творчеству. «Да Вы себя в Тригорине вывели! — писала она Чехову год спустя, узнав в Чехове — Тригорина из “Чайки”, и напоминала ему его же, чеховско-тригоринский текст. По памяти, разумеется. — Эта фраза, например: “Если бы я жил в такой усадьбе, у озера, то разве я стал бы писать? Я поборол бы в себе эту страсть и только удил бы рыбу” […] И мне представилась наша Клязьма, алексеевский грот и Вы удите […] Хорошее было время!» (II. 1. К. 59. Ед. хр. 20 : 10 и 10 об.)
Маня всего Чехова знала наизусть.
Наверное, и Вишневский с Ольгой Леонардовной, уверенные в том, что Чехов пьесу напишет, и Маня Смирнова, сомневавшаяся в этом, — все были равно правы перед таинством творческого процесса.
Да и Чехов к праздности писателя в разное время относился по-разному.
Об этом свидетельствует Бунин.
То Чехов говорил Бунину: «Писатель должен быть нищим, должен быть в таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если не будет писать, если будет потакать своей лени. Писателей надо отдавать в арестантские роты и там принуждать писать карцерами, поркой, побоями» (II. 23 : 271).
В другой раз он говорил Бунину обратное: «Писатель должен быть баснословно богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, к Южному полюсу, в Тибет и Аравию, купить себе весь Кавказ и Гималаи» (там же).
Друзья и знакомые Чехова оставили столько его словесных портретов, противоречащих один другому, интервьюеры записали столько его взаимоисключающих суждений, что сводный аналитический портрет 49 Чехова из этого осколочного многоцветья не складывается в гармоничную мозаику. Он предстает перед читателями лишенным общей, объективной или божественной идеи, объединяющей отдельные фрагменты в одно лицо.
Видимо, Чехов владел искусством полного внутреннего перевоплощения, как гениальный лицедей, чья душа принадлежит всем и никому. Его душа с будильниковской юности вмещала в себя души «значительных лиц», «тузов» и «мелюзги», безымянных хористов и хористок, едва различимых в общем хоре. По мере надобности, когда он работал, а душа его работала непрерывно, и в застолье, и за рыбной ловлей, он вытаскивал из себя то Платонова, то Иванова, то Нину Заречную и Тригорина, то всех персонажей «Вишневого сада». Вытаскивал из себя, беря их извне и загружая ими свою душу. Они все уживались в нем, как в треплевской «Мировой душе» — Шекспир, Наполеон и последняя пиявка. И в зависимости от того, что и кого он обдумывал, от имени того и отвечал друзьям и интервьюерам. Отсюда и разноголосица в его высказываниях, и самого Чехова не уловить.
То он говорил, что любит театр и более всех — Художественный.
То — что не только Александринка, но и МХТ отвратил его от сцены. Это записал Дорошевич, обнародовав запись в статье о Чехове на следующий день после смерти писателя12. Станиславского возмутил этот опус Дорошевича, его «мерзость» и «пошлость».
Евтихий Карпов, режиссер проваленной в Александринке чеховской «Чайки», записал такой текст Чехова, содержащий его антиномии: «Какой я драматург, в самом деле… По театр завлекает, засасывает человека… Ничего не поделаешь, — тянет и тянет… Я несколько раз давал себе слово, что буду писать только повести, а не могу… Какое-то влечение к сцене… Ругаю театр и не люблю, и люблю его… Да, странное чувство…»13
И о Боге он говорил разное.
То что его нет, то что он, конечно, есть.
Сидя с удочкой, он вполне мог думать, что праздность — это хорошо для писателя. И ему действительно было хорошо. А мог думать, что это плохо, и корил себя за лень.
В любимовской праздности он все же купался. Не то что следующим летом в Наро-Фоминске у Якунчиковых. Только там он осознал, почему так хорошо ему было в Любимовке и не по себе — у Якунчиковых. «Жизнь у Якунчиковой вспоминается почему-то каждый день, — писал он Ольге Леонардовне осенью 1903 года из своей “теплой Сибири” в Москву. — Такой безобразно праздной, нелепой, безвкусной жизни, какая там была в белом доме, трудно еще встретить. Живут люди исключительно только для удовольствия — видеть у себя генерала […] или 50 пройтись с товарищем министра […] И как не понимает этого Вишневский, взирающий на этих людей снизу вверх, как на богов» (II. 13 : 281).
А на хористов и хористок Вишневский глядел сверху вниз. «Если заказывать шубу, то пожалуйста без Вишневского. Этот так важно держится в магазинах, что дерут всегда втридорога», — писал Чехов жене из Ялты (II. 13 : 289).
Чехов выдавил из себя раба, его таганрогский земляк, такой же «двоешник и безобедник», как и он, — нет.
Впрочем, и из Чехова вылезал таганрогский мещанин, когда в минуты предсмертной болезни он терял над собой контроль.
Атмосферу милой патриархальной праздности, разлитую в Любимовке вокруг родных Станиславского, Чехов перенесет потом в «Вишневый сад». Критики назовут ее «либеральной средой». Только в такой среде Чехов чувствовал себя хорошо.
Но в Любимовке он пьесу не написал. Как и в Наро-Фоминске. Вышло по Мандельштаму, который говорил, что ничто не может помешать художнику сделать то, что он должен, и благополучие или дурные условия никак не влияют на работу, а влияет на нее что-то третье…
* * *
Семнадцатилетняя Маня Смирнова, ровесница чеховской Ани Раневской, старшая из двоюродных племянниц Станиславского по материнской линии, та, что опознала в Чехове Тригорина с его страстью к рыбной ловле, приехала в Тарасовку спустя две недели после Чеховых. Она первый раз в жизни рассталась с мамой и путешествовала с отцом по Европе. Ее свела с ума Венеция: «Я просто влюбилась в чудную морскую царицу городов, и три дня, проведенные там, были совсем, как волшебный сон», — рассказывала она Ольге Леонардовне (IV. 1. № 4896).
Когда читаешь ее письма из-за границы, кажется — вот-вот наткнешься на рассказ о том, как она летала в Париже на воздушном шаре.
Путешествуя, она скучала по маме, по сестрам и Лили, «да и по самой матушке России»: «Чудные Швейцарские горы начинают меня давить, простору здесь нет! Не то, что на нашей безбрежной родине!»
И в реплике молоденькой Ани в «Вишневом саде», вернувшейся с Раневской и Шарлоттой из-за границы, появилась Манина интонация: «Три недели я не была дома. Так соскучилась!» (II. 3 : 325)
Реплика осталась в вариантах пьесы.
Подружки-кузины писали Мане, что в Любимовке у Алексеевых с начала июля будут Чеховы, и она еще сильнее заторопила папу домой: мечтала побыть подле обожаемой Ольги Леонардовны и познакомиться с Антоном Павловичем.
51 «Смирнова Маня и отец Мани вчера вернулись из-за границы, и сегодня мы, конечно, получили приглашение на 22 число. Помните, дорогая Мария Петровна, как в прошлом году мы все славили Христа изо дня в день», — сообщал Вишневский Лилиной любимовско-тарасовские новости (I. 3. Оп. 3. Ед. хр. 21 : 19). Истовая религиозность Мани была известна всей округе. В письме к Е. Я. Чеховой Ольга Леонардовна тоже писала о традиционном праздновании чьих-то имении в двадцатых числах июля, она там была, но в многолюдном заезде лодок, украшенных фонарями и флагами, не участвовала: «Мы с Антоном смотрели с берега» (II. 1. К. 77. Ед. хр. 10 : 25, 26).
Близкие сторожили покой Чехова.
Прислуга запрещала церковным службам благовестить и отваживала от него барышень.
Но несмотря на все предосторожности, молодежь — четвертое колено Алексеевых и Бостанжогло — крутилась вокруг Чехова.
Их было много — веселых, здоровых, красивых, породистых — молодых Алексеевых, Штекеров, Сапожниковых, Смирновых, Гальнбеков, правнуков канительных, хлопковых, шелковых и табачных фабрикантов. И держались они вместе, дружным кланом, как их деды и родители. Что-то вокруг Чехова шумело, двигалось, искрилось, полное жизни и радости.
Последние годы, когда приходилось подолгу сидеть в Ялте, Чехов не сталкивался с молодыми. Он не знал, какие они. В Ялте жил замкнуто, в своей среде: встречался с соседями — местной интеллигенцией и туберкулезниками, обреченными жить на юге; с писателями, его навещавшими; с артистами и артистками, ждавшими от него ролей; с врачами, его лечившими. И писал поэтические отходные по безалаберным восьмидесятникам, которых знал. Сам был один их них. Краткосрочный, но все же больше месяца любимовский опыт живого общения с молодыми мог открыть перспективы его «скорбным элегиям», которыми его корила критика, постоянно сравнивая с Горьким, поэтом «новой жизни» и романтически воодушевленного героя.
В последнее время ни одна статья о Чехове не обходилась без противопоставления его и Горького.
Чехов остается чуждым идейному подъему, который растет в русском обществе с конца девяностых, — читал Чехов в рецензиях на «Трех сестер» 1901 года. А он и в «Трех сестрах» думал о молодых героях. Правда, те были чуть старше молодых Любимовки, Тарасовки, Финогеновки и Комаровки. Он дал им смысл, цель жизни — труд, отправив Ирину Прозорову — на телеграф и помолвленных Ирину и Тузенбаха — на кирпичный завод. Но в «Трех сестрах» вышло по-чеховски: труд не спасал, не давал жизни выход, перспективу. Некто В. Стражев в статье 1901 года о «Трех сестрах» «Антон Чехов и Максим Горький» произнес 52 крылатые слова. Они, видно, задели автора «Вишневого сада»: Чехов, замкнувшийся в сфере чисто художественных интересов, — писал Стражев, — вырос в «Трех сестрах» как писатель, сравнительно с прежними пьесами, но не как идейная личность; его творчество — это похоронный плач: «Пропала жизнь». А Горький, провозгласивший: «Безумство храбрых — вот мудрость жизни», — это: «Да здравствует жизнь!»14
«Обдумывая» в Любимовке новую пьесу, Чехов, должно быть, размышлял над этой статьей и концепцией автора, заключившего его творчество и творчество Горького между двумя восклицаниями: «Пропала жизнь!» и «Да здравствует жизнь!»
Он думал именно о «герое», желая вырваться из амплуа пессимиста, отведенного ему журнальной прессой. Ему надоело быть «антитезой» Горькому в критических статьях. Ему хотелось сорвать наконец прилипшие к нему ярлыки, хотелось написать что-то совсем новое, опровергнуть упреки в том, что он смертельно устал, вечно ноет, что его герои пассивны.
Он неотступно думал о Горьком, думая о новом человеке и надеясь увидеть его среди образованных барышень и молодых людей, гимназистов и гимназисток, что вились вокруг него.
Он думал о «новых» людях с весны 1900-го, с тех пор, как познакомился с Горьким. Он присматривался к Горькому, человеку из другой, мало знакомой и мало понятной жизни, где водятся «новые» люди — герои. Он пытался сойтись с Горьким поближе, узнать его, даже поселил у себя, когда последней, предлюбимовской зимой 1902 года «неблагонадежный», поднадзорный Горький появился в Ялте. Других таких знакомых, которых то высылали, то арестовали после обысков, то выпускали под домашний арест, то совсем на свободу, в окружении Чехова не было.
Он задумывал изобразить в новой пьесе героя, который «то и дело в ссылке, его то и дело выгоняют из университета» (II. 13 : 279).
Сидя на берегу в ожидании клёва, наблюдая, как плывут по Клязьме лодки, или беседуя с Микой, сыном Владимира Сергеевича, — он чаще других забегал к соседям, — Чехов осмысливал живые связи поколений. На смену восьмидесятникам шли их дети, родившиеся в 1880-х. Люди XX века, люди из будущего. Будущее, счастливое, материально обеспеченное, было за ними. Любимовская молодежь, племя младое, незнакомое, — на нее он возлагал надежды. Он чувствовал в ней этот потенциал: «Да здравствует жизнь!» И он кинулся в этот опыт по мере физических сил, у него остававшихся, жадно вглядываясь в молодые лица, безмолвно их вопрошая. Это был уже не кабинетный, не умозрительный, а непосредственный опыт общения.
«Сыновья брата — удивительно славные ребята […] Они друг друга презирают, но они занятны», — писал Станиславский Ольге Леонардовне в день отъезда Владимира Сергеевича и Панички из Любимовки 53 за границу, беспокоясь, как мальчики будут себя вести без родительского, материнского главным образом, контроля (I. 8 : 460).
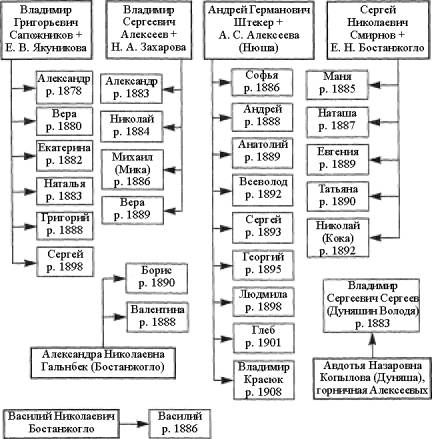
Любимовская, финогеновская, комаровская,
и тарасовская молодежь лета 1902 года (четвертое колено Алексеевых и
Бостанжогло)
Мальчики Алексеевы жили беспечно, легко, как настоящие «богемцы», гимназией себя не обременяя, и делали все, что хотели, в отличие от отца. В 1902 году «все мальчики начали курить», — записал Владимир Сергеевич в «Семейной хронике» (I. 2. № 16147).
Детям своей судьбы Владимир Сергеевич не хотел. Да и понимал: из них настоящих купцов-фабрикантов не получится. И не печалился: пусть будут дети теми, кем Бог назначил им быть. Слишком страдавший от «какой-то вялости» в собственном характере, он учил мальчиков, 54 когда они скатывались в гимназии на тройки, что все хорошее в жизни надо делать на crescendo, а не на diminuendo. Учил как умел, давая сыновьям гимназическое и музыкальное образование. Домашним учителем музыки служил в семье Владимира Сергеевича А. Б. Гольденвейзер. Александр Владимирович Алексеев, Шура, — умер в 1932-м профессором Ташкентской консерватории. В 1902-м ему — девятнадцать. Но никто из детей не мог сравниться с отцом врожденной — в Елизавету Васильевну — музыкальной одаренностью, удивлявшей даже видавшего музыкальные таланты Н. Г. Рубинштейна.
«Рисую себе картину, как Антон Павлович будет разговаривать с Микой. Это презанятный, талантливый мальчишка. Он играет роль неряхи», — Станиславский выделял Мику в представлении сыновей Владимира Сергеевича Ольге Леонардовне (I. 8 : 460).
Мика, младший и любимый племянник Станиславского, был, по-видимому, из породы тех юнцов, которых в 1960-х назовут хиппи: независимых, презирающих родительскую буржуазность, но и отравленных ею.
27 июля 1902 года отмечали Микин день рождения. Ему, как и Соне Штекер, исполнилось шестнадцать. Алексеевы-младшие — Кока, Шура, Мика и Вева, дети Владимира Сергеевича и Прасковьи Алексеевны, давали традиционный бал в честь новорожденного. Собралась одна молодежь, только что отшумевшая 13 числа на бале у Сони Штекер и 22-го — еще и недели не прошло — у Смирновых. «Будет обед на 25 человек молодежи и фейерверк, который устраивает сам Шура», старший брат Мики, — сообщала Елизавета Васильевна Мане Олениной в Кисловодск, сожалея, что ее и внуков Олениных не будет с ними (I. 2. № 16843).
Свой сорок четвертый и последний день рождения Мика встретит 9 августа 1930 года (по новому стилю) арестантом Бутырской тюрьмы. А в соседних камерах своей участи ссыльных и смертниц будут ждать его жена и сестра жены.
В начале августа 1902 года бал для детей, не ведавших своей судьбы, давали в Любимовке и Сапожниковы. Но он прошел незаметно. Владимир Григорьевич Сапожников, глава дома, директор-распорядитель Куракинской шелковой мануфактуры, будущей «Передовой текстильщицы», еще по приезде Чеховых приходил к ним «отрекомендоваться» и пригласил гулять в его парк, вполне ухоженный, в отличие от любимовского — бесхозного, одичавшего.
К Сапожниковым Чехов не выбрался, как и к Алексеевым — к Владимиру Сергеевичу, к Смирновым и Штекерам.
Елизавета Васильевна Сапожникова, урожденная Якунчикова, — жена и кузина Владимира Григорьевича и одновременно оба они кузен и кузина Станиславского, — только накануне вернулась из-за границы 55 после полугодового отсутствия, и у Сапожниковых было не так пышно, как обычно. «Даже фруктовщик жаловался Дуняше, что в прошлом году купили фруктов на 200 рублей, а теперь только на 60 рублей» (I. 3. Оп. 3. Ед. хр. 21 : 20), — летело в Европу из Любимовки Алексеевым — Станиславскому и Лилиной — от Вишневского. Он был у Чеховых на хозяйстве и знал, что сколько стоит. Вот и Дуняша Копылова вылезла из алексеевского дома на околицу пообщаться с деревенским людом. А может, фруктовщик сам приходил к ней со своими товаром для хозяев и их гостей. А может, кто знает, она его приворожила, как кавалеров — Дуняша чеховская, имевшая успех на бале? В черновых записках Станиславского, относящихся к 1912 году, промелькнуло — Дуняша влюблена в Егора: «Прототип Дуняши — Дуняша. Влюблена в Егора» (I. 14 : 20). Но, наверное, снова театральные фантазии на любимовские темы чеховской пьесы захлестнули Станиславского, и он перепутал театр, свой спектакль и далекое прошлое: Дуняша Копылова, в начале 1880-х «Дуничка К.», его «утешавшая», в 1902-м — «довольно пожилая женщина» (I. 7 : 467).
Любимовская молодежь бесконечно развлекалась балами, шумевшими по всей округе.
Или дурачилась, да так, что и Чехова поддевала своими розыгрышами.
Станиславский побаивался ребячьих шалостей — и как в воду глядел.
Однажды кто-то зло подшутил над Чеховым. Свидетели указывали на Мику.
Видя, как Чехов расстраивается, когда у него не ловится рыба, дети подцепили на крючок, заброшенный Чеховым в воду, калошу и камень. Антон Павлович, услышав, что клюет, бросил обед и кинулся к реке. Эту историю вспомнил Вишневский: вынув нечто вместо рыбы, «Антон Павлович страшно осунулся, завял, смущенно кашлянул, но не рассердился, только потух как-то, вся радость сбежала с его лица» (II. 1. К. 66. Ед. хр. 136 : 3).
Тот же случай описала и Елизавета Васильевна, баба Лиза, своему «ангелочку» внуку Женюше — Жене Оленину, сыну Марии Сергеевны: «Вчера Мика был новорожденный, у них был фейерверк и много гостей, особенно барышень. Во флигеле дяди Кости живут Чеховы, и сам Чехов почти весь день удит рыбу на пристани. Кто-то ему вместо рыбы привязал на крючок удочки старый сапог, а сегодня еще украли у него вершу» (I. 1).
В изложении Станиславского в 1914 году эти ребячьи проказы выглядели так: «Стали над Чеховым подшучивать какие-то шалуны, зная его страсть рыболова: вместо рыбы вытащил он на удочку старую резиновую калошу; Чехов очень обиделся, перенес на следующую ночь 56 свои удочки на другое место, проделал это в строжайшем секрете, чтобы никто не узнал, старательно замаскировал расставленные удочки ветками; но шалуны все-таки проведали и устроили еще какую-то шалость» (I. 7 : 466).
Разночтения свидетелей незначительны. Но ни одна мелочь не ускользала от пристального внимания к Чеховым обитателей Любимовки и Станиславского, хоть и издалека.
«Послушайте, как скучно тут в Любимовке, мальчики же скучают…» — огорчался Чехов. И мрачнел (II. 1. К. 66. Ед. хр. 136 : 3).
Очертания будущего — не его и без него, Чехов это знал, — рисовались ему неотчетливым контуром.
Материала было недостаточно.
И все же из стаи бездумных мальчиков и барышень, что кочевали с бала на бал и так примитивно глупо разыгрывали его, Чехов выделил двоих: Наташу Смирнову, одну из четырех двоюродных племянниц Станиславского со стороны Елизаветы Васильевны, и Дуняшиного Володю, — он приходил к реке срезать переметы, поставленные Чеховым, вместо ленившегося Егора. Должно быть, Чехов примеривал эту парочку, каждого в отдельности, к пьесе, которую «обдумывал».
Наташа Смирнова, художница, «пишет с меня портрет», — отчитывался Чехов Станиславскому (II. 13 : 11).
Пятнадцатилетняя Наташа Смирнова, Манина сестра, в любимовское лето Чеховых перешла в шестой класс частной гимназии А. Ф. Гроссман, где училась с 1899 года, с третьего класса. До этого ее учили дома, как всех детей состоятельных родителей и как Станиславского в ее годы. В ней рано открылся талант художницы, и Сергей Николаевич Смирнов, ее отец, учитель мужской гимназии, сам баловавшийся живописью, обучил Наташу азам рисунка, композиции, некоторым приемам акварели и масла. Равнодушный к детям, он Наташу обожал. Наташа показала Ольге Леонардовне свои работы «совсем новой школы», как говорила о них Ольга Леонардовна, устроившая их выставку для Чехова. Чехов одобрил картинки и разрешил Наташе писать его портрет. Ольга Леонардовна строго следила за тем, чтобы девочка не утомляла писателя сеансами. «Конечно, она еще очень юная и учится еще, но интересно пишет и с фантазией», — сообщала Ольга Леонардовна Марии Павловне Чеховой (IV. 5 : 42). Мария Павловна тоже занималась живописью. «А она способная, по-моему, и очень даже. Если только будет работать», из нее выйдет толк, — докладывала Ольга Леонардовна Станиславскому об успехе Наташиной выставки у Чехова и о ее работе над пастельным портретом Антона Павловича (IV. 5 : 43). В память о Любимовке Наташа подарила Ольге Леонардовне свой пейзаж.
Дуняшин Володя, умный, сын барина и горничной, был любопытен Чехову своей социальной двойственностью, «социальной неполноценностью» — 57 среди рожденных почетными потомственными московскими гражданами. Володя — сын барина. Дуняша в советское время педалировала этот момент, отстаивая какие-то имущественные права сына, ущемлявшие права законных детей Станиславского.
Володя был тот самый социально «новый материал», из которого Горький делал своих героев. Зимой 1902-го Горький дорабатывал «Мещан» для Художественного, свою первую пьесу с «героической» ролью в центре. Чехов, опытный драматург, наставлявший Горького по части драматургической техники, видел роль Нила в горьковской пьесе именно «героической»: «Это не мужик, не мастеровой, а новый человек, обинтеллигентившийся рабочий», — писал Чехов о горьковском Ниле (II. 16 : 193).
«Обинтеллигентившийся…»
Чехов понимал, что «сии штуки» можно пробовать только на принципиально новой человеческой основе.
Володя — «обинтеллигентившийся» сын горничной, прислуга, — занимал воображение Чехова. Этот любимовский «тип», подходящий пьесе, он нашел сам, без наводки Станиславского.
В Любимовке Чехов узнал Володину историю.
Приемыш и крестник Елизаветы Васильевны, Дуняшин Володя — Владимир Сергеевич Сергеев — вырос в ее красноворотском доме, как все дети Алексеевых — Сергеевичи и Сергеевны. Вырос в барской детской. В год рождения Володи младшим Алексеевым — Павлу и Мане — восемь и пять лет. Станиславский и Лилина заботились и о Дуняше, и о Володе. «Не забудь похлопотать за Дуняшиного Володю. Право, она стоит этого. Ну, уж если нельзя будет пристроить, так уж нельзя, а что от нас зависит — надо сделать», — писала Лилина 6 мая 1896 года в Москву из-под Харькова, из соседней с Григоровкой деревни Аидреевка, где она жила с детьми в то лето (I. 1). Речь шла о Володиной учебе. Володе в 1896-м — 13 лет. «После разных приключений я добрался до Мещанского училища и целых полчаса толковал с инспектором […] Решили так: если не попадет по жребию, он и я обращаемся к Протопопову. Если, паче чаяния, и это не удастся, — его поместят на вакансию, которая почти безо всякого сомнения освободится к августу. Я очень неловок и не находчив в поручениях, в которых надо добиваться цели упорством и чуть не нахальством […] Все, чего можно добиться, я сделал», — отчитывался Станиславский жене о своих хлопотах за Володю (I. 8 : 182 – 183).
Степан Алексеевич Протопопов, к которому обращался Станиславский, — это свойственник Алексеевых через Сергея и Дмитрия Ивановичей Четвериковых, женатых на сестрах покойного Николая Александровича Алексеева. Протопопов был женат на сестре братьев Четвериковых. Старший мануфактур-советник Купеческой управы, 58 влиятельный чиновник, он был членом попечительских советов разных коммерческих училищ. В Мещанском училище он председательствовал в совете. Училище готовило торговых служащих.
С вакансией для Володи не получилось. Тогда помог Сергей Николаевич Смирнов. Володя учился во Второй, смирновской, как ее называли у Алексеевых, московской мужской гимназии.
К любимовскому лету Чеховых Дуняшин Володя оказался недоучившимся гимназистом. Почему это произошло, выгнали ли его из 6 класса гимназии из-за какой-то провинности или по каким-либо причинам он не мог учиться дальше, сейчас установить невозможно. Может быть, его и выгнали за какую-то дерзость, но вряд ли из-за неуспеваемости — к учебе он имел способности незаурядные.
Что-то неукрощенно-дерзкое было в Володином характере.
Станиславский не раз спасал его от ответа за какие-то вызывающе-непочтительные к властям поступки. Всего одно подтверждение, относящееся к лету 1913 года, из письма Станиславского к сыну Игорю. Володя, служивший у Станиславского репетитором Игоря, был старше Игоря на 11 лет. Станиславский сообщал Игорю: Володю «задержали в Москве и хотели судить по-военному за то, что он обругал частного пристава. Это его испугало и взволновало. Он прислал телеграмму, и я должен был писать письма всем знакомым властям. Удалось затушить дело»15. А может быть, то была просто вспыльчивость, унаследованная и от мамани, и от самого Станиславского. Она была свойственна натуре Владимира Сергеевича Сергеева.
«Володьку надо учить», — надписал Чехов на своей фотографии, подаренной Дуняшиному Володе. Он чувствовал потенциал этого недоучившегося гимназиста. Родные Владимира Сергеевича утверждают, что он бережно хранил эту фотографию. Почему-то они не могут найти ее и приложенный к ней очерк Владимира Сергеевича о встрече с Чеховым летом 1902-го в его неразобранном домашнем архиве.
Летом 1902 года восьмилетний Игорь отдыхал и путешествовал с родителями по Европе. Володя, свободный от репетиторства, исполнял необременительные обязанности конторщика имения. А чаще бездельничал, читал, занимался переводами. Наверное, с латинского. Он был силен в латинском. Или гулял с барышнями. Или сидел на веслах смирновской лодки, помогая «смирновским девицам», как называл Чехов Маню, Наташу, Женю и Таню Смирновых, катать Чеховых по Клязьме, если они изъявляли такое желание.
Жил он вместе со всей прислугой в строении рядом с господским домом. Как Петя Трофимов, бывший репетитор младшего сына Раневской, утонувшего шесть лет назад: «В бане спят, там и живут. Боюсь, говорят, стеснить», — рассказывала чеховская Дуняша Козодоева о Пете Трофимове (II. 3 : 200).
59 О том, что Володя — прототип Пети Трофимова, Станиславский говорил не один раз, варьируя детали.
«Володя — Трофимов» — так и написано в тезисах Станиславского к воспоминаниям о Чехове в Любимовке (I. 2. № 773 : 19). Володя — знак равенства — Трофимов. В публикации этого фрагмента из записной книжки Станиславского знак равенства заменен тире (I. 14 : 20).
«Его угловатость, его пасмурную внешность облезлого барина Чехов […] внес в образ Пети Трофимова», — говорил Станиславский корреспонденту петербургской газеты «Речь» в 1914 году, в интервью, опубликованном к десятилетию со дня кончины Чехова (I. 7 : 467). И там же добавлял, что Чехов, отправлявший в 1902 году Дуняшу на вечерние курсы и Егора — учиться французскому языку, озаботил и Володю, недоучившегося гимназиста, необходимостью образования: «Сына горничной, служившего в конторе при имении, Антон Павлович убедил бросить контору, приготовиться к экзамену зрелости и поступить в университет, говоря, что из юноши непременно выйдет профессор».
До профессора и в 1914-м Володе было далеко.
«Роль студента Трофимова была […] списана с одного из тогдашних обитателей Любимовки», — повторил Станиславский в «Моей жизни в искусстве» (I. 4 : 343). В начале 1920-х Владимир Сергеевич — преподаватель ФОНа, факультета общественных наук, выделившегося из историко-филологического факультета Московского университета.
На тождественности Пети и Дуняшиного Володи Станиславский будет настаивать, пытаясь воплотить ее в своем спектакле.
* * *
В первой декаде августа Чехов занервничал.
Его утомляло многолюдство вокруг.
Он устал от семейной жизни.
Он не успел привыкнуть к ней, не успел осознать, как хорошо быть женатым. Это его более позднее признание. Венчавшиеся весной 1901 года Чеховы всю свою первую зиму прожили врозь. Ольга Леонардовна играла в театре. Врачи считали, что сырость средней полосы вредна легочнику, и Чехов с сестрой, наезжавшей в Москву, и с матерью жил в Ялте. Ему не хватало в Любимовке привычного одиночества.
Почувствовав приближение болезни, но никому ничего не сказав, он сбежал к себе на юг, чтобы забиться в свою конуру: не хотел обременять собою выздоравливавшую жену. В эти дни, недели, месяцы — физических страданий — он всегда был один.
От первых писем Ольги Леонардовны в Ялту веяло холодком. Она не знала, что в Ялте у Антона Павловича, как он и предполагал в Любимовке, 60 оттого и сорвался до срока, началось кровохарканье. Ему было не до выяснения отношений. Он вообще этого не умел и не любил. И не до пьесы.
Письмом от 17 августа 1902 года, через три дня после отъезда из Любимовки, Чехов огорчил жену: «Пьесы писать не буду» (II. 13 : 15). И только в письме ей от 6 сентября 1902 года признался: «Едва я приехал в Ялту, как барометр мой телесный стал падать, я стал чертовски кашлять и совершенно потерял аппетит» (II. 13 : 32).
Письма жене из Ялты он адресовал в красноворотский московский дом Елизаветы Васильевны Алексеевой, откуда их переправляли в Любимовку.
27 августа он подтвердил решение: «Пьесу писать в этом году не буду, душа не лежит, а если и напишу что-нибудь пьесоподобное, то это будет водевиль в одном акте» (II. 13 : 24).
И 29 августа — то же: «Немирович требует пьесы, но я писать ее не стану, в этом году, хотя сюжет великолепный, кстати сказать» (II. 13 : 27 – 28).
И Станиславскому он говорил осенью 1902 года, когда тот спрашивал о пьесе: «Сюжет есть, но пока еще не хватает пороху». И добавлял, что в Любимовке ему жилось «очень хорошо, лучше нельзя жить», и что климат в Любимовке и рыбная ловля с утра до вечера оказались для него целебными (II. 13 : 55).
«Сюжет есть…»
«Великолепный» сюжет…
Что-то наверное, осталось в канонической редакции «Вишневого сада» Чехова от его долюбимовского замысла, если он был: «либерализм» хозяйки имения, безденежье барыни, слуга, подбирающий рассыпавшееся серебро.
«Среда Гаева — Раневской — искрение либеральная и крайне ласковая к людям низшего происхождения, — заметил Амфитеатров в рецензии на “Вишневый сад” Художественного театра, привезенный в Петербург весной 1904 года. — Прислуга в доме — запросто фамильярна, держит себя вровень с господами до такой степени, что иногда кажется, что Чехов немножко пересолил […] Как ни либерально будь российское барское семейство, но все же невероятно, чтобы в нем офранцуженный лакей Яшка смел фыркать в лицо главе дома и заявлял потом в виде извинения: “Я вашего голоса, Леонид Андреевич, без смеха слышать не могу!”»16
В этих отношениях господ и слуг, нехарактерных для дворянских нравов, возможно, остатки неведомого нам первоначального замысла пьесы о «либеральной старухе», жалостливой, без сословных предрассудков, и одноруком барине, тоже либеральном. И с такой же вероятностью возможно, что это — новые впечатления Чехова от нетипичной для 61 помещичьих усадеб алексеевско-бостанжогловской купеческой среды, приближавшейся к дворянской, в которую писатель погружался. За эту «нетипичность» дворянства, изображенного в «Вишневом саде», Чехову доставалось от Бунина: «Помещики там очень плохи. Героиня “Вишневого сада”, будто бы рожденная в помещичьей среде, ни единой чертой не связана с этой средой» (II. 23 : 273).
Может быть, есть в пьесе Чехова еще какие-то детали из никому не известных набросков, которые Мария Павловна так и не нашла в июне 1902-го в ялтинском столе брата. Но мотив «первоначального», долюбимовского замысла — барыня, задолжавшая слуге, — сопрягается также и с любимовскими реалиями самих Чеховых. Они умудрились задолжать Егору, лакею Станиславского, «за харчи», хотя Лилина и с Егором, и с Дуняшей рассчиталась до отъезда во Франценсбад.
«Не знаю, хватит ли у тебя денег, чтобы заплатить Егору за обед», — беспокоился Чехов (II. 13 : 28). Егор предъявил Ольге Леонардовне какой-то фантастический счет, когда Чехов уехал из Любимовки.
Что в пьесе Чехова откуда, установить невозможно.
И все же в обещанной художественникам пьесе что-то сдвинулось за любимовской рыбной ловлей.
Без алексеевской Любимовки не было бы того чеховского «Вишневого сада», который появился в Художественном поздней осенью 1903-го. Или он был бы другим.
Любимовская подпитка Чехова была настолько основательной и так заметна для Станиславского, что, получив рукопись пьесы, он ответил автору: «Я сразу все понял» (I. 4 : 342).
Подпитка эта продолжалась еще год с лишним после внезапного отъезда Чехова из Любимовки.
Ольга Леонардовна, оставшаяся в одиночестве, ходила «как в воду опущенная, — грустная такая; теперь, слава Богу, вернулись дядя Костя и Мария Петровна, и она повеселела», — писала Маня Смирнова Чехову из Тарасовки в конце августа 1902 года. После Любимовки и Антон Павлович стал ее адресатом.
С приездом Алексеевых Любимовка ожила.
Закипела работа над драмой Горького «На дне», которую готовили к открытию сезона на новой шехтелевской сцене в Камергерском. В Любимовку зачастили гости — артисты, режиссеры, художники.
«По-моему, тебе надо весь сентябрь прожить в Любимовке, — писал Немирович-Данченко Чехову из Любимовки. — […] Тебе никто не будет мешать. Дачники здешние тают, да и все равно тебя не тронут и ходить к Вам будут реже, чем летом. Сейчас тут очень хорошо […] Славно смотреть на зелень, желтизну листьев. И воздух такой дивный, — зазывал он Чехова на алексеевскую дачу, пытаясь вызволить из Ялты, где, как ему казалось, писателя донимали “пустыми и мелочными разговорами”. — 62 Приезжай скорей писать пьесу. Без твоей пьесы сезон будет отчаянный!» (V. 10 : 147).
Немирович-Данченко не терял надежды на то, что новую чеховскую пьесу к концу сезона 1902/03 гг. театр поставит.
Ольга Леонардовна, попав в свою среду, приободрилась, забыла о том, что Чехов в этом году пьесу писать не будет, забыла и о дачниках, о Нюше, о барышнях Смирновых, о Лили, о мальчиках Алексеевых, которые весь месяц скрашивали ее отдых.
Мика вообще перестал забегать на соседскую дачу: не было Чехова.
Егор, разговорившийся при Чехове, при Станиславском и Марии Петровне притих.
И все они: Егор, Дуняшин Володя, барышни Смирновы и Лили, опекавшие Ольгу Леонардовну и Антона Павловича в отсутствие Алексеевых, приуныли. Их жизнь словно опустела.
Для них встреча с Чеховым не прошла бесследно.
И, еще модели, один за другим — за исключением Дуняшиного Володи — они выходили на автора, который, казалось, их не искал. Они писали ему письма, не ведая о том, что уже попали в фантазию писателя, вместившую любимовские типы, и закрепляются в ней, добавляя столь недостававший ему материал о себе.
Видно, разговоры с Чеховым произвели на Егора сильное впечатление. Они пробудили в его, казалось, окостеневшей душе живые и прежде неведомые струны.
15 августа он получил от Чехова поклон — в письме писателя к жене с дороги из Москвы в Ялту. Чехов просил Ольгу Леонардовну не сердиться на своего рыболова и кланялся «Елизавете Васильевне, Марии Петровне, Дуняше, Егору, Смирновым» (II. 13 : 14).
Егора привет Антона Павловича приободрил.
22 августа Ольга Леонардовна писала мужу в Ялту, что Егор взял у нее адрес Ивана Павловича Чехова, брата писателя, педагога одной из московских гимназий: «Ты мне ничего не говорил, что Егор хочет обучаться. Мария Петровна, кажется, не очень довольна его идеями» (IV. 4 : 455).
Антон Павлович «взбудоражил» Егора, грамотного молодого человека, и Дуняшиного Володю необходимостью образования.
Но, к счастью для Алексеевых, в учебе «прогрессировал» один Володя, «остальные испортились», — записал Станиславский в черновых набросках о Чехове в Любимовке. То есть с учебой Егора ничего не вышло.
Большей реальностью оброс другой проект Егора Андреевича, также спровоцированный Чеховым.
Еще в Любимовке, свидетельствует Вишневский, Егор поделился с Чеховым, что лакействовать не хочет и уходит от Алексеевых: «Антон 63 Павлович принялся хохотать от радости, что ему удалось убедить Егора».
Егор подобрал место сидельца в винной лавке, сговорился с нанимателями, обзавелся визитной карточкой и попросил Чехова дать ему рекомендательное письмо к Стаховичу. Чехов пометил вполне церемонное, но вместе с тем и назойливое письмецо Егора к нему августом 1902 года. И письмо, и визитная карточка Егора Андреевича Говердовского, прототипа Епиходова «по мудреной речи», как считал Станиславский, сохранились в чеховском ялтинском архиве:
Глубокоуважаемый Антон Павлович
Кланяюсь Вам и желаю доброго здоровья на многие лета.
Прежде всего прошу Вас простить меня за безпокойство, которое я причиняю Вам этим письмом, Я слышал, что Вы не скоро еще вернетесь в Москву. Между тем как я боюсь окончательно упасть духом, и потому покорнейше прошу Вас написать обо мне несколько строк господину Алексею Александровичу Стаховичу. Письмо это пришлите ко мне, чтобы я сам мог с ним отправиться к господину Стаховичу. Заранее принося Вам благодарность, остаюсь преданный Вам на всю жизнь
Егор Говердовский
P. S. У Константина Сергеевича я уже больше не служу, но живу пока у него в Москве (II. 32 : 173).
Слова Егора «Между тем как я боюсь окончательно упасть духом…» вполне достойны Епиходова с его катастрофическим сознанием, переведенным Чеховым в комедийный регистр в реплике Епиходова, обращенной к Дуняше: «Вы, позволю себе так выразиться, извините за откровенность, привели меня в состояние духа…» (II. 3 : 237)
Ольга Леонардовна торопила мужа с ответом Егору. Егор и ее тормошил: «Вчера был Егор, умолял дать ему твою карточку с удостоверением, что ли, что он хороший, надежный человек и может быть сидельцем в казенной винной лавке. Будь добр, напиши на своей карточке и пришли немедленно. Сделаешь доброе дело, он ждет это с лихорадкой, уже говорил о том, что ты знаешь его и там ждут. Он подает прошение. Дусик, пожалуйста. Не забудь, милый. А Егор потешный» (II. 13 : 637).
И Станиславский считал, что Егор, хоть и демагог, но «потешный».
В письме к дочери весной 1903 года из Петербурга он просил кланяться «Дуняше, Поле, Егору и всем, кто вас любит и веселит» (I. 8 : 481).
Дуняша и Поля, видимо, из тех, кто «любит».
Егор из тех, кто «веселит».
64 Рекомендацию Чехов прислал, но, по всей вероятности, дело не сладилось, если Егор продолжал жить у Станиславского и служить у него на посылках. Он отправлял Чехову газетные рецензии, которые собирали в театре. А с мая по декабрь 1905 года, уже после смерти Чехова, он служил рассыльным в экспедиции Театра-студии на Поварской, финансировавшейся Станиславским.
«С ним […] постоянно случались “несчастья”, и он забавно об этом рассказывал», — писала о Егоре в своих мемуарах артистка Театра-студии В. П. Веригина (V. 3 : 70), подтверждая верность модели образу Епиходова у Чехова: «У меня несчастье каждый день, и я, позволю себе так выразиться, только улыбаюсь, даже смеюсь» (II. 3 : 313).
Веригина вспомнила также рассказ Мейерхольда о том, как Егор, «разнося чай во время режиссерских совещаний, давал серьезные советы по распределению ролей». Мейерхольд при этом хохотал.
А в конторской книге, хранящейся в архиве Театра-студии на Поварской в Музее Художественного театра, где подклеивались квитанции о рассылке писем, пьес, ролей и другой деловой корреспонденции, 12 мая 1905 года Егор собственноручно расписался в том, что порученное ему исполнено, что Станиславскому переданы пьеса «Земля», видимо, Брюсова, пьеса «Любовь» — без указания автора и что «квитанция потеряна». Так и написал: «Квитанция потеряна. Е. Говердовский».
Егор поразительно соответствовал характеристике, данной ему Станиславским в письмах Чехову из Франценсбада, и тому, чеховскому Егору, чье имя мелькнуло в «Вишневом саде», который забыл передать распоряжение Ани Раневской о том, чтобы Фирса отправили в больницу.
Впрочем, версия Станиславского, наиболее других посвященного в замыслы Чехова о прообразе Епиходова, не исключает и иных версий. Он же писал, что, сочиняя Епиходова, Чехов вспоминал фокусника — виртуоза-жонглера с его программой из двадцати двух номеров «Двадцать два несчастья». Среди своих цирковых упражнений — с яйцом, ядром, тарелками, кинжалами — он «с большим комизмом» разыгрывал неудачника: в конце каждого номера что-то падало и разбивалось, пока он сам не падал, схватившись за шкаф, и шкаф накрывал его под грохот разбивавшейся посуды.
Тут же Станиславский добавлял, что Егор Андреевич был тоже «чрезвычайно неловкий и незадачливый», «но уже не притворно» (I. 7 : 465).
Каждый из писавших о чеховском Епиходове в канонической литературной редакции «Вишневого сада» находил подобного ему среди своих знакомых. Чеховский Епиходов, литературный тип, поглощал их всех, не исключая Егора. Все ассоциации сплелись у Чехова в тугой клубок, его не размотать.
65 Кто-то увидел в Епиходове даже неуклюжего Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Он то спотыкался, то падал в самых неподходящих местах. А однажды ему прищемили бороду.
«Никто не наблюдает больше Епиходовых, чем мы, газетные люди, — писан Амфитеатров в петербургской “Руси”, рецензируя “Вишневый сад” Чехова. — Они усердные графоманы и заваливают редакции своими безграмотными присылками, по преимуществу стихотворными. Это — Епиходовы “случайные”. Но в каждой редакции, типографии, книжном складе, газетной экспедиции можно найти своего постоянного Епиходова — и с тем же неудачеством на всех путях жизни, с теми же “двадцатью двумя несчастьями” каждый день; с тою же симпатичною жаждою просвещения и уважения к своей личности, с тем же до болезненности доходящим самомнением, с тою же опасною манией преследования, с враждою к каждому, кто с ним не согласен и не находит его гением»17.
Кажется, что писано это с Егора Андреевича, служащего экспедитором у Станиславского или в конторе Театра-студии на Поварской.
Или — другой конкретный «случай» Епиходова, рассказанный С. А. Андреевским, известным в России адвокатом. Он относил свой случай Епиходова, ревнующего Дуняшу к Яше, к своему подзащитному, убийце-психопату, который, играя Отелло в жизни, как, допустим, Соленый — Лермонтова, шантажировал невесту револьвером. Револьвер он всегда носил в кармане. И так-таки выстрелил в нее в припадке ревности.
Образ, вышедший из жизни, из услуг лакея, из его неловкости и незадачливости, из его колоритной речи и демагогических рассуждений, из бесед писателя с Егором, читавшим ученые трактаты из библиотеки Станиславского и воображавшим себя философом, возвращался в жизнь типическими чертами Епиходова.
И другие любимовские модели Чехова будто искали свое место в будущей пьесе, сочетавшей, как все у Чехова, документальную и чувственную человеческую реальность с высокой степенью литературно-художественных обобщений.
В архиве Чехова сохранилась августовская записочка и от Лили Глассби с аккуратной карандашной пометкой, сделанной рукой Чехова: «1902, VIII». Лили, заскучавшая без «брата Антона», когда он уехал из Любимовки, написала ему в Ялту, как они договорились:
Брат Антон!
Как дольго время по казаться как ты уехала от сюба, мне жаль потому я люблю знать что ты блызка. Как твое здоров?
Счастлилый ли ты? Мне очень жаль, что твое жена совсем одна, она я думать очень скучно.
66 У нас все здоров кроми Кока он себе нарезала нога, но теперь он тоже здоров. Маня Наташа и Женя тебе кланиться и желаю тебе счасти и здоров.
Пожалуйста поскоры возвращаться или мы тебе не буду видить. Теперь ты писать мне письмо, потому ты мне сказала если я тебе буду писать ты мне тожо буду. Когда ты буду здес?
Прощай дорогой Брат.
Христос с тобой.
Люблю тебе.
Лили (II. 1. К. 59. Ед. хр. 2 : 1, 2).
«Шарлотта говорит не на ломаном, а чисто русском языке; лишь изредка она вместо ь в конце слова произносит ъ и прилагательные путает в мужском и женском роде», — пояснял Чехов роль Шарлотты, когда пьеса была закончена и отправлена в Москву, в Художественный театр (II. 13 : 294).
Чехов обещанного письма Лили не написал, но попросил жену передать и ей, и ее воспитанницам сестрам Смирновым, что скоро приедет в Москву и непременно увидится с ними.
Маня Смирнова завалила его письмами.
25 августа 1902 года, в один день с Лили, пра-Шарлоттой Ивановной — по версии Станиславского, Маня отправила Чехову предлинное письмо, полное любимовских зарисовок. Она тоже, как и Лили, скучала без Антона Павловича:
Так Вас недостает! […] Сегодня у нас кофейное мороженое — грустно, некому нести […] Ваш отъезд ускорил приближение осени — природа тоскует, небо часто хмурится и плачет, деревья от скуки пожелтели и обсыпаются! Да и тепла нет; солнышко кисло улыбается и не греет. Вчера было что-то необыкновенное — две сильнейшие грозы, одна утром, другая под вечер, и воздух был такой странный, душный и жгучий; а когда находила туча, сделалось так темно, что у нас средь бела дня лампы зажгли. Знаете, Антон Павлович, — признавалась Маня Чехову, — я Вас заглазно полюбила, увидав «Дядю Ваню»; я не могу выразить, какое ясное, теплое, милое впечатление произвела на меня эта пьеса! И я теперь так рада, так счастлива, что с Вами познакомилась! (II. 1. К. 59. Ед. хр. 20 : 1, 2).
И незаметно для себя, совсем забыв, что пишет знаменитому писателю, Маня все писала и писала страницу за страницей.
Октябрь — ноябрь 1902 года Чехов провел, как и обещал, в Москве, ненадолго съездив в Петербург. Его больше держали дома. Боялись простуд. Но один раз он все же выбрался в Москве на выставку «Мира 67 искусства», где встретился с Маней и Наташей. Мане страсть как хотелось «поболтать» с Чеховым. Но на выставке не удалось. И она в декабрьском послании в Ялту, спросив его: «Как Вам понравилась эта выставка?» — сама изложила ему все, что думала о «Бабах» Малявина, о портретах Серова, о Бразе и Врубеле и о четвертом симфоническом собрании Московского Филармонического общества: об оркестре под управлением Зилоти, исполнявшем музыку Шумана к драматической поэме Байрона «Манфред», о солистах, хоре и о мелодекламации. В концерте участвовали Шаляпин и Комиссаржевская:
Шаляпин декламировал Манфреда — какой он гениальный! Декламировал с такой искренностью, с таким чувством и так просто, что можно было думать, у него действительно кружится голова, стоя на краю пропасти; он действительно останавливал хор криком: «Я знаю» […] Музыка Шумана чудная, но, к сожалению, оркестр шел вяло, а один из хоров (баш), прошел совсем слабо. Шаляпин папе понравился больше знаменитого Поссарта. Комиссаржевская не особенно хороша, очень завывает, декламируя (там же: 4).
После артистов Художественного Комиссаржевская казалась Мане слишком театральной.
Весь 1903 год Чехов получал от Майи длинные рецензии на спектакли Художественного театра. Она из театра не вылезала с момента его открытия в 1898 году, со своих девчоночьих тринадцати. Теперь, в восемнадцать, превратилась в ту постоянную публику Художественного театра, им воспитанную на Чехове, которую так не любил Владимир Сергеевич Алексеев. Ее глаза вовсе не залипли от чеховской «болотной тины», как именовал чеховские интонации Владимир Сергеевич. Напротив, были широко распахнуты в мир, который ей открывали Чехов и Художественный театр, полный живой человеческой жизни, чувств и настроений российской интеллигенции, вступившей в XX век.
У Мани все только начиналось.
Подробно описала она Чехову «Столпы общества» с Ольгой Леонардовной в роли Лоны, которую та подучивала в Любимовке. А в следующем сезоне столь же подробно — «Юлия Цезаря» с Качаловым, Леонидовым, Вишневским и Станиславским. Спектакль выпускал Немирович-Данченко с актерами, которым предстояло играть в «Вишневом саде». И к началу сезона 1903/04 гг. Чехов не прислал пьесы в Художественный. «Цезарем» открывали шестой сезон театра. В антракте премьерного спектакля Маня виделась с Иваном Павловичем Чеховым и узнала от него, что «Мария Павловна везет нам желанный “Вишневый сад” и что Вы сами на днях приезжаете». Письмо Чехову о «Юлии Цезаре» Маня написала в ночь на 3 октября 1903 года:
68 Многоуважаемый Антон Павлович!
Сейчас вернулись с «Цезаря»! Художественный открылся; открылся вчера, но спектакль кончился сегодня четверть второго. Наши все уже спят; я помираю от усталости, но чувствую потребность поговорить с вами, поделиться впечатлением. Дивно хорошо! Я все время Вас вспоминала и от души жалела, что Вас не было! Костюмы, декорации и вообще обстановка идеальны, лучшего немыслимо ожидать! Юлий Цезарь — Качалов — превосходен; игра, грим, костюм — все безупречно. Брут — дядя Костя — будет прекрасен спектаклей через десять; сейчас он не освоился с ролью и… заикается, будто нетвердо знает; но игра и теперь чудная! Кассий — Леонидов слишком кричит, а в сцене в палатке — ссора с Брутом — он совсем мне не понравился — он так там плачет, что вас смех разбирает. Антоний — Александр Леонидович1* — очень хорош, трогателен… он, пожалуй, на меня самое сильное впечатление произвел; особенно когда тихо говорит. Когда он возвышает голос — выходит немного грубо, форсированно; но когда он начинает: «Я Цезаря пришел похоронить, а не хвалить»… или в сенате над трупом Цезаря грустит, — отлично. Из сцен самая сильная и лучше всего сыгранная — смерть Цезаря; я сейчас невольно вздрагиваю при одном воспоминании. Они его превосходно окружают, наступают на него и наконец начинают наносить удары… он кричит, и вы чувствуете боль этих страшных ударов… а когда Цезарь бросается к Бруту и последний запускает свой кинжал… ой, жутко! Меня мороз по коже продирает! У меня и сейчас сердце так же бьется, как тогда… Эта сцена и папе больше всего понравилась. Отлично сделана гроза в первом действии — тучи находят, и вы это видите, о громе и молнии и говорить нечего! […] Тоже хорош призрак Цезаря в палатке Брута, кровавый приз… страшно, лучше не вспоминать одной среди ночи!
Зачем я Вам все это пишу!? Ведь Вы сами увидите и, наверное, уже много знаете по описаниям репетиций… по, Антон Павлович, мне надо высказаться, впечатление слишком сильное, а после Художественного театра я могу только Вам высказаться! […]
А все-таки, Антон Павлович, Художественный театр создан для Ваших пьес, и «Дядя Ваня» на меня сильнее впечатление произвел, чем даже «Цезарь». Кстати, я недавно прочла «Чайку», а сейчас перечитываю «Дядю Ваню»…
Итак, я надеюсь, что я первая ласточка к Вам по открытии Художественного, который теперь только Вас ждет.
«Прощайте, голубчик» (Д. В., д. IV).
М. Смирнова (II. 1. К. 59. Ед. хр. 20 : 7 – 10).
69 Маня и в жизни говорила репликами чеховских пьес: «Мне надо высказаться», «Прощайте, голубчик», — когда-то сознавая, помечая, как в конце, цитату из любимого «Дяди Вани», из ее книги книг, как цитату из Библии — (Д. В., д. IV), а чаще — бессознательно, потому что сама была в жизни чеховским персонажем. Ближе всех ей была Сопя Войницкая. И дядю Костю, «милого дядю», она любила, как Соня — дядю Ваню.
Маня писала Чехову красивым почерком на фирменной почтовой бумаге с белыми лебедями и белыми кувшинками на вяло-зеленых длинных стеблях, перевитых узором в стиле модерн. Последнее свое письмо к Марии Петровне Лилиной в связи с кончиной дяди Кости в 1938 году она, супруга врага народа, приговоренного к расстрелу с заменой его на 10 лет лагерей, напишет из Свердловска на желтом клочке в клеточку, вырванном из старой школьной тетрадки сына, нареченного конечно Костей. И почерком совершенно неузнаваемым…
От просьб Мани прислать ей весточку или фотопортрет Чехов деликатно уклонился. Это он умел. И ни Мане, ни Наташе, ни Жене Смирновым, ни Лили Глассби не ответил. Разве что выполнил просьбу Егора о рекомендации и Манину — выслал в Москву какие-то крымские шлепанцы.
Наташа писала реже Мани. И сдержанней. Свои письма к Чехову осени — зимы 1902-го начинала с трогательных рисунков акварельными красками на детские темы в духе популярной художницы начала века Елизаветы Бём.
Но из всей обширной декабрьской 1902 года смирновской корреспонденции Чехов выделил именно ее письмецо. «Наивнее и талантливее всех написала Наташа, художница, — сообщал он Ольге Леонардовне. — Но как их много! Что, если у тебя будет столько дочерей!» (II. 13 : 104 – 105). Барышни Смирновы утомляли его тьмой поздравлений — с Рождеством, с наступающим и наступившим Новым годом — и наилучших пожеланий.
Наивная, талантливая пятнадцатилетняя гимназистка Наташа Смирнова многое проясняла ему в характере молоденькой девушки, принадлежавшей к совсем новому для него женскому типу — человека с активными желаниями, способного жить по-своему, подчиняя жизнь призванию.
Наташа выделялась даже в простеньком поздравлении.
Маня желала милому Антону Павловичу «много, много здоровья, счастья и всего самого лучшего, что можно пожелать».
Женя, пожелав многоуважаемому Антону Павловичу здоровья, возвращения «к нам в Любимовку» и посетовав на московские зиму и снег, в то время, как на юге «весна и цветы», просила прислать ей засушенный цветочек.
70 «Любящая и уважающая» дорогого Антона Павловича Наташа желала ему всего того, что он сам называл хорошим. Но поздравительной открытки ей показалось мало, и она отправила ему письмо. То, которое понравилось Чехову:
Поздравляю Вас, Многоуважаемый Антон Павлович, с Праздником Рождества Христова и с Новым Годом и желаю Вам и тот и другой провести в полном здравии и благополучии. Вы вовремя уехали: после Вас у нас были сильнейшие морозы, а теперь вдруг оттепель вот уже несколько дней. 21-го нас распустили на Праздники, чему я очень довольна, так как утомилась от занятий и вечного сидения между четырьмя душными стенами. Но я люблю свою гимназию и страшно жалко будет с ней расстаться, когда я кончу. «Школьная жизнь» — это слово не всем понятно, но обязательно дорого. Сколько волнений, чувств, незабываемых моментов переживаешь, сидя в классе! Чувства любви, ненависти, страха, унижения, стыда, гордости вследствие удовлетворенного тщеславия, — все это тесно живет рука об руку в этой гимназической чернильной атмосфере, в которой развиваются и берут первые уроки жизни молодые, отзывчивые ко всему существа.
Страшно расставаться с этой жизнью и вступать в совершенно чужую и таинственную, но до этого еще два года, и я рано об этом говорю.
Вам, наверное, смешным покажется мое письмо потому, что я еще девочка, а Вы взрослый мужчина, но так как Вы писатель, Вы поймете все возрасты.
В Москве у нас обычная суета перед Праздниками, магазины переполнены и люди мечутся, теряя рассудок. У нас здесь знаменитый скрипач Кубелик, и я его слышала. Действительно гений и может доставить громадное удовольствие.
Бываю на выставках часто, и хотя это мне большое удовольствие, но уж очень раздосадывает, когда хочется писать, а времени нет.
Ну, Бог даст, придет и мое время.
Наши Вам кланяются.
Остаюсь уважающая Вас
Наташа Смирнова.
P. S. Желала бы я знать, как Ваше здоровье и что Вы поделываете. Простите, что Вас утруждаю таким длинным письмом (II. 1. К. 59. Ед. хр. 21 : 1, 2).
Маня упивалась сиюминутными впечатлениями, продлевая их в письмах кумирам, Ольге Леонардовне и Антону Павловичу.
Она витала в эмпиреях, отдаваясь эмоциям.
Наташа торопила время. Проявляя активно-творческое начало, размышляла о будущем, предчувствуя его, чужое и таинственное. Она 71 страшилась будущего, но оно влекло ее. Она верила в себя, ощущая свой потенциал творческой личности: «Придет и мое время». Она летела ему навстречу, жертвуя сиюминутным интересом. У нее был твердый характер: «Желала бы я знать». Новый, незнакомый Чехову, нечеховский характер.
Наташа совсем другая, нежели Маня, плачущая от бессилия или от восторга.
Наташа не будет рабски повиноваться кому бы то ни было. Она будет жить по-своему, это ясно, что бы папа и мама ни советовали ей.
Она и в пятнадцать вполне самостоятельна. Она одолеет жизнь, а не жизнь ее, как прежних чеховских персонажей.
Есть в Наташе внутренняя сила: «Придет и мое время…»
Конечно, Наташа, а не Маня могла подсказать Чехову черты Ани Раневской — устремленной в будущее и «перевернувшей» свою жизнь праздной барышни.
«Перед нами откроется новый, чудный мир», — мечтает, как и Наташа, чеховская Аня Раневская, прощаясь с имением и вступая в новую жизнь — за его порогом, в которую звал ее Петя Трофимов.
Дуняшин Володя писем Чехову не писал.
Не было в нем внутренней свободы, раскрепощенности смирновских барышень. Зато он жил по схеме, будто начертанной для него Чеховым.
Чехов убедил Володю приготовиться к экзамену зрелости и поступить в университет.
В августе 1903 года Володя экстерном выдержал экзамены за VI класс гимназии.
Станиславский радовался этому событию.
Получив известие об успехе Володи, он писал жене в Любимовку:
Спасибо за твое письмо. Я его получил сегодня. Принес Володя с объявлением, приятным для меня, о том, что он выдержал экзамен. Молодец. Я сказал ему, чтоб в воскресенье он был в Любимовке. Не может ли mademoiselle2* сходить с ним к Сергею Николаевичу3* и добиться аудиенции с ним? Может быть, можно устроить его пансионером во Вторую гимназию? Если нет, то не посоветует ли он, куда его определить, или у кого навести справки, хотя бы и о провинции (I. 8 : 500).
Снова устроить Володю пансионером во Вторую московскую мужскую, смирновскую гимназию, откуда его выгнали, не удалось. Наверное, 72 по рекомендации Сергея Николаевича Смирнова Володя уехал в Орел и 3 июля 1905 года, проучившись в орловской гимназии в VII и в VIII классах, получил аттестат зрелости с оценками 5 по закону Божьему и поведению и с четверками по остальным предметам.
В конце июля 1905 года московский мещанин Владимир Сергеевич Сергеев, проживавший в Каретном ряду, по адресу Станиславского, и служивший в конторе Театра-студии на Поварской, подал прошение на имя ректора Московского университета — принять его на историческое отделение историко-филологического факультета. Прошение было удовлетворено18.
Двадцатидвухлетний Владимир Сергеев, абитуриент, резко изменился в сравнении с Дуняшиным Володей — гимназистом. На фотографии 1905 года, подшитой к его университетскому делу, Владимир Сергеев — «чистюлька»: студенческий мундир на нем новенький, идеально пригнанный к фигуре; реденькие усики аккуратно подстрижены, волосы жиденькие, прическа — волосок к волоску.
«Что же, Петя? Отчего вы так подурнели? Отчего постарели? […] Вы были тогда совсем мальчиком […] а теперь волосы не густые…» — звучит за кадрами двух фотографий, гимназической и университетской, голос чеховской Раневской, вернувшейся домой через шесть лет.
Сыну горничной и барина на университетской фотографии хочется выглядеть барином: белоснежно-крахмальная высокая, под подбородок, стойка подвязана по моде широким темным бантом-бабочкой. По для барина он скован, приглажен, прилизан, «социальную неполноценность», загнанную внутрь, выдает укрощенно-смиренный, неуверенный взгляд, и барин он — «облезлый», если вспомнить седину и вальяжную артистичность барина настоящего — молодого Станиславского.
На университетской фотографии Дуняшин Володя — «обинтеллигентившийся» мещанин, словом Чехова о горьковском Ниле.
* * *
Чехов и в беллетристике, и в драме намеренно убирал «натуру» — концы, ведущие в его собственную жизнь и в иную конкретику, прячась за персонажами и пряча за ними их прообразы и прототипы.
Сочиняя своих героев по образу и подобию реальных людей своего окружения, он никогда не называл их подлинными именами. Он и брату Александру советовал, когда тот тащил в свою прозу имена родных и знакомых: «К чему Наташа, Коля, Тося? Точно вне тебя нет жизни?! И кому интересно знать мою и твою жизнь, мои и твои мысли? Людям давай людей, а не самого себя» (II. 5 : 210).
73 Оттого и имена знакомых Чехова, так или иначе попавших в «Вишневый сад», всплывают неожиданно, при изучении контекста жизни Чехова в алексеевской Любимовке, где «Вишневый сад» если не задумывался, то обдумывался, складывался в писательском воображении. Люди из чеховского окружения лета 1902 года — непереименованные Егор, Дуняша, няня — всплывают, как «белые нитки», которые Чехов не убрал. Справедливо полагая их невидимыми.
Он долго не мог приняться за «Вишневый сад».
Пока свежи были впечатления Любимовки — болел. Но и оттягивал начало работы, ожидая, пока любимовские впечатления не откристаллизуются в типы. Он признавался, что умеет писать «только по воспоминаниям, и никогда не писал непосредственно с натуры»: «Мне нужно, чтобы память моя процедила сюжет и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно и типично» (II. 9 : 123).
Потом, когда стало полегче со здоровьем, когда он вошел в привычное ялтинское русло отшельничества и время стерло случайные черты реальности, отодвинуло реальность, возникли другие литературные интересы, казалось бы надолго вытеснившие «Вишневый сад». Написав «пьесоподобное» — одноактный монолог-водевиль «О вреде табака», Чехов принялся за повесть. «Пьесы не могу писать, меня теперь тянет к самой обыкновенной прозе», — сообщал он жене в сентябре 1902 года (II. 13 : 38).
Беловая рукопись пьесы появилась в театре больше чем через год.
Но работа над «Вишневым садом», начатая в Любимовке, в течение года не прерывалась. Она невидимо продолжалась в иных литературных формах.
Повесть, эта «самая обыкновенная проза», и была подступом к «Вишневому саду», к самой сложной, самой расплывчатой для него линии молодых героев.
Ориентировочное название повести о молодых людях — «Невеста» — так и закрепилось за ней. Она вышла в «Журнале для всех» в декабре 1903 года, тогда же, когда Художественный театр вовсю репетировал «Вишневый сад», готовя его премьеру.
Повесть, где отчетлива авторская интонация, доведенная до авторского слова, и драму, где действуют сами герои, Чехов писал одновременно.
Аня Раневская и Петя Трофимов явились Чехову сначала в образах Нади Шуминой и Саши, молодых персонажей «Невесты». Надя в черновой рукописи «Невесты» звалась Наташей. Но Чехов, не любивший узнаваемости прототипа, как всегда, спрятал белые литературные нитки. Героине «Невесты», как и Наташе Смирновой, рисовалась впереди «жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, еще неясная, полная тайн, увлекала и манила ее». И заканчивалась повесть этими перефразированными 74 словами из Наташиного письма, которое Чехову показалось талантливым.
Саша из «Невесты» и Петя Трофимов похожи внешностью.
Саша худ, бледен, у него реденькая бородка и всклокоченные волосы.
«Надо же что-нибудь с бородой сделать, чтобы она росла как-нибудь», — смеется Раневская над Петей (II. 3 : 234).
Саша, когда Надя приехала к нему в Москву, «и постарел, и похудел, и все покашливал». Саша болен. У него чахотка.
И Петя в «Вишневом саде» признается Ане, что болен и ему особенно худо зимой.
У Пети и у Саши — один облик и одно лицо. Оба «облезлые», угловатые, болезненные — «уроды», каким видит Петю Раневская. И оба привлекательны мыслями и речами — в глазах невест, игнорирующих сословное с ними неравенство.
Петя Трофимов, равный Дуняшиному Володе — Владимиру Сергеевичу Сергееву — по Станиславскому, в «Вишневом саде» Чехова — вечный студент.
И Саша в «Невесте» — вечный студент.
Чеховский Саша учился в Училище живописи, ваяния и зодчества чуть ли не пятнадцать лет на архитектурном отделении. Надо же было наткнуться на личное дело реального, невыдуманного студента Училища живописи, ваяния и зодчества с фамилией, именем и отчеством Дуняшиного Володи — Владимира Сергеевича Сергеева! Оно хранится в фонде Училища в Российском Государственном архиве литературы и искусства, там же, где хранится личное дело студентки Училища по отделению живописи Наталии Сергеевны Смирновой — Наташи Смирновой19.
Чехов, наверное, знал того Владимира Сергеева.
Назовем его Владимир Сергеевич Сергеев-2.
У Саши из «Невесты» биография Владимира Сергеевича Сергеева-2, полного тезки Дуняшиного Володи.
Студент Училища Владимир Сергеевич Сергеев-2, 1874 года рождения, — на 9 лет старше Дуняшиного Володи. Он почти ровесник Пети Трофимова.
В Училище Владимир Сергеев-2 поступил в 1891-м.
В 1893-м, состоя в третьем классе по наукам, — зачислен на архитектурный факультет, где учился сочиненный Чеховым Саша из «Невесты».
В 1897-м Владимир Сергеев-2 получил свидетельство на звание учителя рисования в гимназии. Саша из «Невесты», не кончивший архитектурного факультета, недоучившийся студент, работал в одной из московских литографий.
75 В 1900-м, когда Владимиру Сергееву-2 было вручено свидетельство на звание неклассного художника архитектуры, он был удостоен малой серебряной медали. Но при жизни Чехова он диплома об окончании Училища не получил и работать архитектором прав не имел.
Только в 1906 году ему выдана справка — в ответ на запрос Отдельного корпуса Пограничной стражи из Санкт-Петербурга — о том, что окончание Училища предоставляет ему право занять классную должность архитектора. Чехов этого не узнал.
Саша из «Невесты» с биографией Владимира Сергеевича-2 и Петя Трофимов, списанный, как утверждает Станиславский, с Дуняшиного Володи, похожие внешностью, думают одинаково и говорят одно и то же, что было замечено всеми поколениями критиков. Оба обрушиваются на нелепый жизненный уклад, несправедливый к неимущим работягам, и оба строят грандиозные планы будущего, которое сметет, взорвет, как по волшебству, «старую жизнь».
В Сашиных прожектах «старая жизнь», уступающая место «новой», — это грязные серые здания без удобств, хоть и с колоннами по фасаду.
«Новая», построенная на месте старых развалин, — это великолепные города с необыкновенными фонтанами. Сказывалось Сашино архитектурное образование. Ему виделись в будущем России города с чудесными садами и нравственными, образованными людьми.
Петины фантазии лишены Сашиной архитектурной конкретики. Они лаконичнее, образнее, обобщеннее. И неопределеннее Сашиных: «Вся Россия наш сад». Или: «Человечество идет к высшей правде, к высшему счастью, какое только возможно на земле», когда не будет ни бедных, ютящихся в грязных казенных общежитиях, ни больных, ни обиженных, принадлежность к которым он остро ощущал. Петя видел будущее обществом социального равенства.
И оба они — Саша и Петя — ломали жизнь праздных барышень -Нади и Ани, обратив их в свою веру.
Саша не помышлял о революционном действии. «Только просвещенные и святые люди интересны, только они и нужны», — говорил он Наде, одурманивая неокрепшее сознание барышни необходимостью для образованного человека общественно полезного труда.
Вряд ли и у Пети Трофимова и редуктивно у Дуняшиного Володи Сергеева были серьезные революционные идеи. А вот стремление к образованию и вера в него как преобразующее начало жизни, у Дуняшиного Володи, наверное, были. Чехов, как известно, сам исповедовал эти идеи. И для себя реализовал.
Дорошевич, близко знавший Чехова, расслышал эту чеховскую интонацию в драме, где автор самоустранялся, отдав действие героям, и где Аня вслед за Петей покидала свой дом, торопя новую жизнь за его 76 порогом и веря в то, что она будет счастливой для всех. Над «революционной» фразеологией Пети Дорошевич иронизировал. Он читал пьесу в рукописи. Ее единственный экземпляр, посланный Чеховым в Москву, Дорошевич получил от Станиславского — по просьбе Чехова. Дорошевич писал после премьеры «Вишневого сада» под впечатлением речей Пети Трофимова — Качалова в спектакле Художественного театра: «Когда этот Трофимов говорит:
— На новую жизнь!
Слышится:
— На новый факультет»20.
Чехов, конечно же, откровенно подтрунивал — посмеивался — над Сашей в «Невесте», над героем — не-героем, как над либералом-краснобаем из «Соседей», у которого наивная Нина Заречная выдернула заветную строчку, вовсе лишенную в контексте чеховского рассказа революционно-романтической окраски.
Умерил он и Надины лирические всплески своим откровенным скептицизмом в финале. Он не верил в побег барышни из дома — в трудовую жизнь. И в «Невесте» он оставался Чеховым, писателем-восьмидесятником, не сумевшим заполнить громадное идеологически пустое пространство никакой спасительной идеей, — писали рецензенты.
Но в Пете Чехову хотелось изобразить нечто вроде революционера из стаи Горького. Петя «то и дело в ссылке», его то и дело «выгоняют из университета», — поведал он о своем замысле образа жене, когда отправил рукопись новой пьесы в театр. «Пропала жизнь!» — он оставил старшим, Раневской и Гаеву. Молодым дал: «Прощай, старая жизнь!» и «Здравствуй, новая!»
Он дал Пете горьковскую, если по Стражеву, здравицу «новой жизни» — на вырост. Его Петя не дорос ни до Горького, ни до героя, не созрел в героя. Горькому в начале 1900-х — тридцать пять. Пете Трофимову — двадцать шесть. А Дуняшиному Володе, «обинтеллигентившемуся» сыну горничной, и вовсе девятнадцать.
Чехов дал Пете запас времени.
Чтобы прокричать горьковскую здравицу с убеждением, Петя должен был вырасти как идейная личность. Но Чехов поставил своего студента на горьковский путь, заставив читать горьковские книги и подхватить горьковскую критику российской интеллигенции, которая ничего не делает, заставил рассуждать о положении рабочих, о гордом человеке, заставил его цитировать Горького — правда, перед сомнительной аудиторией, снижавшей ораторский пафос студента, перед интеллигенцией вишневосадского разлива — и обрушивать словесные горьковские декларации на неокрепшее сознание неискушенной Ани.
Сам Чехов таких громких, неопределенных, ко многому обязывавших пафосных слов: «Здравствуй, новая жизнь!» — избегал. Понятия: 77 жизнь «старая» и «новая» — вкладывал только в уста драматических молодых героев, действовавших самостоятельно, от своего имени. Известно, что Чехов поправил название пьесы Е. Чирикова «Новая жизнь» на «Иван Мироныч»: «Зачем такое заглавие? — говорил Чехов Чирикову. Вот теперь будут ждать от Вас и требовать “новой жизни”. Проще надо… чтобы придраться к этому нельзя было»21.
Чеховский вечный студент Петя Трофимов, сын аптекаря, «обинтеллигентившийся» разночинец-мещанин, прошедший через ссылки — в замысле Чехова, — ратующий за переустройство жизни в пользу рабочих и прислуги, не тянул на революционера горьковатого тина. «Натура» — Дуняшин Володя — снижала замысел, превращая горьковского героя в чеховского не-героя. И Чехов по-прежнему оставался Чеховым, подав свой голос в финальной ремарке — о звуке лопнувшей струны, не обещавшей, как всегда у него, светлых надежд на земном пути.
Горький не разглядел своего силуэта в Пете: «Дали красивую лирику, а потом вдруг звякнули со всего размаха топором по корневищам: к черту старую жизнь!»22 Он почувствовал в Пете Трофимове профанацию своей идеологии: «Дрянненький студент Трофимов красиво говорит о необходимости работать и бездельничает, от скуки развлекаясь глупым издевательством над Варей, работающей, не покладая рук, для благополучия бездельников» (II. 16 : 138).
Аня и Надя уходили у Чехова не в «новую» жизнь, а в неизвестность, в жизнь «чужую и таинственную», как писала Чехову Наташа.
Петя Трофимов, на словах радикал, — у Чехова недотепа. И не случайно такой молодой Саша в «Невесте» умирал. Чехов просто не знал, как быть с ним дальше.
Чехов не знал завтра ни Дуняшиного Володи, ни Наташи Смирновой, своих любимовских моделей. И не узнал. Володя и Наташа еще не кончили гимназию, когда он умер. Но они были молоды, и все у них было впереди — и любовь, и страдания, и университеты, и революция, и свое место в ней. Хотя вряд ли Наташа знала такое слово: революция, когда писала Чехову: «Придет и мое время». Она видела себя художницей.
Ближайшая к чеховской пьесе реальность подтвердила правоту Дорошевича: молодые Володя и Наташа устремлялись «на новый факультет».
Дуняшин Володя, пра-Петя Трофимов и Наташа, пра-Аня Раневская — по Станиславскому, много, долго и хорошо учились.
Наташа — Наталья Сергеевна Смирнова — стала профессиональной художницей и вела трудовую жизнь.
Летом 1902-го, когда Чехов обратил на нее внимание, она перешла в VI класс московской частной женской гимназии. А 24 ноября 1904 года, 78 уже после смерти Чехова, она получила аттестат и золотую медаль за окончание VII класса. В аттестате было сказано, что девица Наталья Сергеевна Смирнова, подданная Российской империи, дочь статского советника, рожденная 9 апреля 1887 года и крещенная в веру Христианскую Православного вероисповедания, оказала успехи, удостоенные золотой медали, в:
Законе Божьем отличные,
русском языке с церковно-славянским и словесности отличные,
математике отличные,
географии всеобщей и русской отличные и
немецком языке отличные.
И еще два языка были в ее активе. Английскому ее выучила Лили, французскому — мать Елена Николаевна Смирнова, урожденная Бостанжогло, внучка французской актрисы Мари Варле.
Сверх того, Наташа поступила в дополнительный, VIII гимназический класс. Через год, 23 мая 1905 года ей было выдано свидетельство с приложением печати канцелярии попечителя Московского учебного округа, удостоверяющее ее право преподавать русский язык в частных домах и в учебных заведениях23.
Учительским званием Наташа не воспользовалась. Стезя учительницы не прельщала, заработок не интересовал. Ее вполне безбедное существование потомственной почетной московской гражданки, наследницы в четвертом колене табачной фабрики «М. И. Бостанжогло и сыновья», обеспечивали принадлежавшие ей паи. Фабрика до 1917 года давала солидные дивиденды.
В 1905 году она поступила в московское Училище живописи, ваяния и зодчества и числилась его студенткой бесконечно долго. Только в 1916 году она получила свидетельство о том, что обучалась в Училище и окончила в нем полный курс живописного отделения с правом преподавать рисование в женских и смешанных учебных заведениях. «Свидетельство же на звание она получит при сдаче экзаменов по некоторым научным предметам за курс художественного отделения Училища», — говорилось в выданной ей справке24.
Видимо, Наташа была вольнослушательницей.
Числясь студенткой Училища живописи, ваяния и зодчества, она почти безвыездно жила в Европе: в Италии, во Франции, в Швейцарии. Жила и работала. Она помнила то, что сказали ей Чехов и Ольга Леонардовна летом 1902-го, оценив ее способности: если она будет работать, из нее получится художница «совсем новой школы» (IV. 5 : 43).
Наташа много работала. Где бы она ни жила. И много выставлялась. Она начинала в блестящей компании. На XVI выставке Московского товарищества художников в доме Фирсановой у Мясницких ворот в 1908 году она представила три картины — «Этюд», «Interier» и 79 «Сумерки». Рядом с ее работами висел картой «Богоматерь» Врубеля для Кирилловской церкви в Киеве, картины Денисова, Куприна, Рылова, Шевченко. Скульптуру на выставке товарищества представляли Голубкина и Коненков.
Пять Наташиных картин было включено в тридцатую юбилейную выставку картин учащихся Училища живописи, ваяния и зодчества, тоже в 1908 году. Здесь ее работы висели в одном зале с картинами С. Герасимова, Куприна, Нестерова, Судейкина, Фалька.
Ее пейзажи, городские и сельские, русские и западноевропейские, участвовали во всех ежегодных выставках картин студентов Училища.
На XXXI выставке она представляла 11 работ, среди них: «Ранняя весна», «Сумерки в Люксембургском саду», «Висбаден», «Дом в Бережках», «На Оке», «Осень», три этюда. Рядом выставлялись С. Герасимов, Конашевич, Нестеров и Л. Попова.
На XXXII студенческой выставке — снова 11 картин, больше, чем у остальных. Здесь экспонировался ее итальянский цикл: зарисовки Флоренции, моря в Генуе, набережной Неаполя, храма Сицилии, вилл Рима.
Итальянские впечатления из всех заграничных были, пожалуй, самыми сильными. О них она писала художнику Остроухову, другу отца. Она не видела в жизни ничего лучше Боттичелли — из живописи, а из архитектуры — лучше храма Сицилии с его большими кариатидами. Лежавшие на земле гиганты глядели пустыми сфинксовыми глазами прямо в небо. Потрясли ее антика Рима, вазы Равенны, мозаика капелл, бронза и мрамор Неаполя, Помпеи — «совсем античный сон».
Две ее картины были выставлены в 1911 году на огромной Римской выставке русских художников — наравне с картинами Бакста, Александра Бенуа, Добужинского, Головина, Коровина, Кустодиева, Лансере, Малявина, Г. Нарбута, Л. Пастернака, Петрова-Водкина, Ульянова и скульптурой Голубкиной, Коненкова, Судьбинина, бывшего актера Художественного театра, П. Трубецкого. Эта выставка выпустила каталог на итальянском языке.
В том же 1911 году Наташа участвовала в XVIII выставке картин московских художников. Вместе с ней выставлялись Борисов-Мусатов, Кардовский, Кончаловский, Кузнецов, Г. Нарбут, Н. Рябушинский, Сарьян, Якулов — художники «совсем новой школы». На выставку акварелей и эскизов, организованную Московским товариществом художников, Наташа дала свой карандашный «Рисунок головы», похоже, ее младшей сестры Жени, Жени-гребца.
Четырьмя картинами, среди них — «Пейзаж Тосканы», «Вилла Боргезе в Риме» и двумя натюрмортами, — она участвовала в московской выставке художников и скульпторов «Жертвам войны 1914 года». Выставка проходила в доме Лианозова в Камергерском в 1915 году и 80 была организована Губернским комитетом всероссийского земского союза помощи раненым и Центральным бюро городской управы. Кроме нее, в этой благотворительной акции участвовали: Александр Бенуа — своими эскизами декораций и костюмов к комедии Мольера «Тартюф» в МХТ, Борисов-Мусатов, А. и В. Васнецовы, А. и С. Герасимовы, Грабарь, Егоров, Коненков, Кончаловский, Крымов, Кузнецов, Лентулов, Нестеров, Пастернак представлял портрет Л. Н. Толстого, Татлин, А. Хотяинцева, приятельница А. П. Чехова, Шехтель, Юон.
У Наташи был собственный голос, различимый и сквозь ее искания живописного языка, и сквозь простое, незамысловатое письмо, к какому она пришла после заграничных штудий: неяркое по краскам, не скованное измами, устанавливавшее кратчайшее расстояние между изображением и личностью художника. В Наташином голосе гнездилась несентиментально-душевная чеховская интонация, сочетавшая у других художников несочетаемое: объективность и настроение. Наташа любила пристроиться с мольбертом где-то на холме, на верхней точке местности, чтобы посмотреть на Флоренцию или на речку с полями и лугами вдоль берегов и лесом у горизонта. Или на морс с одинокой белой точкой на глубокой сини воды под светлым небом. Или на храм, античный или православный, с дорогой к нему. Картина, продуманная по композиции и прорисованная, получалась как будто обзорной, но общий вид, вид сверху, издалека и далеко, был окутай едва уловимой печалью, пробивавшейся сквозь контуры рисунка, сквозь движущиеся сине-серо-голубые с отсветами фиолетового облака.
Уже до революции художница Наталья Сергеевна Смирнова вошла в число русских живописцев «серебряного века», составивших славу современного искусства. Чехов не ошибся в ней, и она не подвела его.
Не ошибся Чехов и в Володе Сергееве, Дуняшином Володе, обратив на него внимание летом 1902 года в Любимовке.
Володя в свои юные постчеховские годы жил не менее целеустремленно, чем Наташа Смирнова. А ему, сыну горничной, было труднее, чем Наташе, совладевшей с отцом, дядьями и братом Николаем Сергеевичем фамильной табачной фабрикой Бостанжогло. Владимиру Сергеевичу приходилось зарабатывать на жизнь уроками. Правда, тут ему помогал Станиславский — Володя все годы учебы был наставником и постоянным репетитором Игоря Константиновича Алексеева, младшего сына Станиславского.
В конце июля 1905 года, одновременно с Наташей, подавшей документы на зачисление в московское Училище живописи, ваяния и зодчества, московский мещанин Владимир Сергеевич Сергеев, проживавший в Каретном ряду, по адресу Станиславского, и предъявивший аттестат зрелости с пятерками по Закону Божьему и по поведению и с четверками 81 по остальным предметам, получил университетский студенческий билет с вклеенной в него фотографией «облезлого барина».
А 23 марта 1911 года декан факультета И. В. Цветаев, ученый, специалист по античной истории, отец Марины Ивановны, подписал другое свидетельство. В нем сказано, что В. С. Сергеев, избравший в Московском университете учебный план всеобщей истории, прослушал курсы: логики, психологии, введения в философию, государственного и гражданского права, политэкономии, греческого автора, латинского автора, древней истории, истории средних веков, новой истории, географии, истории церкви, истории литературы, истории искусства, истории философии, этнологии, истории Чехии и курс введения в языковедение. И выдержал испытания по: богословию, психологии, введению в философию, государственному праву, политической экономии, греческому, латинскому, немецкому и французскому языкам с оценками «весьма удовлетворительно». Для сдачи выпускных экзаменов студент Сергеев представил, кроме зачета восьми семестров, еще и письменное сочинение на тему, одобренную Р. Ю. Виппером. Профессор Виппер специализировался на истории древнего мира и средних веков.
Круг научных интересов Владимира Сергеевича Сергеева к моменту окончания университета был определен. Может быть, и здесь Станиславский подтолкнул Володю. Отец Роберта Юрьевича Юрий Францевич Виппер был домашним учителем братьев Алексеевых, Володи и Кости. Он учил их математике и географии — до поступления в гимназию. Одно время он преподавал им и грамматику немецкого языка. Сердобольная Елизавета Васильевна жалела детей Виппера, вдовца. Его четыре дочери и двое сыновей, и Роберт Юрьевич среди них, проводили у Алексеевых иногда целые дни и подряд два лета жили в Любимовке.
Роберт Юрьевич знал Володю и его способности.
Осенью 1911 года, выйдя из университета, Володя снова стал студентом. Поступил в Педагогический институт имени П. Г. Шелапутина, избрав специальностью также всеобщую и русскую историю. Окончившие курс в Институте и сдавшие установленные экзамены получали свидетельство на звание учителя гимназии по предметам своей специальности.
Для получения казенной стипендии пришлось подать прошение на имя «Его Превосходительства господина Директора» и написать «Curriculum vitae». Оно сохранилось в Володином институтском личном деле. В нем Владимир Сергеевич писал: «По окончании Орловской гимназии в 1905 году поступил в Московский университет на филологический факультет по историческому отделению, работал в семинарах Р. Ю. Виппера (по истории социальных и политических идей в Греции и Риме), П. Г. Виноградова (по кодексу Феодосии), С. Ф. Фортунатова (по конституционной истории), А. А. Кизеветтера и Ю. В. Готье (но крестьянскому 82 вопросу). В весенней сессии 1911 года выдержал испытания в Испытательной комиссии при Московском университете на круглые “весьма удовлетворительно”, равно как и по общеобразовательным предметам (выпускное свидетельство), и за кандидатское сочинение “Социологические и исторические взгляды Аристотеля и его материал”, представленное Р. Ю. Випперу, получил тоже “весьма удовлетворительно”. Средств к жизни не имею, живу случайным заработком, частными уроками, что и заставляет меня просить Ваше Превосходительство о предоставлении мне стипендии»25.
Осенью 1912 года он написал второе прошение о стипендии аналогичного содержания: «Имею честь просить Ваше Превосходительство о назначении мне казенной стипендии. Особых средств к жизни не имею, живу частными уроками, носящими всегда случайный характер и препятствующими углубленным занятиям в самом Институте»26.
В течение двух лет по окончании университета Владимир Сергеевич был стипендиатом Шелапутинского института. 30 мая 1913 года он получил свидетельство, которым сын горничной Алексеевых Дуняшин Володя мог гордиться. В нем говорилось:
«Предъявитель сего, окончивший курс Императорского Московского Университета Владимир Сергеевич Сергеев, русский подданный, православного вероисповедания, по избрании им для специальных занятий группы русской и всеобщей истории, был принят в 1911 – 1912 учебном году в Педагогический институт имени Павла Григорьевича Шелапутина в г. Москве.
Состоя слушателем Института в течение двух лет, он, Владимир Сергеевич, выполнил положенные по учебному плану практические и теоретические занятия по русской и всеобщей истории “весьма удовлетворительно”, а на переводных и окончательных испытаниях, проходивших в конце 1911/12 и 1912/13 учебных годов, оказал следующие успехи:
по логике — весьма удовлетворительно;
по общей педагогической психологии — весьма удовлетворительно;
по общей педагогике — весьма удовлетворительно;
по истории педагогических учений — весьма удовлетворительно;
по школьной гигиене — весьма удовлетворительно.
Представленное им зачетное сочинение на тему: “Теория и практика неогербатианцев” было признано советом “весьма удовлетворительным”.
На основании статьи 22 и пункта 7 статьи 41 положения о Педагогическом институте им. П. Г. Шелапутина в г. Москве Педагогический совет на заседании 30 мая 1913 года постановил выдать Сергееву свидетельство на звание учителя гимназии с правом преподавать русскую и всеобщую историю»27.
83 За то, что в течение двух лет Володя пользовался казенной стипендией, он, в соответствии со статьями 23 и 25 того же положения, должен был отработать три года «где прикажут». Приказали — в Новгород-Северской мужской гимназии, но удалось перевестись в Орловскую, которую он окончил, — учителем древних языков и философской пропедевтики. Институт выдал Дуняшиному Володе характеристику, рекомендовавшую его на назначенное место: «Принадлежит к числу лучших слушателей Института во всех отношениях, выдаваясь своими знаниями, начитанностью и подготовкою»28.
Необходимость отъезда Володи из Москвы приводила Станиславского в отчаяние. Игорь оставался без репетитора. Учеба давалась Игорю тяжело. Запнулся он на VI гимназическом классе, как, впрочем, и Володя, представший перед Чеховым недоучившимся гимназистом, и Станиславский в Игоревы годы. О самостоятельности Игоря не могло быть и речи. С Володиной помощью Игорь с трудом одолел VI гимназический класс, но за два года, что отнюдь не пугало его.
Если бы мне нужно было кончать гимназию, чтобы кормить себя и семью, тогда был бы другой разговор; по, к счастью, этого нет, и от того, что буду проходить VI класс в два года вместо одного, ничего, кроме пользы, не может быть, —
писал Игорь Володе осенью 1910 года (I. 2. № 19420).
Володя увлек Игоря историей, водил его по Кремлю, рассказывал о русских царях, заставлял читать, кроме обязательных хрестоматий, серьезные книги по социальным, экономическим и политическим вопросам из истории Древнего Рима и современности, выходившие за пределы гимназических программ. По Игорь не мог читать длинных книг, будь то научное сочинение или роман Толстого «Война и мир», в котором он усердно прорабатывал военно-исторические фрагменты. При наличии высоких и серьезных порывов Игорь совсем был лишен прилежания. Расставшись с Володей на летние каникулы и отчитываясь, что из заданного выполнено, Игорь писал репетитору в октябре 1910 года:
Мой характер нисколько не изменился, и я так же продолжаю быть привязанным всем своим существом к ничегонеделанию, как и раньше, хотя, как и раньше, не нахожу в этом никакого удовлетворения, но не могу победить свою слабую волю и делать что-нибудь. Одним словом, все, как и раньше (I. 2. № 19419).
Игорь будто иллюстрировал антиинтеллигентский тезис Пети Трофимова: «Называют себя интеллигенцией, а […] учатся плохо, серьезного 84 ничего не читают, о науках только говорят, в искусстве понимают мало».
Володя Сергеев был волей Игоря Константиновича. Только благодаря Володе Игорь Алексеев окончил гимназию и поступил на филологическое отделение историко-филологического факультета Московского университета. Конечно, университета он не кончил. Ему не хватило Володиных способностей, такие не давались природой каждому, и у него не было Володиной целеустремленности. Той движущей силы, какая подталкивала и молодого Чехова, чей отец, бывший лавочник, выбился из крепостных. «Социальная неполноценность» была их творческим потенциалом. Она превращала Чехова в свободного человека, изживавшего свое рабство, и в писателя, а Дуняшиного Володю — в крупного ученого-историка. «Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости», — сознавал Чехов (II. 5 : 135).
А Игорь Константинович, потомственный почетный гражданин Москвы, в свои молодые годы был молод, и только.
Лишить Игоря в 1913 году, в последних классах гимназии, Володиного репетиторства было немыслимо. Станиславский делал все возможное, чтобы оставить Володю в Москве, при Игоре. Он готов был «откупить» Володю, погасить Шелапутинскому институту огромную по тому времени сумму Володиных стипендиальных выплат. Тогда Володя становился свободным от распределения в Орел и мог согласиться на любое частное или казенное московское место преподавателя. По своему выбору. Но тогда он терял несколько лет стажа в дальнейшем, при получении пенсии. Володя думал об этом.
Он все же предпочел преподавание в Орловской гимназии. Станиславский горевал о нем, подыскивая Игорю учителя латыни. Адекватной замены Володе он не нашел.
Станиславский преклонялся перед Володиными познаниями. Как и Чехов в 1902 году, убедивший Володю, служившего в конторе при имении, приготовиться к экзамену зрелости и поступить в университет. Станиславский говорил об этом интервьюеру петербургской «Речи», когда отмечалось десятилетие со дня смерти Чехова, а Володя отрабатывал свою институтскую стипендию в провинциальном Орле — обыкновенным гимназическим учителем. Запомнив слова Чехова — «Из юноши непременно выйдет профессор» — Станиславский тогда и добавил от себя: «Юноша действительно выполнил совет Чехова: стал учиться, сдал гимназический экзамен, поступил в университет. Может быть, он когда-нибудь будет и профессором» (I. 7 : 467).
Владимир Сергеевич Сергеев, прообраз Пети Трофимова — по Станиславскому, стал профессором в 1930-х, в «новой» жизни, куда чеховский Петя звал за собой барышню Аню Раневскую.
85 ГЛАВА 2
АВТОР И ТЕАТР
«Я не знаю, был ли Антон Павлович вообще с кем-нибудь очень дружен. Мог ли быть?» — задумывался Немирович-Данченко о Чехове на склоне лет, вглядываясь в прошлое (III. 2 : 14).
Холодок, которым Чехов обдавал тянувшихся к нему, чувствовали все, кто, казалось, был с ним накоротке: «Встречаясь и пожимая вам руку, произносил “как поживаете” мимоходом, не дожидаясь ответа» (III. 2 : 34).
Тех, кто не был знаком с Чеховым близко, напротив, удивляла его мягкость, открытость, расположенность к общению, особенно в переписке.
А иных феномен — Чехов-человек — ставил в тупик. Они с трудом пробивались сквозь его противоречивые высказывания к нему — истинному. Вернее, так и не пробивались: открытый, расположенный к общению, он был наглухо заперт, замкнут.
Кугель, много писавший о театре Чехова, перехватывал в его взоре и веселость нрава, и «всегда что-то испытующее, подглядывающее и подсматривающее».
То же говорили о Толстом.
Это был взгляд профессионального писателя, для которого материалом творчества была сама жизнь, ее люди, а творческим методом — метод экспериментального наблюдения.
Но и Кугель вспоминал о том, что Чехов, не став ни кичливым, ни заносчивым, когда слава пришла к нему, «был скрытен и не страдал избытком откровенности»29.
Правда, между Кугелем и Чеховым не было близости, установившейся между Чеховым и Немировичем-Данченко. Их разделяли отношения художника и критика и обида, которую Чехов не простил. Автор критической рецензии на «Чайку» в Александринке, напечатанной в 1896-м «Петербургской газетой», так и остался для Чехова до «Вишневого сада» «пошлым», «глупым», подверженным настроению, одним из «сытых евреев-неврастеников» (II. 12 : 214).
«Он брал людские признания, но никогда не отдавал своих. В этом было чеховское донжуанство по стиху Байрона: “Брал их жизнь, а их дарил одними днями!”» — вторил Кугель молодому Немировичу-Данченко в своих мемуарах о Чехове, опираясь на дореволюционные наблюдения за писателем во время считанных своих личных с ним встреч30.
Немирович-Данченко когда-то говорил Чехову в лицо, натолкнувшись в очередной раз на скрытность, «несообщительность», подполье в 86 его характере: «Право, Вы точно кокотка, которая заманивает мужчину чувственной улыбкой, но никогда не дает» (II. 1. К. 53. Ед. хр. 37б: № 12).
Радушный, с виду приветливый и контактный, Чехов к себе не подпускал. Его контактность и радушие были кажущимися. Видимостью.
Ими обманывался не один Немирович-Данченко.
Его закрытость огорчала близких.
«Мне интересен […] весь твой духовный мир, я хочу знать, что там творится, или это слишком смело сказано и туда вход воспрещен?» — писала ему Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, уже ставшая его венчаной женой (II. 1. К. 76. Ед. хр. 15).
Близко и с молодости знавший Чехова Амфитеатров тоже писал о его скрытности: «При жизни истинный Чехов был спрятан от громадного большинства своих поклонников […] за тою, знающею себе цену скромностью мудрого наблюдателя-молчальника, которая создавала ему репутацию человека замкнутого, скрытного, гордого, далее сухого»31.
Душевный мир Чехова не поддается анализу.
Он неуловим в словесных отражениях его разными лицами из его окружения.
Слишком все спутано в них.
Но в совокупном мозаичном портрете писателя, если его сложить из воспоминаний современников, отчетливы, по меньшей мере, две, казалось бы, взаимоисключающие черты: веселость и меланхолия. Меланхолию в 1890-х именовали мерехлюндией. Или, когда изъяснялись литературно и в духе Чехова: сумеречными настроениями.
Его считали певцом сумерек. Эта репутация закрепилась за ним и тянулась с конца 1880-х. Ее настойчиво опровергали и успешно опровергли в Художественном только в 1930-х, когда страна нуждалась в «бодрых песнях».
Но те, кто знал Чехова в молодости, запомнил его смеющиеся глаза и необычайную жизнерадостность. Многие из них утверждают, что Крапива, Антоша Чехонте, Человек без селезенки, Брат моего брата, Балдастов, Рувер, Улисс и другие выдумщики смешных рассказов, навевавших невеселые мысли, хотя и ушли на периферию его творчества, никогда не умирали в нем. Они были его юмором, его природным острословием. Даже больше: его моралью. Смех, шутку Чехов считал нормой общения и ноющих людей отказывался считать интеллигентными. Об этом писал братьям, жене, когда те хмурились, предавались усталости и не скрывали дурного настроения от других. Он — скрывал, пока были силы. «Будь весела, не хандри или, по крайней мере, делай вид, что ты весела», — советовал он Ольге Леонардовне в октябре 1902 года (II. 13 : 30), когда она без него загрустила.
«Делай вид…»
87 Его никогда нельзя было застать хмурым, сумрачным, вопреки утверждениям его биографов, — говорил интервьюеру «Петербургской газеты» в 1910 году П. П. Гнедич32, режиссер Александринки и драматург, автор «Горящих писем», в которых Станиславский негласно дебютировал как режиссер. Там же приведено аналогичное свидетельство Д. В. Григоровича. Он видел «веселую натуру» писателя.
Конечно, это была лишь одна ее сторона, та, что у рожденного «под смешливою звездою» с какого-то очередного переломного момента в жизни и в соответствии с его моралью — «будь весела, не хандри или, по крайней мере, делай вид, что ты весела» — стала напоказ…
Но и Станиславский, встречавшийся с Чеховым весной 1904 года, не переставал удивляться его природной, органичной жизнерадостности. У них в последние годы сложились «простые» отношения, как говорил Станиславский. «Я вижу его гораздо чаще бодрым и улыбающимся, чем хмурым, несмотря на то, что я знавал его в плохие периоды болезни, — вспоминал он. — Там, где находился больной Чехов, чаще всего царили шутка, остроты, смех и даже шалость. Кто лучше его умел смешить или говорить глупость с серьезным лицом?» (II. 21 : 347 – 348)
И позже, читая письма Чехова, изданные после его смерти Марией Павловной Чеховой, Станиславский поражался его остроумию посреди настроений грусти, его дурачествам, его анекдотам и делал вывод о том, что в душе больного, истомленного Чехова по-прежнему жил прирожденный неунывающий Антоша Чехонте (там же: 348).
Другие воспринимали только обратную сторону его души.
«Прирожденную меланхолию» чувствовали в Чехове многие художественники первого призыва, для которых он был современником. Они пасовали перед комедийным зарядом его пьес, где все было перемешано, как перемешаны в живой жизни смех и слезы.
Пьесы Чехова свободно вылились из его души, если перефразировать чеховского Треплева из «Чайки». Они неотделимы от него и веселого, и меланхолично-грустного, и прикидывавшегося веселым. А потому биографический метод интерпретации его текстов с привлечением археографической базы позволяет подойти к нему чуть ближе, чем он позволял современникам.
Пожалуй, настаивая на том, что «Чайка» и «Вишневый сад» — комедии, он делал вид, что весел. «Вишневый сад», последняя, предсмертная, самая трагическая из его пьес, названная комедией, как раз и снимает завесу тайны над парадоксом: истинный жанр «Чайки» и «Вишневого сада» — и их авторский жанровый подзаголовок.
В «Вишневом саде» очевидно: Чехов подчинял мир своих пьес своим моральным правилам, подчиняя эстетику этике.
Он скрывал за смешным — за комедией — свою горечь и свои слезы.
Он делал вид…
88 За этой очевидной в «Вишневом саде» подменой — давняя история. Тут действовала уверенная рука литератора-профессионала, выработавшего свой прием.
Как настоящий художник, свободный художник, художник-разгильдяй, не приписанный к литературному направлению, не подчинявшийся никаким литературным или иным нормам, обязательным для членов литературных направлений — партий, Чехов до поры писал, не думая о форме. Писал весело о серьезном в том же курепинском «Будильнике» безотчетно, потому что это соответствовало состоянию его души. Сформулировал он свое и треплевское убеждение — «дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, потому что это свободно льется из его души» — до того, как осознал себя профессиональным литератором.
Треплев, не выработавший формы, — не профессионал.
Предъявлявший людям свою душу неприкрытой, не забронированной формой, — Треплев не выдержал беззащитности.
«Прежде […] я писал безмятежно, словно блины ел; теперь же пишу и боюсь», — признавался Чехов приятелю, секретарю «Осколков», петербуржцу В. В. Билибину в 1886-м33, когда осознал, что его рассказы и повести — не газетно-журнальная однодневка, что в Петербурге его держат за писателя, что его читают и судят.
Он понимал, что не укладывается в общепринятые условности, не следует негласным литературным правилам, переходя от юмористического рассказа к беллетристике и драме. Но он не собирался накладывать оков на душу в виде шаблонов и канонов, прочно установившихся в официально признанной литературе.
Оттого и «боялся» суда литературных правоведов.
Он отдавал себе отчет в том, что жанры, в которых он работает в драматургии, необычны, нетрадиционны, при том что он не мог бы определить их или хотя бы назвать — трагикомедией, к примеру, или трагифарсом. Или лирической комедией, как называл его пьесы Горький. Это был бы барьер на пути свободно льющегося из души потока.
Но он не собирался и революционизировать театр, взрывать его сценические нормы, когда писал свою «Чайку», в которой «врал» против правил. Он просто не знал их. Он был художником par excellence, как говорил о нем Немирович-Данченко. Он творил талантом, дарованным ему природой.
А всерьез заботили его и даже страшили — «теперь же нишу и боюсь», — обвинения литературных академиков в дилетантизме. Это были комплексы «маленького писателя», входившего в «большую» литературу из «мелкой» прессы. Он стеснялся своей неосведомленности в области узаконенных ремесленных, формально-технических приемов письма. Он боялся быть уличенным в незнании их. Он боялся «срама на 89 всю губернию», боялся своей малообразованности: «Боюсь, как бы не подкузьмила меня моя неопытность. Вернее, боюсь написать глупость», — это его исповедь, относящаяся ко времени работы над «Скучной историей»!
Скрывая свою необразованность, он намеренно путал концы. Такой концепции придерживается современный исследователь русской классической литературы Дмитрий Галковский34.
Взять хотя бы чеховские «Сказки Мельпомены».
Этот ранний сборник рассказиков о людях театрального мирка к музе трагедии — Мельпомене, чье имя Чехов вынес на обложку, — не имел никакого отношения. Их скорее вдохновила Талия, муза комедии. «Сказки Мельпомены» вернее было бы назвать «Сказками Талии». В них преобладал комический, юмористический элемент. Но и на чистый юмор они не тянули. Чехов взрывал комизм каким-нибудь парадоксом, снимавшим все претензии к нему как к чистому юмористу.
В «Сказках Мельпомены» Чехов — «трагик поневоле».
В «Чайке» и «Вишневом саде» он — поневоле комик.
Он боялся опошленных, дискредитировавших себя жанров чистой трагедии, как и чистой, развлекательной комедии. Для него, как и для будильниковского Курепина, одного из его литературных отцов, чистый жанр «нечист»: это псевдокомедия и псевдотрагедия.
Он равно избегал и утрированной комедийности, и сгущенной трагедии даже там, где чувствовал и драматизм, и трагизм.
Он непременно взрывал драматический сюжет или ситуацию — иронией, ерничаньем, пародией.
Он сам писал блестящие пародии на «стряпчих трагиков», на Тарновского, к примеру, автора «ужасно-страшно-возмутительно-отчаянной трррагедии» — через три «р» — «Чистые и прокаженные», переделки с немецкого. В своей рецензии «Нечистые трагики и прокаженные драматурги» на спектакль в театре Лентовского по этой пьесе он изобразил Тарновского сидящим за письменным столом, покрытым кровью, трущим лобную кость и приговаривающим: «Шевелитесь, великие мозги». Тарковский, зараженный вирусом т-р-р-рагического, и был для него «прокаженным» драматургом.
Эта боязнь в комедии псевдокомедии и в трагедии псевдотрагедии, особенно в театре, преследовала его до конца дней. Больше всего он боялся, чтобы «Чайку» и «Вишневый сад» играли как т-р-р-рагедию, с тремя раскатисто-роковыми «р», выдавливая слезы у зрителя. А все в этих пьесах несчастны: «Чайка» завершается смертельным выстрелом, «Вишневый сад» — погребением заживо. Он не хотел ни в «Чайке», ни в «Вишневом саде» ни слез, ни, тем более, скорби. Они были не в его правилах, моральных, а потому и эстетических.
И он собственноручно обозначал их жанр — комедией.
90 Комедия — Талия в «Чайке» и в «Вишневом саде» — прикрывала Мельпомену так же, как Мельпомена, не соответствовавшая сказочкам из житейского мира актеров, прикрывала Талию, которая не должна была выпячиваться, выходить на передний план.
Но «Вишневый сад» — такая же комедия, как «Сказки Мельпомены» — трагедия.
В «Вишневом саде», конечно же, сильны тенденции трагического. Жанровый подзаголовок прикрывал их, хотя персонажи пьесы едва сдерживали и не сдерживали слезы, как впоследствии и зрители.
В свой последний год, в год «Вишневого сада», сознательно обозначенного комедией, Чехов в жизни едва справлялся с собой.
Он с трудом делал вид, что ему весело.
Ему не хватало на это сил. И он переставал быть похожим на себя, хрестоматийного, веселого и грустного. Без маски, не защищенный ее броней, он обнаруживал то, что так виртуозно скрывал. Из него вылезал таганрогский мещанин, как из Треплева в экстремальной ситуации душевного стресса вылезал мещанин киевский, учинявший матери бытовой скандал, а из Станиславского, когда он действовал бессознательно, теряя контроль над собой, вылезал купец, давно преодоленный в нем.
В свой последний год Чехов находился в состоянии болезненной истерики.
Его реакции в предсмертные месяцы не всегда адекватны поводам для них.
Он явно преувеличивал, например, значение ошибок, которые допустил Н. Эфрос, пересказывая содержание «Вишневого сада» до опубликования пьесы. Эфрос узнал его и записал с голоса Немировича-Данченко. Чехов просил никому не давать единственного рукописного экземпляра «Вишневого сада», присланного в театр, без его разрешения. Как известно, черновики он уничтожал, и черновики «Вишневого сада» уничтожил тоже. Так что над присланной рукописью в театре дрожали и из рук не выпускали, сделав исключение — по просьбе Чехова — для одного Дорошевича.
И вдруг Чехов прочитал у Эфроса, что Раневская живет за границей с французом, что Гаев — Чаев, что Лопахин — «кулак, сукин сын» и что действие происходит не в гостиной, а в гостинице.
Эти искажения московской газеты «Новости дня», где печатался Эфрос, провинциальная пресса растиражировала.
Чехов расценил информацию Эфроса как злонамеренное искажение смысла «Вишневого сада». Он был взбешен. Он терял свою сдержанность, опускаясь в брани Эфроса до выражений давно выдавленного из себя «раба» — невольника, сидельца таганрогской лавки: Эфрос «вредное животное» (II. 14 : 282), «точно меня помоями облили», «у меня 91 такое чувство, будто я растил маленькую дочь, а Эфрос взял и растлил ее» (II. 14 : 295).
Это Эфрос-то, который на премьере чеховской «Чайки» в Художественном, переполнившей его восторгом, бросился к рампе, как только закрылся занавес, вскочил на кресло первого ряда и начал демонстративно аплодировать, подняв зал! С тех пор, близкий друг театра, он, как критик ведущих московских газет и рубрики «Письма из Москвы» в петербургском журнале Кугеля «Театр и искусство», прославлял Чехова-драматурга.
Юмор к концу 1903 года явно оставил Чехова.
Он мучил жену своими тревогами — не допустил ли он роковых ошибок в рукописи.
Ссорился с Немировичем-Данченко, защищавшим Эфроса от упреков в злонамеренности, готов был порвать и с ним.
Посвящал Станиславского в мельчайшие перипетии склоки, никого не достойной.
Его не удовлетворяли ответы и извинения из Москвы, пока Станиславский не пресек затянувшуюся буффонаду телеграммой о том, что в рукописи ошибок нет, что Гаев — Гаев и действие происходит в гостиной, и пока Книппер-Чехова не поставила точку требованием наконец «успокоиться».
Но в «Вишневом саде» писатель-профессионал, выработавший свой прием, побеждал нездоровье и предсмертное бессилие, срывавшееся в истерики.
Для победы над собой требовались, однако, солидные сроки, оттягивавшие завершение рукописи.
Как и их автор, персонажи «Вишневого сада» несли в себе нерасчлененными его юмор и его меланхолию, балансировавшие на грани перехода одного в другое.
Это были отблески двойного зрения их творца.
Каждый из персонажей «Вишневого сада» одновременно и драматичен и комичен.
В одних смешного, странностей больше, чем рефлексии, как в Епиходове.
В других и то и другое сконцентрировано в высшей мере, как в Шарлотте. Комедийность перерастает в ней в балаганность, драматизм — во вселенское одиночество: «Все одна, одна […] и кто я, зачем я, неизвестно…» (II. 3 : 216)
Третьи больше рефлектируют, лирика души преобладает в них над юмором. Это Раневская, Гаев, Лопахин, Аня.
Но нет в «Вишневом саде» ни одной фигуры, включая Трофимова и Фирса, в ком не было бы этого чеховского сплава: душевного напряжения разной меры, вплоть до душевного надрыва, и психологической 92 легкости, психологической одномерности, граничащей с подобием дружеского шаржа или беззлобной карикатуры — разновидностью комического.
Чехов добивался сочувствия к своему персонажу и подтрунивал над ним.
Теперь, в конце пути, он подтрунивал с высоты своей обреченности, им неведомой.
Он цеплялся за жизнь, как все живое, сопротивляясь смертельной болезни, на него наступавшей.
Он страстно жаждал жизни, включенный до последнего дня в ее процессы — браком, связями, творчеством.
Он зорко отслеживал их зарождение и изживание, их диалектику, их амбивалентность вне человека и внутри его и сознавал, как все ничтожно, мелко, суетно — фарс — в сравнении с неотвратимо надвигающимся на него концом.
Но он не хотел обнаруживать сокровенное. Хотел быть, как все, и жить, как все. И, верный себе, овладевший литературной формой, ею защищенный, прятал неизбывную горечь в неисчезавшую улыбку, в смешные детали. В старые калоши Пети Трофимова, например, в которых тот собирался дойти до лучшей жизни. Их он оставил Пете, отобрав у Шарлотты. Та — в черновых вариантах пьесы — показывала с ними какой-то смешной фокус.
В этих старых калошах — все его отношение к пламенным Петиным речам о счастливом сообществе будущего, не прорвавшееся в авторской реплике — «как думал он», подобной реплике в финале «Невесты» — «как думала она».
Его мало кто понимал и при жизни, и после смерти.
Отдавая весь свой текст персонажам драмы, сам он слова не брал, драма позволяла ему избегнуть прямого высказывания о «высоком» и о «далеком», остаться в подтексте, в лирической, грустно-ироничной интонации, характерной для его поэтики. Его меланхолия умеряла и его смех, и их — персонажей — оптимистические надежды.
Переводя действие в плоскость драмы, на низший, житейский, конкретно-человеческий и вместе типовой, узнаваемый уровень, где важно, что есть шкаф и диван, что человек носит пиджак и калоши, что он пьет чай или ему не дают пить чай, Чехов все высокое, требовавшее интеллектуальной работы и обрывавшееся в трагедию — «как разбиваются судьбы», — тем или иным способом снижал, снимал. За что получил от молодого петербургского литератора Акима Волынского, умного, но нечуткого к юмору и к интонации, обвинения в антиинтеллектуализме. Улыбкой, смехом, пиджаком и калошами — бытовыми деталями — Чехов гасил и «высокое», и меланхолию, переходившую в безнадежность. А тот же Волынский непроницательно упрекал его в конформизме, 93 в попытке подчинить творчество приземленным нормативам обывательщины. Но сколько ностальгии, несбыточного было в этом чеховском конформизме! Многие видели слезы смертника, дрожавшие в его смеющихся глазах. «Он, чахоточный, чувствующий близость конца, цепляется за смех как за лекарство от недуга», — делился с интервьюером «Петербургской газеты» в 1910 году своими соображениями о феноменах «Чехов» и «творчество Чехова» Гнедич35.
«Вот шутим, смеемся — и вдруг — хлоп! Конец!» — сам Чехов считал и говорил Щепкиной-Куперник, что подобная развязка повседневной ситуации — водевильна (II. 21 : 280).
Так понимал он природу комического.
Такова была и поэтика «Вишневого сада», уже совершенно отчетливая, влиявшая и на архитектонику пьесы, и на структуру каждого образа.
Передавая художественникам «Вишневый сад», для них написанный, Чехов настаивал на том, что жанр его — никак не трагедия, а комедия или даже местами фарс.
Он был уверен, что написал такую пьесу, какую ждал, какую «заказывал» ему Станиславский: о людях со «странностями», как его маманя Елизавета Васильевна, как его брат и сестра Владимир Сергеевич и Анна Сергеевна, племянник Мика и племянницы Маня и Наташа Смирновы, как его слуги Дуняша, Егор и ленивый управляющий, — о людях от мира сего, и что они смешны.
Но Станиславский, посмеивавшийся над странностями родных и прислуги точно так же, как и Чехов, не мог читать «Вишневый сад» глазами Чехова, как ни старался. Только дистанция временная или историческая и собственное перерождение, если таковое возможно как следствие конформизма, — могли бы заставить смеяться над тем, к примеру, как ревут великовозрастные брат и сестра, взявшись за руки, посреди сдвинутой к выходу мебели под оголившимся крючком от снятой прадедовской люстры.
Никто из художественников не мог смеяться над тем, как прощаются Раневская и Гаев с домом, садом, с детством, с прошлым, так неотрывные от него, когда за окнами громко — стуком топоров — заявляла о себе и воцарялась на их глазах в их родовом гнезде, уже проданном, уже порушенном, другая жизнь.
Дистанции между читателем и тем, что происходило в пьесе, не было.
И не могло быть.
Чехов жил рядом.
И умирал.
Пьесу писал умирающий, из последних сил.
Ее читали «с колес», подвозивших рукопись из Ялты в Москву.
94 И всем казалось, что не брат и сестра, а сам Чехов, их сочинивший, уходит от них навсегда.
Смерть с бледным лицом Чехова, ожидавшая своего часа, застилала глаза Станиславского, когда он читал присланную рукопись, лебединую песнь гения, растворившего в своих персонажах свою предсмертную тоску. Он не мог рассуждать о поэтике Чехова, о ее новаторских чертах в «Вишневом саде». Он «плакал, как женщина, хотел, но не мог сдержаться» (I. 8 : 506).
Нормальная первая реакция художника, еще не утратившего непосредственности восприятия — важной части своего гения.
Гений не изменял Станиславскому до конца его дней, хотя подчас оборачивался инфантилизмом, делавшим его смешным. «Нет, для простого человека это трагедия» (там же), — спорил он с Чеховым, интуитивно переводя понятия эстетические в человеческие.
К чеховским требованиям комедийности, даже фарса в «Вишневом саде» Станиславский отнесся как к причудам гения.
Он привык к ним.
С новой пьесой повторялась старая история. Он был к ней готов.
«Ему до сих пор кажется, что “Три сестры” — это превеселенькая вещица», — подтрунивал Станиславский над автором еще в 1901 году. Тот после «Трех сестер» обещал театру фарс, — Станиславский был уверен, что «вместо фарса опять выйдет рас-про-трагедия» (I. 16 : 355). И Вишневский писал Алексеевым из Любимовки летом 1902-го, что Чехов — в своем репертуаре. Он говорил, что от хорошей жизни сделается «оптимистическим автором» и напишет «жизнерадостную пьесу», «но вот последнему я очень мало верю, ибо то, что он иногда проболтнет, уже чувствуется опять чеховская скорбь».
Осенью 1903-го все оказалось как всегда, когда Чехов стремился избежать «рас-про-трагедии». Он прислал в театр комедию «Вишневый сад».
Впрочем, Станиславский — и не «простой» человек, а режиссер — не рассуждал ни о жанре, ни об архитектонике пьесы, ни о структуре ролей, сколько в них и чего от автора и что в персонаже стоит сочувствия, любви или жалости, а что — смеха. Такой анализ с разъятием драматургической ткани и ролей не входил в его режиссерскую методологию, утвердившуюся на постановках прежних чеховских пьес: обратного перевода литературы на язык жизненных соответствий. Стоя на завоеванных театром позициях, он исповедовал театр сословно-психологических типов как единственно возможный для драматургии Чехова. Как, впрочем, и для любого автора, если его принимали к постановке в Художественном.
В «Вишневом саде», как и в других пьесах Чехова, которые Станиславский ставил, — в «Чайке», «Дяде Ване» и «Трех сестрах», — его интересовал 95 кусок жизни, давший Чехову сюжет. Он извлекал из «Вишневого сада» его повествовательный пласт. Верный себе, он как режиссер шел, минуя Чехова как литератора, как стилиста и как драматурга, хотя и откликался ему эмоционально. Он воссоздавал сначала в кабинетной разработке пьесы, а потом на сцене саму материально-духовную реальность, подсказавшую Чехову пьесу, в обстановке, настроении и в людях начала века, знакомых по жизни всем современникам Чехова.
Барин, барыня, барышня и их прислуга, написанные Чеховым как живые — и Чехов гордился этим, — жили среди них.
Оставалось и сыграть их живыми, узнаваемыми, но не похожими на конкретных Нюшу, Володю Алексеева и Сергеева, на Наташу Смирнову, Лили и любимовскую челядь, хотя бы и послуживших Чехову моделями для его персонажей.
Конкретность была бы однозначностью, упрощением — не искусством.
Мейерхольд, покинувший МХТ, считал, что Станиславский, оставаясь верным натуралистическому воспроизведению социально-психологических типов, топчется на месте и теряет ключ к пониманию своего вдохновителя. «Чехов в новом произведении наложил такую дымку мистической прелести, какой раньше у него не было», — записал Мейерхольд, прочитав новую чеховскую пьесу36. Сам он сначала поставил «Вишневый сад» в провинции как водевиль, в соответствии с автором, требовавшим комедийности. А потом, в короткий промежуток от своего февральского, 1904 года, «Вишневого сада» — до смерти Чехова и после смерти Чехова, пытался переставить его как мистическую пьесу, навевавшую «грусть и смутный страх перед тайной». В звуке сорвавшейся бадьи он слышал чистый звук неба, метерлинковский, страшный, до звона, до зуда в ушах тифозного больного, внушающий ужас. В явлении Прохожего ему мерещился знак беды. В третьем, бальном акте, на фоне глупого «топотания» ему чудилось приближение Смерти. «В драме Чехова “Вишневый сад”, как в драмах Метерлинка, есть герой, невидимый на сцене» — Рок, Судьба, Смерть, — считал Мейерхольд (V. 17 : 119), отказываясь от своего первого комедийно-водевильного херсонского опыта постановки «Вишневого сада», но и не соглашаясь с подходом к пьесе в Художественном.
«Вишневый сад» современники Чехова толковали с разных позиций, и этических и эстетических. Чехов в своей последней вещи подвергался взаимоисключающим интерпретациям и выдерживал их.
Многие литераторы считали его бытописателем. Брюсов, например, тогдашний лидер поэтического символизма в России37. Или Гиппиус — она сокрушалась об отсутствии в миросозерцании Чехова, певца разлагающихся мелочей, религиозного начала: «Неужели никто и никогда не укажет нам другого выхода, кроме Москвы и старых калош?
96 Неужели выхода нет и не может быть…» — вопрошала Гиппиус — Антон Крайний в петербургском журнале «Новый путь»38. Рассматривая чеховское драматургическое письмо вне авторской, лирической интонации, Гиппиус исключала из литературной ткани, лишенной, с ее точки зрения, чувства Божественного, растворенного в жизни, всякий подтекст, делающий текст не только бытовым.
С господами из религиозно-философского «Нового пути» спорила петербургская поэтесса О. Н. Чюмина: эти «пустоцветы» и «пустосвяты», утверждающие, что в чеховском «Вишневом саде» «нет Бога», не понимают, что «от Бога» — «всепроникающая и всепрощающая любовь», «широкою волною разлитая в этой пьесе» (IV. 1. № 5691/1). Но она не чувствовала другой стороны чеховских персонажей: их «странности».
Мистически настроенный молодой поэт Андрей Белый опровергал и новопутейцев, и Брюсова, и Чюмину. Действительность у Чехова двоится, — писал Белый в брюсовском журнале «Весы», — и мелочи, быт в «Вишневом саде» становятся проводниками в вечность. Он видел, как «сквозь пошлость», сквозь гаевскую семейную драму Чехов прорывается к безднам духа, как эти бездны являются людям в масках ужаса, исступленно пляшущих на балу у Раневской во время торгов. А молодой Мейерхольд, захваченный идеями Белого и экспериментируя с «Вишневым садом» в кабинетных режиссерских планах и сценических пробах в провинции — в Херсоне, Николаеве, Полтаве, везде, где он ставил «Вишневый сад», — искал чеховским образам — по Белому — зрительно-слуховой эквивалент. Он двигался от водевиля, осуществленного в Херсоне, — к театру без живых лиц, к театру трагических масок, манекенов, мундиров на вешалках, к театру-балаганчику, в третьем акте во всяком случае. Но, исчерпав возможности мистико-символистского решения, не открывавшего пьесу, он возвращался в своих интеллектуальных упражнениях к «Вишневому саду» как к мистико-реалистическому действу. Такое действо он собирался реализовать в Петербурге с Комиссаржевской в роли Раневской. Но этот план не осуществился. Комиссаржевская, мечтавшая о Раневской, считала, что лучше, чем поставлен «Вишневый сад» в Художественном, и иначе его поставить невозможно.
Новый, условный театр, создававшийся Мейерхольдом, не справился с «Вишневым садом» как с мистической пьесой. Перетрактовка Чехова в Метерлинка и Блока Мейерхольду на сцене не удалась. Не только Комиссаржевская — сам Чехов противился мистике. Слишком личностью был человек в чеховской пьесе, человек из хора, из потока, как бы слаб, мал, глуп и грешен он ни был. «Маленький», обычный чеховский человек, маленький в гоголевско-тургеневско-толстовском, в русском, а не в западноевропейском смысле — игрушки в руках судьбы и смерти, — будь то Раневская или Гаев, затертые обыденщиной, не 97 вполне счастливые, какие есть, — сами решали в безысходной ситуации, где, с кем, а главное, как им жить. Они не могли быть и не были игрушками ни в чьих руках. Они сами выбирали свою судьбу. Как могли. Пусть и отказом от выбора. И не слишком умело, терпя поражение, подчас и крах всех надежд. Но сами.
Постановка Художественного театра оставалась в театральном мире пусть не идеальной, но не опровергнутой и не превзойденной иным сценическим прочтением.
Вся творческая российская интеллигенция начала века, литературная и театральная, высказалась о новой пьесе знаменитого драматурга.
Люди театра, мыслившие в начале нового века в традициях прошедшего, девятнадцатого, отрицавшие символизм и эстетику условной сцены, навязываемую театру поэтами, вводили чеховский «Вишневый сад» в лоно русской, гоголевской традиции смеха сквозь слезы.
Кугель, Амфитеатров, хорошо знавшие Чехова, говорили о сочетании в «Вишневом саде» авторской грусти и иронии.
Кто-то, напротив, акцентировал объективистскую самоустраненность Чехова.
Все зависело от последовательности интерпретатора, включавшего Чехова в свой эстетический, идеологический, философский или религиозный мир, демонстрировавшего свой интеллект и эрудицию.
Но мало кому удавалось проникнуть в сам объект познания. Во множестве разнообразных умозаключений, и глубоких, и интеллектуально виртуозных, душа Чехова отлетала от его пьесы.
А она была внутри ее.
Комедия Чехова «Вишневый сад» и как драматическое произведение, опубликованное в сборнике товарищества «Знание» за 1903 год, и как произведение для сцены Художественного театра, оставалась в эссе и исследованиях выдающихся современников Чехова «вещью в себе», как и сам автор, открытый, казалось, всем.
То же произошло и с советскими филологами, занимавшимися в 1960-х проблемами жанра чеховского «Вишневого сада». Эти, извлекавшие из драматического конфликта его классовую основу, сосредоточивали свое внимание на идейной сущности литературных образов пьесы как комедии. И, настаивая на разоблачительных тенденциях в авторской интонации, определяли ее жанр то «пародией на трагедию» (В. В. Ермилов), то комедией, отягченной, осложненной «субъективно-драматическими, лирическими мотивами» (Г. П. Бердников).
Все зависело от партийной преданности критика, оголтело-официозной или умеренно-академической.
Особняком в ряду имен советских чеховедов, работавших в 1960-х, стоит А. П. Скафтымов. Он всех ближе подходил к разгадке Чехова, и в 98 «Вишневом саде», как и в «Иванове», никого не обвинявшего, никого не представившего ни ангелом, ни злодеем. Скафтымов, изучавший «нравственные искания» Чехова, говорил об эпической составляющей в жанре чеховской драмы, о «сложении жизни», определявшем судьбу людей.
Но и дореволюционная критика, и советские филологи, возрождавшие чеховедение в 1960-х, были равно далеки от реальной практики того театра, для которой Чехов написал «Вишневый сад».
Она многое решала в пьесе и многое в ней открывала.
Чехов-литератор не был для Станиславского ни философом, ни мистиком, ни символистом, ни натуралистом-бытописателем. Режиссер Художественного слишком хорошо — воочию — видел, как преобразились в литературные типы люди жизни, подсказанные им лично Чехову, а искушение натурализмом на сцене он пережил хотя бы в эксперименте с живой старухой, вывезенной из Тульской губернии «для образца» актерам, игравшим толстовскую пьесу «Власть тьмы». Этот опыт дал театру отрицательный результат и был отброшен.
Станиславский — в отличие от всех, прикасавшихся к «Вишневому саду» в начале века словом или сценической интерпретацией, — сам был внутри пьесы. Тут был источник всех его побед над высоколобой российской элитой. Она, кстати, его победы над ней признавала, посвящая ему сборники статей о театре и отдавая будущее театра — в его руки.
Внутри «Вишневого сада» Станиславский был больше, чем в других чеховских пьесах, которые он ставил и внутрь которых влезал, опрокидывая их в свою жизнь. И он сам, и его родные, и его дом — были для него прообразами чеховских литературных образов. В «Вишневом саде» он вместе с драматургом этот «Сад» сажал, выбирая саженцы, скрещивал деревья, поливал их и выращивал. Он слишком хорошо знал, из чего выросли его цветы: «Я сразу все понял». Он не мог любоваться на них только со стороны, извне, как другие, или подвергать «Сад» аналитическому разъятию.
Материал жизни, стоявший за пьесой, был его собственной жизнью. Попадая в свою жизнь, он попадал в свой гений: непосредственности, непредвзятости, проникающей художественной силой и масштабами не уступавший чеховскому. Хотя, быть может, он еще не был отшлифован до последних кондиций, как у Чехова.
У Станиславского еще было время впереди. Он еще был в пути.
Чехов свой путь завершал.
* * *
Рукопись «Вишневого сада» Чехов прислал в Художественный театр только в середине октября 1903 года. Очень поздно, сжимая сроки, 99 отпущенные на постановку, нарушая привычный небыстрый темп работы. Новую пьесу сезона обычно начинали в конце предыдущего, после Великого поста, когда кончали играть, и перед премьерой только доводили. Теперь же от читки до зрителя — на изготовление декораций и репетиционный период — оставалось меньше трех месяцев.
Немирович-Данченко сам прочел рукопись новой пьесы, присланную Ольге Леонардовне, всего нескольким приближенным лицам из числа первых артистов театра и Горькому, оказавшемуся в тот день в Москве. Секретная читка была в буфете театра. Ольга Леонардовна заперла буфет, чтобы не было посторонних. «Читал очень хорошо», — вспоминал Леонидов, допущенный на сходку (V. 12 : 115).
Владимир Иванович Немирович-Данченко, в отличие от Станиславского, был напрочь лишен непосредственности «простого человека», обливающегося слезами над вымыслом, как над живой реальностью. Он до «простого человека» себя не ронял и всегда немножко важничал, защищаясь. Ему казалось, что его недооценивают. С Чеховым по поводу «Вишневого сада» он общался, с одной стороны, как писатель с писателем, как равный с равным — их связывало уже двадцать лет работы на пиве русской литературы. А с другой — он чувствовал себя рядом с Чеховым-драматургом человеком театра, так оно и было, но Чехова держал за дилетанта, который продолжает «врать» против условий сцены, не зная сцены.
Действительно, сцену Чехов знал хуже приятеля, принесшего ей в жертву заслуженную славу литератора, драматурга и беллетриста.
Владимир Иванович демонстрировал и Чехову, и театру, что, зная сцену, понимая Чехова и отвечая в дирекции за репертуар, вернее автора угадывает, что в пьесе сценично, а что нет.
Рассматривая «Вишневый сад» в контексте всего творчества Чехова, Немирович-Данченко, прочитав рукопись, телеграфировал в Ялту, великодушно поощряя автора:
за усовершенствование драматургического письма, в котором сокращены лирические элементы в пользу драматических;
за уравновешенность в размерах актов и за стройность сцен;
за новый ракурс старых содержательных схем, — растворив в телеграфном многословии, что, пожалуй, его образы все же перепевы прежних, а Петя Трофимов написан слабо. Словом, Немирович-Данченко отозвался о новой пьесе сдержанно (III. 5 : 343 – 344).
А в письме к Чехову от 7 ноября, в канун начала репетиций «Вишневого сада», высказался и вовсе недвусмысленно: «В школе ставлю 1-й акт “Иванова”. Вот это перл! Лучше всего, кажется, что тобой написано» (III. 5 : 352).
«Иванов», где Чехов пробовал новый тип, но оставался в пределах структуры, характерной для старой драмы — с героем в центре, — оказался 100 для Немировича-Данченко сильнее «Чайки», «Дяди Ваий», «Трех сестер» и «Вишневого сада».
Просто не веришь сказанному.
Но это не оговорка. Воспоминания Немировича-Данченко 1929 года заставляют верить: «Пьеса не сделала сразу […] сильного впечатления. Такого огромного, какого можно было ожидать» (III. 3 : 105). И далее в речи, произнесенной в Чеховском обществе в январе 1929-го по случаю 25-летия со дня премьеры «Вишневого сада» в Художественном: «Первое впечатление от “Вишневого сада” показалось несколько странным, ни одна сцена крепко не возведена, ни один финал не показался эффектным и, может быть, казался странным финал всего спектакля — кончает один старый слуга Фирс, которого забыли».
Этот пассаж мог бы принадлежать рецензенту проваленной в Александринском театре чеховской «Чайки» или Василию Ивановичу Немировичу-Данченко, который считал, что «для Сцены Чехов мертв», что «Чехов не драматург», что он на сцене «не хозяин» (III. 7 : 27). Но не человеку, подарившему жизнь «Чайке» и другим чеховским пьесам в Художественном. У Владимира Ивановича то же, что у брата, непонимание новаторства чеховского драматургического письма.
Объяснить этот факт возможно лишь какими-то мотивами нетворческого характера, подлежащими отдельной разгадке.
Как откровенную сдержанность Немировича-Данченко, так и бурную реакцию Станиславского — его слезы и восторг — Чехов, сидя в своей ялтинской берлоге, воспринимал болезненно.
В октябре Немирович-Данченко провел беседу с Симовым, в ноябре — традиционные беседы с исполнителями об авторе и его пьесе.
Параллельно с Немировичем-Данченко Станиславский работал над планом постановки «Вишневого сада», намечая, как обычно, настроения актов, которых следовало добиваться в декорациях, обстановке, освещении и звуковом оформлении спектакля, размечал мизансцены и характеризовал действующих лиц — от центральных до безмолвных гостей на балу; — отталкиваясь от ремарок Чехова и от его развернутых эпистолярных комментариев, регулярно поступавших в Москву из Ялты вслед за отправленной рукописью.
К просьбам Чехова Станиславский, конечно же, прислушивался, даже если и не соглашался с его пониманием жанра «Вишневого сада». Обозначенная Чеховым и принципиальная для автора комедийность пьесы не оставляла Станиславского в покое. Чехова слишком чтили в театре, чтобы игнорировать его подсказы. Но у Станиславского был свой отработанный репетиционный канон. И ему в театре следовали беспрекословно. Этот канон подчинял и художника, и актеров не столько автору, сколько и прежде всего режиссерскому плану Станиславского, 101 его видению жизни, стоявшей за пьесой, и его ощущению сценического типа, закрепляемого в жестко-мизансценированном рисунке роли.
Там, где видения Чехова и Станиславского совпадали, где «люблю» сопровождалось «посмеиваюсь», без которого нет Чехова, театр добивался успеха. Синтез серьезного с веселым и трогательного со сметным у Чехова Немирович-Данченко называл принципом светотени. Когда чеховский принцип светотени нарушался, разногласия театра и автора перерастали в конфликт, изматывавший и драматурга, и режиссеров, и исполнителей.
Станиславский разделил чеховские юмор и меланхолию, его «люблю» и «жалею» и его «посмеиваюсь». И развел всех персонажей пьесы на драматических, которым досталось — «люблю», «не люблю» без «посмеиваюсь» над ними, и на комедийных, даже фарсовых, утрировавших комизм, — в угоду Чехову, в соответствии с волей автора, как считал Станиславский.
Смех Станиславский отдал прислуге, серьезное — персонажам первого, сюжетного ряда. А в персонажах комедийных, игнорируя чеховскую бинарность, выдерживал монохром, лишив комизм — драматизма.
Барин, хоть и либеральный, Станиславский относился к челяди как к челяди, как к низшему, зависимому от него социальному слою и свято исполнял свой человеческий и общественный долг перед ней. Но он не вглядывался в слуг так пристально и пристрастно, как в Раневскую или Гаева. Или в Лию. Или в Лопахина. Он отказывал им в драматизме, замечая и в чеховском взгляде на них лишь характерный авторский прищур.
Комедийный эффект в трактовке слуг в режиссерском плане Станиславского высекался из неадекватности их самоощущения реальному социальному статусу каждого.
Горничная Дуняша чувствовала себя барынькой. Подражая Раневской, посматривала на карманные часики, часто и обильно пудрилась.
Лакей Раневской Яша, вернувшийся вместе с барыней из Франции, держался с гаевскими слугами надменным важным иностранцем. Якобы французом. Станиславский рассчитывал здесь на смех зрительного зала. Сидя вразвалку на лавке у часовни, Яша пел на ломаном французском опереточные и кафешантанные куплеты, привезенные из-за границы, сопровождая их оперными жестами, и пускал струю вонючего дыма в лицо Дуняше, изображая, что курит дорогие ароматные сигары. В сцене бала он «с апломбом» — так в режиссерском плане Станиславского — ел мармелад, самоустраняясь от обязанностей лакея. В четвертом акте, обнося отъезжающих шампанским, пил его мелкими глотками, отставив мизинец.
102 Яшины манеры, его фальшивое пение, Дуняшин кашель от папиросного смрада, его спокойное нахальство и лень, отличавшие его и от Дуняши, и от Фирса, выдавали в нем не европейца, не француза, а наоборот: его российско-азиатское невежество.
Станиславскому не приходило в голову, что Яша — простой деревенский парень, что он отвык от своей деревенской матери и потерял связи с домом из-за прихоти госпожи, таскающей его за собой. Станиславский не мог представить, что Яша искрение привязался к наивной Дуняше, его полюбившей, и что расставанье с ней могло быть не таким цинично-наглым, как намечалось в режиссерском плане.
Яша решался Станиславским однозначно фарсово. Как бы по Чехову.
Влияние Станиславского на русский и мировой театр и традиции Художественного театра оказались так сильны, что, кажется, впервые в богатейшей сценической истории «Вишневого сада» драму Яши разглядел в своем спектакле 1990-х петербургский режиссер Лев Додин.
То же, что с Яшей режиссерского плана Станиславского, произошло и с Симеоновым-Пищиком.
У Станиславского Симеонов-Пищик только буффонно смешон. Он спал на ходу или стоя, страдал подагрой и с трудом поднимался со стула. Стул был для него слишком мал, а сам он слишком толст и неповоротлив, и, слушая, он застывал, смотря в рот говорящему — Гаеву ли с его обращением к шкафу, или Лопахину, купившему «Вишневый сад». Станиславский совсем не видел чеховской бинарности беззаботного помещика, живущего в долг и вознагражденного под старость предприимчивыми чужестранцами. Режиссеру не было дела до умирающего, обреченного в России помещичьего землевладения и до Пищика как последнего из его могикан. Участник жизни, Станиславский не поднимался над нею и не смотрел на нее, как Чехов, с другого ее конца. Но он старался хотя бы в лицах второго ряда угодить автору, соблюсти его требование фарса. И публика смеялась над Симеоновым-Пищиком Грибунина, над высоким, слегка ожиревшим величественным стариком в синей поддевке и с бородой патриарха, отдающимся первому впечатлению с младенческой экспансивностью.
Эпизодическую роль конторщика Епиходова Станиславский буквально рассыпал в режиссерском плане на буффонные номера. Мало того, что Епиходов скрипел сапогами. Он спотыкался на каждом шагу, падал и вставал, как ванька-встанька, что-то задевая, роняя и ломая при каждом выходе и уходе. Очень смешон, когда говорит о предмете любви, очень смешон в роли влюбленного, — указывал Станиславский и педалировал в любовной линии отвергнутого жениха не любовь, а двадцать два его несчастья, подменяя их бесчисленными, но на один манер, клоунскими лейттрюками. Тоже как бы в угоду автору, хохотавшему 103 над цирковым клоуном-жонглером и взявшему «Двадцать два несчастья» в прототипы Епиходова.
Ни Чехов, ни Станиславский не ожидали мастерского, теплого, «дружеского шаржа» на ограниченного, самовлюбленного и тупо-обидчивого конторщика, какой дал в роли Епиходова Москвин, интуитивно восстановивший чеховскую двуслойность образа. Артист его жалел, но без сантиментов, потому что над несчастьями Епиходова смеялись.
Никто из писавших о Епиходове Москвина не дал исчерпывающего портрета актера в роли.
Одни хохотали над неудачником, который «не может ступить шагу, чтобы не повалить стула, не раздавить картонки, не сломать кия, не проглотить чего-нибудь в ковше воды и т. д.»39.
Другие, как будильниковский приятель Чехова Н. М. Ежов, решили, что «в Епиходове юмор Чехова заблестел, как прежде»40.
Нет, господа, каков Москвин!
Какой живой и сочный типик!
Какой язык! Тут Чехонте
Проснулся в Чехове, и ярко
Сияет в юной красоте, —
рифмовал после премьеры «Вишневого сада» Л. Г. Мунштейн — Lolo в московских «Новостях дня»41.
Епиходов Москвина действительно был водевильно глуп и тупо самодоволен.
Его с трудом ворочавшиеся мысли выливались у актера в тугую, с расстановками, по складам, цветистую и с претензиями на глубокомыслие речь, достойную его беспорядочной начитанности. «Его язык не гнется в образованный разговор», — писал Амфитеатров о сценах, где конторщик говорил об умном или витиевато-косноязычно изъяснялся горничной в своих чувствах к ней, подражая господам из прочитанных романов.
Амфитеатров ставил образ Епиходова у Чехова в литературную традицию, идущую от чичиковского Петрушки, который вздумал взяться за несвойственное для его бездарной натуры культурное дело «петь, играть на гитаре, сочинять стихи, читать Бокля, играть на биллиарде, даже — благородно застрелиться, если романтика потребует револьвера»42.
Москвин, конечно же, выходил за пределы грубой буффонады, отмеренной Епиходову в режиссерском плане Станиславского.
Выходил своим талантом — сжиться с ролью.
Артист будто родился с этой прилизанной физиономией с застывшей на ней обидой. В этих сапогах бураками. С этим «кипящим самоваром 104 внутри». С этими куцыми жестами, с робкой, «шепотной» походкой и остервенелым высокомерием перед сословно равными ему. Перед прислугой.
Своим талантом к перевоплощению Москвин переводил карикатуру, шарж, блестяще исполненный, в человеческий тип, характерный для чеховских юмористических рассказов, для «Свадьбы» и «Предложения», в тип смешной, но жалкий, с блестками наблюдательности, с чертами глубокого социально-психологического проникновения. В нем уживалось столько всего, и всего контрастного, и казалось, взаимоисключающего, несовместимого, что критика отступала перед этим типом одновременно смешного и серьезного, умного и глупого, злого и доброго, ревнивого, обидчивого, неловкого и страшно лиричного человека. И даже временами трагичного.
Каждый из писавших о Епиходове Москвина улавливал, ухватывал что-то одно в нем и всего Епиходова не исчерпывал. И только совокупный портрет, составленный из отзывов критиков, отражал его многоцветность.
Вокруг Епиходова — Москвина, несменяемого до 1913 года, сменялись разные Дуняши. В 1913 году, когда Москвин серьезно заболел, Станиславский ввел на роль Епиходова Михаила Александровича Чехова, племянника Антона Павловича. Но и он не мог ни превзойти, ни опровергнуть исполнение первого артиста.
Все Дуняши — от премьерных Халютиной и Адурской до Андровской и Михаловской, игравших в 1930-х, что бы ни делали на сцене, как бы ни увлекались Яшей, — чувствовали на себе глаза влюбленного Епиходова — Москвина.
Все смешное и нелепое в Епиходове окрашивалось у Москвина оправдывавшей его любовью к Дуняше.
Его глаза неотступно и неотвязно преследовали ее не только в их общих сценах. Его взгляд — одновременно жадный, жалкий и растерянный, страдающий и наглый, доставал ее даже в маленьком зеркальце, когда она, глядясь в него, присаживалась на миг, разгоряченная танцами на балу и успехом у мужчин, чтобы отдохнуть и попудриться. Это был странный и ни на кого не похожий чувственно-конкретный человек и тип одновременно, литературный и социальный, выдерживавший самые разные мнения о себе.
Больше всех от дедраматизации комического в режиссерской экспликации Станиславского пострадала гувернантка.
Чехов дал Шарлотте лирические сцены, варьировавшие тему одиночества. Но и ее Станиславский рассматривал скорее как персонаж комедии положений, акцентируя смешное, ее странности во внешности и поведении.
105 Шарлотта режиссерского плана паясничала и показывала фокусы не только в сцене бала, манипулируя с картами и пледом. Она должна была, проходя мимо стола, схватить кусок колбасы, подбросить и ртом поймать его. В копну сена она прыгала, кувыркаясь. Когда говорила о том, что Раневская «жизнь свою потеряла», она вскакивала «по-цирковски» и приплясывала под собственный глуповатый немецкий припевчик. Усиливали комический эффект проходившие мимо кучер и скотница. Шарлотта им вслед кричала «не то петухом или свиньей». А в сцене бала она должна была с зонтом под мышкой бегать по залу, «как клоун по арене», круг за кругом, выделывая необыкновенные антраша ногами, и закончить комбинацию канканом.
Этому процессу очищения зоны комического от элементов драмы и разделения драмы и комедии, предпринятому в режиссерской экспликации Станиславского, становилось неудобно в чеховских рамках синтеза веселья и меланхолии. И Станиславскому понадобились перестановки в тексте. Ему казалось, что лирическая сцена комедийных Шарлотты и Фирса у копны, завершавшая у Чехова второй акт, снимает напряжение, достигнутое разговором Гаева и Раневской об аукционе и романтическим диалогом Ани и Пети, и он обратился к драматургу с просьбой — сократить эту сцену. Тем более что и Немирович-Данченко говорил о растянутости второго акта, и сам Чехов считал его скучноватым.
«“Что ж, сокращайте”, — ответил Чехов, но, видимо, эта просьба причинила ему боль, лицо у него омрачилось», — вспоминал Станиславский в 1914 году (I. 7 : 469).
Лицо Чехова, каким оно было в этот момент в 1904-м, не отпускало Станиславского и в 1920-х: «Когда мы дерзнули предложить Антону Павловичу выкинуть сцену — в конце второго акта “Вишневого сада”, — он сделался очень грустным, побледнел от боли, которую мы ему причинили тогда, но, подумав и оправившись, сказал: “Сократите”. И никогда больше не высказывал нам по этому поводу ни одного упрека» (I. 4 : 345).
Сцена Шарлотты с Фирсом и ее монолог об одиночестве шли в комедийной экспозиции как проходной эпизод второго акта. Шарлотта, по существу, лишалась лирико-драматической темы.
И Фирс лишился монолога — рассказа о своем дореформенном прошлом — в конце второго акта первоначальной чеховской редакции «Вишневого сада».
У Чехова Фирс не просто стар и смешон. Несправедливо в молодости осужденный, пригретый великодушными господами, вошедший в их семью, которая ему дороже воли, он в новой жизни, когда нарушился прежний порядок, когда «все враздробь», — потерян, лишен внутренних опор. Он не может вписаться в новый порядок со своими старыми 106 дореформенными правилами и нешуточно страдает, этот всеми как будто любимый, но всеми забытый ветеран.
Чехов прислушивался к Станиславскому и Немировичу-Данченко, доверял им в плане публичности сцены, обращенной к зрителю, больше, чем себе, писателю, кабинетному человеку. Сценическая редакция «Вишневого сада» в Художественном стала каноническим литературным текстом пьесы.
И тот же Додин впервые завершал второй чеховский акт «Вишневого сада» в своем петербургском спектакле переломных 1990-х купированной художественниками сценой Шарлотты и Фирса, вернув драму и гувернантке, и старому слуге с его непростой личной судьбой — на переломе двух исторических эпох начала 1860-х.
Прислуга в спектакле 1904 года была решена примитивно-комически, — сожалел Немирович-Данченко в 1919 году в предисловии к монографии Н. Е. Эфроса о «Вишневом саде» в Художественном, перебирая достоинства и недостатки той постановки (II. 20 : 14).
Тогда же Немирович-Данченко отметил, что театр не понял отношения Чехова «к музыке настраивающейся жизни», к линии Пети и Ани. Она разряжала оптимизмом драму господ, на которой сосредоточилась режиссура, — считал Владимир Иванович, снимая неопределенность в отношении Чехова к «новой жизни», куда он отправлял и Петю с Аней, и Раневскую, и Гаева — всех своих персонажей.
Это был голос другой эпохи, голос из будущего, вторгавшийся в оценку премьерной, 1904 года, сценической версии Художественного театра. Это было конъюнктурное прозрение. В 1904-м Немирович-Данченко не мог отдать в руки чеховского Пети с его антиинтеллигентскими настроениями будущее России. Персонажей, подобных Пете, Немирович-Данченко в начале века самым решительным образом лишал слова в своем театре. Просто не выводил их на сцену, рассорившись с Горьким из-за антиинтеллигентских «Дачников» и рассорив Горького с театром. А социал-демократов вроде Горького, навязывавших искусству «дешевые революционные идеи», называл в 1910-х — в период обострения конфликта с Горьким — «туполобыми».
Время, реальность меняют взгляды, самого человека. Память — категория не абсолютная. Воспоминание «услужливо», — сформулировал Пушкин: «Услужливым воспоминаньем себя обманываешь ты», — говорил его Мефистофель Фаусту.
* * *
У Чехова был свой план распределения ролей. Он писал «Вишневый сад», как и «Три сестры», для Художественного театра и с прицелом на его актеров. В Лопахине видел Станиславского, в Гаеве — Вишневского, 107 в Фирсе — Артема, в Варе — сначала Книппер, потом Лилину, в Пищике — Грибунина, в Епиходове — Лужского, умевшего смешить публику в веселых театральных капустниках.
Но он понимал, что театр не может ориентироваться только на его желания. Свои требования диктовали возможности труппы и режиссуры. Влияла на распределение ролей и на сценические решения непростая внутритеатральная ситуация, сложившаяся к шестому сезону существования МХТ. Ее до поры удавалось сглаживать и нейтрализовать. Приходилось учитывать множество непредвиденных мелочей, кроме чисто творческих. Все это наслаивалось одно на другое, отодвигая день премьеры — до самых последних в сезоне сроков и натягивая отношения Чехова, расположенного к сотрудничеству, с режиссурой и актерами.
Чехов готов был выслушать встречные предложения театра и корректировать свои пожелания. Отправив долгожданную пьесу из Ялты в Москву, он вступил с театром в обстоятельный диалог. И обе стороны — автор и театр — вместе раскладывали пасьянс, который никак не выходил, — говорил Чехов (II. 13 : 294). Отыскивали среди актеров труппы наиболее подходящих к чеховским ролям в авторской интерпретации и останавливались на оптимальном — компромиссном варианте, удовлетворявшем обе стороны.
Лопахина Чехов писал для Станиславского, включая комплекс его психофизических данных, его индивидуальность, в состав роли. Он и создавал своего Лопахина, оглядываясь на Станиславского, уже хорошо зная и понимая его и как купца, и как артиста. «Когда я писал Лопахина, то думалось, что это Ваша роль», — убеждал он Станиславского в том, что роль Лопахина, написанная для него, центральная и выйдет у него «блестяще» (II. 14 : 291). «Купца должен играть только Константин Сергеевич. Ведь это не купец в пошлом смысле этого слова», — разъяснял он свой замысел роли (II. 14 : 289).
В театре думали иначе.
Мнение о том, что Лопахин — «кулак, сукин сын», «саврас без узды», бытовавшее в театре и попавшее в статью Эфроса, что так мучила Чехова, пошло от Немировича-Данченко, со слов которого, не читая пьесу, Эфрос дал свой материал о «Вишневом саде» в «Новости дня».
Чехов сам дал повод для такого прочтения роли. Он не расстался в Лопахине с внешностью заросшего купца-мужика — с длинными волосами и бородой, как у Лейкина, которую он расчесывал «сзади-наперед, то есть от шеи ко рту» (II. 13 : 294). Он сознательно уводил Лопахина от Станиславского, избегая, по своему обыкновению, узнаваемости «натуры» в типе. В театре, обманувшись этой внешностью, считали, что Станиславский, пошлых, грубых русских купцов-мужиков не игравший удачно, «купца, сукина сына», не сыграет. Они ассоциировали с купцами, как и Немирович-Данченко и как сам Станиславский, только 108 пошлость. Книппер и Лилина, сговорившись, нашептывали Станиславскому, что Лопахин — не его роль.
В переписке с Художественным театром Чехов пытался сорвать со своего Лопахина ярлык «купца в пошлом смысле этого слова» и терпеливо растолковывал свое понимание этой и других ролей «Вишневого сада». Хотя, в принципе, обсуждать представленный материал не любил. «Там же все написано», — отвечал он на вопросы. Но в этот раз, испытывая угрызения совести, что так задержался с пьесой и поставил театр в неудобное положение, и еще потому, что в Ялте он «скучал ужасно», — вспоминал Немирович-Данченко, — он подробно отвечал и Станиславскому, и Немировичу-Данченко, и жене — ей доверительно. Ей писал почти каждый день, как и она ему.
Чехов разубеждал художественников, говорил, что его Лопахин похож не то на купца, не то на университетского профессора-медика. Уводя Лопахина от тривиального старорежимного купца из «темного царства» Островского, развивал в нем в своих пояснениях роли тип сумбатовского купца-джентльмена, «смягченного цивилизацией», но с торчащей из лакового ботинка «купецкой ногой».
«Это мягкий человек», — повторял Чехов, — почти барин, и барин либеральный (II. 14 : 290).
Отвечая Станиславскому на его вопросы о Дуняше и Лопахине, Чехов настаивал на том, что Лопахин держится свободно, «барином», говорит Дуняше «ты», а она ему «вы» и при Лопахине стоит. Он пытался развернуть Станиславского к нему самому, убеждая согласиться на центральную роль в пьесе. Чехову нужен был в Лопахине барин, но из купцов. Не купчик, не кулачок. Но купец-барин, совсем такой, как Станиславский, властный хозяин фамильного канительного дела и торговых фирм, разбросанных по российским и восточным рынкам. Умеющий считать. Но и способный взорваться. Ему важна была в Лопахине крупная фигура и мощный темперамент.
Чехов знал Станиславского мягким, интеллигентным.
Но он знал и его купеческий — алексеевский характер, его необузданный, неуравновешенный нрав и способность вспылить в минуты повышенного напряжения сил, когда из него, не сдерживаемая волей, вылезала его алексеевская порода. Та, что достигла торжества в Николае Александровиче, купце настоящем, не смягченном цивилизацией. Это случалось со Станиславским и в театре — обычно по мере того, как приближался срок выпуска спектакля. В этот ответственный момент он, как правило, переставал справляться с собой, добавляя нервозности и без того всегда тяжелой предпремьерной ситуации.
«Один из Ваших недостатков — это когда Вы как бы соскальзываете с рельсов, начинаете зарываться и — при Вашей огромной власти в театре — крошите направо и налево. Прежде это бывало постоянно, теперь, 109 слава богу, очень редко. Обыкновенно это наступает перед генеральными. Психологически я Вас совершенно понимаю и оправдываю, как никто, кроме, разве, Вашей жены. Но для всего дела такие периоды очень опасны. Они много беспорядка вносили всегда. Вот эти дни случились опять», — писал Немирович-Данченко Станиславскому в начале января 1904 года (III. 1. № 1598).
И в Лопахине чеховском барственность уживалась с тем, что он мог бушевать и буйствовать, как лицо купеческого сословия, и крушить все направо и налево.
Купивший имение на торгах, Лопахин чеховский стыдился в финале третьего акта пьесы своего пьяного дебоша, своей разнузданности, как стыдилась своих эмоциональных взрывов Елизавета Васильевна и как стыдился Станиславский вылезавшего из него Алексеева, купца-самодура.
«Лопахин, правда, купец, но порядочный человек во всех смыслах, держаться он должен вполне благопристойно, интеллигентно», — добавлял Чехов, настойчиво склоняя Станиславского играть Лопахина и убеждая его в том, что у Лопахина — мягкая, нежная, восприимчивая душа артиста (II. 14 : 289). В этом направлении, приближая Лопахина к данным Станиславского, Чехов дорабатывал образ купца. Дорабатывал и при подготовке пьесы к публикации, когда Станиславский еще колебался, играть или не играть ему Лопахина. Тогда и добавил Чехов реплику Трофимову в его диалоге с Лопахиным, придававшую купцу дополнительные черты «интеллигентности» и «благопристойности»: «У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа» (II. 3 : 244).
Словом, Чехов, намечая на роль Лопахина Станиславского, называя роль Лопахина — центральной в пьесе, хотел яркого, мощного ее исполнения.
Станиславский был Лопахиным чеховского воображения.
Но уже в режиссерской экспликации Станиславский уводил Лопахина от чеховских устных и письменных указаний к роли. Не мог отделаться от представлений о Лопахине как о мужике и «сукином сыне» и искал в нем купца «с резкими и характерными его очертаниями».
Раздумывая над образом и примеривая его к себе, Станиславский от себя Лопахина отдалял, oгрубляя манеры. Он не хотел быть самим собой, купцом первой гильдии Алексеевым в роли, что вполне устроило бы Чехова, и избегал в партитуре роли каких-либо ассоциаций с собой, потомственным купцом. У него в этом плане был тяжелый личный опыт.
Лопахин его режиссерского плана на стуле лежал развалясь. Когда курил — сплевывал. Спичкой ковырял в зубах.
110 Немирович-Данченко вторил Станиславскому: «Лопахин — здоровый, сильный: зевнет — так уж зевнет, по-мужицки, поежится утренним холодком — так уж поежится» (III. 5 : 355).
«Побольше размашистости, мощи, больше богатыря», — писал Станиславский, разрабатывая сцену, когда разгулявшийся Лопахин объявляет, что он купил имение и когда кричит, чтобы расступились перед ним: «Идет новый хозяин “Вишневого сада”!» (I. 12 : 425)
Несмотря на «артистическое увлечение», с каким Лопахин его mise en scène рассказывал о том, как происходили торги, Станиславский акцентировал грубость, неотесанность его натуры, его врожденное хамство. Затаенная злоба и желчь, прорывавшиеся в нем в момент экстаза или куража, раздражали Станиславского, он не скрывал своей неприязни не только к Лопахину, но ко всем купцам как к сословию, к их упертой сословной общности, которую он презирал. От которой убежал в искусство.
«Почему же при такой мягкой душе Лопахина он не спасает Раневскую?» — размышлял Станиславский в режиссерском плане.
Будь он на месте Лопахина, могло казаться ему, он купил бы имение и сад не для себя — для Раневской. Во всяком случае, в помыслах. Он преодолел Лопахина в себе, он был — лучшее в Лопахине. Он поднялся над своей средой. И Чехов ощущал в Лопахине, в его человеческом нутре, в его привязанности к Раневской потенциал благотворителя. Вот-вот, казалось, он спасет Раневскую, может быть, женится на Варе, приемной дочери Раневской, выкупит тещино имение и «Вишневый сад», такой ей дорогой, останется в семье. Но нет — засмеют купцы: женился на бесприданнице. И Станиславский отвечал на свой вопрос, почему при такой мягкой душе Лопахин не спасает Раневскую: «Потому что он раб купеческого предрассудка, потому что его засмеют купцы. “Les affaires sont les affaires”, что означает “дело есть дело”» (I. 12 : 425).
Он вспоминал Николая Александровича Алексеева, настоящего купца, купца «с предрассудками» — с купеческой моралью: дело превыше всего. Николай Александрович презирал «слабость» — мягкотелость в купцах, забывавших об интересах дела, предававших интересы дела по щепетильности, из жалости к побежденному, что случалось с купцами «ненастоящими» — с самим Станиславским и вконец растоптанным мягким, бесхарактерным Володей, Владимиром Сергеевичем Алексеевым.
В режиссерском плане Станиславского «неполированный» купец, купец-самодур в Лопахине побеждал и вытеснял интеллигентного, мягкого барина, похожего «на университетского профессора-медика». Станиславский не мог свести воедино хамский монолог нового хозяина «Вишневого сада» с почти вершининским, мечтательным тоном в его монологе из второго акта — «Скорее бы изменилась наша нескладная 111 жизнь». Для Станиславского Лопахин — купец, прикидывающийся барином, лишь старающийся при Раневской и Гаеве барином держаться, — не барин. Он отказывал Лопахину в благородстве, в способности поступать по-джентельменски — в ущерб своим деловым, финансовым интересам. В режиссерском плане Станиславского Лопахин гордился своей победой на торгах: «Чувство радости и купеческой гордости берут верх над хорошим чувством конфуза», и этот Лопахин начинал хвастаться, как деловой человек хвастает перед своим братом купцом или помещиком.
Но Чехов и в этой сцене «облагораживал» купца. В ремарке к ней он замечал, что в сцене пьяного куража Лопахин «толкнул нечаянно столик, едва не опрокинув канделябра».
«Нечаянно», «едва не опрокинув»…
Чехов смягчал сцену.
Станиславский спорил с Чеховым. Он так неприязненно относился к Лопахину, видя в нем «сукиного сына», что не выполнил в режиссерском плане — и сознательно — чеховских ремарок: «нечаянно», «едва не опрокинув». «Думаю, что это полумера. Пусть лучше канделябр упадет и разобьется», — намечал он в mise en scène (I. 12 : 427).
В спектакле канделябр падал и разбивался. Расходившийся купчина не мог унять своей хамской удали.
«— Музыка, играй отчетливо! Пускай все, как я желаю!
Грохнул вазу и, уходя, небрежно, с высоты своего денежномешкового величия:
— За все могу заплатить!» — описывал «взрыв до времени укрощаемых вулканических сил» Лопахина зритель конца 1920-х43.
Озлившийся Лопахин пьяного дебоша терял весь свой артистизм и входил в экстаз, демонстрируя необузданность и купеческое самодурство. Все свои желчные слова победителя Лопахин режиссерского плана Станиславского остервенело бросал в лицо несчастной Раневской, лишившейся дома, не зная ни пощады, ни жалости к ней.
Станиславский настаивал на резкости купца и всей сцены, как он настаивал на «резком реализме» сцены Аркадиной и Треплева в третьем акте «Чайки». Он по-прежнему не боялся «резкого реализма» в Чехове, окунаясь в житейскую реальность, стоявшую за пьесой. И Немирович-Данченко поддерживал это решение роли, считал, что нельзя играть Лопахина «наполовину» (III. 5 : 355).
Побушевав хамом, «хищным зверем», Лопахин у Станиславского должен был подойти к Раневской, плюхнуться перед ней на колени и целовать ее руки, платье, «как собачонка». «Раневская обнимает его, и они оба плачут» (I. 12 : 425). Отклонившись от Чехова, он как бы возвращался к нему в финале третьего акта. Чехов заканчивал третий акт лирической 112 сценой: «тихой музыкой» и горьким плачем Раневской и Ани, опустившейся перед матерью на колени.
Но в режиссерском плане Станиславского и финальная точка резче, он не мог примириться даже с угомонившимся у Чехова дебоширом. Его точка — топотание, кабак, выкрики танцующих, биллиардный азарт с участием возбужденных Гаева, Яши и Епиходова, сломавшего кий. Слышен голос разгулявшегося, торжествующего Лопахина и бодрый голос Ани: «Мы насадим новый сад!» И с потолка на пустую сцену срывался кусок штукатурки и рассыпался на полу. Старый гаевский дом, купленный Лопахиным, разрушался буквально.
Так было, по крайней мере, на бумаге, вклеенной Станиславским в его рабочий экземпляр чеховской пьесы для сочинения mise en scène.
Станиславский искренно воздавал Чехову комплименты за «Вишневый сад», за все роли в пьесе, вплоть до Шарлотты, которую ему тоже хотелось играть — так совершенна и она. Он даже перебарщивал с комплиментами, чего Чехов не переносил.
Но он делал все возможное, чтобы не играть Лопахина: отговаривался от Лопахина занятостью режиссурой; собирался репетировать и Лопахина и Гаева одновременно, чтобы не обидеть отказом Чехова. Не мог разделить чеховской симпатии к купцу и не хотел возрождать купца в себе даже на сцене. Он не любил в себе то, с чем боролся и что из себя выдавил.
Он выбрал для себя роль барина, потомственного дворянина Гаева, а не купца. И Лилина, и Книппер, поддерживая выбор Станиславского, внушали Чехову, что Станиславский будет идеальным Гаевым, а не идеальным Лопахиным.
На роль Лопахина вместо Станиславского театр предлагал Чехову на выбор несколько кандидатур.
То Лужского — он часто дублировал Станиславского и только что заменил его в ненавистном Бруте в «Юлии Цезаре».
То Леонидова. Он «высокий, здоровый, голосистый», — писала Чехову жена (IV. 4 : 316).
Примеривали роль к Грибунину. Он, «если бы развернулся посочнее в третьем акте», дал бы «русского купца. Играл бы мягко», — считала Книппер-Чехова (там же).
«Посочнее…»
Образ купца старой формации прочно застрял в представлениях художественников. Чехов никого не переубедил.
Но вслед за Чеховым и Книппер-Чехова, и Станиславский, и Немирович-Данченко понимали, что Лопахин и Трофимов — явления чисто русские. Чехов был уверен, что «Вишневый сад» в Германии, например, не будет иметь успеха: «Там нет […] ни Лопахиных, ни студентов à la Трофимов» (II. 14 : 55). Он сознавал уникальность исторического опыта 113 России, отразившегося в «Вишневом саде» и его фигурах — «Для чего переводить мою пьесу на французский язык? Ведь это дико, французы ничего не поймут из Ермолая, из продажи имения и только будут скучать» (II. 13 : 284).
Всплывало для исполнения роли Лопахина и имя Вишневского. Александр Леонидович был непременным участником всех чеховских спектаклей в Художественном. Но Станиславский решительно отвел его кандидатуру: Вишневский для Лопахина не подходит «ни с какой стороны», и прежде всего потому, что в нем нет «ничего русского», — объяснял он Чехову (I. 8 : 513).
Немирович-Данченко вторил Станиславскому: Вишневский хочет играть Лопахина, но это совершенно невозможно — «Не русский!» Невозможность такого назначения он подчеркивал восклицательным знаком (III. 5 : 346).
Станиславский отстаивал на Лопахина Леонидова, перешедшего в МХТ от Корша: «Он сам мягкий и нежный по природе, крупная фигура, хороший темперамент […] Он хоть и несомненный еврей, но на сцене больше русский человек, чем Александр Леонидович», — убеждал Станиславский Чехова, отдавая предпочтение еврею Леонидову перед евреем Вишневским и всеми остальными актерами славянской внешности, претендовавшими на роль чеховского купца Ермолая Алексеевича Лопахина (I. 8 : 514).
Чехов Леонидова как актера не знал, но не национальность, а коршевская школа актера, о которой писал ему Станиславский, — непростота на сцене, «актерщина в тоне» — его настораживали. «Лужский будет в этой роли холодным иностранцем, Леонидов сделает кулачка», — откликался Чехов на письма из Москвы, примеривая сложившуюся в его сознании фигуру Леонидова к роли Лопахина. И просил Станиславского, если он сам не возьмется за Лопахина, все же отдать роль Вишневскому (II. 13 : 291).
Лужского из списка претендентов на роль купца он исключал.
Для Лужского он писал Епиходова.
Актер удачно играл в его пьесах возрастные роли. В первой редакции «Вишневого сада» Епиходов был пожилым слугой. Мог Лужский и «сбалаганить», если бы схватил характерность Епиходова. Смешной капустнический шарж на Егора Андреевича Говердовского, которого Лужский знал, тоже годился.
Если Вишневский получал Лопахина, то Леонидов перемещался в таком раскладе на роль Яши.
«Это будет не художественный Лопахин, но зато не мелкий», — писал Чехов о Вишневском, хлопоча за Вишневского, которого — он это знал, наблюдал — любили дамы (II. 13 : 291). «Кулачка», которого бы не 114 полюбила Варя, воспитанная в доме Раневской и Гаева, он не хотел в роли Лопахина больше всего.
И вообще он был расположен к Вишневскому, спасшему его с женой в тяжелую для них весну 1902-го. Он знал, как бредил Вишневский ролью Гаева, еще «однорукого барина». Как учился на его глазах «ходить без руки». Как ждал он «Вишневый сад» еще в прошлом сезоне, открывшемся на новой сцене в Камергерском «Мещанами» и «На дне». Репертуаром, кренившимся, как говорили в конце XX века, в чернуху. «Алексеев и Немирович на дне, а мы все на нарах. Поправляйтесь скорее, соберитесь с духом и энергией и вытащите мещан из власти тьмы в какую-нибудь чеховскую обитель, а то мы все так закоптели и заплесневели, что из Тюрби придется ехать на Хитровку, ибо с порядочными-то людьми мы разучимся разговаривать», — писал Вишневский Чехову осенью 1902-го (II. 1. К. 39. Ед. хр. 9б: 28 об.). Все еще бессемейный, увешанный поклонницами, Вишневский жил в меблированных комнатах Тюрби, а на Хитровом рынке размещались ночлежные дома, куда осенью 1902 года водил художественников, репетировавших горьковское «Дно», Гиляровский.
И через год, летом 1903 года Вишневский из стаховического имения Пальна напоминал Чехову о заветной мечте — сыграть Гаева. Он не расставался с надеждами на эту роль, зазывая Чеховых из наро-фоминского имения Якунчиковых в «чеховский флигель» Пальны заканчивать «Вишневый сад». Чехов так и не собрался к Стаховичу.
Обмануть светлые надежды Вишневского, этого светлого человека, Чехов не хотел. В конце сентября 1903 года он передавал через жену, чтобы он «набирался мягкости и изящества для роли в моей пьесе» (II. 13 : 254). И когда посылал рукопись пьесы в театр, роль Гаева оставлял за Вишневским. Станиславский — Лопахин, Вишневский — Гаев. Тут у него не было сомнений. «Я написал для него роль, только боюсь, что после Антония эта роль, сделанная Антоном, покажется ему неизящной, угловатой. Впрочем, играть он будет аристократа», — шутил Чехов (II. 13 : 271). И просил Вишневского помочь ему — уточнить у игроков биллиардные термины, в которых сам, не игрок, был не силен (II. 13 : 273).
Если «Вишневский не будет играть Гаева, то что же в моей пьесе он будет играть?» — беспокоился автор (II. 13 : 284).
Но Гаева выбрал Станиславский. На Вишневского в Лопахине театр не соглашался. И Вишневский остался без роли. Это был для него страшный удар, и если бы не успех в Антонии в «Юлии Цезаре», облегчавший его страдания, он ревьмя ревел бы каждый день, — читал Чехов в письме к нему артиста, изливавшего перед ним свою «наболевшую» душу (II. 13 : 618). «От Вишневского остался один дрожащий нерв», — писала Чехову жена (II. 13 : 620).
115 А как ему нравился «Вишневый сад»! Он писал Чехову, прочитав его в рукописи: «Это так же хорошо, как все у Чехова. Пьеса вся окутана таким мягким, благородным тоном, который только у одного Чехова. Это не пьеса, а самые дорогие кружева, название которых я забыл». Он уверял Чехова, что «наш театр» сделает все возможное, чтобы справиться с этой «самой трудной по исполнению чеховской вещью». «Тем более, что охранять Ваши литературные права будет Владимир Иванович», — Вишневский не сомневался, что все будет так, как хочет автор (II. 1. К. 39. Ед. хр. 9б: 28 об.).
Иначе, казалось, и не могло быть.
Роль Лопахина после всех переговоров и согласований получил Леонидов.
На репетициях Леонидову было труднее остальных актеров, хотя и актерам — основателям Художественного — было не просто. Леонидов первый сезон работал в театре и впервые столкнулся со Станиславским. Ольга Леонардовна шутила: Станиславский Леонидова «окрещивает». Что означало: посвящает бывшего коршевского премьера в новую театральную веру. Подчиняя актера ансамблю, требуя от него самоограничения, Станиславский, когда бывал «в запале», «в выражениях не стеснялся». «Это вам не Корш!» — кричал он из партера, недовольный Леонидовым, и не раз. «Когда я начинал жестикулировать, причем сжимал руку в кулак, раздавалось: “Уберите кулак. А то я вам привяжу руку!” А если я кричал, по пьесе, он цитировал слова Аркашки из “Леса”: “Нынче оралы не в моде”», — вспоминал Леонидов44.
Чехов, когда приехал в Москву, был свидетелем того, как неделикатно вел себя Станиславский, и деликатно пытался помочь артисту убрать в Лопахине купца — замызганного крикуна в мужицкой рубахе и смазных сапогах, Лопахина режиссерского плана Станиславского. Однажды он подошел к артисту после репетиции второго действия и тихо сказал ему: «Послушайте, он не кричит, — у него же желтые башмаки», — записал Качалов (II. 1. К. 66. Ед. хр. 136 : 8). Желтые башмаки были в то время символом богатства. Книппер-Чехова, присутствовавшая при этом и не зафиксировавшая желтых башмаков, схватила эту чеховскую реплику как ее смысл: «Вы же купец, и он богат, а богатые не кричат»45.
Леонидов играл в рисунке, намеченном Станиславским. «Размахивает руками», «широко шагает», «во время ходьбы думает, ходит по одной линии», «часто вскидывает головой», «курит, иногда сплевывает», «папироса в зубах, щурится от дыма», — помечал Леонидов в тексте роли. В четвертом акте его Лопахин «пил шампанское и болтал ногами», хватал Петю за пальто в диалоге с ним, «разминал руки». По всей линии роли Леонидов акцентировал развязность дикого, нецивилизованного кунца-мужика, как просил Станиславский46.
116 В Лопахине молодого Леонидова не было личностного масштаба цивилизованных купцов: Станиславского, Морозова, Третьяковых. Артист давал «кулака», «мужика», «плебея», подчиняясь режиссеру. Покупая в азарте торгов «Вишневый сад», он совершал выгодную сделку. Иначе он не был бы дельцом. «Вишневый сад теперь мой. Мой!» — Лопахин Леонидова произносил с угрозой, запугивая невидимого противника на торгах. И ликовал, не замечая, что больно ранит Раневскую. К концу монолога третьего акта его агрессия нарастала. Он все шире размахивал руками, все быстрее двигался по одной линии, сбивая всех на пути, в его могучем голосе прорывались пьяные, визгливые ноты: «Музыка, играй отчетливо! Пускай все, как я желаю!»
«Г. Леонидов в роли Ермолая Алексеевича Лопахина […] был вполне на месте, — писали “Московские ведомости”. — Его богатые голосовые средства, мощная фигура и широкие размахи давали ему полную возможность поставить перед зрителями монументально-стильную фигуру человека, в котором под поверхностным налетом внешней культурности живет какой-то полутитан-полудикарь»47.
«Сквозь гордость и жесткость льются слезы, пьяные, но искренние», — заметили «Новости дня»48.
«И силищей кулака, но и дрожью задетых нежных душевных струп веет от исполнения Леонидова», — писал после премьеры Дорошевич49. В другой статье, после смерти Чехова, Дорошевич свидетельствовал о том, что Чехов был недоволен исполнением Леонидова: «Грубо, грубо! Ничего подобного я не воображал себе, когда писал», — будто бы говорил Дорошевичу автор50. Может быть, говорил. И критик московского «Русского листка», подписавшийся псевдонимом Эмпе, находил, что сцену пьяной меланхолии Лопахина Леонидов, вопреки воле драматурга, играет слишком резко.
А Кугелю, как и Станиславскому, казалось, что разное, заложенное в Лопахине, несводимо в один характер. Кугеля удивляло отсутствие логики в пьесе Чехова и противоречия в роли Лопахина у Леонидова: этот русский американец впадал во втором акте в чужой — вершининский тон в монологе о людях-великанах, которые должны жить посреди дивной красоты; хмельной от власти и накачанный коньяком, произносил хамский монолог, «едва сдерживая радость»; и вдруг чуть ли не со слезами оказывался у йог Раневской.
Самому актеру, как-то затащившему автора после репетиции к себе в гримуборную, Чехов сказал: «Послушайте, теперь же совсем хорошо» (V. 12 : 463). Леонидов был счастлив, приняв эти слова за безусловное одобрение.
Остальные роли в «Вишневом саде» решением правления театра разошлись так: Раневская — Книппер-Чехова, Шарлотта — Муратова, Варя — Андреева, Аня — Лилина, Петя Трофимов — Качалов, Яша — 117 Александров, Фирс — Артем. Качалов, Грибунин — Симеонов-Пищик и Артем получили те роли, которые писал для них Чехов.
Чехов безропотно подчинился коллективному решению.
Против Станиславского — Гаева не возражал, оставляя за ним право выбора. А назначению Москвина искренне радовался: «Выйдет великолепный Епиходов» (II. 13 : 293). Через тридцать с лишним лет, во время гастролей Художественного театра в Таганроге, на родине Чехова, Москвин вспоминал о назначении его на роль Епиходова: «Мне особенно в памяти остался следующий наш разговор, В пьесе “Вишневый сад” я должен был играть по желанию Чехова лакея Яшу. Театр нашел нужным дать мне Епиходова. Когда Антон Павлович об этом узнал, сказал: “Если бы я раньше знал, дал бы Вам больше слов”. И уже в ходе репетиций во втором действии приписал специально для меня небольшой монолог»51.
Когда рукопись «Вишневого сада» готовилась к печати, Чехов авторизовал в этом монологе некоторые словечки Москвина. Тот, импровизируя на сцене, сочинил их для роли Епиходова. Он так сжился со своим конторщиком, что мог говорить за него. Вот и в 1914 году, когда на сцене Художественного театра «Вишневый сад» шел в юбилейный, двухсотый раз, а Москвин по болезни не мог принять в нем участие — вместо него играл М. А. Чехов, — Иван Михайлович прислал своим многолетним партнерам по спектаклю такую приветственную телеграмму: «Сегодня мороз в три градуса, а у вас в 200-й раз неувядаемая дивная “вишенья” вся в цвету. Это “приводит меня в состояние духа”, но “судьба относится ко мне без сожаления”. “Я не могу способствовать” “в самый раз”, но я не ропщу, “привык, что даже улыбаюсь”. Вы прекрасно знаете, для чего я все это говорю»52.
Против желания Книппер играть Раневскую Чехов был бессилен. Отговаривая и жену, и Комиссаржевскую, просившую у него Раневскую, он настойчиво повторял, что Раневская стара, старуха для актрис на роли героинь. Но тщетно.
Немирович-Данченко считал, что Чехов не назначил на главную роль жену «из понятного чувства деликатности» (III. 3 : 105).
«Улыбаюсь, вспоминая сейчас, как Антон Павлович писал мне, что в новой пьесе буду я играть… дурочку; речь шла о Варе в “Вишневом саде”. Почему-то не видел и не представлял он меня в Раневской», — вспоминала Ольга Леонардовна в самом конце жизни, в 1950-х53. О том, что он готовил ей роль «дуры», «доброй дуры», он писал Ольге Леонардовне в феврале 1903 года (II. 9 : 159).
В роли Раневской Чехов действительно ее не представлял. И дело не только в его деликатности и в годах жены.
Он любовался женщинами грешными, прошедшими через многие романы. «Люблю смотреть на женщину, которую много любили. 118 Такая женщина похожа на Иверскую. Так же много вокруг нее надежд, слез, очарований», — записал признание Чехова Вишневский (II. 1. К. 66. Ед. хр. 136 : 1 об.).
Знаток и теоретик «женского вопроса» в России и в русском литературном романе эстет Аким Волынский называл подобных безгрешных грешниц, которых много любили и которые много любили, — амуретками.
Чехов любовался амуретками: женщинами иррациональными и наивными, легко вступавшими в романы и легко выходившими из них, — женщинами «легкими», «беспечно-безответственными», в терминологии Волынского. И избегал евреек и интеллектуалок — «сильных» женщин. В юности обжегся на Дуне Эфрос, на первой своей невесте, в замужестве Коновицер. Она стала прообразом Сарры в «Иванове». Он в том романе так измучился, так надорвался, что привел Иванова к самоубийству. «Вот женщины, с которыми не приходится шутить», — характеризовал этот женский тип Волынский54.
Чехов написал Раневскую легкой, пленительно-неуловимой, непредсказуемой в перепадах настроения, в переходах от веселости к предощущению беды и снова к веселости — с налетом грусти. Только с налетом. Грусть мгновенно испарялась в соседстве с природной безалаберностью этих женщин, их беззаботностью и немотивированной надеждой на русское «авось».
Чехов написал Раневскую совершенно не укорененной ни в семье родительской — с древними корнями, ни в собственной семье — с двумя детьми, ни в каком-нибудь постоянном месте жительства, пусть это и дом ее детства — имение родителей «Вишневый сад». «Вишневый сад» для чеховской Раневской — некий образ, представление ее самой о себе — идеальной, бесплотной, безгрешной во плоти. Полувоздушной.
Амуретка Раневская была для Чехова антиподом евреек и интеллектуалок, антиподом «тяжелых», сильных женщин, не кидавшихся завороженно в любовный омут, а выбиравших, строивших свою судьбу. Сильной была его Аркадина, подчинившая себе столичного писателя. Сильной была Елена Андреевна Серебрякова, поборовшая любовное чувство к Астрову своей верностью супружескому долгу, соблюдавшая нравственный закон, ею над собой поставленный.
И все же, убегая от женщин «не безответственных», Чехов тянулся к ним. Им — сдавался, как Тригорин — Аркадиной, перед ними пасовал.
И Аркадина, и Елена Андреевна удались Книппер-Чеховой. Она передала им обеим свою природную жизненно-женскую силу. Именно силу, нравственный контроль, интеллигентное, рациональное начало, столь же определенное в ее чеховских и других ролях, как и их чувственность.
119 Разбуженная, раскрепощенная чувственность отличала чеховских женщин от тех, которых играли Федотова и Ермолова в Малом театре. Те были цельные. Ермолова признавалась, что чеховские роли Книппер в Художественном театре ей не по плечу. Премьерше Малого, чьи героини бескомпромиссно отстаивали высокое чувство единственной любви, выпавшей на их жизнь, им ниспосланной, даже двойственность персонажа была неподвластна.
Буржуазное общество рубежа веков настороженно относилось к амуреткам, не преображенным литературой. К ним относили актрис, менявших спутников жизни. Они ломали стереотипы буржуазной морали. Интеллигентная семья Ольги Леонардовны именно поэтому долго удерживала свою единственную дочь от сцены, развращавшей, как считалось, женские нравы.
Чеховские и горьковские женщины Книппер раннего Художественного театра ввергали поклонников Ермоловой и чопорного зрителя Санкт-Петербурга в шок своей откровенной чувственностью.
«Приживалка, компаньонка матери Ольги Леонардовны, профессорши Филармонического училища, посмотревшая Олечку в роли Аркадиной, была потрясена увиденным, — вспоминала в 1938 году Т. Л. Щепкина-Куперник. Она записала ее причитания и дала свои комментарии к ним: “На что мы Оленьку растили, на что воспитывали. На сцене, при всем честном народе, у мужчины в ногах валяется, руки ему целует. Срам-то, срам-то какой!” — говорила она со слезами на глазах, вернувшись домой с “Чайки”. С тех пор, как ее ни уговаривали, она в театр не ходила. И хорошо делала. Что бы с ней сталось, если бы она увидела Оленьку в роли Насти в “На дне” Горького. Эту фигуру вообще нельзя забыть. Теперь другие “Насти” иногда румянятся, надевают какие-то бантики. Но Ольга Леонардовна играла эту роль по указанию Горького, который говорил ей: “У нее ведь ничего нет. Она — голый человек. Ей нечем нарумяниться, и никакой цветной тряпочки у нее нет: все прожито, все пропито”. И это отрепье, сквозь которое просвечивало тело, производило, конечно, больше впечатления, чем бантики и румяна»55.
Но чувственность до-Раневских женщин Ольги Леонардовны отнюдь не была на уровне бессознательного, амуреточного, «самочьего греха», как, допустим, в жизни настоящей амуретки в купеческом варианте — А. С. Штекер, одной из пра-Раневских Чехова. Чувственность в до-раневских героинях Книппер бушевала «в рамках», управляемая рацио. Ольга Леонардовна не давала ей выплеснуться с «самочьей откровенностью». Все это терминология начала XX века. Интеллигентная, «рамочная» умеренность в женских ролях шла и от самой Ольги Леонардовны, от ее нравственных центров, от ее воспитания не в семье патриархальных купцов Алексеевых, в атмосфере вседозволенности, взраставшей 120 порочную Анну Сергеевну Штекер, а в интеллигентной семье инженера и профессорши. И от сознательного подчинения актера Художественного театра ансамблевому исполнению спектакля, проживанию куска жизни роли, воспроизводимому сценой, с пониманием всех внутренних связей между действующими лицами, подрезавших, ограничивавших сценическую свободу каждого.
Кугель, сторонник обнаженного актерского «нутра» на сцене, и нутра женского, не сдерживаемого никакими режиссерскими схемами, писал о слабом сценическом темпераменте Книппер. Он постоянно в своих статьях говорил о бледности, неяркости драматического дарования Ольги Леонардовны, отказываясь видеть в ней большую актрису. «Я к этому привыкла», — реагировала она на очередные пассажи критика в ее адрес. И в адрес других актрис и актеров интеллигентной московской труппы, отказавшихся от бесконтрольных нутряных выплесков на сцене.
Ольга Леонардовна не была безответственной ни на сцене, ни в жизни, но могла быть легкой, «милой актрисулей». Не похожая на Анну Сергеевну Штекер, чья жизнь вышла «живой хронологией», а не хронологией ролей, как у нее, могла отмахнуться от неприятного так хорошо всем знакомым: «Глупости какие». Благоухавшая духами, шелестевшая шелковыми юбками, могла упорхнуть на вечеринку или в ресторан с принаряженным Немировичем-Данченко и вернуться под утро, когда муж лежал в кабинете, прикованный к постели болезнью, уже предсмертной.
Чехов сам не любил, когда она кисла, хандрила. Или когда сидела у его постели. Не хотел быть при ней — больным. Может быть, Ольга Леонардовна, следуя морали мужа, делала вид, что весела. Многих обманывал ее нрав, видевшийся со стороны легким, беспечным. На самом деле, подверженная интеллигентской рефлексии, она отнюдь не порхала. Чехов это знал.
Она стремилась «быть терпимой к слабостям» своей героини. «Слабость не порок», — оправдывала Ольга Леонардовна грешную Раневскую, которую у Чехова много любили и которая беспорядочно любила, признаваясь в этом на склоне лет, в советское время. Но на этом иррационально-порочная чеховская Раневская кончалась.
Может быть, потому Чехов и не видел жену в Раневской, абсолютно лишенной у него рассудочности. Он предупреждал «милую актрисулю», все же вырвавшую желанную роль, что надо освободить Раневскую от переживаний и найти в роли легкость — в нелегкой и фактически безысходной ситуации.
Самое важное в Раневской — ее улыбка, ее смех, — говорил автор.
Станиславский своей актерской интуицией чувствовал иррациональность Раневской, ее способность веселиться сквозь меланхолию. 121 Он чувствовал в ней эту чеховскую двойственность. Только в сплаве смеха и слез, в незаметном перетекании одного в другое могло родиться на сцене ощущение легкости Раневской.
Станиславский эту легкость в режиссерском плане роли выстраивал.
В Париже Раневская страдала, но и весело жила, — записывал он.
Впервые войдя в дом после возвращения из-за границы, она у Станиславского радовалась и плакала одновременно при виде каждой комнаты и вещи. Радуясь, вскакивала на диван с ногами и спрыгивала, мечась по комнате: «Я не могу усидеть, не в состоянии… Я не переживу этой радости». И тут нее, уткнувшись в шкаф, — «шкафик мой» — всхлипывала.
Она так умела погрузиться в свое прошлое, в детство, полное счастья, и, перевесившись через окно, так живо видела покойную мать прогуливающейся по саду, что Варя думала, будто барыня больна и у нее галлюцинации. И тут же, устало проведя рукой по лицу, успокоившись, Раневская фантазии Станиславского легко входила и другое настроение, чуть ли не шаловливое.
И во втором акте подобные перепады решали роль.
Отмахнувшись от серьезных тем, она беспечно бросалась в стог сена, смеясь, наслаждаясь этим полетом, доводя настырного Лопахина до отчаяния. И вдруг, ни с того ни с сего, пугалась, моля Лопахина со слезами в голосе, чтобы он не уходил: «Не уходите […] голубчик […] С вами все-таки веселее… Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом» (II. 3 : 219).
В сцене бала Раневская пребывала в состоянии нервной взвинченности. «Не то смеется, не то плачет. Или, вернее, проделывает и то, и другое одновременно», — помечал Станиславский в режиссерском плане (I. 12 : 307).
«Побольше кокотистости», — просил он Книппер-Чехову, подменяя тип эстетской амурстки на понятную ему пленительную кокотку.
Ему нравилась легкость, искренность его сестер, свободных в чувстве. В искренности, не замутненной рацио, он не находил греха. В чеховском Пете нет чистоты, он «чистюлька», потому что не умеет чувствовать, а только рассуждает о «высоте» чувства: «Мы выше любви».
Станиславский симпатизировал Раневской и не симпатизировал Пете.
Он предлагал Ольге Леонардовне найти в пластике Раневской «шикарные» и непринужденные позы и «пикантные» и «очаровательные» па. Перед его глазами стояли сестры.
Заслышав еврейский оркестр, заигравший французскую шансонетку, она откликалась ему, подпевая и подтанцовывая.
122 Она могла распускаться до неприкрытой кокотистости — и у нее мог быть виноватый вид, «точно она только что набедокурила» (I. 12 : 401).
Она могла быть беспечной, непрактичной, терять кошелек, сорить деньгами — и могла быть небескорыстной. Что совсем неожиданно для Раневской — Чехова, которая, казалось, жила одной минутой, не задумываясь о будущем, не умея извлекать для него пользы.
Больше того, Станиславский подозревал, что, подбивая Варю на замужество, она видит в том свое спасение: «Раневская делает это очень деликатно, понимая щекотливость положения», — пишет Станиславский в режиссерском плане (I. 12 : 393).
Из-за фигуры утонченной русской барыни Раневской, одетой в модные французские платья, сотканной из мимолетностей, выглянула на миг — в представлении Станиславского, — мелькнув, расчетливая купчиха, похожая если не на Елизавету Васильевну и Нюшу, абсолютно бескорыстных, то на женщин мира сего, среди которых он жил и которых знал. И тут же исчезла.
Вряд ли этой краской пользовался Чехов.
Впрочем, кто знает?
Но нет, у Чехова: уже сложены вещи и запряжены лошади. До отъезда остались минуты. Все решено. Спасение Раневской в данный момент — Париж, а не брак Вари с Лопахиным, оставляющий «Вишневый сад» в семье. Дальше Парижа Раневская у Чехова не думает. Конечно, замужество Вари уже ничего не изменит. Это вопрос личного счастья Вари. Но если оно состоится, Раневская сможет вернуться в свой дом, где хозяйка — ее приемная дочь?
Книппер, выслушивая и автора, и режиссера, все делала по-своему. Как умела. Сосредоточивалась на переживаниях Раневской, на ее драме, на ее слезах, словно бы подставляя роль под упреки Чехова и определение Горького: «слезоточивая Раневская» (II. 16 : 138). Ольгу Леонардовну беспокоило, что на репетициях у нее «нет слез». Немирович-Данченко предостерегал ученицу от такого нечеховского подхода к роли — в приватных беседах с ней, в записочках, когда казалось, что на репетициях что-то недоговорено, упущено. Он предлагал Ольге Леонардовне помнить о контрастах в натуре Раневской: Париж, внешняя легкость, грациозность, brio всего тона роли — и «Вишневый сад», серьез, когда нужно снять и «смешки», и веселость. «Драма будет в контрасте, о котором я говорю, а не в слезах, которые вовсе не доходят до публики», — писал Немирович-Данченко Ольге Леонардовне накануне премьеры, убеждая ее уходить от жалости к себе и Раневской и больше думать о том, «кто она, что она», как и во всякой роли, чем доводить себя до слез (III. 5 : 354).
123 Но Ольга Леонардовна в тот репетиционный период «Вишневого сада» так и не нашла в роли ни улыбки, ни смеха. Подарив Раневской свой беспечный или казавшийся беспечным нрав, нашла ее слезы.
И не сумела сдержать их.
Это были ее собственные слезы.
Может быть, она развлекалась с Немировичем-Данченко чуть больше, чем позволяла ситуация.
Может быть.
Чехов умирал. Умирал в Москве, когда репетировали «Вишневый сад». Умирал, и когда, одинокий, больной, жил в Ялте, а она играла в своем Художественном, срывая аплодисменты, наслаждаясь вниманием к себе и успехом. И некому было поглядеть за ним и вовремя дать лекарство — как парижскому любовнику Раневской.
Не автограф ли это Чехова?
Ольга Леонардовна не могла сдержать на сцене слез жалости к себе, к нему, к Раневской, когда Раневская каялась. Ведь и она, Книппер-Чехова, почти так же каялась перед Чеховым: «Я ужасная свинья перед тобой. Какая я тебе жена? […] Я очень легкомысленно поступила по отношению к тебе, к такому человеку, как ты […] Прости меня, дорогой мой. Мне очень скверно. Сяду в вагон и буду реветь», — писала она Чехову с дороги из Ялты в Москву, когда в очередной раз уезжала от него играть, блистать в Художественном, оставляя его одного (IV. 4 : 241). И потом из Москвы в Ялту летело ее раскаяние: «Как это ты там один живешь? Господи, Господи, прости мне грехи мои, — скажу вместе с Раневской» (II. 1. К. 77. Ед. хр. 51 : 8 об.).
И неизвестно, кто с кого списал эту реплику.
Она плакала своими слезами в спектакле, когда Раневская получала и рвала телеграммы из Франции, как будто читала чеховские письма из Ялты, или когда Раневская признавалась Пете — нашла кому, этому «чистюльке», — что не может жить без своего далекого друга, обиды которого забыла, которого простила и вина перед которым ей так невыносимо тяжела.
Опасаясь подобных страданий, предвидя их, Чехов хотел, чтобы Ольга Леонардовна играла Шарлотту, «лучшую» роль в его пьесе, как считал он сам. Ради нес он и сделал, наверное, Шарлотту не англичанкой, как Лили Глассби, прообраз Шарлотты — по Станиславскому, а немкой. Как в «Трех сестрах» он сделал обрусевшим немецким бароном своего Тузенбаха, предназначая роль Мейерхольду, выходцу из обрусевших немецких евреев. Иногда он ласково называл жену «немецкой лошадкой».
К тому же Шарлоттой Ивановной, кажется, звали кого-то из родственниц Ольги Леонардовны. Тут была зашифрована какая-то домашняя игра.
124 «Это роль г-жи Книппер», — писал Чехов Немировичу-Данченко, обсуждая с ним распределение ролей (II. 13 : 293).
Шарлотта — «самая удивительная и самая трудная роль», — соглашалась с мужем Книппер (IV. 4 : 310).
И Станиславский находил Шарлотту «милой».
Шарлотта должна быть смешной, но ни в коем случае не претенциозной, — разъяснял Чехов, — и играть ее должна актриса с юмором. Он вспоминал юмор Лили, ее любимовские шутки в дуэте с ним.
Ольга Леонардовна в жизни обладала несомненным юмором.
Г-жа Книппер — идеальная Шарлотта, — повторял Чехов с той же настойчивостью, как и то, что Станиславский — идеальный Лопахин И Немирович-Данченко поддерживал автора: «Шарлотта — идеальная — Ольга Леонардовна» (III. 5 : 345). Хотя, пожалуй, юмора Книппер-Чеховой на сцене не доставало, а вот плакала она, и плакала «всласть», давая роли мелодраматический акцент, частенько, с чем Немирович-Данченко безуспешно боролся. Он, очевидно, лукавил, поддакивая Чехову, и Чехов знал, что его приятель и доверенное лицо в театре раздаст роли, исходя из «внутридворцовых» интересов.
Впрочем: «Я очень хорошо понимал, что Раневскую должна играть Книппер, а он настаивал на своем», на Книппер — Шарлотте, — вспоминал Немирович-Данченко в 1929 году (III. 3 : 105).
Чехов стремился в Москву уже не как три сестры Прозоровы, а как один муж. Это его шутка. А жену, с которой приходилось жить по переписке, ласково называл «каракуля моя». Он сидел в своей Ялте, ожидая у осеннего Черного моря показанной его нездоровью московской погоды. Ждал, когда грянут морозы. А морозов не было до декабря. И роли распределялись без него. Ему приходилось лишь телеграфировать согласие с решениями правления, о которых сообщал ему Немирович-Данченко. Приходилось входить в ситуацию. Он уважал внутритеатральную демократию.
Книппер вцепилась в Раневскую. И не выпустила ее.
Ей хотелось играть «изящную» роль, «рассыпать чеховский жемчуг перед публикой», «плести кружево тончайшей психологии людской» (IV. 4 : 286). «Отчего тебе особенно улыбается роль гувернантки? Не понимаю», — спрашивала она автора (там же: 290). Она действительно не понимала Шарлотту так, как понимал ее Чехов.
История с выбором актрисы на роль Шарлотты аналогична той, что складывалась в Художественном вокруг Лопахина.
Ольга Леонардовна отказывала клоунессе Шарлотте в изяществе, в психологических кружевах. Ее смущала артистичная хрупкость Лилиной, претендовавшей на роль Шарлотты, когда выяснилось, что Книппер назначена на Раневскую. Лилина, как сообщал Чехову Станиславский, нашла для Шарлотты прекрасный тон, и он собирался «привить» 125 его Муратовой, на которую в итоге пал выбор театра. А Чехов и сам думал о Лилиной — Шарлотте, когда встал вопрос об оптимальной исполнительнице этой роли: «Что она хрупка, мала ростом — это не беда», — ведь это был тип психофизики Лили (II. 13 : 289). Кто, кто у меня будет играть гувернантку, кроме Лилиной — некому, беспокоился он, уступив жене Раневскую. Хотя Станиславский, запамятовав, утверждал впоследствии, что Чехов «требовал, чтоб была высокая немка, непременно Муратова, не Лилина, не Помялова» (I. 14 : 19).
Впрочем, Чехов мог говорить и то и другое.
Муратова, получившая Шарлотту, была счастлива. Она репетировала «с глупой, блаженной улыбкой на устах». Шутя говорила, что согласилась бы сыграть внесценический персонаж — роль матери Яши, которую не пустили дальше кухни. А ей досталась роль, которую автор считал «лучшей».
Лили была маленькой, женственной. Муратова — высокой, угловатой.
Лили заплетала свои длинные волосы в две тугие косы, если верить мемуарам Станиславского. Муратова спросила Чехова, молено ли ей играть Шарлотту с короткими волосами? «После длинной паузы он сказал очень успокаивающе: “Можно”. И, немножко помолчав, так же ласково прибавил: “Только не нужно”», — записала Муратова (II. 1. К. 66. Ед. хр. 136 : 8). И на ее вопрос, можно ли надеть зеленый галстук, тоже ответил: «Можно, но не нужно». Это запомнил Леонидов (V. 12 : 463).
В спектакле Станиславского Шарлотта, веселясь от души, должна была развлекать гостей на балу у Раневской и зрителей Художественного театра, удовлетворяя требованию автора — комедийности «Вишневого сада». Станиславский ставил ее роль как гастрольную, в духе эксцентрической клоунады, рассчитанной на смех публики или даже хохот. И если Книппер-Чехова, репетируя Раневскую, ходила в консерваторию и заставляла звучать в своей душе струны, созвучные квартетной музыке Чайковского, то Муратова бегала в цирк подсматривать за повадками клоунесс и училась говорить не на чистом русском языке, путая лишь род прилагательного, как просил Чехов, а на каком-то иностранно-клоунском жаргоне. На репетициях, смешная в общежитии и тем приглянувшаяся Чехову, она все время жонглировала, тренировала фокусы, «salto mortale и разные штучки», и номера с воображаемой собачкой из репертуара коверного, стремясь всех смешить.
За собачку Шарлотты, стараясь «во всю мочь», лаял за сценой генерал Стахович.
Муратова и Стахович с удовольствием подчинялись диктату Станиславского, исполняя его волю. И фокусы Шарлотты, и проход ее в 4-м акте 126 через всю сцену с собачонкой на длинной ленте вызывали смех в зрительном зале.
«Ах, если бы в Москве не Муратова, не Леонидов, не Артем! Ведь Артем играет прескверно, я только помалкивал», — признавался Чехов после премьеры (II. 14 : 49). А роль Фирса он писал для Артема.
«Фирс совсем не тот», — считал и Мейерхольд (V. 16 : 45).
Для Станиславского Фирс был «настоящим мажордомом». Он все так же церемонно, как и при старых хозяевах, — подчеркивал Станиславский в своем режиссерском плане чеховской пьесы, — но в ином качестве жизни, в новой, пореформенной эпохе, — подавал барыне-дочке кофе ранним утром, соблюдая патриархальный ритуал. И все так же величаво — в старомодном фраке, который висел на нем как на вешалке, и в выношенных нитяных белых перчатках, с трудом натянутых на узловатые суставы, — выступал в сцене жалкого бала у молодых Гаевых — Андреевичей, обнося гостей сельтерской.
Для Мейерхольда чеховский Фирс был персонажем новой, символистской драмы. В его провинциальных постановках «Вишневого сада» как мистической пьесы Фирс пребывал как бы в двух измерениях, пространственных и временных. Был здесь — подавал, обносил, надевал на Гаева пальто. И не здесь, выполняя физические действия, положенные ему по роли. Он не контактировал, как требовал Мейерхольд, ни с барином, ни с барыней, ни с домочадцами, между ними перемещаясь, их обслуживая. «Застывший», — говорил о нем Мейерхольд, решая Фирса в приемах условного — неподвижного, статуарного театра. Живая жизнь остановилась, замерла в нем, — считал режиссер. Эта «остановка» внутренней, живой жизни разрушала в херсонском спектакле Мейерхольда иллюзию реальности происходящего на сцене.
Фирс у Мейерхольда обращался прямо к публике.
Он приходил сюда из вечности и в вечность возвращался, по эту сторону ее отсутствуя.
Это был образ какой-то тысячелетней старости, — вспоминают о мейерхольдовском Фирсе участники херсонского спектакля. Фирс смотрел слезящимися от древности и уже не видящими глазами на публику, шевелил уже безжизненными губами и был у Мейерхольда как бы знаком окаменелой вечности или маской Смерти, уже вселившейся в гаевский дом.
Конечно, ни Чехов, ни Станиславский, ни тем более трогательный и всеми любимый Артем, бывший учитель чистописания в Четвертой мужской московской гимназии, где недолго учились братья Владимир и Константин Алексеевы, — ни о чем таком не помышляли.
Артем, даже если бы захотел, никоим образом не смог бы стать ни убежденным крепостным слугой, ни абстрактной фигурой, знаком чего-нибудь.
127 Он не мог сыграть и представительного «мажордома», пережившего своих прежних, богатых хозяев, которого добивался от него Станиславский.
Артем мог быть только равновеликим самому себе и быть на сцене «сейчас» и «здесь» — здесь суетиться, бормотать о вишнях, о забытых рецептах, ворчать на пятидесятилетнего Гаева, как на малого ребенка, — «молодо-зелено» — и больше ничего. Только один — сиюминутный трогательный слой роли в чеховском сплаве чувственно-конкретного с обобщением, с типом, был подвластен ему.
И в молодых ролях возникали проблемы с назначением актеров. Все было непросто и шло вразрез с предложениями Чехова.
«Аня прежде всего ребенок, веселый до конца, не знающий жизни», — растолковывал Чехов свой замысел роли (II. 13 : 280). Аня у него ребенок. Любовь девочки еще не вызрела в чувственную, какую демонстрировала Ане ее порочная мать-амуретка.
«Аню должна играть непременно молоденькая актриса», «Аню может играть кто угодно, хотя бы совсем неизвестная актриса, лишь бы была молода и походила на девочку, и говорила бы молодым, звонким голосом» (II. 13 : 273, 293), — Чехов убеждал правление, что Аня вряд ли выйдет у Лилиной: «Будет старообразная девушка со скрипучим голосом, и больше ничего» (II. 13 : 302).
Чехов не возражал против Лилиной — Шарлотты, когда обсуждался такой вариант. Но, отдавая рукопись театру и сдав Раневскую жене, видел Лилину в роли Вари, а в Варе видел фигуру «в черном платье». Расшифровывая этот ребус, пояснял: то — что Варя ханжа, то — наоборот, что Варя серьезная, религиозная девица, даже монашка, но почему-то если монашка, то «глупенькая, плакса и проч. и проч.» (II. 13 : 292). И, подбадривая Марию Петровну, боявшуюся повторить в Варе — практичную Соню или распорядительную хозяйку прозоровского дома Наташу, которых она играла в «Дяде Ване» и «Трех сестрах», успокаивал ее тем, что Варя не похожа ни на Соню, ни на Наташу.
Вот и все, что он сказал о Варе Лилиной.
Остальное было в тексте, и он всех вопрошавших его отправлял туда: «Там все написано».
Пока шли дебаты и решали раздачу ролей, Лилина думала о Варе: «Она мне ясно представилась: белокурая, полная, белая, гладко одета и причесана, очень деятельная и потому — часто красная и потная, мечтает о монастыре как о единственном месте, где не будет хлопотать. Сердечная, честная, привязчивая, обожающая Аню и в особенности Раневскую» (V. 13 : 238 – 239). Лилиной слышалось, что говорит Варя «отчетливо, но скороговоркой», и это ее «всегда торопится» должно стать лейттемой роли.
128 Но Савва Тимофеевич Морозов, третий директор Художественного театра, имевший в правлении свой голос, настаивал в роли Вари на М. Ф. Андреевой, негласной сопернице Лилиной.
Морозов был влюблен в Марию Федоровну, влюблен, «как гимназист, дурачок», — жаловался Чехову Немирович-Данченко, страдавший от вмешательства Морозова в творческие вопросы56. А Мария Федоровна увлеклась Горьким, и Горький увлекся Марией Федоровной, и они оба не скрывали этого. Морозову надо было во что бы то ни стало победить Горького и вернуть Марию Федоровну. Чеховская Варя, не ведая того, затесалась разменной монетой в любовный треугольник, решавший ее сценическую судьбу. «С Горьким и его отношением к Художественному театру что-то неладное. Он подпал под влияние Марии Федоровны, дурного человека во всяком случае […] А так как она ничего не играет, то крутит, вертит, клевещет, интригует и возмутительно восстановляет и Горького и Морозова против нас, то есть меня и Константина Сергеевича, приобщая к нам Ольгу Леонардовну, Вишневского, Лужского и Марию Петровну — зерно театра.
С Горьким я объяснился напрямки. Что же касается Морозова, то это нелегко, потому что он путается во лжи.
И идет какая-то скрытая ерунда, не достойная нашего Театра и портящая нам жизнь» — сообщал Немирович-Данченко Чехову, вводя его в курс закулисных интриг, в которые попал «Вишневый сад»57.
Ему хотелось, чтобы Чехов не чувствовал себя одиноко, оторванно от его московского дома, от его театральной семьи, находившейся осенью 1903-го в состоянии чуть ли не распада. Он окунал Чехова в перипетии романтической истории, за которой следил весь театр, и в свои переживания, связанные с Морозовым и «портящие» ему жизнь. Ему хотелось иметь Чехова в союзниках в его противостоянии Морозову, оттеснявшему его от прямых обязанностей директора театра по творческим вопросам, от распределения ролей в том числе.
Так или иначе, но Морозов, боровшийся с Немировичем-Данченко за свое положение в театре и с Горьким — за Марию Федоровну Андрееву, победил всех в правлении. Роль Вари получила Андреева. И хотя Чехов, ценивший лирическое дарование Лилиной, считал, что без нее эта роль выйдет плосковатой, грубой и ее придется переделывать, смягчать, он в ответной срочной телеграмме Немировичу-Данченко от 7 ноября 1903 года утвердил и это назначение. Не в правилах Станиславского было протежировать родным. И Лилиной не оставалось ничего другого, кроме как согласиться на Аню, в которой Чехов ее не видел.
Сама Андреева была недовольна и ролью Вари, и собою в роли. Она не хотела ее играть, считала, что будет в роли ключницы слишком аристократична. Ей хотелось играть Раневскую. И хотя она гладко причесалась и ее Варя была «монашкой», как просил Чехов, хотя она придавала 129 движениям Вари какую-то угловатость, большей частью держала голову несколько склоненной и смущалась, когда на нее смотрели, она не изменила гримом своего лица — красавицы. Личный успех, как обычно, она ставила превыше интересов роли. «Роль мне не подходила», — впоследствии вспоминала она (V. 1 : 370).
Лилиной роль Аки нравилась, она бы хотела ее сыграть. Но к осени 1903 года ей исполнилось тридцать семь лет, она располнела и еще до того, как получила Аню, писала Чехову: «Боюсь, что отнимут молодые роли» (V. 13 : 237). Теперь же, утвержденная и Чеховым на Аню, делилась с ним: «В Ане первая моя задача обмануть публику и близких, даже Вишневского, который давно твердит […] что мне пора бросать играть детей», — и обрушивала на автора шквал вопросов об Ане: как она одевается, влюблена ли в Трофимова, о чем думает, когда вечером ложится в постель (VI. 3 : 238 – 239). Но Чехов избегал разговоров и об Ане. Ведь Аня — «куцая роль, неинтересная», — повторял он. Он не видел в ней ничего, кроме ее молодости, и, как всегда, отмахивался от вопросов, отвечая, что все написал. Или отделывался шутками, вроде: «Аня совсем девочка, она же ломает спички, коробку, рвет бумажки» (I. 1). Или, увидев на одной из репетиций, что Лилина, игравшая Аню, выбегала во втором акте с цветком, сказал: «Послушайте, что лес это такое! Ведь Аня помещица, она любит цветы и рвать их не станет. Это только дачницы рвут цветы. Не нужно»58.
«Вид срезанных или сорванных цветов наводил на “его уныние”», — знали его близкие59.
Казалось, что Чехов отвечал на вопросы невпопад, не по существу и то ли всерьез, то ли в шутку. «Но все это только казалось так в первую минуту […] сказанное как бы вскользь замечание, как бы проходно, начинало назойливо проникать в мозг и в душу, и […] от иногда едва уловимой характерной черточки начинала вырастать вся суть человека», — вспоминала Ольга Леонардовна манеру общения автора с актерами, заставлявшую исполнителей доходить «до корня сделанного замечания»60.
Это была и его писательская манера: едва уловимая деталь, лейттема — и уже создан образ.
Он хотел видеть на сцене «свои лица» и в замечаниях актерам: Станиславскому о дырявых башмаках и брюках в клетку Тригорина; о свисте Астрова; Качалову — о том, как козыряет Тузенбах; Вишневскому — о шелковых галстуках дяди Ваий; Леонидову — о желтых башмаках Лопахина; Лилиной — о цветке Ани — исходил исключительно из своего внутреннего видения сценического образа, сопряженного с каким-то реальным лицом или характерной жизненной деталью, решавшей образ.
130 Аня, помещица, выросшая в усадьбе Гаевых «Вишневый сад», воспитана в традициях старинного дворянского рода, — говорил Чехов своей репликой-ребусом.
Лилина нервничала из-за своего возраста. Она, семнадцатилетняя Аня, была старше матери — Книппер-Чеховой Раневской. Хотя многие, видевшие ее на репетициях, на генеральной и на премьере, утверждают, что вряд ли молодая актриса смогла бы так передать юность, свежесть, как Лилина, которая была «настоящей Аней». «Мария Петровна как бы освободилась духовно и телесно от себя самой, выключив жизненный опыт взрослой женщины. Она стала легкой-легкой, с наивным ясным взором девочки, непоколебимо верящей в жизнь, — вспоминала бывшая ученица школы МХТ В. П. Веригина. — Какой-то еще остаток отрочества в ранней юности — плавно сгибающееся колено для реверанса мимоходом, перебеги с легким подпрыгиванием, как едва уловимые взлеты. Милая, умная серьезность, печаль и снова бодрая уверенность молодости, рождавшая беспечную веселость. Текст артистка говорила ясным голосом, не приглушая звук в моменты огорчения или волнения […] а также и без тремолирования.
В театре работу Лилиной оценивали, как безусловную ее победу».
Другая бывшая ученица школы МХТ времен премьеры «Вишневого сада» в Художественном Надя Секевич, будущая Надежда Комаровская, вспоминала: «А какой свежестью, чистотой, детской непосредственностью веяло от юного облика Ани в пьесе “Вишневый сад” Чехова. Как очаровательна была ее стремительная, точно летящая походка, милая неловкость тонких девичьих рук, широко, по-детски раскрытых на мир глаз. Вишневый сад продан, Раневская рыдает. С какой нежностью Аня Лилиной успокаивает мать. Безграничной верой дышат ее слова: “Мы насадим новый сад, роскошнее этого, ты увидишь его”» (V. 13 : 115)
Исполнение Лилиной, вспоминал в 1911-м Эфрос, «было очаровательно».
Но сама артистка никак не могла успокоиться, все волновалась, как прощается Аня со старой жизнью и как приветствует новую — со страхом или нет. И после премьеры Лилина допрашивала Антона Павловича: «Так ли я говорю: “Прощай, дом, прощай, старая жизнь”. Я говорю со слезами в голосе; раза два я пробовала говорить бодрым тоном, да не выходило. Вы скажите, как по-Вашему?» (V. 10 : 239). «Дорогая Мария Петровна, “прощай, дом, прощай, старая жизнь” Вы говорите именно так, как нужно», — отвечал ей Чехов (II. 14 : 36). Значит, Аня прощается с домом «со слезами в голосе»? А сам в ремарке написал, что Аня «весело, призывающе» одергивает рыдающую, отчаявшуюся Раневскую. «Мама» — звучит «бодрый» голос Ани, и ему вторит «веселое, возбужденное: “Ау!”» — Трофимова. Слезливость, «плаксивость» тона вообще 131 коробила Чехова, но сказать Марии Петровне, что она говорит «не так», он, скорее всего, не решился.
Сам он и над Аней посмеивался. Любил ее и посмеивался над ее наивностью.
А Лилина воспринимала наивность Ани всерьез.
Вряд ли, несогласный с назначением немолодой актрисы на роль молоденькой девушки, Чехов мог бы вести себя иначе с милой, ни в чем не виноватой Лилиной, чем подбадривающе-одобрительно.
Но свое несогласие с распределением ролей, им формально утвержденным, он все же высказывал Станиславскому. Тот вспоминал, как однажды вечером, когда уже начали репетировать «Вишневый сад» — репетиции начались 10 ноября, а Чехов приехал в Москву 4 декабря, то есть до премьеры оставалось чуть больше месяца, — Чехов вызвал его на чаепитие, а потом, уведя гостя в кабинет, «затворил двери. Уселся в свой традиционный угол дивана, посадил меня напротив себя и стал в сотый раз убеждать меня переменить некоторых исполнителей в его новой пьесе, которые, по его мнению, не подходили: “Они же чудесные артисты”, — спешил он смягчить свой приговор» (I. 4 : 343).
А вообще, как в случае с Артемом, он предпочитал «помалкивать».
Роль Пети Трофимова его беспокоила конечно же больше других. Когда он заканчивал пьесу, роль ему нравилась: «Роль Качалова хороша» (II. 13 : 257). Когда закончил, она показалась ему «недоделанной» (II. 13 : 279). Немирович-Данченко, прочитав пьесу, прямо сказал ему в первом телеграфном послании, что Петя Трофимов написан слабо. И Чехов, видимо, затаился в обороне.
И все же помимо воли он попал в эпицентр споров о роли студента, которая и впредь, на протяжении пятидесятилетней жизни спектакля на сцене театра, оставалась одной из самых дискуссионных.
Полемизировали друг с другом, скорее всего, Станиславский и Качалов. По косвенным свидетельствам — отголоскам того, что происходило между ними на репетициях, — можно восстановить суть разногласий режиссера и актера, готовившего роль, для него написанную. Ни тот, ни другой вопросов Чехову о Пете не задавали. Вопросы задала Ольга Леонардовна, выполнявшая функции буфера между театром и автором, как говорила о себе она сама.
10 ноября 1903 года в театре состоялась беседа о пьесе и прошел первый репетиционный день. Утром 11 ноября Ольга Леонардовна села за письмо. Пришлось огорчить мужа. Он просил «выписать» его наконец в Москву. Но погода «все еще не установилась, все еще нет санного пути. Нет снежка. Нет сухости», которую ждали, — отвечала Ольга Леонардовна Чехову (IV. 4 : 331). И поохав, переходила к делу, включая мужа арбитром в спор о роли Пети: «Вчера на беседе много говорили о Трофимове. Он ведь свежий, жизнерадостный, и когда он говорит, то не 132 убеждает, не умничает, а говорит легко, т. к. все это срослось с ним, это его душа. Правда? Ведь он не мечтатель-фразер? По-моему, в нем много есть того, что есть и в Сулержицком, т. е. не в роли, а в душе Трофимова. Чистота, свежесть» (IV. 4 : 331 – 332).
Качалов хотел играть Петю лучезарным, устремленным в высокую мечту в произносимых им монологах.
Ольга Леонардовна, Качалов и многие художественники дружили с Сулержицким, бродягой, прибившимся к Художественному театру. И любили его.
Сулержицкий — и пропагандист, фразер, одно с другим не совмещалось.
Чехов любил Сулержицкого и не любил фразеров. По свидетельству Бунина, цитировавшего в воспоминаниях о Чехове кого-то из знакомых Антона Павловича, Чехов «положительно не выносил фразеров, краснобаев, книжников»61.
Ольга Леонардовна предоставляла Чехову их соображения о роли Пети Трофимова, заручаясь поддержкой автора.
Все Петино, казалось им, сходилось в Сулержицком, сыне переплетчика, по сословию мещанине, человеке-особнячке, как называли его в театре и как говорила о нем Ольга Леонардовна. Все Петино свободомыслие, его политическое подполье, тюрьмы и ссылки, задуманные Чеховым, умещались в биографии Сулержицкого. В ней было к тому же и неоконченное Училище живописи, ваяния и зодчества, alma mater Владимира Сергеевича Сергеева-2, тезки Дуняшиного Володи.
Владимир Сергеевич-2 — ровесник Сулержицкого. Они учились одновременно и могли знать друг друга.
Пройдя через все лишения, Сулержицкий сохранял поразительную необремененность бытием и легкость на подъем, на смену мест, соответствующую частой смене духовных увлечений, занятий, профессий.
Качалов именно Сулержицкого, вечно куда-то несущегося, хотел бы выбрать прообразом роли. Сулержицкий походил на Петин идеал. Чеховскому Пете, все имущество которого — подушка и связка книг, хотелось быть свободным как ветер и легким как пух, который носится в воздухе. Сулержицкий был именно таким — независимым, прозрачно ясным в поступках, всегда окрыленным какой-либо идеей, оживленным в споре, смехе, пляске, пародировании людей, в общении как со знаменитостями, с Толстым, Чеховым, со Станиславским, видевшим в Сулержицком ученика-преемника, так и с молодежью. Он был гениальным в своем бескорыстии, считал Толстой, тоже любивший Сулержицкого, своего последователя, толстовца.
«Качалов читал ему роль, и он в диком восторге от Трофимова», — передавала Чехову жена мнение Сулержицкого (IV. 4 : 342).
133 Сулержицкий знал и о том, что происходило на репетициях «Вишневого сада». «Качалов хочет играть Трофимова, студента, “под меня”. Не знаю, удачно ли это он задумал. Я пьесы не читал еще […] Что-то у них, к сожалению, в театре, кажется, не ладится. Говорят, “Вишневый сад” будет ставить не Владимир Иванович, а Константин Сергеевич. Хорошо ли это будет?» — писал Сулержицкий Чехову 17 ноября 1903 года62.
Конфликт, назревавший между режиссерами, развивался. В начале ноября Немирович-Данченко еще только беспокоился: «Как мы будем режиссировать, — до сих пор мне не ясно» (II. 1. К. 53. Ед. хр. 37з: 3). Но уже в следующем письме сообщал автору, что ставить «Вишневый сад» будет один Станиславский, а он будет «держать ухо востро», и успокаивал Чехова, объясняясь с ним: «Конст. Серг., как режиссеру, надо дать в “Вишневом саде” больше воли. Во-первых, он уже больше года ничего не ставил, и, стало быть, у него накопилось много и энергии режиссерской, и фантазии, во-вторых, он великолепно тебя понимает, в-третьих, — далеко ушел от своих причуд» (V. 10 : 166).
Именно Станиславский, получивший единовластие в режиссуре «Вишневого сада», был незримым оппонентом Качалова и Книппер, выбравшей сторону Качалова, его понимание образа чеховского студента. Когда Ольга Леонардовна просила мужа подтвердить верность выбранной Качаловым модели, покроя роли Пети Трофимова и неверность иной точки зрения, присутствовавшей в ее вопросах: «Когда он говорит, то не убеждает, не умничает […] Ведь он не мечтатель-фразер?» — она спорила со Станиславским. Это он видел за Петей, живущим в бане, а не в господском доме, обличавшим в своих монологах безделье, никчемность господ и барскую мораль, — другое лицо: Дуняшиного Володю — социально ущербного, социально закомплексованного, «пасмурного», «облезлого», то есть не ясного, не свежего и умничавшего, — не соответствовавшего Петиному идеалу, действительно похожему на Сулержицкого.
Для Станиславского в его рабочей формуле Петя равен Володе, Владимиру Сергеевичу-1, и не равен Сулержицкому.
Репетируя с Качаловым, Станиславский не отступал от намеченного в режиссерском плане, его осуществляя. Разрабатывая партитуру роли, он не отступал от равенства: Петя-Володя.
«Какой вы умный, Петя», — говорила чеховская Раневская.
Станиславский не оспаривал ни Петиного, ни Володиного ума. В его режиссерском плане Петя «умно» рассуждал о «гордом человеке», об интеллигенции, которая ничего не делает, о рабочем классе, который погряз в нищете и бесправии. Петины «умные слова», умные речи перед господами, Лопахиным и Аней, Станиславский перемежал с тишиной, с благоговением перед ними Раневской и Ани.
134 Володя, однако, и умный, и начитанный, желал казаться, в отличие от органичного Сулержицкого, еще умнее и ученее и вставлял в устную и письменную речь иностранные, мудреные слова. Станиславский знал Володю как книжника и как краснобая-фразера, которого оспаривали в Пете Книппер и Качалов. «Не увлекайся этой позой и в этом отношении не бери примера с Володи. Это его недостаток […] Высокопарный слог безвкусен в простом и искреннем письме», — говорил Станиславский сыну Игорю, опасаясь, что мальчик, привязанный к репетитору, будет подражать ему63.
Петя в режиссерском плане Станиславского «умничал», самоутверждаясь, красуясь перед Раневской и Аней. Вещая «об умном», «умничая» перед слушателями, демонстрировал свою начитанность, доказывал свое интеллектуальное превосходство над ними, не удостаивая их диалогом. Брал реванш за социальную униженность, за личные обиды на них. В чеховских монологах Пети Станиславский слышал голос человека нервозного, давно и глубоко травмированного.
Чеховский Петя у Станиславского во втором акте непрерывно ходил и курил, выступая перед Раневской, Гаевым, Лопахиным, Аней и Варей. Он убежденно артикулировал чеховский текст, но, не поднимая глаз, смотрел «в пол» или «в землю». Или «в книгу». Весь конец монолога об интеллигенции Петя проводил в режиссерском плане Станиславского сидя и недвусмысленно обнаруживая источник своих мыслей: «нервно листая книгу». Умные и высокие идеи Пети заимствованы из книг, которые он таскает за собой. Он соглашался или полемизировал с книжным текстом, а не обвинял господ, не обличал их как человек с убеждениями.
Петя у Станиславского — именно оратор-фразер.
Гаев у него, витийствуя, сотрясал воздух, жестикулируя во втором акте по направлению к небу.
Пластика Пети иная.
«Так студенты говорят умные вещи», — помечал Станиславский в режиссерском плане второго акта, «заземляя» взглядом Пети, устремленным вниз, «в землю», «в пол» и «в книгу», его порывы — «восторженно», «еще восторженнее», снижая Петю — до школяра, постигающего книжную премудрость, подменяющего ею отсутствие самостоятельного эмпирического опыта.
Книжность, цитатность Петиного мышления Станиславский чувствовал и в воспаленной фразе Пети-Володи, брошенной в лицо барыне Раневской, — «Я выше любви» — в ответ на ее искреннее недоумение: «В ваши годы не иметь любовницы». Передразнивая Петю — «Я выше любви», — Раневская в mise en scène Станиславского иронизировала над ним, изображала ученого-неоплатоника, теоретика, повторявшего чужие афоризмы.
135 Петя Трофимов читал у Станиславского, однако, не Платона.
«Нервно листая книгу», склоняясь к ней, Петя отмахивал «спадающие на лоб волосы».
Только откуда у «облезлого барина» с редкими волосами пластическая характерность длинноволосого?
«Отмахивая спадающие на лоб волосы» — это горьковская пластика. Таким, резким движением головы, отмахивающим рассыпающиеся прямые длинные волосы, изобразил Горького на своем портрете Серов. Эта пластика рождалась в воображении режиссера, когда он натыкался на антиинтеллигентские выпады Пети и на скрытые горьковские цитаты о «гордом человеке» — из «На дне». Он сам в роли Сатина произносил их.
Очевидно, Петя у Станиславского читал книги Горького и других «эсдеков», как определял партийную принадлежность Горького Станиславский, и их таскал за собой. Скрытую у Чехова связь Петиных монологов с горьковскими Станиславский переводил в зрительный ряд, настойчиво «заземляя» в Пете, читателе Горького, недоучившемся студенте, горьковскую убежденность, горьковский пафос «эсдека».
Станиславский искал Петю в своем режиссерском плане в сниженном горьковском типе. Связь Пети с Горьким у Станиславского, как и у Чехова, отчетливее, чем с Сулержицким, читателем и последователем Толстого. Угловатый, пасмурный, облезлый, Петя режиссерского плана Станиславского в своих рассуждениях о «гордом человеке», которому нечем гордиться, о рабочих, прислуге и интеллигенции — фразер, высокопарный, выспренний, а не убежденный «эсдек». Когда Петя у Станиславского говорил, он именно самоутверждался и умничал.
«Трофимов на Вас не похож ни капельки», — отвечал Чехов, споря с Качаловым, непосредственно Сулержицкому (II. 13 : 315), человеку совершенно некнижному. Философия и реальные дела Сулержицкого были озарены внутренним огнем и собственным творческим порывом. Значит, в душе чеховского Пети не было ни мира, ни гармонии Сулержицкого. В нем не было свободного человека.
Именно так и решал Станиславский роль Пети в своем режиссерском плане. Не-героя — добивался Станиславский в Пете от Качалова, вызывая его протест. Артист, выспрашивая автора через Ольгу Леонардовну о своем персонаже, заступался за Петю, отстаивая в нем героя.
А может быть, Чехов уводил Петю от прототипа, угаданного актерами, стараясь избежать неприятных для него последствий подобного угадывания — в «Попрыгунье» и «Дяде Ване»? Ведь так он поступил и с Шарлоттой, в которой Станиславский узнал Лили.
Нет ответа.
136 Но то, что Сулержицкий — один из прообразов Пети Трофимова у Чехова, как Горький и как Дуняшин Володя, исключить нельзя, несмотря на косвенную отповедь автора — артистам.
Качалов поднимал, возвышал Петю до героя, и если не до Горького и не до Сулержицкого, то до себя самого. В Пете Трофимове премьеры Художественного театра, свежем, жизнерадостном, было больше романтических порывов актера, вышедшего из студенческой среды, и сценического героя-любовника, чем Пети Чехова и Пети Станиславского.
Качаловский Трофимов любил Аню: «Солнышко мое! Весна моя!» — под жалейку и скворцов театра, окутывавших его романтику пронзительной светло-весенней тоской. Он подкупал своей глубокой искренностью в роли Пети и в первом акте, и во втором, когда, завоевывая Аню, перетягивая ее в свой стан, внушал ей, как мелочна ее привязанность к своему саду, и открывал ей вид на всю Россию, которую они построят. В нем было «сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного». И личного, и вселенского, всечеловеческого, полного высокого смысла. На его чувство и светлые надежды нельзя было не отозваться, — писал Эфрос о Пете Качалова.
Качалов, по свидетельству Кугеля, отнесся к фразам чеховской роли «очень всерьез». Кугель спорил с таким толкованием роли Пети Трофимова. Правда, с иной, чем у Станиславского, аргументацией. Он спорил с превращением Пети в чеховского лирического героя. Художественники «объявили, что Чехов, наконец, уверовал, и, уверовав, видите ли, не нашел другого выражения для своей внезапной “веры”, как облезлую фигуру недотепы», — писал Кугель в 1905-м о тех, кто считал Петины речи радостными упованиями Чехова64. Среди таких был и Эфрос. Эфрос считал, что Чехов доверил своему «облезлому барину», не испугавшись его облезлости, «самые дорогие мысли и мечты, свои самые глубокие печали и самые светлые верования».
А Кугель сближал Петю Чехова с Епиходовым — недотепой, двадцатью двумя несчастьями.
«Разве это мой “Вишневый сад”? Разве это мои тины? За исключением двух-трех исполнителей — все это не мое», — говорил Чехов Е. Карпову о спектакле художественников65.
Этим исключением был Станиславский в роли Гаева. Чехов одобрил артиста. И хотя отзыв Чехова о Гаеве привел сам Станиславский, ему можно верить. Станиславский на редкость самокритичен. Впрочем, Чехов одобрял Станиславского-актера, а не режиссера «Вишневого сада»: «Я […] имел успех в роли Гаева и получил на репетиции похвалу самого Антона Павловича Чехова — за последний, финальный уход в четвертом акте» (I. 4 : 347).
В Гаеве Станиславского чеховские юмор и меланхолия сошлись в одном лице, в «глупом лице хорошего человека», писал П. Безобразов в 137 «Руси» после премьеры. Станиславский-актер переиграл Станиславского-режиссера и в своем подходе к роли совпал с автором. У них был общий прообраз и одинаковое его восприятие: «люблю» и «посмеиваюсь».
Чеховский Гаев будто списан в режиссерском плане Станиславского с его эпистолярного образа брата Владимира Сергеевича — из письма-представления его Чехову летом 1902-го. Как характерность Гаева Станиславский взял от Володи его затаенную грусть, его «скорбь о том, что он пустой и неисправимый человек», какую-то трещину, которая сказывалась в нем. А проницательные критики улавливали в Гаеве, сыгранном Станиславским, несостоявшегося музыканта. А. Мацкин, присматривавшийся на фотографиях к рукам Станиславского — Гаева, теребившим белоснежный платок, уверял, что «это руки музыканта, по нерасчетливости природы доставшиеся биллиардному игроку, сильные руки, с хорошо развитой кистью, с беспокойными нервными пальцами, в движении которых есть бессознательный ритм»66.
Там, где Станиславский шел от знакомой жизни, он одерживал победу. Гаев стал одним из его артистических шедевров.
Его Гаев был болтлив, легкомыслен, беспечен и очень растерян. Вокруг его фигуры была тончайшая аура юмора и щемящей грусти. Он чувствовал, что приближается катастрофа, и не хотел этого понимать. Убегая от неприятного, погружался в прошлое. В молодости он служил в земстве. Им овладевал либеральный раж, и он начинал витийствовать. Очнувшись, сникал, конфузился, становился жалким, точно «набедокуривший» ребенок, извинялся за то, что так глупо вел себя и наговорил всякой чепухи, и плакал от бессилия.
В этом Гаеве сомкнулись шарж и настроение; внешняя характерность в интонационных деталях и в россыпи смешных мелких мимических черточек и жестов то биллиардного игрока, толкающего шар в лузу, то господина с тросточкой, — и надломленность, сыгранная в последнем акте. Все было рядом. Его фигура заставляла сжиматься сердце и посмеиваться над нею. Мало кто из критиков сумел передать этот почти невозможный синтез изобразительности и драматизма. Как и в Епиходове — Москвина. Одни считали, что Станиславский не чувствует комического гения Чехова. Другие, Кугель в их числе, — наоборот, что он снижает трагедию до вульгарной развлекательности.
К сцене отъезда — коронной в роли Гаева для Станиславского — прислуга снимала в старинной зале люстры, зеркала и картины.
В опустевшем, оголившемся пространстве среди сложенных чемоданов, дорожных узлов и сумок Гаев в пальто, шарфе и калошах долго сидел на ящиках, смотрел в окно и слушал, как стучат топоры по стволам.
Ему хотелось плакать.
138 «Гаев — жалок, у него задумчивый, виноватый вид», — писал Станиславский в режиссерском плане (I. 12 : 449).
Машинально надел на кольцо ключи, посмотрел на часы, попытался взбодриться — не вышло.
Раневская «блуждает между сложенной мебелью. Садится, трогает, может быть, целует некоторые любимые стулья и вещи. Аня за ней. Гаев смотрит в окно и незаметно утирает слезы» (I. 12 : 459).
Вынув холеными руками белоснежный носовой платок, Гаев поворачивался к окну, и зрители видели только спину плачущего человека, который беспомощно лепетал: «Сестра моя, сестра моя…»
Эту заданную режиссером мизансцену четвертого акта и финальный уход Гаева, отмеченный похвалой Чехова, описывали многие рецензенты и мемуаристы.
Подобное могло случиться и с ролью Раневской.
Но на премьере не случилось.
В премьерной Раневской Художественного театра все же было больше самой Ольги Леонардовны, которая не нашла легкости Раневской, ее смеха и улыбки, о чем просил Чехов. Ольга Леонардовна все плакала, плакала, забыв о предостережениях Чехова и Немировича-Данченко, тщетно боровшихся с ее слезами.
Сидя на репетициях в Художественном театре, Чехов однажды сказал Леонидову, что Оля играет «хорошо, только немного молода» (V. 12 : 463). Видимо, был во власти первоначального замысла, строившегося вокруг «либеральной старухи». А может быть, по обыкновению, уклонялся от определенного высказывания.
Всю вину за прорывавшуюся в роли Раневской плаксивость тона он перекладывал на Станиславского.
Склонность к сантиментам в чеховском спектакле тянулась за художественниками со времен читки «Трех сестер». Чехов был уверен, что написал комедию, а все плакали, когда слушали пьесу. После читки автор покинул театр «не только расстроенным и огорченным, но и сердитым, каким он редко бывал», — вспоминал Станиславский (I. 4 : 301).
«Плаксивое» настроение «Трех сестер» в Художественном Чехов считал «убийственным».
Но он верил в Станиславского, Его формула Станиславского «когда он режиссер, он художник» — постоянно подтверждалась, несмотря на давние претензии к «Трем сестрам» и на текущие несогласия с ним. Лучше Художественного театра его пьесы не играл никто. Он и Станиславскому внушал свою веру. Тот осенью 1903 года совсем было упал духом, болезненно переживая свой неуспех в роли Брута в «Юлии Цезаре». Этим спектаклем Немировича-Данченко — в отсутствие новой пьесы Чехова — открыли сезон 1903/04 годов. Премьеру ставили в афишу через день. Станиславский не выдерживал физически. И психологически — 139 критика никак не принимала его Брута, отнимавшего у него много нервов и энергии. Недовольство собой Станиславский переносил на весь спектакль. И на Немировича-Данченко.
До премьеры «Вишневого сада» оставалось чуть больше месяца, насыщенных у Станиславского, вплоть до Рождества, муками с Брутом и изматывавшей рознью с Немировичем-Данченко, о которой Чехов знал от Сулержицкого, самого Немировича-Данченко и жены. Но никому легче не стало, когда ежедневная деловая и продуктивная переписка с Чеховым и театра, уточнявшего детали постановки, и Ольги Леонардовны, получавшей от Чехова ответы на свои вопросы и вопросы коллег, сменилась приездом автора в Москву.
Чехов появился в Камергерском в разгар репетиций. «Ему страшно хотелось принимать в них большое участие, присутствовать при всех исканиях, повторениях, кипеть в самой гуще атмосферы театра. И начал он это с удовольствием», — вспоминал Немирович-Данченко (III. 2 : 227).
Через четыре-пять репетиций всем стало невыносимо. И автору, и театру.
Автор страшно нервничал.
То ему казалось, что допускаются искажения текста.
То не нравилось режиссерское решение.
То — некоторые исполнители.
А потом всё вместе.
«И сам он только мешал режиссерам и актерам», — свидетельствует Немирович-Данченко (III. 2 : 227).
По мере того как Чехов погружался в закулисные взаимоотношения, развивавшиеся до конфликтных у него на глазах, занервничали все. В особенности режиссеры, терявшие счет взаимным претензиям, накопившимся за пять с половиной сезонов теснейшего повседневного сотрудничества.
Станиславский считал ошибкой театра постановку «Юлия Цезаря» и не принимал всего того, что делал Немирович-Данченко и что на нем держалось. Брут и рознь с Немировичем-Данченко высасывали из него «все соки».
Волнение и недовольство Чехова больно ранили его.
Сдержанный Немирович-Данченко находился в состоянии душевного стресса: театр и критика «Юлия Цезаря» не отдавали должного его заслугам. Он оставался в тени Станиславского. Удачи приписывались одному Станиславскому. Неудачи списывались на него.
Их отношения давно разладились. Они стали расходиться по принципиальным художественным вопросам и в оценке ближайших перспектив их общего дела. Они не могли больше работать вместе, как раньше: в «Чайке», «Дяде Ване», «Трех сестрах», в прежнем тесном соавторстве, 140 приводившем театр к успеху. Уже со времен «Снегурочки», открывшей сезон 1900/01 гг., постановки стали делить на единоличные. Для «Трех сестер» сделали исключение.
Станиславский не признавал ничего из того, что делал не он.
В случае чеховского «Вишневого сада» о разделении не могло быть и речи. Немирович-Данченко привел Чехова в театр. Он дал ему жизнь как драматургу. Станиславский был режиссер-художник. Лучше его режиссера не было. Над новой пьесой Чехова они обречены были работать вместе. А вместе уже не могли.
Немировичу-Данченко казалось, что Станиславский отводит ему служебную роль в их творческом союзе, он чувствовал себя обиженным. А Станиславский считал, что Немирович-Данченко, отвечавший в театре за репертуар, превышает свои полномочия, вторгаясь в вопросы режиссуры, не относящиеся к его компетенции.
Через полтора десятилетия Немирович-Данченко признался своему биографу Юрию Соболеву, что уже во время работы над «Царем Федором Иоанновичем», самой первой премьерой в Художественном, стало ясно, что разделение veto на литературное, ему принадлежавшее, и художественное, отданное Станиславскому, «приведет к абсурду»: «Нельзя отделять психологический и литературный анализ от формы»67.
В конце 1903-го Немирович-Данченко еще не был готов к такому крайнему выводу, сделанному в 1918-м, хотя ситуация, отягощаемая разделением veto, в процессе совместной работы со Станиславским над чеховским «Вишневым садом», на глазах автора скатывалась к критической.
Осенью — зимой 1903-го ее предельно обострило вмешательство Саввы Тимофеевича Морозова, третьего директора театра, в деятельность творческих структур театра.
Немирович-Данченко уверял Чехова, пытаясь привлечь его на свою сторону, что Морозов хочет поссорить его со Станиславским. «И если бы я свое режиссерское и директорское самолюбие ставил выше всего, то у меня был бы блестящий повод объявить свой уход из театра. Да и ушел бы, если бы хоть один день верил, что театр может просуществовать без меня», — погружал Немирович-Данченко Чехова в проблемы, сотрясавшие Художественный68.
Уже вся труппа наблюдала за тайной борьбой богов с титанами, разделяясь по симпатиям к сторонам. Чехов знал от жены, как гнетут всех «дворцовые интриги». «К. С. не может стоять во главе дела. Несуразный он человек», — сокрушалась Ольга Леонардовна (IV. 4 : 357). Если бы уход Немировича-Данченко состоялся, она ушла бы вместе со своим первым, филармоническим учителем. Об этом она тоже говорила Чехову.
141 «Если ты уйдешь, то и я уйду», — пытался образумить Немировича-Данченко Чехов (II. 13 : 294).
Во второй половине ноября Станиславский и Немирович-Данченко еще работали над «Вишневым садом» вместе. Немирович-Данченко разговаривал с актерами, занятыми в первом акте, разминая роли и разводя их в соответствии с режиссерским планом Станиславского, Станиславский в это время готовил мизансцены следующих актов. Но по мере приближения спектакля к выпуску разгоравшийся конфликт Немировича-Данченко с Морозовым и Станиславского с Немировичем-Данченко начинал сказываться и на репетициях «Вишневого сада».
К тому же, как водится, наступали дни, когда Станиславский терял над собой контроль, переставал владеть собой. Из него вылезал купец-самодур, добавлявший нервозности к и без того тяжелой предпремьерной ситуации. Немировичу-Данченко полагалось держать Станиславского «в руках». А он руки опустил. И, не имея морального права и реальных возможностей бросить все и уйти из театра, чтобы разорвать одним махом все противоречия, выбивавшие из колеи, но пытаясь доказать, тем не менее, Станиславскому и Морозову свою незаменимость, — Немирович-Данченко от репетиций «Вишневого сада» — последних, наиболее ответственных — самоустранился, оправдываясь перед Чеховым занятостью в школе и репетициями «Одиноких». «Одиноких» действительно вводили в репертуар, чтобы освободить Станиславского от Брута, ими заменяли «Юлия Цезаря». И школе он действительно отдавал много времени и сил. Все формально так.
Обычно Немирович-Данченко корректировал на этапе выпуска необузданные фантазии Станиславского, застревавшего, как казалось Немировичу-Данченко, на мелочах в работе за столом или в репетиционной комнате, когда надо было проводить «полные репетиции» и выходить на сцену или, когда сцена была занята монтировкой декораций, проводить «полные репетиции» в фойе, но не за столом, доводя до изнеможения актеров своим «не верю» в начальной сцене. Предпремьерная корректировка Немировича-Данченко решала форму спектакля, которая у Станиславского, зацикленного на отдельных исполнителях и деталях исполнения, растекалась.
На этот раз, дав волю Станиславскому, оставив его один на один с пьесой Чехова, Немирович-Данченко обещания своего, данного Чехову, — «держать ухо востро» — выполнить не мог.
Результаты невмешательства второго режиссера сказались моментально. Станиславский гневался, проявляя дурные стороны характера. В нем пробуждался Алексеев, то есть «хозяин», как говорил Немирович-Данченко. Он до одури сидел с актерами за столом. Немировича-Данченко избегал. Они уже не могли выносить друг друга, И объяснялись перепиской, чтобы на виду у труппы не сделать непоправимый 142 шаг, скрывали свою рознь. Они были приговорены друг к другу. «Морозов ждет, что я и Константин Сергеевич поссоримся. Ну, этого праздника мы ему не дадим», — «окунал» Немирович-Данченко Чехова в закулисные «интрижки»69.
Станиславский считал Немировича-Данченко виноватым не перед ним — перед Чеховым: «Полуживой человек, из последних сил написал, быть может, свою лебединую песнь, а мы выбираем эту песнь, чтобы доказывать друг другу личные недоразумения. Это преступление перед искусством и жестоко по отношению к человеку», — писал Станиславский Немировичу-Данченко (I. 8 : 524).
Присутствие Чехова если не примиряло их, то держало в рамках.
Но роли третейского судьи Чехов на себя не брал. Ему хватало и того, что он видел собственными глазами.
Сцена ввергала его в состояние истерики и обостряла ее.
Он не узнавал того, что написал.
Ему не нравились все.
Лопахин, Фирс.
Яша и Шарлотта.
Халютина в роли Дуняши, позже — сменившая ее Адурская, которая делала то же самое и не делала «решительно ничего из того, что у меня написано» (II. 14 : 81).
Халютина вышла из спектакля во время весенних петербургских гастролей театра. Она ждала ребенка. «Халютина довольно в скорости родит обезьянку. Вероятно, это от совместной игры с Александровым», — шутил Вишневский (II. 1. К. 39. Ед. хр. 9в: 11). Александров играл Яшу. Чехов к весне поостыл и тоже шутил, соревнуясь в юморе с Вишневским: «Как я рад, что Халютина забеременела, и как жаль, что этого не может случиться с другими исполнителями, например, с Александровым или Леонидовым. И как жаль, что Муратова не замужем» (II. 14 : 69).
Травести, подросток Художественного театра, Анютка во «Власти тьмы», впоследствии Тильтиль в «Синей птице», Халютина обладала подлинной детскостью. Ее Дуняша, «безумно» полюбившая Яшу, вырастала от первого действия «Вишневого сада» ко второму и к третьему в «цветок», как говорил почтовый чиновник.
Все претензии автора к Халютиной сводились к тому, что та путала, где нужно пудриться. Горничная, подражавшая барыне Раневской, действительно пудрилась неумело и где попало. Так было задумано и записано в режиссерском плане Станиславского.
Чехов раздувал мелочи, так важные для актеров в Художественном, до принципиальных отступлений от его замысла пьесы. Ему было не до шуток. Болезнь убивала его юмор.
143 В Муратовой его раздражало отсутствие хрупкой женственности. Он забыл, что, растушевывая черты Лили, запавшей ему в душу, согласился с назначением долговязой Муратовой на роль Шарлотты.
И в Яше Александрова он не узнавал задуманного. Яшу Художественного театра действительно сочинил не он, а Станиславский.
Дорошевичу удалось записать проброшенный Чеховым отзыв о Яше — Александрове:
«Ему замечали:
— Пьеса так тонко, так изящно написана, — знаете, эти разговоры лакея по-французски, это пение зачем-то шансонетки — это немножко грубовато. Это, простите, шарж.
Чехов возражал чуть не с ужасом, но уже с страданием, во всяком случае:
— Да я ничего этого не писал! Это не я! Это они от себя придумали! Это ужасно: актеры говорят, делают, что им в голову придет, а автор отвечай», — сорвалось у него в присутствии Дорошевича70.
«Какую мерзость и пошлость написало “Русское слово”», — жаловался Станиславский жене, прочитав статью Дорошевича в газете, вышедшей на следующий день после смерти Чехова. Он не ожидал таких пассажей от короля театрального фельетона. В рецензии на премьеру «Вишневого сада» в том же «Русском слове» от 19 января 1904 года Дорошевич пел дифирамбы и Чехову, и его пьесе — комедии ли, трагедии ли, повести ли поэта — «называйте, как хотите, эти стихи в прозе», и «превосходному исполнению» «Вишневого сада» в Художественном.
«Превосходному исполнению…»
И вдруг — и дня не прошло после смерти Чехова — записи бесед с драматургом иного характера и сенсационное свидетельство о том, что Художественный театр, вернувший драматургию Чехова сцене, снова, как в роковом 1896 году — провала «Чайки» в Александринке, — его от сцены отвратил.
Через десять лет, когда «Вишневый сад» играли в 200-й раз, Дорошевич вспомнил еще один штрих: «“Вишневым садом” на сцене Антон Павлович остался недоволен.
— В чтении он лучше, — сказал он»71.
Чехов мог делать такие заявления. Наверняка делал. Но в другой раз и другому лицу мог сказать обратное. Ведь известны его взаимоисключающие суждения. Но он жаловался на журналистов, искажавших его слова: «“Выдумывают меня из своей головы, что им самим хочется, а я этого не думал, и во сне не видал… Меня начинает злить это…” Антон Павлович заволновался и сильно закашлялся» — записал Евтихий Карпов (II. 21 : 491).
К тому же Чехов не мог учесть мощи своего писательского дарования. Оно воздействовало и на создателей спектакля, и на публику, и на 144 критику — помимо его воли и интеллекта. Оно, вероятно, превосходило и его личные, человеческие измерения, и его недовольство Станиславским, отметившее спектакль художественников. Да и спектакль на публике менялся по мере того, как начинал самостоятельную, независимую от авторов жизнь на сцене, и критики вслед за изменениями в спектакле меняли свои оценки.
Тогда же, в декабре 1903-го и в январе 1904 года, душа Чехова еще не отлетела от его «Вишневого сада» в Художественном. Она осеняла его и трепетала во всех его порах.
Автору казалось, что она поругана.
Его гнев нарастал по мере приближения спектакля к выпуску.
Декорации, свет, звуки — все, о чем легко договорились на этапе запуска, — оказалось не то и не так. В октябре — ноябре все было то и так.
Станиславский, Симов, постановочная часть — все цеха театра работали с энтузиазмом.
Мастерские выполнили декорации в небывало короткие сроки. Все спорилось, все ладилось.
До поры, пока Чехов не приехал в Москву.
В решении сценического пространства Станиславский еще в октябре быстро нашел с автором общий язык. Тут Чехов всецело доверял театру и даже уступал ему в деталях: «Вообще, пожалуйста, насчет декораций не стесняйтесь, я подчиняюсь Вам, изумляюсь и обыкновенно сижу у Вас в театре, разинув рот. Тут и разговора быть не может; что Вы ни сделаете, все будет прекрасно, в сто раз лучше всего того, что я мог бы придумать», — писал он Станиславскому из Ялты в ответ на его расспросы об оформлении сцены (II. 13 : 302).
Первое и четвертое действия, по согласованию с Чеховым, шли в одной декорации.
Павильон первого акта давал полную иллюзию помещичьего дома. На стенах висели портреты предков и выцветшие акварели. Глаз останавливался на удивительном книжном шкафе с отставшими за сто лет фанерками. Когда отворяли рамы высоких с полусферами окон, слышалось чириканье птиц и отдаленное кукование кукушки.
«Птичьи» сцены Станиславский считал не менее ответственными, чем игровые. Их тоже исполняли актеры. Станиславский был убежден, что бутафоры и другие рабочие сцены не изобразят птиц так хорошо, как лица, занятые в спектакле. Все, кто в данный момент был свободен, стояли за кулисами и принимали участие в птичьем хоре. Так было и в «Трех сестрах», когда Ирина в день своих именин распахивала окно. Сам Станиславский в гриме и костюме Вершинина, еще не явившегося Прозоровым, щебетал вместе со всеми, дирижируя птичьим концертом. Или в «Царе Федоре». Лужский наловчился ворковать голубем и одновременно хлопал ладошами, передавая полет птицы. Москвин специализировался 145 на чириканье воробья. У каждого было свое виртуозное птичье соло.
Птичий гомон, устроенный художественниками в первом акте «Вишневого сада», и звук пастушьего рожка во втором, который так нравился Чехову в Любимовке, услышал на премьере Валерий Брюсов: «Весеннее утро в деревне изображается с помощью машинок, имитирующих птичье пение, и с помощью фонографа, воспроизводящего звук свирели»72. Артисты, изображавшие птиц, выходит, работали за кулисами с совершенством звуковоспроизводящей техники! А вот звук пастушьего рожка на другом берегу Клязьмы Станиславский действительно записал на валик новенького фонографа, запомнив, что Чехову нравился этот звук. «Вышло чудесно, и теперь этот валик очень пригодился», — писал он Чехову осенью 1903 года, перенося любимовские реалии прямо в спектакль (I. 8 : 511).
На основании своих зрительских и слуховых впечатлений Брюсов сделал вывод о натуралистической эстетике Чехова и Художественного театра, построенной на слепом копировании сценой звуков, художником — ландшафтов и актерами — первых встречных. Он считал, что Чехов уподобляется в «Вишневом саде» фотографу-любителю, объезжающему с кодаком, вмонтированным в глаз и в ухо, российскую провинцию, чтобы потом демонстрировать любопытным свои изящно составленные альбомы из картинок и типов, подсмотренных в реальности, и из портретов мало привлекательных лиц. А искусство Художественного театра, которое замечает тысячу мелочей на картинках и в лицах, «отснятых» кодаком Чехова, не имеет ничего общего с подлинным искусством, зовущим к познанию тайн и истин, — считал поэт.
Припомнив, что Чехову, кроме дорога в усадьбу Алексеевых, любимовской церковки со скамейкой подле нее, реки, пастушьего рожка, телеграфных столбов, ведущих к городу, нравился еще и шум поезда, погромыхивавшего по железнодорожному мосту над оврагами и Клязьмой, Станиславский просил Чехова, приступая к постановке «Вишневого сада»: «Позвольте в одну из пауз пропустить поезд с дымочком» (I. 8 : 518).
«Мост — это очень хорошо. Если поезд можно показать без шума, без единого звука, то — валяйте», — соглашался Чехов (II. 13 : 312). И просил жену «удержать» Станиславского от звуков. Переизбыток звуковых и других подробностей пугал Чехова. Он боялся отождествления сцены с натурой, которым Станиславский иногда чрезмерно увлекался.
Станиславский послушно исполнял все пожелания Чехова и по части декораций, и по части звуков. А партитуру звуков в первой сцене первого действия — приезда Раневской: бубенчики лошадей, хлопанье дальней двери, веселые, возбужденные голоса, хлопанье ближней двери, приближающиеся голоса — громче, громче, громче — выстроили так 146 точно, что на одном из спектаклей зал аплодировал именно режиссеру и театру — до выхода актеров на сцену.
Недовольства автора, казалось, ничто не предвещало.
Пейзаж второго акта изображал крутой глинистый берег реки и даль с полукруглым горизонтом. Он жил, он дышал в спектакле, освещая живописной перспективой все происходящее на сцене — на окраине сельского кладбища. Овражек с развалившейся бревенчатой часовенкой, две сосенки или два тонких ствола березок (кто-то из рецензентов видел сосенки, кто-то березки) — окрашивались косыми лучами заходящего солнца. Потом на рыжие холмы спускалась вечерняя мгла, и на ночном летнем небе постепенно зажигались редкие звезды. Кто-то из писавших о спектакле заметил только одну звезду. А когда невидимая луна разливала на пейзаж свой розоватый свет, из беседки-сторожки-часовенки выбегали Петя и Аня.
С этого момента фактор декорации переставал существовать. На сцене были Петя и Аня. И больше ничего, кроме них.
Мейерхольд, посмотревший спектакль Художественного театра в феврале-марте 1904 года и не согласившийся ни с подходом Станиславского и Немировича-Данченко к пьесе, ни с настоящими оврагом и часовенкой — под голубым небом с тюлевыми оборочками, не похожими ни на небо, ни на облака (V. 17 : 121), находил, тем не менее, что пейзаж второго акта «поразителен» в «декоративном отношении» (V. 16 : 45). Об этом он написал самому Чехову.
В третьем, бальном действии Симов делал акцент на двуплановости в расположении комнат, переднем и дальнем планах, в четвертом — на контрасте обстановке первого: мебель была частью вывезена, частью сложена в кучу. Картины, портреты, фотографии были сняты со стен, оставив выцветшие следы на обоях. Вишневый сад с поющими птицами уже был полувырублен, а вместо веселого щебета раздавались удары топоров по стволам.
Все по части оформления сцены с Чеховым было согласовано.
Симов, художники-живописцы, реквизиторский и бутафорские цеха, осветители и рабочие, отвечавшие за звук, — бубенцов, лошадиных копыт, подъезжавшего и отъезжавшего экипажа, хлопнувших дверей, пастушьего рожка, топоров по деревцам и сорвавшейся бадьи, — действовали под непосредственным руководством Станиславского и Немировича-Данченко в полном соответствии с режиссерским планом.
Но он непрерывно менялся — вплоть до последних предпремьерных дней.
Чехов был недоволен декорациями.
Ему не нравилось, что в первом акте нет впечатления былого богатства, — свидетельствует Книппер-Чехова73; что «бутафорские мелочи отвлекают зрителя, мешают ему слушать… Заслоняют автора», — 147 свидетельствует Карпов. «Знаете, — говорил Чехов Карпову, посмотрев “Вишневый сад” в исполнении провинциальной труппы, пытавшейся повторить постановку Художественного театра, — я бы хотел, чтобы меня играли совсем просто, примитивно… Вот как в старое время… Комната… На авансцене диван, стулья… И хорошие актеры играют… Вот и все… Чтоб без птиц и без бутафорских настроений» (II. 21 : 490).
Декорацию второго действия он находил «ужасной». Ему представлялась южная природа и степные просторы, — свидетельствует Дорошевич, — Симов написал подмосковный левитановский пейзаж, скопированный с любимовского и наро-фоминского. «Что это за декорация! Пермская губерния какая-то, а не Харьковская», — ворчал Чехов74. Обсуждая со Станиславским декорации, он не говорил о юге. Но о юге знали Дорошевич и Ольга Леонардовна. И, по-видимому, Симов. Но это выяснилось много позже премьеры в Художественном. Давая интервью корреспонденту «Комсомолец Донбасса» в городе Сталино в 1939 году, во время гастролей там Художественного театра, Ольга Леонардовна подтверждала, что Чехов долго спорил с Симовым, оформлявшим «Вишневый сад»: «Мало юга», — говорил Антон Павлович художнику75.
Симовский пейзаж второго акта в таком случае действительно путал все карты. В условиях природы средней полосы звук сорвавшейся бадьи, характерный для южных шахт, был по меньшей мере «странен».
Но ведь у Чехова этот звук — не только география.
Не устраивало автора и качество звука в Художественном во втором акте, в разгар умных речей Пети, и в финале четвертого.
В финале четвертого ему слышался «отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий и печальный». Что это такое? Знавший толк в делах Лопахин принял его за звук бадьи, сорвавшейся где-нибудь далеко в шахте. Гаеву показалось, что это крик цапли. Трофимов был уверен, что кричит филин. В конце спектакля его перекрывал стук топоров по дереву. Чехов считал, что звук сорвавшейся бадьи «должен быть гораздо короче и чувствоваться совсем издалека. Что за мелочность, не могу никак поладить с пустяками, со звуком, хотя о нем говорится в пьесе так ясно», — выговаривал он Немировичу-Данченко, полагая его ответственным за постановочную часть (II. 14 : 65).
Звук искали с помощью длинных струн разной толщины и разного металла, свисавших за кулисами с самого верха, с рабочей галерки под колосниками до полу, до планшета, и толстой лохматой оттяжной веревки, хлеставшей по струнам с разной силой. Каждый удар сопровождался аккордом на контрабасе и ударом по двуручной вертикально поставленной пиле. Чехов говорил, что этому звуку не хватает грустной тональности и что его надо брать голосом: «Не то, не то, — повторял он, — жалобнее нужно, этак как-то грустнее и мягче», — вспоминал Станиславский настойчивые разъяснения автора76. Голосом пробовал Грибунин. 148 Ничего не выходило. Немирович-Данченко тоже считал, вспоминая эти муки, что «звук так и не нашли» (III. 3 : 107).
Об оркестровом, симфоническом звуке безумия, перекрывавшем звук колокольчика в «Польском еврее» в театре Общества искусства и литературы, Станиславский не вспомнил. В «Вишневом саде» Чехова в Художественном звуки могли быть только конкретно-иллюстративными. Их было много. «За сценой кричат иволги и кукушки, играют жалейки, рубят деревья, гудит фисгармония, катаются биллиардные шары, потом раздается какой-то протяжный и пугающий звук, словно что-то тяжелое валится на струны, гудит и грохочет», — фиксировал критик свои слуховые ощущения77.
В 1939-м, во время гастролей Художественного театра в донбасских степях, которые так хорошо знал Антон Павлович, «Вишневый сад» играли в 800-й раз. И Ольга Леонардовна, тоже юбилярша — все 800 раз она бессменно играла Раневскую, — страшно беспокоилась: не покажется ли донбасским зрителям этот звук сорвавшейся бадьи, доносящийся издалека, очень неправдивым? Оказалось, что только немногие старики сохранили в памяти этот звук, когда-то поразивший Чехова, и в большинстве донецких шахт, работавших с механическими бурами и подъемниками, давно забыли такое слово: бадья. Тогда, во время гастролей в Донбассе, семидесятилетняя актриса-орденоносец вместе с другими актерами, игравшими с ней в «Вишневом саде», спускалась в шахту 17 – 17-бис в селе Старобешево Сталинской области, где работала тракторная бригада знаменитой стахановки Паши Ангелиной. Трактористки, счастливые встречей, торжественно вручили Ольге Леонардовне самое дорогое, что было у них, — шахтерскую лампочку. Истории осталась фотография Ольги Леонардовны с этим подарком на митинговой трибуне, украшенной советскими лозунгами, перед тысячной толпой. А в конце гастролей благодарные рабочие, руководители областных и городских партийных организаций и депутаты Верховного Совета СССР от Донбасса преподнесли ей в Сталино макет угольной шахты.
Художественники гордились, что им выпала честь приехать в этот город, носящий имя великого вождя.
Все это случилось в «новой жизни», куда Чехов отправил Петю и Аню.
Тридцать пять лет назад, в «старой жизни», когда Чехов сидел в зале Художественного, а на сцене репетировали «Вишневый сад», готовя его премьеру, все было не так, как хотелось автору: исполнители, декорации, звук сорвавшейся бадьи, другие звуки.
Ему не нравились далее звуки, доносившиеся из открытого окна в первом действии. На звуках «пернатого царства» стоял и Вишневский, не занятый в сценах. Он «курлыкал голубем». Чехов ворчал: «Но это же египетский голубь!»78, что означало: «Не русский!»
149 Раздражал его и Станиславский, когда тот с гребенкой у губ озабоченно-серьезно искал звук лягушачьего кваканья.
Лягушки начинали свой концерт в конце второго акта, когда садилось солнце и на поляну спускался туман, — намечал Станиславский в режиссерском плане. «Дети, совершенные дети… Декорации из Пермской губернии, актеры в большинстве играют плохо, а они ищут лягушек», — сердился Чехов. Это записал Качалов, сидевший рядом с Чеховым в чайном кафе театра во время репетиции, когда Станиславский и помощники режиссера с гребенками в руках подсели к ним (II. 1. К. 66. Ед. хр. 136 : 6).
Эпопея с комарами выводила Чехова из себя.
Еще в режиссерском плане на реплику Лопахина, втолковывавшего Раневской и Гаеву: «Простите, таких легкомысленных людей, как вы, господа, таких неделовых, странных, я еще не встречал. Вам говорят русским языком, имение ваше продается. Поймите — продается! Надо же что-нибудь делать!» Станиславский записал, намечая мизансцену для Гаева: «Глубокомысленно чертит по земле тросточкой». И добавлял: «Не забывать о комарах». И в патетичном монологе Лопахина о людях-великанах на фоне живописно-красивого заката: «Иной раз, когда не спится, я думаю: господи, ты дал нам громадные леса, необъятные, поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами», — Станиславский сочинял целую картину с живыми тварями, снижавшими лопахинский пафос: «Тишина в воздухе, только птичка кричит. Молчание. Комары одолевают, налетела новая стая. То и дело раздаются щелчки об щеки, лоб, руки. Все сидят, задумавшись, и бьют комаров» (I. 12 : 361).
Очевидно, что в режиссерской партитуре Станиславского комары — не бытовизм и не ортодоксальный реализм, которым добивали режиссера его оппоненты. Тут, может быть, намечались черты фарса, которого так не хватало в спектакле Чехову. «Зачем это? Это уже было в “Дяде Ване”», — спорил Чехов со Станиславским, увидев, что Гаев хлопает комаров. Но Станиславский не отступал и к концу спора примирению спросил Чехова: «А можно мне только двух комаров убить?» «Можно, — ответил Чехов, — по в следующей пьесе Вам этого не удастся сделать. Я непременно напишу так, что действующее лицо скажет: “Какая удивительная местность — нет ни одного комара”» (II. 1. К. 66. Ед. хр. 136 : 8 – 9). Это запомнил Леонидов.
Чехов не шутил, сердился. А Станиславский в «Моей жизни в искусстве», признавая, что иногда злоупотреблял внешними сценическими средствами, потому что недостаточно владел внутренней техникой, записал этот факт так: «“Послушайте! — рассказывал кому-то Чехов, но так, чтобы я слышал. — Я напишу новую пьесу, и она будет начинаться так: "Как чудесно, как тихо! Не слышно ни птиц, ни собак, ни кукушек, 150 ни совы, ни соловья, ни часов, ни колокольчиков и ни одного сверчка"”. Конечно, камень бросался в мой огород» (I. 4 : 345).
Но более всего угнетала Чехова в трудно налаживавшемся спектакле «дурная сентиментальность». Вину за нее Чехов целиком возлагал на Станиславского.
Станиславский бывал сентиментальным.
В четвертом акте «Вишневого сада» его чрезмерная чувствительность находила благодатную почву.
Наверное, Немирович-Данченко убрал бы все излишества.
Но они были весомым доказательством его незаменимости.
Определяющее настроение четвертого акта у Чехова — пустота, опустошенность.
Станиславский утопил сцены прощаний и отъезда в возне прислуги с ящиками, дорожными узлами, сумками, мебелью, подготовленной к продаже. Эти сцены шли к тому же на фоне «причитания баб» где-то в передней.
Чехов настаивал: когда открывается занавес и Раневская, прощаясь с прислугой, входит на сцену, — «она не плачет, но бледна, лицо ее дрожит. Она не может говорить». Ему было важно это настроение — кома в горле.
Станиславский писал в режиссерском плане, что из-за кулис доносится «слезливый голос Раневской и Гаева».
Чехов дал разрыдаться Раневской и Гаеву, но — «сдержанно, тихо, боясь, чтобы их не услышали» и — в последний момент, когда лошади уже стояли у крыльца. Только тогда брат и сестра со слезами и рыданиями бросались друг к другу.
Раневская Книппер-Чеховой не отрывала платка от глаз.
Но и Гаев Станиславского плакал непрерывно.
Плакал и тогда, когда говорил, как он успокоился и повеселел, когда все разрешилось и позади страдания от неопределенности.
И когда сестра целовала любимые стулья и вещи.
И когда разглагольствовал: «Друзья мои, милые дорогие друзья мои! Покидая этот дом навсегда, могу ли я умолчать, могу ли удержаться, чтобы не высказать на прощание те чувства, которые наполняют теперь все мое существо».
Станиславский не знал еще, он еще не приступил к работе над своей системой творчества роли, что основа искусства театрального актера — действие и что нельзя играть на сцене эмоцию.
И Андреева в роли Вари не сдерживала слез, когда Лопахин, обрадовавшись предлогу, торопливо уходил от нее — навсегда: «Сидя на узлах с вещами, она смотрела перед собой широко открытыми глазами, тихо всхлипывала, вздрагивая плечами. Мне казалось, что слезы ручьями 151 льются из ее глаз», — писала ученица школы МХТ В. П. Веригина, вспоминая премьеру (V. 1 : 370).
«Сгубил мне пьесу Станиславский», — сокрушался Чехов, сидя на репетициях четвертого акта, тянувшегося для него «мучительно» долго. Больше всех затягивал акт Станиславский — Гаев. Чехов с трудом удержался, чтобы не высказаться при всех: «Как это ужасно! Акт, который должен продолжаться 12 минут maximum, у вас идет 40 минут!» — сказал он жене (II. 14 : 74).
Но 12 минут занимает только читка четвертого акта. Автор, далекий технологическим аспектам сценического искусства, отождествлявший время жизни и сценическое время, полагал, что 12 минут достаточно, чтобы передать зрителю самое важное, что есть в пьесе с точки зрения драматурга — ее текст.
Повторялась старая история. Ольга Леонардовна долго помнила ее. Великим постом 1899-го Чехов в первый раз смотрел свою «Чайку» в исполнении художественников. Играли специально для него на сцене театра «Парадиз». После просмотра «мягкий, деликатный Чехов, — рассказывала Ольга Леонардовна, — идет на сцену с часами в руках, бледный, серьезный, и очень решительно говорит, что все очень хорошо, но “пьесу мою прошу кончать третьим актом, четвертый акт не позволю играть…” Он был со многим несогласен, главное, с темпом […] уверял, что этот акт не из его пьесы»79.
Чехов в зрительном зале мешал и актерам, и режиссеру.
«Страдания с ролью Брута поглотились волнениями о “Вишневом саде”. Он пока не цветет, — жаловался Станиславский в конце декабря 1903 года. — Только что появились было цветы, приехал автор и спутал нас всех. Цветы опали, а теперь появляются только новые почки» (I. 8 : 521).
Спектакль был уже на выпуске.
«Работа над “Вишневым садом” была трудная, мучительная, я бы сказала. Никак не могли понять друг друга, сговориться режиссеры с автором», — вспоминала Ольга Леонардовна (IV. 2 : 59).
О том, как непросто складывались отношения автора и Художественного театра, в декабре 1903-го — начале января 1904-го писали все московские газеты. «Интересный инцидент произошел с наделавшей столько шума пьесой Чехова “Вишневый сад”. Первое представление должно было состояться в Художественном театре в последних числах декабря. Когда два акта уже были окончательно разучены, г. Станиславский пригласил А. Чехова. В его присутствии были поставлены два акта и… совершенно забракованы автором. Г. Станиславский совершенно иначе понял пьесу, чем это хотел Чехов, и поэтому, как в режиссерском, так и в драматическом отношении постановка не удовлетворила автора. Таким образом, первые два акта переучиваются артистами заново, и 152 первое представление “Вишневого сада” состоится только 7 или 8 января», — перепечатывала николаевская «Южная Россия» в первых числах января 1904 года сообщения из Москвы.
Как известно, премьеру оттянули, приурочив ее к дню чеховских имении.
Напряжение не спадало до премьеры.
Петербургский журнал «Театр и искусство» в рубрике «Московские вести» 4 января 1904 года, подтверждая газетную информацию о том, что Чехову не понравился «план постановки» Станиславского, дополнял ее «доподлинно» известной информацией корреспондентов, беседовавших с Чеховым: он «взял назад 1 акт пьесы и подвергнул его основательной переделке».
После второй генеральной репетиции — совсем накануне премьеры — был перемизансценирован четвертый акт: «Первоначально он шел в другой обстановке, — и за одну ночь успели переписать декорацию, в которой так памятны на стенах от висевших здесь медальонов пятна, так чудесно помогающие созданию общего настроения всего действия…» — записал Соболев в 1918-м воспоминания Немировича-Данченко80.
Увидев, что «дело идет вяло», и не распространяясь в объяснении причин, автор перестал бывать на репетициях.
Зинаида Григорьевна Морозова, супруга Саввы Тимофеевича, навестившая Чехова в Леонтьевском, записала: «Антон Павлович сказал: “А знаете, я больше пьес писать не буду — они (Худ. театр) меня не понимают”… и его слова “Я не знаю, что писать” были трагичны»81.
Решение автора — не бывать на репетициях — Станиславский воспринял как очередную «пощечину», но справился с самолюбием, поставив впереди личных обид интересы дела, и продолжал репетировать. Я «чист по отношению к “Вишневому саду”», — писал он Немировичу-Данченко (I. 8 : 524), продолжая общение с ним в угасавшей переписке.
Артисты играли премьеру «растерянно и неярко», — огорчался Чехов (I. 14 : 15). Они, как и Станиславский, сразу «зажили пьесой», как только прочитали ее. Накануне премьеры они были сбиты с толку.
В тех же словах — «растерянно» и «неярко» — вспоминали о среднем успехе премьеры последней пьесы Чехова в Художественном театре и Станиславский, и Немирович-Данченко.
И следующие, послепремьерные рядовые спектакли московский зритель встречал «равнодушно», — писали московские газеты.
Иного мнения придерживался «Русский листок» от 20 января 1904 года. И не он один. «Успех пьесы — не шумный, какой-то скорее расплывчатый. На мой взгляд, талантливый писатель и не мог иметь кричащего успеха. Но успех не подлежит сомнению». Репортера «Русского листка» захватила «тревожная иллюзия действительности», от которой «давно отлетел романтизм», вызывающий аплодисменты.
153 «Большая публика ни “Дядю Ваню”, ни “Трех сестер”, ни “Вишневого сада” не принимала сразу, — писал Немирович-Данченко в мемуарах “Из прошлого”. — Каждая из этих пьес завоевывала свой настоящий успех только со второго сезона, а в дальнейшем держалась без конца» (III. 2 : 214).
«Вишневый сад», в постановке Станиславского и Немировича-Данченко действительно держался на сцене Художественного «без конца», до начала 1950-х.
Чехов не дожил и до второго сезона своей последней пьесы, до ее «настоящего успеха».
«Только через десять лет публика оценила “Вишневый сад” эту “лебединую песнь” человека, своим творчеством, своими “новыми формами” совершившего огромный переворот в истории русского театра вызвавшего к жизни нового актера и новый репертуар, создавшего новую театральную культуру», — писал критик журнала «Театр» в 1914 году, вспоминая, как Чехов, «такой неторжественный», стоял среди артистов «своего театра» в вечер его «торжественного» чествования 17 января 1904 года82.
К 1914 году идея полного слияния Чехова и МХТ овладела сознанием критики и публики, превратившись в театральную легенду.
* * *
На премьеру 17 января 1904 года Чехов идти не собирался. Или чувствовал себя неважно, или боялся провала, — считал Леонидов. «Он очень волновался и совсем не был уверен в успехе своей новой пьесы», — это вспоминал Безобразов, автор одной из первых рецензий на «Вишневый сад» и Художественном83. Накануне премьеры он встретил Чехова в конторе театра и говорил с ним. Чехов оставлял администрации свой список приглашенных лиц. Критик беспокоился о своих билетах.
17 января 1904 года в 12 часов утра, как всегда в этот день, в доме Чеховых на традиционный именинный пирог собралась вся семья. Были; Евгения Яковлевна, Мария Павловна и Иван Павлович с семьей и Вишневский, С визитами пришли: Леонид Андреев, Скиталец, Куприн, Горький.
В 6 часов вечера Ольга Леонардовна собралась ехать в театр.
Антон Павлович подошел к жене и сказал решительным тоном: «Знаешь что, я в театр не поеду. Ну их!»84
И остался один дома.
В начале третьего акта Немирович-Данченко написал Чехову записку: «Спектакль идет чудесно. Сейчас, после 2-го акта, вызывали тебя. Пришлось объявить, что тебя нет. Актеры просят, не приедешь ли ты 154 к 3-му антракту, хотя теперь уж и не будут, вероятно, звать. Но им хочется тебя видеть. Твой Вл. Немирович-Данченко» (III. 5 : 357).
После третьего акта намечалось чествование по случаю именин Чехова и приуроченного к ним 25-летия его литературной деятельности. Чехов об этом не подозревал.
К третьему антракту Вишневский, отыграв свою крохотную роль в птичьем хоре первого акта, привез полубольного Чехова в театр. Публичное чествование именинника состоялось.
«Меня вплоть до выхода на сцену все стерегли, — улыбаясь, говорил он, — чтобы я, как Подколесин, через окно не удрал», — вспоминал десять лет спустя Дорошевич признание Чехова85.
Вечером 17 января 1904 года в Художественном театре собрался цвет литературной и артистической России. В креслах шехтелевского зала сидели Рахманинов, Брюсов, Андрей Белый с Ниной Петровской, Брюсов метал в их направлении гневные стрелы, Философов, Горький, Шаляпин, ведущие актеры Малого театра. Не перечесть знаменитостей, редакций газет, тонких и толстых журналов, литературно-художественных кружков и обществ Москвы, Петербурга и российских провинций, приславших в Москву своих послов и свои телеграммы.
Были в тот вечер в Художественном, конечно, и Смирновы. И Елена Николаевна, и Сергей Николаевич, и старшие девочки девятнадцатилетняя Маня и семнадцатилетняя Наташа.
С этим «Вишневым садом» и чествованием Маня Смирнова намучилась. Она узнала, что не попадает на спектакль! Всем желающим билетов не хватило! Это ее восклицания. Накануне премьеры утром 16 января, «как шальная», она понеслась к Художественному. Перед входом в кассы и к администратору стояла огромная толпа. Всем хотелось достать билетов. Маня добилась их. Помог, наверное, дядя Костя. А может быть, и Ольга Леонардовна или Вишневский. Счастливая, утром 17 января Маня послала Чехову личную телеграмму: «Поздравляю дорогого именинника желаю полного успеха “Вишневому саду”» (II. 1. К. 59. Ед. хр. 20 : 14).
Она была в курсе всех событий и у Чеховых, и у Алексеевых, и в Художественном.
Еще накануне Рождества она и Наташа забегали к Антону Павловичу и говорили с ним.
Ольга Леонардовна в те напряженные дни пропадала в театре.
Встречая новый, 1904 год, как всегда, дома, своей семьей, «скромно и симпатично», Маня в полночь молилась — «помолилась и за Вас с Антоном Павловичем, и за успех “Вишневого сада”», — сообщала она Ольге Леонардовне (IV. 1. № 4902).
В конце декабря она смотрела в Художественном «Юлия Цезаря» и возобновление «Одиноких». Ольга Леонардовна играла в «Одиноких» 155 главную женскую роль. Пьесу Гауптмана ставили в Художественном, как чеховскую: с глубокими психологическими подтекстами.
Маня целую неделю после «Одиноких» была «не своя». Эмоции захлестывали ее: «Целый день думаю, но сама себе не отдаю отчета в этих мыслях… одно сменяется другим, и все покрыто каким-то туманом; и ни над чем не могу сосредоточиться; так что урок музыки прошел плохо (играю, а мысли далеко, далеко…), а урок гармонии еще хуже», — писала Маня Ольге Леонардовне, когда во второй раз посмотрела «Одиноких», пытаясь разобраться в своих впечатлениях (IV. 1. № 4904). Она еще училась на музыкальных курсах Визлер.
Художественники всегда подталкивали зрителя к духовной работе. Маню тянуло на «Одиноких», хотя ясности и во второй раз не прибавилось, только было грустно и тяжело на сердце и не было слез, как на чеховских спектаклях, облегчавших душу.
Все последние дни перед премьерой «Вишневого сада» Маня жила на нервах. Садилась за рояль, хваталась за гармонию, принималась читать — ничего не могла делать, все валилось из рук. 15 января, не выдержав, отправилась на генеральную, но не досмотрела ее до конца, а прямо помчалась к Чехову — так тянуло к нему, что не устояла. Он сидел дома, уже отчаявшись как-то повлиять на Станиславского, на Немировича-Данченко, на актеров. «Он со мной говорит, а я ему не могу отвечать, так у меня голос от слез прерывается… не знаю, заметил ли он?» (IV. 1. № 4903). Для Ольги Леонардовны, репетировавшей в Камергерском, Мария Сергеевна Смирнова оставила свою визитную карточку. Ольга Леонардовна сохранила и ее в своем архиве: «Целую крепко, Господь с Вами. 17-го буду молиться. Спасибо, моя ненаглядная, обворожительная, опять Вы меня заставили плакать. 4-го действия не видала. Напишу Вам после первого представления» (IV. 1. № 4903).
Вечером накануне премьеры Маня так долго молилась за «Вишневый сад» и била поклоны за преподобного Антония, святую княгиню Ольгу и даже за Халютину с Александровым, что заснула на коленях, а потом никак не могла дойти до кровати: не разгибались ноги.
«И дождалась я наконец торжества моего дорогого Антона Павловича!» — писала Маня Ольге Леонардовне, как и обещала, после первого представления, пометив на письме: «2 часа 15 мин. утра» (IV. 1. № 4903). Взвинченная, она не могла успокоиться и, сама не своя, не отдавая отчета в мыслях, описывала Ольге Леонардовне сцену за сценой, вплоть до последней, когда Ольга Леонардовна и дядя Костя оставались на сцене вдвоем. Она бы и дяде Косте и тете Марусе написала, да боялась, что не хватит вдохновения. Она потом не раз возвращалась к впечатлениям 17 января и в письмах к Ольге Леонардовне, и в письмах к дяде Косте. Перед ее глазами стояли и спектакль, и Антон Павлович: «Только какой он сам-то был! Знаете, во время чествования я несколько 156 раз принималась плакать, право! Посмотрю на него и вдруг у меня сердце сожмется, сожмется, так жутко за него делается… прямо не могу, ну, вот опять мне слезы мешают писать… Это я от “Вишневого сада” такая нервная стала».
Ужасное предчувствие мучило не одну Маню. Оно мучило каждого, кто был в тот вечер в Художественном театре на премьере «Вишневого сада» и чествовании Чехова. И Ольга Леонардовна свидетельствует, что не было в день 17 января «ноты чистой радости»: «Было беспокойно, в воздухе висело что-то зловещее» (IV. 2 : 60).
Станиславский, в сущности, с мыслями о смерти Чехова не расставался с тех пор, как взял в руки «Вишневый сад», прочитал его, плача, и сказал Чехову, что для простого человека это трагедия, какой бы исход к лучшей жизни ни открывался в последнем акте. За горизонты, которые очерчивал Петя Трофимов, он не заглядывал.
Он задумывал в режиссерском плане и ставил в «Вишневом саде» свою версию этой трагедии.
В первом акте Раневская обнимала Трофимова, «точно это Гриша», ее утонувший маленький сын. Трофимов являлся ей, только что вернувшейся домой, в образе вестника смерти.
Сцены Трофимова с Раневской пронизывали весь спектакль.
Во втором акте «зловеще» горела лампада в маленьком оконце развалившейся часовни, стоявшей посреди могильных плит.
«Во втором акте кладбища нет», — умолял Чехов (II. 13 : 284).
Станиславский, когда говорил с Чеховым, «всегда на все соглашался, а делал по-своему», — свидетельствует Мария Федоровна Андреева (V. 1 : 329).
Основное настроение бала во время торгов у Станиславского — ожидание беды. «Тишина царит во время вечера. Можно подумать, что все собрались на похороны», — писал Станиславский в режиссерском плане в предуведомлении к третьему акту (I. 12. 375). Даже фарсовые интермедии не заглушали на премьере этого ожидания.
После третьего акта в спектакле 17 января образ смерти с бледным лицом драматурга вышел на сцену. «Смертельный недуг, что разъедал его, придавал траурную окраску всему происходящему вокруг», — вспоминал Гнедич86.
Антракт после третьего действия «Вишневого сада» стал продолжением, составной частью спектакля 17 января.
Чехов стоял на сцене, равновеликий своим невеликанам, покидавшим фамильный дом, — Раневской, Гаеву, Пищику, какими играли их художественники, — совсем неторжественный, не похожий на юбиляра, в сереньком пиджачке с небрежно повязанным галстуком и с баночкой для харканья, зажатой в кулаке. «Выходная баночка» заменила повседневный фунтик из бумаги, без которого он не мог жить ни одной 157 минуты. «Временами он вскидывал голову своим характерным движением и казалось, что на все происходящее смотрит с высоты птичьего полета, что он здесь ни при чем», он не отсюда, — вспоминала Ольга Леонардовна87.
Он уже спародировал их торжественно-замогильные речи юродивым спичем Гаева — «Многоуважаемый шкаф» — и, сойдя со сцены, как только кончился спектакль, не пошел со всеми на торжественный ужин в ресторане, а снова и снова весь вечер до ночи пародировал их в кругу семьи.
Выступавшие не слышали интонации его пьесы, взвешивая на весах истории посмертный вклад серенького пиджачка на вешалке, вынутого по случаю из «многоуважаемого шкафа», в русскую и мировую культуру, трубя в призывно-траурные фанфары. Вот один из текстов, наугад, из дорошевического «Русского слова» от 19 января 1904 года, из того же номера, в котором редактор напечатал свою восторженную рецензию на премьеру: «Да зазвучит всегда Ваше высокоталантливое слово в согласии с истинным биением русского сердца, да отразит оно ярко и ясно тяжелую действительность и мечты о лучшем будущем, да наступит скорее в Вашем творчестве момент, когда тоска сменится бодростью, грустные ноты — радостными, когда раздастся песнь торжествующей любви, заблещут лучи яркого весеннего солнца, дружно возьмется за работу русский народ на столь еще мало возделанной пиве русского просвещения и гражданственности».
Было видно, что чествование утомило писателя.
В четвертом действии, завершавшем этот чеховский вечер, в режиссерском плане Станиславского намечалось: «холод, пустота, неуютность, разгром» (I. 12 : 375).
В вечер 17 января последний акт звучал исходом.
«Пустой дом. Запертые двери, наглухо затворены окна. Старый крепостной слуга лежит на диване. Раздаются удары топора. Рубят Вишневый сад.
Словно заколачивают гроб», — описывал последнюю сцену премьерного спектакля Дорошевич.
Помещичье землевладение умирает, и Чехов прочел ему отходную, поэтически прекрасную. Помещица Раневская, ее брат Гаев, помещик Симеонов-Пищик — это смертники, — считал критик. Их ничто не может спасти, даже случай. Даже найденная на участке белая глина и железная дорога, уже проведенная предприимчивыми англичанами к имению Симеонова-Пищика, — рассуждал Дорошевич после премьеры. Их обреченность не вызывала у него сомнений: «Перед смертью не надышишься», — и Симеонов-Пищик, раздающий долги, которые никого не спасут, тоже morituri, — уверял Дорошевич читателей «Русского слова» от 19 января 1904 года.
158 Аня и Петя уходят в туманную даль. «Занавес накрывает ее как саваном», — писал кто-то из петербуржцев, прибывших в Москву на премьеру и чествование Чехова.
На премьере художественники играли трагедию, хотя Чехов не трагик, а актеры Художественного театра и сам Станиславский лучше чувствовали будничную, неслышно развивавшуюся драму, жизнь без начала и конца.
Получилась тяжелая, грузная драма, — считал Чехов.
«Немирович и Алексеев в моей пьесе видят положительно не то, что я написал, и я готов дать какое угодно слово, что они ни разу не прочли внимательно моей пьесы», — говорил он, возмущаясь, недовольный, — жене (II. 14 : 81).
«Поэзия Чехова — ирония грусти, — писал Кугель. — Это не пессимизм […] Пессимизм раздражителен, или замкнут, или суров к людям […] Чеховская грусть прозрачна. Она ничего не ждет от жизни и с усмешкою глядит на волнения», — разъяснял автор цикла статей о «Вишневом саде» в журнале «Театр и искусство»88.
«С усмешкою…»
Ни усмешки, ни иронии, без которых нет Чехова, в премьере Художественного театра не было.
Ольга Леонардовна в вечер 17 января точно играла трагедию.
Зрители отождествляли ее Раневскую с нею самой, женой писателя — кануна страшных испытаний.
За очаровательной парижанкой в рыжем парике и голубом капоте, прислонившейся к окну, распахнутому в сад, уже стоял ее черный человек, ее двойник — траурная фигура самой Ольги Леонардовны в черной креповой шляпе с длинной вуалью, с исхудалым лицом, залитым слезами, опирающейся, как на костыли, на двух друзей ее покойного мужа, Немировича-Данченко и Гольцева из «Русской мысли». Образ Чехова, он тоже morituri, как и его персонажи в «Вишневом саде», поднявшегося на подмостки и уже покинувшего их, чтобы освободить сцену четвертому акту, витал над сценами проводов, прощаний и отъездов, и плакали в скорбном предчувствии и Маня Смирнова, и Манина мама — зрители «Вишневого сада».
Они плакали и по Чехову, и по дому Гаевых, как плакали бы по своим Тарасовке и Любимовке.
Не только Станиславскому, но и всем, кто играл в «Вишневом саде» и кто смотрел спектакль в Художественном театре, этот гаевский дом с его домочадцами был «родным».
В театре ежеминутно цитировали пьесу и объяснялись друг с другом репликами Епиходова и Пищика.
Ольга Леонардовна, прочитав пьесу, говорила, что она точно «побывала в семье Раневской» (IV. 4 : 304).
159 «В пьесах Антона Павловича есть что-то родное, удивительно теплое, трогательное, видна в каждом действии, в каждой фразе, в каждом слове чуткость его натуры: я ни одну пьесу так не чувствую, как его пьесы. Хотя бы “Вишневый сад” — ведь я люблю его, люблю не меньше, чем Вы и Леонид Андреевич, — писала Маня Смирнова Ольге Леонардовне в ночь после премьеры. — В третьем действии — у меня сердце щемит при мысли, что он продается, я так Вас понимаю, когда Вы, бледная, растерянная, ходите и повторяете: “Да что же Леонид не едет!” Я в это время живу с Вами на сцене» (IV. 1. № 4905).
Маня не отделяла Ольгу Леонардовну от Раневской и Станиславского от Гаева. Маня и те, кто сидел рядом с ней в Художественном на премьере «Вишневого сада», чувствовали себя их родней. Они жили их мыслями и всем, что составляет их существо. Такого они не испытывали ни на «Одиноких» Гауптмана, ни на горьковском «На дне». Чеховский «Вишневый сад» был про них. И Чехов понимал их лучше, чем они себя. Эффект узнавания актерами и публикой самих себя обеспечивал театру катарсис.
Все происходившее на сцене Маня видела сквозь Ольгу Леонардовну: «Вы великолепны! — восхищалась она любимой актрисой. — Понимаете, Вы ведете “Вишневый сад”, если можно так выразиться. Вы лучше всех. Дядя Костя, тетя Маруся, Москвин, Качалов удивительно хороши, но Вы все-таки лучше! Вот в “Дяде Ване” нет, Мария Петровна лучше Вас, но там все одинаково хороши, а здесь Вы прямо захватываете с первого действия. Такая Вы чародейка! Ведь Ваш образ стоял перед Антоном Павловичем, когда он писал “Вишневый сад”. Ведь это Вы его вдохновили! Я за это ручаюсь, чем хотите. Вы дивная с самого начала до конца, но лучше всего у Вас два места, когда Вы стоите у окна и выходит Петя — удивительная Вы здесь — немыслимо удержать слезы, мама так расплакалась, что мы еле ее утешили! А потом еще в третьем действии, тоже с Петей, когда Вы становитесь на колени… Даже последнее действие не так захватывает; так много про него говорили, что я ожидала большего, хотя тоже плакала, когда Вы вдвоем с дядей Костей остаетесь» (IV. 1. № 4903).
Наташа, сидевшая рядом с сестрой, смотрела на сцену глазами Ани Раневской. У нее совсем не было слез.
«В последнем действии, когда Наташа вдруг сказала около меня при виде Вас и дяди Кости: “Ну, опять слезы”, — меня просто в жар бросило!» — все рассказывала Маня Ольге Леонардовне, а время уже подходило к рассвету следующего, первого послепремьерного дня 18 января 1904 года.
Так строго: «Ну, опять слезы» — с укоризной, говорила, наверное, Аня у Чехова: «Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная […] не плачь, мама, у тебя осталась жизнь впереди». Наташу наполняла и 160 окрыляла Анина радость. Она уже летела вместе с ней навстречу будущему, строя планы новой жизни, которая наступит после окончания гимназии. Ей слышалась радость в голосе Ани, устремившейся вслед за Петей, и в их песне — в два голоса.
Маня плакала вместе с Раневской — Ольгой Леонардовной, уповая на Господа.
Наташа откликалась Петиным призывам, обвороженная ими.
И обе они, вступая вместе с Аней во взрослую жизнь, прощались с «золотым» счастливым детством, выпавшим четвертому колену табачных фабрикантов Бостанжогло, потомственных почетных московских граждан.
Будущее должно было воздать каждой по их вере.
161 ГЛАВА 3
КОНЕЦ ЧЕХОВСКОЙ ПОРЫ
В январе — марте 1904 года «Вишневый сад» прошел на сцене Художественного театра в Камергерском 29 раз. 19 марта закрыли шестой московский сезон. В конце марта начались традиционные — четвертые — петербургские гастроли, продлившиеся весь апрель. В гастрольную афишу включили, кроме «Вишневого сада», громоздкую постановку «Юлия Цезаря» — первой премьеры истекавшего сезона. Им открывали гастроли. Немирович-Данченко заранее выехал в столицу осваивать сцену суворинского театра, где играли художественники: репетировать массовые сцены — толпу Рима — с петербургскими статистами; ставить свет, шумы, примеряться к акустике в сложной по технике картине бури с дождем и молниями. В массовых сценах было занято не просто 236 статистов, по 236 разнообразных исторических персонажей.
«Петербургский листок» одобрил в «Юлии Цезаре» художественников «толково налаженную толпу»89.
«Народные сцены в “Цезаре” я вел хоть и самостоятельно, но на 3/4 по Вашей школе», — благодарил Немирович-Данченко Станиславского за школу (III. 1. № 1614).
Все петербургские критики оценили в «Юлии Цезаре» красоту знойно-пестрых картин уличной жизни Древнего Рима с остатками старины и отметили режиссерскую выдумку в последнем акте — эффект движения огромной темной массы войск, создаваемый небольшим количеством участников. Статисты располагались ниже уровня сцены, так что у горизонта равнинной местности, замкнутой холмами в декорации Симова, видны были головы в шлемах, латы и пики. Первые воины, закончив проход перед зрителем, успевали замкнуть колонну сзади, и масса двигалась из кулисы в кулису на заднем плане сцены сплошным непрерывным потоком.
Но все писавшие в Петербурге о спектакле Немировича-Данченко сходились и в том, что эпизоды, где участвовала удивительная по разнообразию живая толпа, слишком картинны и что шекспировская трагедия у художественников скорее музей, выставочная галерея декорационных и режиссерских шедевров, чем истинный драматический театр, где должен царить актер.
Тут не было ничего нового в сравнении с тем, что писала о Художественном театре петербургская критика с первых гастролей москвичей, с весны 1901-го. Художественники рассматривали актера в целостной системе спектакля, поддерживаемой всем спектром постановочных средств театра. А столичные критики считали, что в труппе нет выдающихся 162 дарований и что она работает, как хорошая машина, отсчитывая такты и выдерживая паузы. На поклонников Александринки и ее мастеров игра московских актеров и в чеховских, и в не чеховских спектаклях — без желания воздействовать на публику, зажечь ее, «про себя», «вполголоса», без ожидаемого от гастролеров блеска — производила «гнетущее впечатление». Они не принимали «несвободы» актера в роли. Петербургские газеты и в 1901-м, и в 1902-м, и в 1903-м писали о том, что режиссура москвичей сковывает актера постановкой, заслоняет и глушит его ландшафтной живописью, захламленным интерьером, выверенными мизансценами и подчинением ансамблевому исполнению, убивая тем самым собственно сценическое искусство, искусство драматического актера.
И в 1904-м, встречая москвичей, театрально-критический Петербург, как и в предыдущие гастроли, иронизировал над ними, приводя им в пример своих раскованных актеров-мастеров. Те выходили на публику с одной-двух репетиций. И с успехом. А режиссеры Художественного театра, не успев высадиться на петербургскую землю, принялись снова репетировать «Юлия Цезаря», сезон отыгранного в Москве. «Не есть ли это доказательство, что усиленные репетиции нужны лишь маленьким актерам, не способным играть без режиссерской указки», — писала «Петербургская газета» до начала гастролей90.
О «Юлии Цезаре» высказалась вся петербургская ежедневная пресса, имевшая театральные отделы: «Новое время», «Санкт-Петербургские ведомости», «Биржевые ведомости», «Петербургская газета», «Новости и Биржевая газета», «Петербургский листок». И в той или иной степени отрицательно.
От штатного рецензента суворинского «Нового времени» Юрия Беляева Немировичу-Данченко здорово доставалось за снижение трагедии до мещанской драмы и опускание шекспировских полубогов на землю. Критик вступался за трагический гений Шекспира в «Юлии Цезаре», которому неловко, неуютно в театре «полутонов» и «настроений», в театре Чехова. Его вообще удивил этот выбор театра, чей символ — чеховская чайка. В «величественной трагедии» Шекспира «все было узко, приниженно, поверхностно», — писал Беляев в рецензии на петербургскую премьеру «Юлия Цезаря»91. Отдавая должное, постановщику, принесшему шекспировский текст и порывы стихийной страсти в жертву красивой картинке и «хваленому» ансамблю, он ерничал по поводу этого ансамбля, в котором все действующие лица спектакля — от Юлия Цезаря и Брута до статиста с одной репликой из толпы — родные братья по усредненному, заурядному мелодраматическому тону.
Шекспир — это не Чехов, «поэт уныния», и не Горький, «у которого в каждом акте пьют либо чай, либо водку, или то и другое вместе, и которых можно изображать, “как в жизни”, скрадывая подобием и скопированным 163 сходством» отсутствие героического колорита, — писал Кугель в рецензии на «Юлия Цезаря»92. Героическая трагедия требует «высоких» подмостков, ее героев нельзя низводить «до уровня партера», в трагедии нельзя «мямлить», как в мещанских пьесах, — считал редактор журнала «Театр и искусство», один из принципиальных оппонентов «повествовательного», «антитеатрального» направления в театре, когда на сцене — «как в буднично-повседневной жизни». Для Кугеля театр — это область идеального, отделенного от жизни границей рампы и приподнятого над партером.
И Станиславский в роли Брута не устраивал Кугеля — тусклым голосом, отсутствием твердого, мужественного тона и скрипучим, бесцветно-серым звуком: «Где суровая складка стоика? Где ясность принципиального убеждения?» — вопрошал он. И отвечал сам себе: «Возможно низвести Штокмана до чудаковатого профессора из Сивцева Вражка, но нельзя проделать ту же операцию с Брутом. И в ночлежку нельзя сходить, чтобы поискать Брута».
В прошлые гастроли Станиславского выделяли из ансамбля невзрачных исполнителей, пляшущих в Художественном под дудку режиссеров-дирижеров, режиссеров-диктаторов. Его любили в Петербурге. А он в Петербурге, на родине мамани Елизаветы Васильевны и деда Василия Абрамовича Яковлева, осчастливившего город мраморной глыбой Александровской колонны, всегда становился легким, каким был в юности. Ольга Леонардовна не узнавала Станиславского. И весной 1904-го его одолевали знакомые и поклонники. Особенно дамы. В свободные от спектаклей дни и в часы, когда интервьюеры не снимали с него показания, шутил Станиславский, он шатался по гостям, по торжественным утрам и обедам в его честь, принимал приглашения друзей и литераторов. Вечером шел в Александринку смотреть Савину. Она отмечала в тот апрель тридцатипятилетие сценической деятельности. После спектакля пил чай с Ольгой Леонардовной, Качаловыми и Вишневским. Или с большой компанией артистов (Лилина приболела и в гастролях не участвовала) закатывался к Донону или в ресторан Кюба. И не унывал, попав 1904-м у петербургских рецензентов «Юлия Цезаря», сторонников внерассудочной, нутряно-дионисийской свободы актера на сцене, в печальный ряд «сереньких посредственностей» Художественного. Главное испытание — «Вишневого сада» — было впереди.
На «Юлии Цезаре» всласть погарцевал и старик Лейкин, неожиданно прорезавшийся фельетонным комментарием спектакля в «Петербургской газете», где он вел постоянную рубрику «Летучие заметки»93. Талант Лейкина — блистательного юмориста — по-прежнему фонтанировал в диалогах его персонажей и бывших чеховских — его «лысого бородача купеческой складки» и супруги бородача «с широким добродушным лицом, в бриллиантовой брошке, с пальцами рук, увешанными 164 бриллиантовыми кольцами». Лейкин усадил их на «Юлии Цезаре» художественников в дальние ряды суворинского — Малого театра, что против Лештукова переулка через мостик на другом берегу Фонтанки.
Лейкинская купчиха, супруга бородача, прокомментировала всего «Юлия Цезаря» — картину за картиной, отвечая в антрактах на вопросы супруга или тихонько делясь с ним впечатлениями во время действия.
В первом акте она «пужалась» настоящей грозы, которая у Немировича-Данченко «закатывалась вовсю», и причитала: «Я думаю, у нас теперь в Лештуковом переулке в леднике сливки скисли».
Когда она смотрела на луну, ей «сыро делалось».
«А он, глупый, убежал с теплой постели от жены в одной рубашке, без одеяла спал на каменной скамейке, — поругивала она Брута — Станиславского после картины “Сад Брута”. — Образованный человек, а не понимает, что простудиться может. А потом и возись с ним жена… Ромашкой пой или шалфеем, бобовой мазью мажь…»
А Брут — Станиславский, и сам, образованный, понимал, что может простудиться. Он мучился в этой сцене: «Жизнь создалась каторжная […] приходится играть […] неудавшуюся и утомительную роль — в одной рубашке и в трико. Тяжело, холодно», — жаловался он Чехову (I. 8 : 504).
По поводу третьей картины — «Комната в доме Юлия Цезаря» — купчиха, когда открыли занавес, жарко нашептывала мужу: «Комната очень чудесная. Совсем на-отличку. Обои прекрасные… Вот будем дачу отделывать, так сделай под себя такой кабинет».
В четвертой картине — «Заседание Сената и Цезарь под мечом Брута» — всплакнула: «Ни за что ни про что убили старичка. Жил человек безобидно […] Вот теперь и вдова осталась».
Сцена убийства Цезаря ошеломляла публику исторической и бытовой достоверностью. Московский обер-полицмейстер Трепов отказался прийти на премьеру в Художественный, заявив: «Я ходить туда не буду, там царей убивают»94.
«Похороны Цезаря» мадам одобрила: «Это самое лучшее действие. Похоронили старичка честь честью. И публики сколько… и речи говорили».
Картина «Поле битвы при Филиппах», где Брут закололся, бросившись на свой меч, ей не понравилась. Она среди действия бормотала, зевая: «Скучно очень… Чуть не заснула… Все впотьмах да впотьмах…»
Не досидев до конца, которого не видать у этих москвичей, лейкинская пара в первом часу ночи пешочком отправлялась домой.
Лейкин, вытащивший Чехова в начале 1880-х в петербургскую «мелкую прессу», ничуть не переменился с того времени, когда чеховская 165 «Чайка» казалась ему «наброском пьесы — и только». Он сожалел в 1896-м о том, что Чехов не показал рукопись какому-нибудь опытному драматургу, хотя бы В. Крылову. Тот приспособил бы «Чайку» к сцене, «накачав» в ней «эффектных банальностей и общих мест», и пьеса понравилась бы публике (II. 8 : 522). Лейкинский бородач, человек из зрительного зала Александринки 17 октября 1896 года, заплатив за первое представление «Чайки», за комедию из жизни дачников, «большие бенефисные деньги», был разочарован: «Тощища и ерунда!»95
О чеховском «Вишневом саде», втором гастрольном спектакле москвичей, Лейкин умолчал. Драматургия его бывшего молодого автора, присылавшего в 1880-х в «Осколки» «летучие заметки» не хуже лейкинских и «лупившего» по заданию редактора всех подряд, в юмористику не укладывалась. Да и Худеков в 1904-м драматургию Чехова лейкинским бородачу и его супруге, лирическим персонажам фельетониста, не доверил. В «Петербургской газете», где Лейкин опубликовал свою «Летучую заметку» о «Юлии Цезаре», первой премьере московского Художественного театра, о «Вишневом саде» писал Д. В. Философов, менявший в то время мирискусническую ориентацию «освободительного эстетизма» в литературной и театральной критике на религиозно-философскую. В 1903-м он вышел из дягилевского журнала «Мир искусства» и основал вместе с Мережковскими религиозно-философский журнал «Новый путь». А «Новый путь» ждал рецензию на «Вишневый сад» художественников, заказанную еще в январе и обещанную, — от Брюсова.
Так что заочная невстреча Чехова «Вишневого сада» с Лейкиным, редактором «осколочных» заметок разгильдяев Рувера и Улисса, оказалась в некотором роде итогом прошедшего двадцатилетия.
Неуспех «Юлия Цезаря» и в Москве, и в Петербурге все же огорчал Станиславского, хотя он не впадал в «невдух». Он вообще противился включению Шекспира в репертуар: «Нага театр — чеховский […] На “Юлии Цезаре” далеко не уедешь, на Чехове — куда дальше» (I. 8 : 499). Разногласия по поводу «Юлия Цезаря», наряду с другими, весь сезон стояли между ним и Немировичем-Данченко, осложняя и без того непростые их взаимоотношения. Не слишком ценил Станиславский и своего Брута, который никому не нравился ни в Москве, ни в Петербурге, и постановка Немировича-Данченко его не удовлетворяла: «Постановка делалась не столько в плане трагедии Шекспира, сколько в историко-бытовом плане» (I. 4 : 340).
Петербург подтверждал правоту Станиславского.
Гастроли «Вишневого сада» начались в Петербурге на фоне неуспеха «Юлия Цезаря» у столичной критики. Спектакль Немировича-Данченко поддержали всего двое: Л. Я. Гуревич, отбивавшая нападки на Художественный Кугеля, и Амфитеатров, давний приятель Чехова и 166 Немировича-Данченко и недавний — Станиславского. Но их статьи растворились в общем критическом потоке.
Эмоционально захваченная спектаклями москвичей, Гуревич, в отличие от большинства петербургских критиков, видела в искусстве художественников перспективу возрождения отечественного сценического искусства. Свою статью с обзором гастролей и одобрением «Цезаря» в апрельском выпуске журнала «Образование» за 1904 год она так и назвала: «Возрождение театра».
Станиславский был покорен редкостным театральным зрением Гуревич. А Гуревич с той памятной для нее весны «Юлия Цезаря» и «Вишневого сада» художественников в Петербурге и личного знакомства со Станиславским, окрыленная его вниманием, поменяла литературно-педагогическую ориентацию в журналистике на театрально-критическую.
С Амфитеатровым, другим театральным критиком, поддержавшим и «Юлия Цезаря», и «Вишневый сад» и занимавшим особую позицию в отношении к художественникам среди петербургских рецензентов, Станиславский познакомился через его супругу Илларию Владимировну. Александр Валентинович был женат на ней вторым браком. В 1902-м Иллария последовала за мужем в Минусинск Иркутской губернии, куда Амфитеатров угодил за фельетон «Господа Обмановы». Ольга Леонардовна подружилась с ней, когда Александра Валентиновича, приятеля будильницкой молодости Чехова, перевели из Минусинска в Вологду, а Иллария несколько дней по дороге в Вологду к мужу провела в Москве. Ольга Леонардовна тогда затащила ее и Марию Павловну Чехову на обед к Алексеевым в красноворотский дом, а потом писала Чехову: «Я много разговаривала с Евлалией Амфитеатровой. Она мне рассказывала про Минусинск […] как там страшно было жить […] Рассказывала […] как она была актрисой, как встретилась с Амфитеатровым» (II. 13 : 443). Чеховы звали Илларию Евлалией.
Весной 1904-го Амфитеатров с семьей жил под Петербургом в Царском Селе и писал под псевдонимами в газете «Русь». «Забравшись в Петербург, живу в нем в положении весьма висячем, что, разумеется, лучше, чем умереть в таковом, но все же не радость. Сижу — вроде щедринского зайца у волка под кустом: может, съедят, а может быть, и помилуют», — сообщал он о себе Чехову (II. 1. К. 35. Ед. хр. 30 : 10). Антимонархист-радикал Амфитеатров ждал очередного ареста. И после гастролей художественников дождался.
«Днем у телефона встретил Иллариона Владимировича. Он уже написал хвалебную статью, которая появится завтра в “Руси”», — писал Станиславский жене на следующий день после премьеры «Юлия Цезаря» в Петербурге (I. 8 : 534). Он намекал, видимо, на то, что глава дома Амфитеатровых — Иллария Владимировна и что Александр Валентинович — в ее власти.
167 Ольга Леонардовна, Немирович-Данченко, несмотря на свою занятость, и Станиславский во время столичных гастролей театра ездили к Амфитеатровым в Царское Село на обед.
Немирович-Данченко, выехавший из Москвы заранее, в середине марта, готовил в Петербурге и гастроли труппы, открывшиеся «Юлием Цезарем», и будущий сезон. Он встречался с Горьким, обговаривая с ним «Дачников». Пьеса близилась к завершению. Репертуар Художественного в первые годы нового века строился на драматургии Чехова и Горького. После премьеры «Вишневого сада» ждали новую пьесу Горького.
В Петербурге в апреле Горький читал «Дачников» труппе.
«Он в косоворотке и (о ужас!) действительно с бриллиантовым кольцом на пальце, — секретничал с женой Станиславский в письме к ней из столицы, но без лейкинского юмора о бриллиантах на пальцах широколицей купчихи с Лештукова переулка. — […] Чтение оставило на всех ужасное впечатление […] Пьеса […] ужасна и наивна […] Неужели он погиб и мы лишились автора? […] Вопрос: наш он или нет — стоит передо мной, как призрак. Вечером мы играли “Вишневый сад” плохо, так как все думали о Горьком, а не о Чехове» (I. 8 : 540).
И Ольга Леонардовна сообщала о горьковских «Дачниках», «наивно оплевывавших интеллигенцию», в очередном отчете мужу после петербургской читки пьесы. Переписка супругов Чеховых была почти ежедневной с обеих сторон. Перенося на новую пьесу Горького свое неодобрение его романа с Марией Федоровной Андреевой, Ольга Леонардовна писала мужу: «Дескать, мы все дачники в этой жизни» (IV. 4 : 371) — с интонацией Раневской о проекте Лопахина — Вишневый сад и землю отдать в аренду под дачи: «Дачи и дачники — это так пошло» (II. 3 : 219).
Перипетии романа Горького и Андреевой были главными новостями, сотрясавшими Художественный театр и в Москве, перед отъездом в Петербург, и в Петербурге. Подробное и с разных сторон изложение их летело почтой в Ялту, пока их не перекрыли впечатления и итоги гастролей.
К себе на юг Чехов перебрался во второй половине февраля. Переписка его с Немировичем-Данченко — из-за занятости Немировича-Данченко подготовкой гастролей и «Дачниками» Горького — временно затухла. Но связь Чехова с театром, завершавшим московский сезон двадцать девятым представлением «Вишневого сада» и апрельскими спектаклями в Петербурге, не обрывалась. Ему писали верные Вишневский и Ольга Леонардовна с конца февраля — весь март и весь апрель и Стахович — в конце февраля и в марте. В Петербурге Стахович был коротко, несколько дней. Боевой генерал, он был призван в действующую армию. Еще в январе, когда японская эскадра броненосцев и крейсеров начала бомбардировку Порт-Артура, были разорваны дипломатические 168 отношения России с Японией. В феврале — апреле военные действия на Дальнем Востоке продолжались. В Москве и особенно Петербурге из-за обострения военной ситуации на тихоокеанской русско-японской границе наблюдался отток публики из зрительных залов. Тревожные военные известия, приходившие с Дальнего Востока в апреле, понижали коммерческий успех гастролей и всего сезона.
Андреева еще в феврале решила уйти из театра. За ней — играть в Риге — чуть не ушел из театра Качалов.
Ольга Леонардовна сплетничала Чехову о Марии Федоровне и Горьком: «Поговаривают, что будто она выходит замуж за Горького […] Кто знает! Никто не жалеет об ее уходе, т. е. в правлении, в труппе не знаю. Что из этого выйдет? Не произошел бы раскол в театре! Не знаю еще, что думать. Что тут замешан Горький, это бесспорно. К чему эти свадьбы, разводы!» (II. 1. К. 77. Ед. хр. 7 : 8)
«Никто не жалеет об ее уходе…»
Тут вылезало потаенное. Ольга Леонардовна не забыла, как в 1900-м, когда Художественный играл в Ялте и актеры сутками толклись в гостеприимном ауткинском доме Чеховых, Антон Павлович размышлял: жениться ему на Андреевой или на Книппер. А Лилина еще со времени театра Общества искусства и литературы ревновала Станиславского к Андреевой, занимавшей первые роли и в Обществе, и в Художественном и оттеснявшей ее на второй план. Осенью 1903-го Мария Федоровна отобрала у нее роль Вари при распределении ролей — вопреки воле автора — с помощью голоса Саввы Тимофеевича Морозова в правлении театра, принудив ее согласиться на роль Ани, ей не по возрасту.
Ольга Леонардовна держала Чехова в курсе того, что сказала Мария Федоровна — Муратовой, что Горький — Немировичу-Данченко: «Горький сказал Немировичу, что они сходятся с Марией Федоровной совсем. Что из этого выйдет! Как мне до боли жаль Екатерину Павловну!» (II. 1. К. 77. Ед. хр. 7 : 35 об.)
Екатерина Павловна Пешкова — это жена Горького.
О «глупом маневре» Андреевой, то намеревавшейся уйти из театра, то остававшейся, и о Горьком сплетничал Чехову и Вишневский: «Поговаривают теперь, что она не уйдет. Максим глупит! Лучше бы он занимался делом и работал бы что-нибудь более серьезное, так как любовные дела ему совсем ни к чему» (II. 1. К. 39. Ед. хр. 9в: 9).
Вместо Марии Федоровны на роль Вари в «Вишневом саде» ввели Литовцеву, супругу Качалова. «Литовцева хорошо играет Варю», — успокаивала Ольга Леонардовна Чехова, который жалел об уходе Андреевой. Он видел «резкую» разницу между Андреевой и дублершей и тревожился о падении исполнительского уровня в своем спектакле, который ему и без того не нравился.
169 В Петербурге Андреева доигрывала Варю.
«Спасибо Вам за прошлое и будьте счастливы», — кротко простился с Марией Федоровной Станиславский (I. 8 : 531).
Ольга Леонардовна, Вишневский и Стахович не скупились и на другие подробности о предгастрольном «Вишневом саде».
Накануне отъезда труппы в Петербург Стаховичу пришлось «лаять в граммофон» за собачку Шарлотты, так как «первые валики поистерлись». «Будьте покойны — не ударили лицом в грязь», — рапортовал боевой генерал Чехову. «Собачка Шарлотты прибыла благополучно, а равно и пластинка с моим лаем», — полетело из Петербурга в Ялту (II. 1. К. 59. Ед. хр. 54 : 10 об.).
За это усердие Чехов подарил Стаховичу свою «Каштанку».
Спектакль смотрели, сообщала Чехову Ольга Леонардовна: в феврале Бунин, Бальмонт («в диком восторге, в безумном, лицо возбужденное» — IV. 4 : 348) и Василий Иванович Немирович-Данченко (Ольга Леонардовна его не видела); в марте Мейерхольд («говорит, что это лучшая твоя пьеса» — IV. 4 : 353) и Ермолова: «У Ермоловой в последнем акте были мокрые глаза, и аплодировала она усердно» (IV. 4 : 355).
В феврале-марте атмосфера в Художественном разрядилась. Автор уехал — дышать стало легче. Обиды всех на всех отошли. И Вишневский с удовольствием перефразировал в письме Чехову реплику прекраснодушного приживала Вафли из «Дяди Вани»: «Погода сейчас в Москве удивительная! Птички поют, и живем мы все в мире и согласии».
Дышать стало легче и играть стало легче.
В памятный вечер премьеры и чествования Чехова лирический сюжет пьесы, связанный с автором, замыкался на нем, на неизбежности его ухода. Он забивал драматический сюжет «Вишневого сада», двигавшийся к роковому дню 22 августа продажи гаевского имения на торгах, нависавшему над его обитателями. Жизненная трагедия подавляла и вытесняла 17 января 1904 года из спектакля и чеховский юмор, сказавшийся в отношении автора ко всем лицам «Вишневого сада» без исключения и уводивший драму от трагедии.
17 января 1904 года было не до юмора.
В тот день слезы лились ручьем по обе стороны рампы.
А автор негодовал.
Разыгравшись к концу января, в феврале при Чехове и после его отъезда из Москвы, режиссеры и актеры добавляли спектаклю комедийности, комедией уравновешивая трагедию, витавшую на премьере над Раневской и Гаевым, над их легкомыслием, над их умением не заглядывать вперед и отдаваться суете, миру сему. И из спектакля уходила «тяжелая драма», так раздражавшая Чехова.
170 «Москвин потешает публику», — писала Чехову Ольга Леонардовна (IV. 4 : 353).
«Гг. Артем, Москвин, Александров, Громов, г-жи Андреева, Муратова, Халютина и др. играли, настойчиво рассчитывая на определенный эффект» — на смех зрительного зала, — писал критик Н. И. Николаев в конце февраля в «Театре и искусстве» Кугеля в своей корреспонденции из Москвы96. Он смотрел восьмое представление «Вишневого сада».
Громов играл в спектакле роль Прохожего.
В третьем акте зритель весело смеялся над фокусами Шарлотты Ивановны, над беззаботно-легкими танцами грузного Пищика — Грибунина, над декламацией Начальника станции и над вылезающей из-под стола Аней. Николаева потрясла творческая мощь режиссеров, их фантазия в сцене бала, бездна их наблюдательности, их мизансцены: «Все эти танцы, фокусы, декламации, игры, вся эта калейдоскопически сменяющаяся суета импровизированного деревенского бала захватывает вас своей необыкновенной поэтичностью, своим необычайным сходством с действительностью». Но зритель, откликавшийся юмору артистов, пропускал драматизм в сцене Раневской и Пети Трофимова, — и критик, чувствовавший его у Чехова, недоумевал.
В последнем акте утрированно-комическая фигура Шарлотты, проходившей с собачкой на длинном поводке и укачивавшей спеленутого муляжного ребенка, вызвала взрыв хохота, — писал Николаев. «Для меня этот смех был ушатом холодной воды», — признавался он, содрогаясь от «преднамеренной подчеркнутости шаржей», заслонивших картину прощаний и отъезда.
Ничего подобного не было на премьере.
Мейерхольда, побывавшего в Художественном театре в марте 1904-го на одном из последних спектаклей, тоже удивило, что кривляющаяся гувернантка вылезла на передний план. «Фон становится главным, главное становится фоном», — заметил он97.
«Теперь “Вишневый сад” идет гораздо стройнее, мягче — отзыв всех»; играем легко, без переживаний и при полных сборах; на «Вишневом саде» война не отразилась, — радовала ялтинского сидельца Ольга Леонардовна (IV. 4 : 357).
«Легко, без переживаний…» Как просил автор.
Спектакль идет с аншлагами, — подтверждал Стахович: «Нельзя […] получить ни одной контр-марки, а играют по-прежнему превосходно (смею расходиться во мнении с самим автором)» (II. 1. К. 59. Ед. хр. 54 : 9 об.).
Тогда же Стахович сообщал Чехову, что вместо «зазнобушки Халютиной» Дуняшу сыграла Адурская и, «говорят, она была превосходна». И Вишневский тогда же выдал Чехову свою шутку о том, что Халютина 171 вскорости родит обезьянку от совместной игры с Александровым — Яшей и что она выходит из спектакля.
Ольге Леонардовне молодая артистка нравилась: Дуняша — Адурская — «приятная, хорошенькая, с огоньком».
«Адурская подходит к роли», — считал Станиславский.
Он был доволен тем, как уверенно и с успехом вела она Дуняшу. И шутил, состязаясь в юморе с Вишневским и Стаховичем, подхватив тяжеловесный военизированный слог, витавший и в московском, и в петербургском воздухе. Шла война. «Крейсер второго разряда “Адурская”», сменивший «занятый нагрузкой и десантом крейсер “Халютина”», проявил в сражении «геройское мужество и полную боевую подготовленность», — отчитывался Станиславский Немировичу-Данченко (I. 8 : 530). Тот уже отбыл в Петербург. Станиславский в отправленной «боевой сводке» о «сражениях» в Москве назначал его «наместником К. С. Алексеева на Дальнем Севере» — в северной российской столице.
И молоденькой выпускницей школы МХТ Л. А. Косминской, получившей «боевое крещение» на предпоследнем спектакле в Москве, Станиславский был доволен. Она вышла на сцену фактически без репетиций, заменив в роли Ани неожиданно заболевшую Лилину, и спасла спектакль. Выступить на закрытии московского сезона в последнем «Вишневом саде» 19 марта Лилина нашла в себе силы.
Выдерживая военную терминологию и шутливый тон, московский «резидент» оповещал петербургского «наместника»: из «боевого сражения» выбыл «броненосный крейсер первого разряда “Лилина” по случаю пробоины», и Москва выпустила из доков только что отстроенный «миноносец “Косминская”». «Она исполнила свое дело — большим молодцом. Шла все время крепко, ничего не напутала. Второй, третий, четвертый акты играла прямо хорошо. В первом от волнения басила, и это выходило грубо. Произвела хорошее впечатление» (I. 8 : 530).
Юмор позволял Станиславскому сбросить напряжение, скопившееся к концу сезона «утомительного» Брута и чеховского «Вишневого сада», и чуть разрядиться перед предстоящими испытаниями «Дальним Севером». А Немировичу-Данченко, сначала готовившему в Петербурге высадку московской «эскадрильи» и читавшему депеши из Москвы, а потом статьи о своем спектакле, вроде лейкинской, Кугеля или нововременской — Беляева, было не до шуток.
И Чехов, подтачиваемый болезнью, терял юмор, нервничая сверх меры в своей Ялте, вдалеке от Москвы и Петербурга, — из-за ввода необстрелянных артисток и из-за сущих пустяков, возводимых в отрицательную степень и «губивших», считал он, его пьесу вместе с Алексеевым и Немировичем.
«Скажи актрисе, играющей горничную Дуняшу […], — отвечал Чехов жене, прося передать Адурской, чтобы она прочла “Вишневый сад” — 172 Там она увидит, где нужно пудриться, и проч. и проч. Пусть прочтет непременно, в ваших тетрадях все перепутано и намазано» (II. 14 : 70).
Может быть, Чехов остался бы доволен тем, как шел спектакль в Москве после его отъезда. Или если бы посмотрел его в Петербурге. Если он в самом деле хотел в «Вишневом саде» комедии или, по крайней мере, не тяжелой драмы. В Петербурге артисты разошлись вовсю, стараясь опровергнуть обидное для них мнение столичных снобов о труппе театра как об ансамбле «сереньких посредственностей».
Но, тосковавший в Ялте, Чехов надумал ехать не в Петербург, к своим — Ольга Леонардовна звала его хотя бы на пару дней, — а в Маньчжурию — в качестве военного врача. Считал, что врач полезнее корреспондента и больше увидит. Обеспокоенный неудачами русских на фронтах, не мог сидеть дома. И не допускал мысли о том, что «Вишневый сад» — его последняя вещь. «Если в конце июня и в июле буду здоров, то поеду на войну, буду у тебя проситься», — писал он Ольге Леонардовне (II. 14 : 62). И поехал бы, как поехал на Сахалин.
«О войне, дуся, не думай. Она не должна мешать твоей работе, твоей поэзии», — отвечала Ольга Леонардовна, встревоженная фантазиями мужа (IV. 4 : 362).
«Не рискованное ли это предприятие? — и Стахович был смущен планами Чехова, но переводил все в шутку. — Кто знает, может быть, мы с Вами встретимся, и Вы меня будете лечить от тифа» (II. 1. К. 59. Ед. хр. 54 : 10 об.).
Горячие головы патриотов отрезвлял Амфитеатров, последовательный критик царского режима: «Не ездите на войну, Антон Павлович: мерзко там… стыдно подумать, за что воюем, из-за чего теряем тысячи людей» (II. 1. К 35. Ед. хр. 30 : 13).
Угодив вместо Дальнего Востока в Баденвейлер, Антон Павлович каждое утро ждал почты и военных известий. Ольга Леонардовна читала ему немецкие газеты, а позже вспоминала, как «больно» ему было слушать «беспощадно написанное о нашей бедной России» (IV. 4 : 382).
«Война меня сильно захватила, и я живу только ее интересами», — писал Чехову Вишневский, когда московский сезон закрыли, а в Петербург еще не уехали. Не занятый в «Вишневом саде», он в «Юлии Цезаре» играл Антония.
Вместе со Стаховичем Вишневский участвовал в торжественной церемонии проводов на Дальний Восток и прощания с военным министром генералом Куропаткиным и его штабом. Куропаткин был назначен главнокомандующим сухопутной армией в Маньчжурии. Церемония проходила в Дворянском собрании. Наутро Вишневский отправил Чехову послание, в котором делился с писателем «громадными» впечатлениями, разжигая в нем и без того болезненно обострившийся патриотический зуд: «Куропаткин […] это человек, которому можно 173 вполне довериться. Такого героя-полководца больше в России, в данное время, нет! Он сказал небольшую речь и […] всех забрал […] Я человек, который может принадлежать исключительно Художественному театру. Но если бы Куропаткин только поманил меня, — я весь его» (II. 1. К. 39. Ед. хр. 9в: 9 об.).
Война задела всех: и военнообязанных, и мирных граждан. И Бостанжогло-Смирновых третьего и четвертого колен тоже.
«Мне эта война покою не дает, веселье мое отняла, как гвоздь засела в голове», — писала Маня Смирнова Ольге Леонардовне в феврале 1904-го (IV. 1. № 4904). Война омрачила и веселую масленицу, завершившуюся блинами на даче Сапожниковых — было 26 человек Маниных сверстников, и бенефис балерины Гельцер в Большом.
Перед Пасхой Маня говела у тетки Александры Николаевны Бостанжогло-Гальнбек в подмосковной деревне Троица Сергиева посада. Она была привязана к Гальнбекам, как и Гальнбеки к Смирновым. В Троице было покойно, далеко от городской суеты. Маня наслаждалась природой и погодой: «Воздух в Подмосковье тих, прозрачен и свеж», — писала она Ольге Леонардовне чеховским слогом как собственным. В деревне она каталась на лыжах с Валентиной и Борисом Гальнбеками, детьми тети Саши. Каталась и с утра, и поздно вечером под звездным небом — по проселочным дорожкам, все еще белоснежным в конце зимы. Однако долго в Троице она оставаться не могла. «Приятно очень у них побывать, но я там и недели бы не выжила! Скучные они стали, единственный интерес — хозяйство. Ведь в Москве с этой войной жизнь закипела еще сильней, а они даже газет не получают и говорят: “Да пусть дерутся, нам какое дело”. Каково?» — возмущалась она (IV. 1. № 4904).
Маня осуждала Гальнбеков за их индифферентизм, как сказал бы Чехов.
Ни с Чеховым, ни с Ольгой Леонардовной она мысленно не расставалась. «Маня Смирнова все пишет мне трогательные письма», — сообщала Ольга Леонардовна Чехову (II. 1. К. 77. Ед. хр. 7 : 27). В Ялту Маня не писала, стеснялась. Ждала, когда Чехов приедет в Москву, чтобы увидеться с ним.
В доме Смирновых атмосфера была иная, чем у Гальнбеков.
С начала войны вместе с мамой и сестрами Маня дежурила с десяти до четырех по два раза в неделю на складах пожертвований для армии и флота, где собирали и выдавали на дом всем желающим москвичкам скроенные вещи для солдат. Склад находился в Средних рядах против Василия Блаженного. А вечерами в доме Бостанжогло на Разгуляе, на Старой Басманной, Маня с мамой и четырнадцатью патриотически настроенными барышнями шила армейскую одежду. «Мы массу нашили вещей для солдат».
174 И еще она помогала маме в благотворительной столовой Басманного попечительства. В столовую приходили бедные ребята из реального училища обедать. Им давали два блюда и кружку теплого молока. Потом дети готовили уроки. Маня записывала, кого нет, выдавала книги, проверяла тетрадки. Одно время она замещала заболевшую начальницу, пожилую даму. Детей собиралось до сорока семи человек, мальчиков и девочек. Мальчики шалили, девочки были смирные. Два мальчика, которые жили дальше нее, вечером, когда все расходились, провожали ее до дома.
Нагрузок в те военные месяцы у нее было с избытком. Но она по-прежнему каждый свободный вечер проводила в Художественном, пока он не укатил в Петербург: на «Юлии Цезаре», «Одиноких» или «Вишневом саде». Ни одного «Вишневого сада» не пропустила. Все двадцать девять раз смотрела его.
В последней декаде марта Маня загрустила, что зима кончена и что Художественный закрылся до осени — «полгода ждать, ужасно!»
Впечатления «Вишневого сада» перекрывали все — и возню с детьми, и войну: «Хорошая эта зима была… одна постановка “Вишневого сада” чего стоит! Сколько я с ней пережила волнений, сколько слез» (IV. 1. № 4905).
Перед отъездом Ольги Леонардовны в Петербург она пошла к обедне в басманную церковь Никиты-великомученника, простояла длинную всенощную, окропила святой водой вербу и послала ее Ольге Леонардовне: «Возьмите в Петербург на счастье» (IV. 1. № 4905).
«… Уехали», — все повторяла она в дяди-Ваниной интонации.
* * *
Ежегодные с весны 1901-го испытания «Дальним Севером» не бывали легкими ни для Чехова, ни для Ольги Леонардовны, для нее особенно, ни для Художественного театра, объявившего себя в 1902-м шехтелевской чайкой на занавесе — театром Чехова.
У Чехова с Петербургом были давние счеты, с начала 1880-х, с фельетона «Осколки московской жизни» в лейкинском журнале.
К середине 1880-х чистую юмористику он перерос.
Во второй половине 1880-х он состоялся в столице как беллетрист, печатаясь в «Петербургской газете» Худекова, суворинском «Новом времени» и журнале «Северный вестник» под редакцией Евреиновой.
В 1896-м Петербург отверг его как драматурга. Вину за провал казенной сценой его «Чайки» столичные критики переложили тогда с театра — на несценичность пьесы, и успех «Чайки», «Дяди Вани» и «Трех 175 сестер» у «московских мейнингенцев» единодушно приписали приоритету «оптического» элемента Станиславского и Симова в спектаклях художественников над исполнительским — собственно театральным на драматической сцене.
С 1896-го — провала «Чайки» в Александринке — отношения Чехова со столицей разладились.
А к концу 90-х оборвалась последняя нить, связывавшая его с литературно-театральным Петербургом: он отвернулся, как все демократы, от Суворина. Не мог принять его агрессивного антидемократизма. Он выплеснулся в позиции, занятой «Новым временем» в отношении к делу Дрейфуса и расправе властей со студенческим движением в Петербурге. Так что в столице с конца 90-х Чехов бывал редко и коротко, отдавая выезды из Ялты, если позволяло здоровье и отпускали врачи, — Москве, где его любили, где шли его пьесы и играла Ольга Леонардовна, с весны 1901-го его жена.
Чем ближе сердцу становилась Москва, тем дальше — Петербург:
Весной 1901-го Чехов возвратился в Петербург своими пьесами в исполнении труппы «своего театра» и делил с ним успех «Дяди Вани» и «Трех сестер» у публики, в среде творческой интеллигенции и неуспех — у большей части критики. Столица, помнившая провал «Чайки» в Александринке в 1896-м, ревностно с декабря 1898-го — триумфа «Чайки» в Художественном — следила за ним, не прощая ему этого триумфа. Рецензент «Санкт-Петербургских ведомостей» Э. А. Старк вспоминал в 1904-м первый приезд москвичей в столицу три года назад: «Какая свистопляска поднялась тогда почти во всех газетах, главным образом в тех, которые пользуются весом и значением. Какой это был хороший, неподдельный шакалиный вой»98.
«Газеты кусаются, но не очень», — смягчал тогда же критический накал в отзывах прессы Немирович-Данченко, сообщая Чехову в Ялту об «овационном» успехе «Трех сестер» у петербургской публики, которая «интеллигентнее и отзывчивее московской» (V. 10 : 136).
В 1901-м Чехов ежился от «шакалиного воя» столичной прессы, перебирая петербургские газеты с пасквилями нововременца Виктора Буренина на него как драматурга, на «Дядю Ваню», «Трех сестер» и художественников. «Нововременская клика», — как называл Чехов Буренина и Юрия Беляева, отвечавшего за театральный отдел суворинской газеты, — не отрывалась в критике от сюжетной реальности его пьес и их московских постановок и грубо пародировала их, ловя режиссуру на несообразностях сцены против жизни. Она задавала той в Петербурге.
«Меня, кажется, будут ругать», — трепетала Ольга Леонардовна в день премьеры «Вишневого сада» в столице, ожидая очередных оскорблений от критики, ее недолюбливавшей (IV. 4 : 363). Она была готова ко всему.
176 Станиславский давно подозревал об источнике несправедливых, с его точки зрения, оценок Книппер и убеждал ее не реагировать на них болезненно. Он говорил ей, что эти «бестактные» и «просто глупые» господа «мешают с грязью» ее и Марию Федоровну Андрееву с неприглядной целью. Марии Федоровне тоже доставалось в первые гастроли театра от петербургской прессы. Дискредитируя москвичек — украшения его труппы, газетчики-рецензенты своими «неприличными словами» создают репутацию женам и своим откровенным симпатиям, не пытаясь маскироваться, — вскрывал интригу Станиславский. «Больше всего нападают на женщин, которые могут оказать конкуренцию для жен репортеров, стремящихся на Александринку», — считал он, отводя критику от своих актрис (I. 8 : 392). И указывал пальцем на этих господ, разумеется в частном письме: «В “Новом времени” пишет Беляев, правая рука Суворина (влюблен в артистку Домашову из Суворинского театра). В “С.-Петербургской газете” и в “Театре и искусстве” не пишет, а площадно ругается Кугель, супруг артистки Холмской (Суворинский театр) и пайщик оного театра, в других газетах пишет Смоленский, влюбленный тоже в одну из артисток театра Суворина. Амфитеатров (“Россия”) пьянствует и тоже женат на артистке и т. д. и т. д.» (I. 8 : 391).
Сходную версию выдвигал и Чехов, призывая Ольгу Леонардовну не верить газетчикам: «Кугель, пишущий о театре в десяти газетах, ненавидит Художественный театр, потому что живет с Холмской, которую считает величайшей актрисой» (II. 13 : 167).
Станиславский преувеличивал значение личных мотивов в критике художественниц. У Чехова с Кугелем были свои счеты. А петербургская пресса «отделывала» — по слову Ольги Леонардовны — и мужскую часть московской труппы. Жены и любовницы были ни при чем. Труппа Художественного театра и Книппер-Чехова в ее составе демонстрировали Петербургу и в первые свои приезды, и теперь, весной 1904-го, принципиально новое качество артистизма: искусство «не игры», искусство «исчезающего» актера — возможно полного его слияния с ролью, растворения в ней.
В 1904-м Амфитеатров, переменившийся к театру, где играла супруга Чехова, писал не в «России», а в «Руси». «Россия», издававшаяся им и Дорошевичем, в 1902-м решением властей была закрыта.
В театральных отделах «Биржевых» и «Санкт-Петербургских ведомостей» в 1904-м по-прежнему печатались их штатные ведущие: А. А. Измайлов под псевдонимом А. Смоленский и Э. А. Старк — Зигфрид.
В рубрике «Листки» в «Биржевых ведомостях» писал О. И. Дымов.
В «Петербургском листке» — Н. А. Россовский.
В «Новостях и Биржевой газете» — К. И. Арабажин.
В «Петербургской газете» в 1904-м обосновался Д. В. Философов. У Худекова он — Чацкий.
177 Беляев, «правая рука Суворина», продолжал в 1904-м вести театральный отдел в «Новом времени».
Буренин, левая рука Суворина, лидер «нововременской клики», заклятый недруг Чехова, из года в год твердил: Чехов — драматург «слабый», «пустой», «вялый», «почти курьезный»; пьесы его — «упражнения в будто бы естественных, а в сущности книжно-выдуманных, иногда прямо глупых и почти всегда бессодержательных разговорах».
И в 1904-м, в канун открытия гастролей, Буренин в своей рубрике «Критические очерки» в «Новом времени» позволил себе злобные выпады в адрес Чехова и его театра. Ждать от нового творения псевдодраматурга, которого никто в Петербурге не читал, — нечего, — писал он и возмущался тем, что Чехова, «среднего, посредственного писателя», вроде амбициозного Тригорина, который обижался на «хуже Толстого», — считают теперь преемником Толстого99.
«Вишневый сад» до приезда москвичей действительно в Петербурге не читали. Сборник товарищества «Знание», подготовивший публикацию пьесы в редакции Художественного театра, вышел из печати только к концу мая 1904 года, когда гастроли в Петербурге уже закончились. У горьковского издательства были цензурные осложнения с рассказом Юшкевича «Евреи». Они задержали весь выпуск.
«А тебе Буренин хорошее красное яичко поднес?! Вот старый грубый зверь», — комментировала Ольга Леонардовна выступление Буренина, предварявшее гастроли, в письме к Чехову (IV. 4 : 361).
Православная Россия в конце марта праздновала Пасху.
Ожидая от «Нового времени» и в 1904-м нещадного «критического битья» театра за его новую пьесу и жены — за Раневскую, Чехов призывал ее отнестись к критике безразличнее: «Растерзать вас уже никому не удастся, что бы там ни было. Ведь вы уже сделали свое» (II. 14 : 76).
Сам он, сделавший свое, на Виктора Буренина не реагировал.
Неожиданный, но приятный подарок к Пасхе получили Чехов и художественники от Кугеля. Замкнувшийся в 1904-м на своем журнале «Театр и искусство», Кугель предварил петербургскую премьеру «Вишневого сада» статьей о новой пьесе Чехова «Грусть “Вишневого сада”» в двух номерах журнала — от 21 и 28 марта.
Откликаясь на просьбу Кугеля прислать ему текст до начала гастролей, Чехов распорядился, чтобы Пятницкий, управделами «Знания», выдал критику корректурные листы «Вишневого сада».
«Значит, Кугель похвалил пьесу?» — уточнял Чехов у жены, не веря до конца в известие, полученное из Петербурга (II. 14 : 79).
Похвала Кугеля, подписавшего в 1896-м в «Петербургской газете» приговор его «Чайке» («Пьеса г. Чехова мертва, как пустыня»), была для него сюрпризом.
178 Художественный театр, воплотивший Чехова на сцене, и прочитанный «Вишневый сад» заставили Кугеля пересмотреть его прежние представления о чеховской драматургии. Прежде он яростно — с «Чайки», «площадно изруганной» в 1896-м в «Петербургской газете», — отстаивал идею «антитеатральности» чеховских пьес, противопоказанных драматической сцене. Чехов «Вишневого сада», узаконивший жанровые особенности и стилистику прежних пьес, уже классик, — сказал Кугель в марте 1904-го. Драма, втиснутая в рамки романа, эпоса, не утрачивает драматизма, — признал он.
Эта эпическая составляющая в пьесах Чехова, поначалу показавшаяся элементом «антитеатральным», делала их бессмертными, пережившими автора и время их создания.
Весной 1904 года Чехов перестал быть драматургом-новатором, вызывавшим раздражение петербургской критики несценичностью своих пьес. Философов, не принадлежавший к числу поклонников драматурга, писал в «Петербургской газете» после столичной премьеры «Вишневого сада»: пьеса Чехова — «это начало академизма, т. е. невероятное совершенство формы при бедности содержания, победа умения над вдохновением»100. Но и он пьесы не читал, судил о ней по спектаклю. 1 апреля в Петербурге он смотрел «Вишневый сад» художественников второй раз. В январе 1904-го был делегирован Худековым на чествование Чехова в Москве.
«Знатоки восторгаются пьесой», — телеграфировал Чехову Станиславский после того, как познакомился со статьями Кугеля в «Театре и искусстве», предварявшими гастроли, и поговорил с Амфитеатровым, встретив его днем 30 марта «у телефона». Он тоже получил знаньевский корректурный оттиск «Вишневого сада».
Амфитеатров «без ума» от пьесы, — передавала Ольга Леонардовна Чехову. Иллария ей говорила, что Александр Валентинович «четыре ночи не спал, чтобы писать, и в отчаянии, что не может всего написать, что у него в голове и на душе» после прочтения «Вишневого сада»101.
Успех «Вишневого сада» художественников у столичных журналистов, не замеченных прежде в симпатиях к москвичам, был ясен им с первого представления.
У критиков, присутствовавших на первоапрельской премьере в суворинском театре, как и у публики, она прошла на ура, — сообщала Чехову Ольга Леонардовна. Успех у действовавшего в прессе театрально-критического бомонда был безусловен. Многие после окончания спектакля поднялись на сцену и пришли за кулисы.
Ольгу Леонардовну, Станиславского и Немировича-Данченко поздравили с премьерой и Кугель с Холмской, и Амфитеатров с Илларией Владимировной. «Чудная пьеса, чудесно все играют», — сказал Кугель Ольге Леонардовне (IV. 4 : 363).
179 Арабажин и Дымов «ошалели от восторга», — сообщала она Чехову (IV. 4 : 363).
Арабажин, очарованный «чудной поэзией в прозе элегического характера», поместил наутро в «Новостях и Биржевой газете» маленький фельетон, где сравнивал «Вишневый сад» с прелюдией Шопена, охватывающей душу настроением грусти о невозвратном прошлом и неизбежной старости.
Дымов для своей рубрики «Листки» в «Биржевых ведомостях» сочинил трогательную историю об ангелах, оберегавших в зрительном зале гастрольных спектаклей атмосферу сердечной теплоты, в которой так легко игралось художественникам.
В течение апреля 1904 года весь литературно-театральный Петербург побывал на «Вишневом саде» москвичей. Спектакль сыграли в столице 14 раз.
Люди из молодости Чехова — Худеков, Суворин, Амфитеатров, Гуревич, дочь основателя «Северного вестника» и в 1880-х его сотрудница, и младшие современники Чехова — Философов и С. Н. Булгаков, служивший в 1904-м в журнале Мережковских и Философова «Новый путь» секретарем редакции, — шли «на автора», на литератора, который дал жизнь московскому театру. Шли на Чехова. Они словно предчувствовали надвигавшийся в их жизни момент истины в отношениях с ним.
В свою последнюю весну драматург привел в театр новую критику, втянув «свой театр» в свой бывший литературный круг, расширенный молодыми интеллектуалами.
Театральная элита Петербурга шла в театр, как и прежде, «на актера».
Как и прежде, Кугель сожалел об отсутствии в темпераменте Ольги Леонардовны сверкающих красок и критиковал неподобающую в драматическом театре описательность в ее игре. Но, побежденный Чеховым, сдался художественникам, признав за ними «моральную силу», и сдабривал свои претензии к актрисе «не в его вкусе» комплиментами мягкости, красоте и законченности рисунка в ее ролях.
Театральная критика Петербурга продолжала считать чеховскую драматургию несценичной.
«“Вишневый сад” написан несценично» — это мнение Россовского, рецензента «Петербургского листка»102.
В новой пьесе Чехова, как и в прежних, статика преобладает над динамикой, картины и рассказы над действием. Пьеса уязвима «с точки зрения сложившегося идеала драмы в обычном понимании теории словесности», — писал Измайлов наутро после премьеры «Вишневого сада» в Петербурге103. И на следующий день в подробном анализе спектакля, сутки просидев над статьей, добавлял: «Как очень часто у Чехова, как почти всегда у Чехова, — это драма состояний, а не действия, стояния, а не движения»104.
180 Но в 1904-м «терзать» москвичей, игравших «несценичного» Чехова, уже классика, академика, на «Дальнем Севере» никто не отважился.
В 1904-м Буренин «шакалино» огрызался в одиночку.
Даже «Новое время» ему не «подвывало».
Юрий Беляев, обозревавший в суворинской газете гастроли художественников, тоже был побежден «Вишневым садом», этой «мечтательно-грустной современной комедией русских нравов», и сдавался аромату «Сада», его поэзии, прекрасному таланту Чехова со следами душевной усталости, и театру, проникнутому духом и настроением автора.
Театр разыграл пьесу Чехова по его «нотам» — «нельзя лучше» — оценка Беляева105. Хотя в рецензии на премьеру «Вишневого сада» в Петербурге и он своих традиционных претензий к театру не снимал.
«Неодушевленные предметы бывают одушевленнее иных действующих лиц», — привычно поддевал он москвичей за избыток на их сцене описательности и перечислял весь набор стуков, громыханий, скрипов, свистов, предметов мебели — шкафов, колонок, кресел, диванчиков, проходился по птичкам, расслышав иволгу и кукушку, и по цветам вишневого сада, смотревшим в окно106. И именно в рецензии на «Вишневый сад» художественников последней чеховской весны 1904 года Беляев, поигрывая словами, выпустил на волю бранно-шутливое словечко «перетёпал», адресовав его Художественному: театр, по мнению Беляева, «перетёпал» в «Вишневом саде», как обычно, с бытовыми кунштюками.
Подхваченные журналистами производные от чеховского «недотёпы» — «недотёпал» и «перетёпал» — стали впоследствии жаргонно-расхожими.
«“Новое время” нас хвалит, и “Вишневый сад” и нас»; «Наши враги сложили оружие после “Вишневого сада”», — писала Ольга Леонардовна Чехову, имея в виду статью Беляева о петербургской премьере спектакля и весь поток газетных откликов на нее, появившихся 2 и 3 апреля (IV. 4 : 365).
Столичная пресса была много богаче московской. Богаче количественно и иного качества. Москвичи, отозвавшиеся в основном премьерному спектаклю 17 января, слишком любили и жалели писателя и слишком любили «родной» Художественный, чтобы оценить новую пьесу Чехова и последнюю его совместную работу с театром без слезы, заволакивавшей взгляд и размывавшей восприятие. Пресса гастрольного «Вишневого сада» отличалась от московской 1904-го свободой от «похоронных» настроений 17 января, охвативших зал, и глубиной анализа чеховского театра затмила московскую.
Даже отклики Философова на московскую и петербургскую премьеры «Вишневого сада» отличались друг от друга.
181 Второй раз Философов смотрел спектакль другими глазами. Смотрел, отрешившись от реального контекста московской премьеры, сказавшегося в его январской корреспонденции у Худекова.
«Для того, чтобы выйти из Чехова […] “объективировать” его, надо взглянуть на него с высоты птичьего полета», — сформулировал критик, когда прошло время. 17 января подняться «на Эйфелеву башню освободительного эстетизма» ему не удалось107. 17 января на сцене стоял смертник.
«Человечный объективизм», присущий Чехову, интуитивно чувствовал и Горький: «У Чехова есть нечто большее, чем миросозерцание — он овладел своим представлением жизни и таким образом стал выше ее. Он освещает ее скуку, ее нелепости, ее стремления, весь ее хаос с высшей точки зрения […] Эта точка зрения неуловима, не поддается определению — быть может потому, что высока» (II. 16 : 124).
Новое произведение Чехова «не вплело нового лавра в венок писателя», — написал Философов в рецензии на спектакль, присланной в январе из Москвы в «Петербургскую газету» — газету столичных литературных дебютов Чехова. В спектакле художественников он отметил тогда только частность: левитановский пейзаж второго акта и новаторскую постановочную идею Симова: заднее полотно, расположенное полукругом, дало возможность избегнуть столь надоевших боковых кулис108.
В рецензии на петербургскую премьеру «Вишневого сада» он повторил: «“Вишневый сад” не носит на себе следов подъема драматического дарования Чехова. Если это не шаг назад, то топтание на месте»109.
Но, взглянув на Чехова в столице с авторской «высоты птичьего полета», овладев его «представлением жизни», осветившем академически совершенную пьесу, Философов узнал себя в чеховских типах, созданных Станиславским и Книппер-Чеховой, и осознал себя через них «немножко действующим лицом» чеховской драмы, драмы современной жизни, драмы жизни в духовном тупике. «Мы почти все сидим в чеховском тупике…» — это была характеристика текущего исторического момента, подсказанная критику ситуацией чеховского «Вишневого сада». «Жить так дальше нельзя, и вместе с тем […] изменить в нашей жизни мы ничего не можем […] Мы актеры, разыгрывающие чеховскую пьесу»110, — говорил он от лица петербургской элиты, ощущая духовную близость современников из своего окружения, терявших почву под ногами, к чеховским персонажам художественников.
Всех без исключения — и литераторов, и театральную критику, стоявшую на позициях приоритета эстетики в оценке пьесы, спектакля и актеров над идеологией, — автор «Вишневого сада» поднял на высоту «птичьего полета». Петербургские интеллектуалы разных эстетических и политических ориентации осознавали через Чехова в «Вишневом саде» свою современность и место русской интеллигенции в ней, сдвинувшей 182 в 1860-х скрипучий воз русской жизни и оказавшейся в начале века, в условиях кризиса либерального движения, в духовном тупике.
Чехов заставил всех «думать о многом», — обобщал Амфитеатров (II. 1. К. 35. Ед. хр. 30 : 10).
Благодаря Чехову, собравшему в зрительном зале суворинского театра в апреле 1904-го литературно-театральный Петербург, его театр -Московский Художественный — слился с интеллигентными кругами русского общества. В газетных и журнальных статьях о «Вишневом саде» художественников пьеса Чехова и гастрольный спектакль москвичей превратились из явления театрального в событие, всколыхнувшее русскую мысль, небезразличную к судьбе страны, ее общественной истории, ее настоящему и будущему.
Чехов и Кугеля, читателя пьесы, выбил с привычной ему сравнительной горизонтали, где прежде лежала его точка зрения на драматическое искусство. Она позволяла обозреть и высветить на этом поле лишь эстетические параллели: сценичность дочеховской драмы — и несценичность Чехова, Александринка — МХТ и антитезы — повествовательность и драматизм. Чехов и Кугеля, как Философова, заставил занять авторскую позицию, отчетливую в «Вишневом саде», заставил встать на ту «высшую» точку зрения, откуда Чехов смотрел на «хаос жизни», обуздывая эпос — драмой. Бездейственной драмой, обездвиженностью, думал Кугель раньше, отказывая чеховской драме — в драматизме.
Посмотрев на пласт русской жизни, изображенной в пьесе, сквозь грустно-ироничный чеховский прищур, — сверху и с другого ее конца, Кугель увидел эту жизнь, протяженную у Чехова во времени от российских реформ до текущего момента. Он рассуждал в своих мартовских статьях о новой пьесе Чехова, ее жанре и действующих лицах и — вслед за драматургом — о русской жизни «до воли» и после отмены крепостнического рабства. Кугель высказался негативно о российских реформах 1860-х, вызвавших печальные последствия. Жизнь «после воли» не просто драматична, она трагична — из-за отсутствия «догмата», то есть идеала, освещающего умирание дворянской усадьбы Гаевых, — писал Кугель. «Догмат», державший жизнь людей в российском обществе «в струне», рухнул в 1861-м, а «без догмата», скрепляющего жизнь, она стремительно покатилась к концу, — пояснял он. Кугель рассматривал центральный чеховский образ — Вишневый сад — как прообраз человеческой жизни, которая, как и усадьба Гаевых, обречена на слом, на сруб — на безжалостную ликвидацию, на смерть. «Пришла “воля”, то есть свобода исследования, веры, стремлений, труда. Они же, обитатели “Вишневого сада”, были счастливы тем, что все у них было готовое: хлеб, идеи, верования, убеждения. Воля перевернула все. Она отняла у них Бога и поставила им непосильную задачу — найти смысл жизни после того, как традиционный смысл ее был уничтожен. Ужас воли есть 183 ужас бессмыслицы…» — обосновывал Кугель свое понимание концепции и жанра чеховской пьесы111. Он прочитал в ней — трагедию; «Вишневый сад» — трагедия судьбы, разговор с судьбой.
Ни в одной пьесе Чехов не являлся таким безнадежно-унылым, таким печальным пессимистом, — писал Кугель, следуя логике «эпоса» в рамках драмы, этого «фатального» движения к смерти, заложенного у Чехова в «грустную повесть похорон» дворянской усадьбы и ее обитателей.
Диалог Чехова «мало похож на разговор действенной жизни», он бессвязен, если искать прямой целесообразности слов и поступков. Персонажи Чехова ведут разговор не друг с другом, а с судьбой, как в поэмах Метерлинка, — пояснял критик читателям журнала свое восприятие новой пьесы Чехова, — их речи приближаются к метерлинковской форме монолога: «Люди говорят, а судьба плетет, очко за очком, свое роковое кружево»; «ненужность разговоров вытекает из общего настроения обреченных судьбе людей».
Амфитеатров тоже прочитал в чеховской комедии — трагедию.
Писатель чеховской генерации, Амфитеатров видел истоки трагедии, отображенной в новой чеховской комедии, как и Кугель, — в реформах 1861 года, когда «порвалась цепь великая», ударив «одним концом по барину, другим по мужику». Амфитеатров вторил Кугелю: и у Фирса, воспитанного в условиях рабства и получившего волю, не прорезалось своего «я», и симпатичные бессильные белоручки-орхидеи гибнут в «жизни вне жизни», не найдя приложения в ней: трагически беспомощные, вяло-покорные, они кротко ложатся под колеса истории, — писал Амфитеатров112.
Прошедший шестидесятную школу университетских профессоров — юристов и обществоведов и будильниковскую — Курепина и Кичеева, Амфитеатров мыслил исторически конкретнее Кугеля. Рок, судьба у Амфитеатрова — не мистические категории метерлинковского театра, а закономерности русской истории. Жизнь — не просто движение к ликвидации ее, но гибель определенного общественного уклада, сложившегося в России после реформ 1860-х, и персонажи «Вишневого сада» не просто марионетки, несущие на себе печать грусти и иронии автора и ведущие мистический, метерлинковский диалог с судьбой, — писал Амфитеатров. Они ведут диалог со временем, — считал он и делил действующих лиц новой чеховской пьесы не по близости к роковому исходу, как Кугель, от Фирса до Пети и Ани, не по степени их зараженности геном смерти, высшей у Кугеля — в фигуре Фирса, «самой обмирающей» из вишневосадских персонажей, а по поколениям, и каждому находил место в отечественной истории последних десятилетий — в этом «демократическом эпилоге русского вольтерианства с безрадостным подсчетом его итогов», как писал он в мемуарах о Чехове после его кончины.
184 Фирс у Амфитеатрова — человек 40-х годов, обломок крепостной эпохи.
Помещик Симеонов-Пищик и Гаев — люди «выкупных свидетельств» и первичного дворянского оскудения. Гаев — семидесятник, он старше восьмидесятного поколения, в котором «эстетики и романтики не было ни на грош». Тем более облаченных в такую «идиллическую мечтательность, как у самозабвенного Гаева».
Купец Лопахин в амфитеатровом раскладе — почти девятидесятник. Еще чуть-чуть — и он дойдет до самоубийства, характерного для этой группы лиц последнего десятилетия века.
«Роковою сменою» поколений и создается, по Амфитеатрову, «трагический смысл» чеховского «Вишневого сада»: «Из четырех поколений одно — замогильное, другое поражено на смерть и ползет к могиле, третье живет и побеждает, как Лопахин, или замкнуто борется с жизнью, как Варя, четвертое входит в жизнь, отрицая все три первые, посылая улыбки новым солнцам новых идеалов»113.
В отличие от Кугеля, Амфитеатров считал Петю у Чехова не безнадежной фигурой, а «надеждой будущего». Он выводил Петю и Аню из трагического ряда чеховских персонажей.
Кугель замыкал ими этот ряд.
«Я не запомню даже у Чехова такой безнадежной фигуры, как Трофимов»; «Самые молодые […] едва расцветающие, как Аня, словно принаряжены во все белое, с цветами, готовые исчезнуть и умереть. Сейчас запоют ангельскими голосами отходную, пахнет Вишневым цветом […] и унесутся в глубь, в недра земли вытянувшиеся, недвижимые тела с заостренными лицами», — писал Кугель в мартовской статье о пьесе Чехова114.
Амфитеатров выстраивал другую схему движения чеховского сюжета в вишневосадской эпопее. Она выдвигала Петю в лидеры общественно-исторического прогресса, Прогресса, а не умирания, как считал Кугель.
Сначала сидели на том счастливом месте, где было дворянское гнездо, энтузиасты красоты. Амфитеатров отдавал свои симпатии Раневским и Гаевым. Его сердце сжималось от гибели «конченых» людей и всей либеральной среды, «ласковой» у Чехова в «Вишневом саде» к людям низшего происхождения, лишенной социальных предрассудков.
На смену им пришли Лопахины — энтузиасты пользы.
Время, однако, не остановилось на Лопахине, фигуре общественного промежутка, — считал Амфитеатров.
Впереди уже стоит «вечный студент».
«Вишневый сад» — это трагедия, почти античная, соглашался Амфитеатров с Кугелем, но вставленная в рамки современной комедии, — уточнял он свое определение жанра новой чеховской пьесы.
185 Трагедию он видел в исторической предопределенности смены поколений.
Комедию, местами водевиль — в совместном повседневном существовании стариков и молодых.
Пиком жанрового синтеза в чеховском «Вишневом саде» он назвал сцену Раневской и Пети Трофимова в третьем акте спектакля, построенную на столкновении «жрицы наслаждений», несущей в себе все грехи вырождавшегося дворянского рода, с идеалистом-неоплатоником, мечтающем о трудовом посестрии с любимой девушкой.
Полемика в Петербурге и тех, кто читал пьесу — Кугеля с Амфитеатровым, и тех, кто не читал ее — всех остальных с ними, разворачивалась в основном вокруг роли Пети Трофимова у Чехова и Пети Трофимова в исполнении Качалова. Она определяла для столичной критики звучание московского спектакля. В отношении к Пете и его выступлениям как перед интеллигенцией вишневосадской, помещичьей, дворянской, так и перед петербургской интеллигенцией, собравшейся в зрительном зале Малого, суворинского театра, столичные перья обнаруживали общность в осознании современной ситуации как «духовного тупика» и идейные расхождения — в оценке перспектив его преодоления. Рецензируя постановку «Вишневого сада» в Художественном театре, рассуждая о жанре и тональности спектакля и о роли Пети как о ключевой фигуре драматурга, петербургские интеллектуалы размышляли о Чехове, о его мировоззренческих позициях, и обнаруживали при этом и свои эстетические пристрастия, и собственное отношение к текущему историческому моменту.
В мышлении Кугеля, замкнутого на театре, и Амфитеатрова, писателя чеховской генерации и публициста, Философову виделся «духовный провинциализм». Ему казалось оскорбительным — превращение художника в их статьях в пример для философии экономического материализма на тему о падении дворянского уклада и зарождении новых классов — земельных собственников и пролетариев, свободных от собственности. Сам критик, не испытавший влияния шестидесятников, искал своего Бога. Не находя его ни в Красоте, сфокусированной для него у Чехова в образе цветущего Вишневого сада; ни в общественных идеалах парламентской республики европейского типа, привлекательных для Амфитеатрова; ни в отрицании и того, и другого, Философов оценивал новое произведение Чехова и художественников критериями новопутейского христианства.
А те, кто в чеховской «Безотцовщине» именовались «представителями современной неопределенности», никого не судившие и никуда не зовущие, писали о том, что в «Вишневом саде» много грусти, но еще больше поэзии маняще-недосягаемых «золотых далей». Для них в новой 186 пьесе Чехова, окутанной дымкой тихой ласки, законченно-красивая «старая жизнь» отлетала «неведомо куда» и «неведомо зачем». Она умирала, беспомощно-пассивно отступая перед какой-то неизвестной, неумолимо надвигавшейся «новой жизнью». «Новая жизнь — где-то там, над людьми, неведомая, безликая. Невидимая, слепая рука ее властно хозяйничает в жизни, без умысла и без цели устраняет одних, выдвигает других, и спокойная, непонятная, безучастно-жестокая, безостановочно течет дальше и дальше, не оглядываясь назад и не задумываясь о том, что впереди», — писал петербургский «Журнал для всех»115. На спектакле художественников «представители современной неопределенности» всматривались не в прошлое, в 1860 годы, где Кугель и Амфитеатров находили истоки современности, не в будущее России, маячившее для Амфитеатрова -В Петиных речах, устремляли свою мысль не к Богу, как Философов и Мережковские, а в повседневность свою и чеховских персонажей — нескладную, освещенную грустной иронией автора, и воспринимали действующих лиц «Вишневого сада» художественников как живых людей, своих современников.
Арабажин, критик «Новостей и Биржевой газеты», спрашивал в письме к Чехову, верно ли он угадал по гастрольному спектаклю, что Лопахин влюблен в Раневскую?
Гуревич узнала в Пете Качалова одного из бедных студентов «с Бронной». Эту исчезнувшую натуру зафиксировал и обозреватель «Журнала для всех». Студент у художественников — «самый настоящий, такой, какого еще, пожалуй, никогда не видела русская сцена, — писал он, — и г. Качалов сумел одухотворить его своей замечательной тонкой игрой. И улыбка, и мимика, и жесты, и искренний, неподдельный, настоящий русский способ говорить и спорить — все живое, вежливое, заправское, ни одной фальшивой, деланной черты, все настоящее. Точно вот он живьем выхвачен с Малой Бронной, из даровой “Комитетской” столовой; такие там есть, как две капли воды похожие»116.
Гуревич смотрела «Вишневый сад» дважды: на премьере 1 апреля и еще раз на спектакле сразу же вслед за премьерой. С «высоты птичьего полета», на которую и ее поднимал Чехов, не могла сразу все разглядеть «внизу». Со второго раза, освоившись с этой безымянной для нее высотой, она приметила массу деталей, и вещественных, и психологических, схваченных автором и театром в окружающей реальности и передающих ее — средствами жизни, минуя театр как уводившую от жизни театральность.
Она приметила, как короткая майская ночь переходит у художественников в первом акте в ранний рассвет.
Как пробежал «дробным шажком» в гороховой ливрее Фирс.
Как прошла Шарлотта в пенсне, в клетчатой дорожной накидке, с собачкой на веревочке.
187 Высмотрела фотографию рысистых лошадей, висевшую в кутке, в «диванной». У Гаевых, когда у них собирались генералы и губернаторы, был, кроме доходного сада, еще и конный завод, — решила Гуревич.
Конные заводы были и у Алексеевых, и у Стаховичей. Может быть, и это — деталь алексеевского контекста «Вишневого сада»?
Она оценила кошачью грацию Раневской; увидела в Гаеве и Раневской — родных брата и сестру: и волосы у них рыжие, только поседевшие у Гаева, и повадки, и легкомыслие, и склонность к веселью и меланхолии у них одинаковые.
Во втором акте Раневская вышла в светлом платье и с красным зонтиком.
В вечер 22 августа на балу у Гаевых в третьем акте музыка играла на хорах «белой» залы. Симеонов-Пищик отплясывал за двоих и бойко дирижировал…
Прислушиваясь к реакции зала, чутко реагировавшего «на малейшие подробности драмы, жанра, психологии», и читая петербургские рецензии, Немирович-Данченко не мог разобрать, что в успехе относилось автору, что спектаклю. Об этом он телеграфировал Чехову после премьеры (III. 5 : 359). Но и рецензенты, не читавшие пьесу, воспринимавшие ее через спектакль, с трудом вычленяли пьесу из спектакля.
«Сколько тут Чехова и сколько Станиславского, я не знаю, ибо не имею под руками авторских ремарок», — Беляев117.
«Не знаю, где кончается Чехов и где начинается сцена. До такой степени одно дополняет другое, до такой степени одно соответствует другому», — Философов118.
«Не знаю, как разбирать их игру. Они неотделимы от пьесы, и когда думаешь и пишешь о Гаеве, о Раневской и др., в то же самое время думаешь о Станиславском, Книппер и др.»; «Все исполнители превзошли себя, удивительно перевоплотившись в героев Чехова. Я долго не мог узнать Качалова в роли студента […] Станиславский был удивительно типичным Гаевым. Нет! Этого мало сказать: он создал Гаева вместе с автором…» — в один голос писали рецензенты, не в силах отделить сочинение Чехова от сочинения Станиславского и Немировича-Данченко и актеров от персонажей (I. 16 : 460).
«Впечатления от пьесы и от игры так цельны, так слитны, что трудно разъединить их», — признавалась и Гуревич119.
В «совершенной» постановке и исполнении Чехова молодым театром, чей девиз — «как в жизни», об актерах «не приходится говорить: плохо или хорошо они играют. Игры как будто бы и не было, была жизнь и смерть старой усадьбы, подсмотренная зрителями при помощи сказочной шапки-невидимки. Была правда и поэзия самой жизни — в волшебной перспективе искусства», — писала Гуревич120. Она размышляла об этой «сказочной шапке-невидимке» — о театральном приеме 188 «замочной скважины», как говорили об эстетике Художественного в начале века, или «скрытой камеры», как говорят теперь.
«Вишневый сад» на сцене московского театра — это «предел совершенства, в смысле […] соответствия замысла и воплощения», — писал Философов, уравнивая роль автора и театра в успехе спектакля.
Театральные журналисты относили его скорее театру, чем автору.
Сценичным чеховский «Вишневый сад» «делают артисты», — считал Россовский, рецензент «Петербургского листка»121.
Измайлов, рецензент «Биржевых ведомостей», был «покорен» именно спектаклем: «Огромное впечатление. Исполнение и постановка стушевывают то немного бледное, что есть в пьесе, не самой лучшей из чеховских пьес», — писал он в утреннем выпуске газеты, вышедшей 2 апреля 1904 года.
Номер 15 еженедельника «Театр и искусство» с рецензией редактора на первоапрельскую премьеру художественников вышел 11 апреля. Немедленный отклик Кугеля задержал издательский цикл выхода журнала к читателю.
Спектакль Кугелю понравился — «чудесно все играют».
Но он был изумлен несоответствием постановки — автору. Поднявшись к Ольге Леонардовне за кулисы 1 апреля и поздравляя ее с премьерой, Кугель сказал, что «чудесно все играют, но не то, что надо»; надо играть трагедию, а «мы играем водевиль», — передавала она мнение критика мужу. «Я, верно, не то играю», — расстроилась она (IV. 4 : 363, 365).
Отправляя наутро после премьеры в печать очередной, 14-й номер «Театра и искусства» за 1904 год с рецензией на премьеру «Юлия Цезаря», следующий после 13-го со второй частью статьи «Грусть “Вишневого сада”» — о пьесе Чехова, Кугель не удержался — журнал выходил раз в неделю — и сделал приписку: «P. S. Я только что смотрел “Вишневый сад” Чехова. Играли превосходно, но что? После статей моих “Грусть "Вишневого сада"” я должен написать новые статьи под заглавием “Развеселое житье в "Вишневом саду"”. Об этом любопытном превращении элегии в водевиль я поговорю в следующем номере»122.
В следующем, 15-м номере журнала Кугель, прочитавший в пьесе Чехова трагедию судьбы, писал о спектакле, показанном Петербургу: «Вишневый сад» предстал перед зрителем «в легком, смешливом, жизнерадостном исполнении […] КОМИЧЕСКОЕ толкование пьесы было проведено замечательно тонко и очень искусно. Mes compliments: тут бездна режиссерской настойчивости и выдумки. Пьеса идет прекрасно, живо, весело […] Это был воскресший Антоша Чехонте, и публика, с большим удовольствием смотревшая актеров, говорила все время:
— Как странно! Чехов написал фарс…»123
189 Статья Кугеля о премьере «Вишневого сада» художественников в Петербурге вышла из печати, когда уже высказалось большинство городских газет и ведущих столичных критиков. Мнение Кугеля, изумившегося «овидиевой метаморфозе» — превращению «элегии» в «водевиль», — не было ни единичным, ни субъективным.
Петербург, воспринимавший пьесу Чехова через спектакль, действительно увидел в «Вишневом саде» Художественного театра — комедию.
Россовский писал о том, что, благодаря отличной срепетовке, умелому ведению разговоров на сцене, ловкому вплетению в сюжет спектакля музыкальных и танцевальных номеров, благодаря, наконец, статистам — артистам без речей в сцене бала, от «Вишневого сада» «веяло правдой, жизнью, фотографией с интересной КОМИЧЕСКОЙ действительности»124.
Измайлов — А. Смоленский замечал то же: в тоне спектакля столько жизнерадостности; так веет жизнью и от молодежи, и от увядающих, но не желающих увядать, и от сильно пожилых, и от замогильных стариков; среди типов «Вишневого сада» столько КОМЕДИЙНЫХ, целиком выхваченных из действительности, тут и господа, и прислуга, и гости на балу, что, похоже, театр перелистывает «страницы веселой КОМЕДИИ»125.
Комедийность «Вишневого сада» чувствовал и Юрий Беляев. Она нравилась ему. Изругавший тяжеловесного «Юлия Цезаря», он благосклонно принял Чехова именно за примеси «чего-то прежнего, беззаботного, смешного, чем он грешил в водевилях»126. Ему даже показалось, что у Ольги Леонардовны — переизбыток легкомыслия и беспечности и что ей не хватает интонаций «сердечной теплоты», что окрашивают чеховскую драму.
Похоже на то, что театр, корректируя московскую премьеру, передозировал в спектакле комедийности, доводя комедийные штрихи до водевильных, до карикатуры и трюков отдельных исполнителей, отмеченных петербургскими рецензентами.
Петербургские поклонники чеховских импрессионизма, полутонов и поэзии сожалели о том, что Чехов повернул назад, а Художественный театр, бросивший вызов своей «Чайкой» эстетике Александринки, пошел в Епиходове, в Шарлотте Ивановне, в Пищике и даже в Гаеве по ее стопам. Станиславский играл Гаева, эту наиболее скорбную, недоуменную, рассыпающуюся у Чехова фигуру, «прекрасно», — писал Кугель, — но играл, как искуснейший «штукмейстер». Церемонно-чопорный Петербург коробило, что дворянин щекотал сестру и съезжал со скамейки, как мальчишка, «на собственных салазках» во втором акте и «запихивал себе в рот платок», изображая подступавшие рыдания, — в четвертом.
190 Гаева, любителя поболтать, если и жалели в столице, то как божьего младенца, чуть тронувшегося, уже развинченного в уме юродивого, потешающего публику. Позже, в 1910-х, за Гаевым Станиславского закрепилась репутация «психически ослабевшего братца» Любови Андреевны Раневской.
«Вспоминается воскресная Александринка», — с горечью писал Философов о Епиходове Москвина, замечая, сколько в этой роли «грубых подчеркиваний, сколько недостойной Чехова “грубой горбуновщины”»4*. Ему было больно за Чехова, когда публика с особенным удовольствием смеялась над пересоленным жаргоном конторщика127.
Епиходов — это не сюжет из фарса, это не болван, каким изобразил его Москвин, утрируя дурацкие слова, — спорил с театром Кугель, обвиняя Станиславского и Москвина в упрощенном подходе к этой трагикомической у Чехова фигуре любящего и страдающего нескладного человека — недотепы. Нельзя играть «Вишневый сад» как «жанровую, легким духом проникнутую беззаботную комедию», — кипятился критик и настаивал на том, что Епиходову нужно вернуть любовь к Дуняше и драму неудачника128.
Впрочем, Гуревич как раз увидела не достававшую Кугелю у Епиходова Москвина эту самую любовь к Дуняше и драму неудачника. Ей показалось, что фигура Епиходова у Москвина не трагикомическая, а трагиводевильная и гениальный исполнитель просто вводит в заблуждение критику новизной актерской техники, исключая из своей богатейшей палитры приемы и краски распротр-р-рагического, как говорил Чехов. Гуревич сочувствовала этому назойливо-меланхолически-напыщенному несчастному самоучке, у которого, казалось и ей, «ум зашел за разум»129.
И оценки Муратовой, игравшей Шарлотту, были разные.
Философов доказывал, что приемы клоунады, примененные Станиславским, Муратовой и Москвиным в решении образов Шарлотты и Епиходова, и окарикатуривание гостей на балу у Раневской — разрушают правду, какой она представляется современнику и какой он узнал ее в пьесе Чехова, искажают, деформируют ее: «Как бы дворяне наши ни вымирали и не разорялись, все-таки их пока много, и они не настолько пали, чтобы взять себе гувернантку из цирковых наездниц и приглашать на бал исключительно какое-то карикатурное хамье». Сцена бала у художественников больше напоминает несостоявшийся бал с ряжеными из «Трех сестер», чем бал в «Дворянском гнезде», — писал критик.
191 «Фокусы Шарлотты […] — единственное развлечение и, быть может, единственный комический элемент пьесы. Но эти фокусы приклеены к действительности грустной и однообразной — обитателей “Вишневого сада”», — замечал Кугель в преддверии гастролей, раздумывая над авторским определением жанра «Вишневого сада»: комедия130.
В третьем чеховском акте танец — на вулкане: все время чувствуется натянутая струна, которая вот-вот лопнет, — читал Кугель в пьесе Чехова.
И не видел ничего подобного в спектакле. Художественники танцевали «фигуры залихватской кадрили» «усердно, весело, от души», — писал он после премьеры. И танцевали «оптимистами», как будто жизнь в гаевском имении — «рай земной»131.
Сопоставляя пьесу и петербургский спектакль, Кугель огорчался, что театр, утратив чеховскую меланхолию, потерял и чеховский драматизм.
А Амфитеатров, напротив, приветствовал перевод чеховской грусти, минора — в мажор, трагедии — в набор острот, каламбуров не нынешнего Чехова, а юного Антоши Чехонте из «Стрекозы» и «Будильника». Чем больше водевиля, тем больше трагедии, — считал он.
Кто-то еще из газетчиков, в унисон с Амфитеатровым, доказывал, что добавление комедийных красок в палитру режиссера и актеров опаляет драму жизни — драму жизни в метафизическом плане — живым ее дыханием.
Кажется, театр все же передозировал в Петербурге не только с комедийностью. Убегая от похоронного настроения, так раздражавшего Чехова на премьерных представлениях, театр перебирал, наверное, с жизнеутверждением. Несомненный «мажор» петербургского «Вишневого сада» художественников критика связывала с Петей и Аней.
«Ставки на сильного» в решении образа Лопахина ни у Чехова, ни у Леонидова не отметил ни один из рецензентов. С решением образа Лопахина Леонидовым столица соглашалась. Немирович-Данченко, продолжая работать с Леонидовым, убрал в роли — «хищника», снял с нее грубость, резкость и, по настоянию Чехова, вытянул из купца-крикуна, из «мужика» Лопахина другую его сторону — тоску, связь с теми, кого он победил. Связь, его обессиливавшую.
«Нет, это не будущее. Здесь Чехов осекся», — писал Философов о Лопахине.
Лопахинские экономические идеи и мечта Лопахина о дачнике-фермере как о будущей общественной силе Амфитеатрову казались утопичными. Он не верил в практическую реализацию лопахинских прожектов и в будущую гегемонию русского буржуа из купцов, оплота нынешнего режима.
192 Ни малейшего восторга не звучало в «унылом» победном вопле Лопахина — Леонидова; и имение он купил непреднамеренно; просто хмель ударил в голову или зарвался на торгах, — писал Амфитеатров.
Обозреватель «Журнала для всех» А. С. Глинка, писавший под псевдонимом Волжский, и вовсе не отделял Лопахина от Раневской и Гаева. Лопахин показался критику «слабым», «несчастным» и смешным «недотепой», как и другие чеховские персонажи; он пассивно отдавался стихийному процессу жизни, втянувшему его в коммерцию, подтолкнувшему к обладанию «Вишневым садом»; он принял имение почти так же растерянно, как Раневская и Гаев выпустили его из своих рук.
Одобряя звучание роли Лопахина у Леонидова и поражаясь попаданием Качалова в тип студента-бессребреника, большинство петербургских критиков не приняло «бодрости» молодых, утверждавшейся театром в финале. Петербург сходился на том, что эта интонация в принципе чужда Чехову.
Театральные люди столицы решили, что бодрость финала возникла в спектакле из-за отсутствия в нем Лилиной, игравшей Аню в московской премьере «Вишневого сада». Петербург боготворил Лилину. Молоденькая Аня Косминской покидала дом легко, радостно, без слез, не оглядываясь на Раневскую и Гаева, уже далекая им. Петербург предполагал, что Аня Лилиной была сильнее привязана к матери и дяде, чем к Пете, ее отрывавшим от дома, и что она тоже грустила, потеряв «Вишневый сад».
Но больше всего за бодрые, мажорные нотки доставалось в Петербурге весной 1904 года не Ане — Косминской, а Пете — Качалова.
Трофимов Качалова предстал перед петербургским зрителем романтически пылким, восторженным и по-студенчески задорным юношей. «Бодрые» слова, вложенные в его уста Чеховым, артист произносил, — утверждал Кугель, — «по прямому их смыслу», обрушиваясь на ленивую интеллигенцию. Но едва ли он сам иной, — спорил Кугель с театром. В статьях о пьесе Чехова «Грусть “Вишневого сада”» он настаивал на беспросветном пессимизме фигуры «вечного студента» у Чехова. Чеховский Петя у Кугеля — облезлый барин, облезлый во всех смыслах. Худосочный, с бородой, растущей, как перья, потерявший шевелюру в погоне за высшими целями жизни, с уснувшим инстинктом пола, красящим жизнь истинных счастливцев, чеховский недоучившийся студент не может бодро смотреть в будущее, как смотрят люди жизнерадостные, у которых полнота бытия совершенно закрывает мысль о неизбежности конца, — писал Кугель накануне премьеры. Жизнедеятельность Пети недоразвита, она на уровне скрытого пульса. «Трофимов воплощает встревоженную, гипертрофированную нервозность и чуткость обреченного человека», — суммировал критик в первой, мартовской статье цикла статьей о пьесе Чехова впечатления от прочитанного132.
193 И формулировал в итоге своих размышлений о литературном образе и о сценическом в спектакле москвичей, что в жизнеутверждении, исходившем от Качалова, — «извращение перспективы».
Кугель напоминал читателю, что Чехов всегда и неизменно рисует жизнь бесцельную и бессмысленную, тусклую и обреченную. «Когда люди говорят: “Мы не узнаем счастья, его увидят другие”, — они не могут говорить это тоном счастливцев. Вообще, говорящие о счастье уже несчастны, как говорящие о здоровье всегда больны. О счастье не говорят, его чувствуют […] Он должен давать нам всем своим складом, всею своею непригодностью, облезлостью, что он “недотепа”, что он никак в люди не вышел и выйти не может». От Пети должно исходить «впечатление напрасных усилий идеализма осветить жизнь и научить свету людей», — спорил Кугель с трактовкой роли Пети в петербургском спектакле художественников133.
В отношении к недотепистости Пети у Чехова с Кугелем солидаризировались и Гуревич, и Философов.
Петя Трофимов — «всеблаженный человек», — Гуревич уравнивала Петю с Гаевым: «Не один Гаев на Руси любит поговорить»134.
Мажор, с каким зрители расходились со спектакля, Философов считал всего лишь финальным аккордом, не вытекавшим из сути пьесы: «Один аккорд, для отвода глаз».
Петя Трофимов — отнюдь не революционер, и в творчестве Чехова Петя Трофимов и Аня — отнюдь не новое слово, — считал критик. Эти молодые — такие же жертвы оскудения современного общества, как Раневская и Гаев, и остановить этот процесс невозможно, — рассуждал Философов — Чацкий. Он не верил в реальность переустройства мира на основе социальной справедливости, провозглашаемой Петей — типичным чеховским персонажем.
Мажор, апология «новой жизни», прозвучавшие в финале петербургского «Вишневого сада» Художественного театра, — это натяжка, — утверждал Философов: «И где этому лентяю, “вечному студенту”, и этой избалованной птичке победить мир? Они ушли только для того, чтобы начать плести новую бесконечную паутину чеховских будней с жалкими мечтами о Москве».
Философов отстаивал в чеховском «Вишневом саде» отчетливую для него чеховскую идеологию тусклой повседневности, лишенной божественных откровений, — и не мог принять насилия над ней театра, показавшего на гастролях комедийно-мажорный спектакль.
Амфитеатров солировал поперек критического хора. Он не соглашался ни с Философовым, не находившим выхода из «чеховского тупика»; ни с Кугелем, отпевавшим Трофимова точно так же, как пореформенных дворян Раневскую, Гаева и как Фирса, обломка крепостной эпохи; ни с Эфросом, рецензентом московской премьеры «Вишневого сада». 194 Эфрос не сомневался, что Петя говорит больше с верой, чем с убеждениями, и не возлагал на него особых надежд в смысле будущего России.
Амфитеатров один из всех, писавших о премьере «Вишневого сада» в Петербурге, слышал в 1904-м, как созревают в русском обществе новые идеи, видел, как вырастают новые люди, и приветствовал их появление в творчестве Чехова.
Он видел в образе чеховского Пети Трофимова убежденного лидера. Петины идеи он считал вполне выношенными, глубоко продуманными. Чеховский Трофимов — кандидат в толстовцы или, скорее, в «Проблемы, идеализма», — пробросил Амфитеатров, прочитав пьесу до того, как посмотрел спектакль, и указав на принадлежность чеховского студента к идеалистическому направлению русской мысли. Сборник статей «Проблемы идеализма», изданный в 1902 году, собрал под своей обложкой мыслящую российскую интеллигенцию. Среди его авторов — С. Н. Булгаков, Е. Н. Трубецкой, Н. А. Бердяев, другие философы, члены московского Психологического общества. Философы-идеалисты, критики позитивизма, критики социальных теорий Чернышевского, публицистов-народников во главе с Михайловским и легальных марксистов размышляли над тем, как и чем жить в условиях «чеховского тупика», в который загнана русская интеллигенция. Они искали идеалы не в общественном переустройстве, а в основе самой личности, в ее духовной и общественной работе во благо каждого человека и сосредоточивались в своих исканиях на проблемах нравственных, выводящих к проблемам этики.
Тезисы речей Пети Трофимова о будущем России можно найти хотя бы в статье «Основные проблемы теории прогресса» С. Н. Булгакова, недавнего марксиста, перешедшего на позиции «критической философии» и «нравственного идеализма».
Осенью 1904-го, откликаясь на смерть Чехова, Булгаков выступил в Петербурге и в Ялте с лекцией «Чехов как мыслитель», тогда же изданной, где развивал идеи «Проблем идеализма» — в контексте последней чеховской пьесы.
Он солидаризировался с чеховским Петей в том, что цель прогресса — «возможно больший рост счастья возможно большего числа лиц». Но он понимал, что эта цель неосуществима, так как «погоня за всеобщим счастьем как целью истории — есть невозможное предприятие, ибо цель эта совершенно неуловима и неопределенна»135. И останавливался в своей лекции о Чехове на том, как мало льстил Чехов русской интеллигенции в своем художественном творчестве, как скептически относился к ее нравственности и исторической и деловой годности, какой неблагоприятный диагноз духовного состояния общества ставил в год войны.
195 Мировоззрение Чехова, стоявшего за Петей, Булгаков, автор брошюры «Чехов как мыслитель», определил как оптимопессимизм: Чехов верил в то, что в России через 200 – 1000 лет наступит процветание и каждый будет счастлив, но вера его — не победная, а тоскующая136.
Спектакль москвичей и Петя Трофимов Качалова отлучили Амфитеатрова и от толстовских теорий, и от мыслителей-идеалистов, и развернули в сторону Горького, одержимого в канун 1905-го не философскими, а революционными идеями. Амфитеатров уловил связь Пети Трофимова Качалова не с Толстым и Булгаковым, а с Горьким, практическим господином, чья мысль сопрягалась с реальным действием против российского самодержавия, а не с утопией.
По прогнозам Амфитеатрова, именно студент, разделявший горьковские идеи, призван двинуть российскую историю дальше, чем двинул ее Лопахин, сменивший в роли хозяина имения никчемных помещиков-«орхидей» и побеждавший «с тоской». Критик верил в силу Петиных у Качалова убеждений и порывов, как он верил в Горького:
Безумству храбрых поем мы песню!
Безумству храбрых поем мы славу!
Безумство храбрых вот мудрость жизни, —
цитировал он горьковские строки вдогонку чеховским бессребреникам, бегущим гордо и без оглядки в новую жизнь137. Политические симпатии Амфитеатрова не оставляли сомнений. Он верил в Россию, свободную от произвола монарха. Он верил в лучшую жизнь чеховских молодых людей, свободных от обременяющей их собственности, как верил в будущее и своих малолетних детей. И благословлял чеховских Петю и Аню, новых, свободных людей, сильных своей свободой, столь же высоким горьковским слогом — строить новую, свободную, демократическую Россию: «Ане — не надо “Вишневого сада”, — оплакала она уже по нему свои девичьи слезы! Пете не надо услуг буржуа Лопахина и толстого его бумажника: смеется он над деньгами… Чайка и Буревестник — нищие и свободные — встрепенулись и с криком взвились в воздух, Счастливый путь! Летите — и да хранит вас Бог, племя младое, незнакомое! Храни Бог цветы, которые распустятся на старых могилах!»138
Чеховский Петя — это Буревестник, подобный молнии, а Аня — чеховская Чайка, обручившаяся с новой жизнью, и они летят — в новую жизнь, — писал Амфитеатров в своей рецензии на гастрольный «Вишневый сад».
А когда во втором акте романтически взволнованный Петя — Качалова и Аня — Косминской выбежали из-за кладбищенской часовенки и остались вдвоем, Амфитеатров, абстрагируясь от ландшафтного ряда в декорации Симова под Левитана, от равнины, тихой речки за горизонтом, 196 от березок или сосенок, решил, что навстречу ветру и наплывающей волне бегут и поют сквозь шум прибоя не Петя и Аня, а студент с курсисткою с картины Репина «Какой простор». Он вывел Петю Качалова и Аню Косминской из сферы театра и ввел в современный историко-культурный контекст. Картина Репина «Какой простор» появилась в 1903-м и воспринималась многими, и Амфитеатровым конечно, как аллегория созревавших среди молодежи революционных — горьковских настроений. Вот и университетский товарищ Чехова доктор Г. Россолимо, вспоминая свою встречу с Чеховым на похоронах их сокурсника, погребальное шествие и впереди него идущих студента и курсистку с гордо поднятыми головами, воскликнул: «Какой простор!» Чехов, шагавший рядом с Россолимо, будто бы ответил ему: «Вот они, те, которые хоронят старое и […] вносят в царство смерти живые цветы и молодые надежды» (II. 21 : 500 – 501).
Но Чехов репинских и горьковско-амфитеатровских надежд на студентов и курсисток не возлагал, и Булгаков, цитируя Чехова на посмертной лекции о нем, подтверждал авторским словом наличие пессимистических нот в оптимизме Пети: «Пока это еще студенты и курсистки — это честный, хороший народ, это надежда наша, это будущее России, но стоит только студентам и курсисткам выйти самостоятельно на дорогу, стать взрослыми, как и надежда наша и будущее России обращается в дым», — говорил Чехов тем, кто безоглядно верил в питомцев российских университетов, в современную российскую интеллигенцию (II. 10 : 101). Он знал, что из студентов выходят «несытые чиновники, ворующие инженеры» и притеснители студентов, и называл таких пофамильно: публицист Катков; обер-прокурор Синода Победоносцев, тот, что вытравил Чичерина из Московской думы… «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую», — говорил Чехов, завершая мысль о студентах и курсистках.
Те, кто понимал Чехова, не могли не расслышать в монологах Пети чеховской интонации: «Чехов — все Чехов, если бы он и захотел, так все-таки не мог не быть самим собой»139. «Журнал для всех», печатавший Горького и чеховскую «Невесту», не верил в чеховского студента — буревестника: «Петя Трофимов стоит перед развалинами старой жизни в “Вишневом саду” с своим призывом к работе и счастью лучшей жизни; но не как вещий буревестник несется он навстречу восходящей жизни, а скорее только как мечта, светлая, радостная, но уже тронутая все-таки, поврежденная тоской и теплым, недосказанным сочувствием к стонам умирающего “Вишневого сада”»140.
Философов также не раз повторял, что если обновление русской жизни и наступит, то, конечно, не из трофимовских книг, учений и верований, и нападал на критиков вроде Амфитеатрова, находивших в Чехове 197 «гражданскую бодрость», как на «окончательно потерявших всякое зрение» (II. 18 : 142, 145).
Бунин, не любивший чеховских пьес, над чеховским Петей Трофимовым в мемуарах о Чехове подтрунивал, считал Петю «в некотором роде буревестником…»
«В некотором роде…»
Впрочем, и в отношении к интеллигенции Чехов, наверное, был двойственен. И все разгадывавшие его художественные образы были равно правы. В них молено было впитать и непосредственную веру писателя в Горького и в тех «новых людей», которых «то и дело выгоняют из университета» и которые «то и дело в ссылке», и сознательное неверие в них в качестве двигателей общественного прогресса.
Тенденциозность, прибивавшая Чехова в статьях Амфитеатрова о «Вишневом саде» к стану Горького, уводила критика от Чехова. Он не улавливал в Петиных речах чеховской интонации неопределенности — «если бы знать…»
Но Чехов наслаждался поворотами амфитеатровского анализа. Амфитеатров попадал в его желаемое, пусть и не осуществленное, не удавшееся ему в Пете и Ане. Амфитеатров своими статьями о «Вишневом саде» разрушал так ненавистную ему репутацию нытика, и он был благодарен приятелю.
Уже первая статья Амфитеатрова в «Руси» о «Юлии Цезаре», открывшем гастроли, показалась Чехову верной в подходах, в оценке спектакля и в восприятии общей интеллигентности, отличавшей художественников от всех остальных российских театральных трупп.
Обе статьи Амфитеатрова в «Руси» о «Вишневом саде» — от 3 и 4 апреля — Чехов прочел по два раза и с «большим удовольствием». О чем сообщил автору: «От этих Ваших рецензий так и повеяло на меня чем-то давним, но забытым, точно Вы родия мне или земляк, и живо встала у меня в памяти юбилейная картинка “Будильника”, где около Курепина и Кичеева стоим я, Вы, Пассек с телефонной трубкой у уха; и кажется, что юбилей этот был лет сто или двести назад» (II. 14 : 84). Чехов явно расчувствовался, вспомнив себя — молодого, полного надежд — в те счастливые, беспечные курепинско-кичеевские будильницкие дни.
Юбилей «Будильника», общей колыбели литературных отроков Чехонте и Мефистофеля из Хамовников, их литературного гнезда, отмечали в 1885-м, писателей связывало двадцатилетие — целая жизнь!
В 1904-м Амфитеатров работал над романом «Восьмидесятники» — о себе, своих сверстниках и о Чехове 1880-х. Он много думал об их общей молодости, вводя в беллетристику мемуарный элемент, говоря о действительных событиях и о многих известных лицах 1880-х без «псевдонимных масок»: о Тургеневе, Толстом, Михайловском, Чупрове. 198 И намеренно заслонял конкретную индивидуальность молодых в ту пору писателей — свою, Чехова и других — типом писателя-восьмидесятника. Его литературные «автопортрет» и «портрет» Чехова 1880-х в романе не подписаны настоящими именами, хотя впоследствии современники, их общие знакомцы, узнавали Чехова в литераторе Брагине. Брагин и его приятели начинали в период «сумерек литературных богов», в тот период, когда Тургенев умирал, Толстой уходил из художественной литературы, а молодежь — Чехов, Амфитеатров, Немирович-Данченко — под аккомпанемент воя об упадке русской литературы завоевывала ее, сознавая себя в эпоху Александра III, сменившую «эпоху освобождения», новым литературным поколением.
Двухтомное издание романа Амфитеатрова вышло после смерти Чехова, в 1907 году.
Амфитеатрову хотелось повидаться с прототипом Брагина, уточнить перспективу образа.
И Чехову хотелось повидаться с приятелем. Тот, сидевший в Царском Селе в «положении весьма висячем» — «вроде щедринского зайца у волка под кустом: может, съедят, а может быть, и помилуют», — собирался, если не съедят, в Крым через Москву.
Чехов высчитывал дни: если Амфитеатровы выедут из Петербурга после 1 мая и остановятся в Москве, «то учиним свидание […] в каком-нибудь ресторане», — писал он Амфитеатрову 13 апреля 1904 года (II. 14 : 75).
Но вместо Москвы и Крыма Амфитеатров угодил в Вологду и с Чеховым так и не свиделся. Сам он после октября 1917-го так объяснял причины своей второй политической ссылки: «Статья о беспорядках в Горном институте и […] помешал Плеве устроить еврейский погром в Киеве»141. Плеве в 1904-м — шеф жандармов.
В Вологде ссыльный Амфитеатров получил сборник «Знания» за 1903 год, поступивший наконец подписчикам и в продажу, перечитал «Вишневый сад» и написал Чехову: «Не знаю, как Вы сами понимаете об этой Вашей пьесе […] по-моему мнению, при всем большом успехе, ни публика, ни критика еще не добрались до всей ее прелести и будут открывать в ней одну глубину за другою долго-долго, все более и более в нее впиваясь, любя ее и к ней привыкая» (II. 1. К. 30. Ед. хр. 35 : 14).
И был в Петербурге еще один человек, который ждал — жаждал свидания с Чеховым, с его новой пьесой. Это Суворин. Все последние годы, как и раньше, он пристально следил за Чеховым, мысленно не прерывая с ним односторонний диалог. Ему не хватало их прежней близости, оборвавшейся в конце 1890-х, их личного общения, их разговоров о литературе, на шестидесятные, восьмидесятные и другие темы, о всей России.
199 Суворин еле поспел на последнее свидание с художником, талант которого, несмотря на их разрыв, по-прежнему волновал его ум.
Весь апрель почтенный издатель и редактор авторитетной проправительственной ежедневной столичной газеты был занят неудачами России в дальневосточной военной кампании. Он сам каждый день освещал ее ход в своей публицистической колонке «Маленькие письма». Театр, пусть и знаменитый, из-за этих исторических событий не попадал в злобу дня. Весь месяц Суворин отодвигал свои литературно-театральные интересы до более спокойных времен.
В конце апреля, под самый конец гастролей, Суворин все же вырвался на «Вишневый сад» художественников. А когда вышла в «Новом времени» его рецензия на спектакль, стало ясно: Буренин, предваривший приезд москвичей в столицу «Критическими очерками» в «Новом времени», окончательно нейтрализован; «нововременская клика», прочно удерживавшая свои античеховские позиции в Петербурге с 1901 года, к концу гастролей весны 1904-го пала и сражение на «Дальнем Севере» Московский Художественный с четвертой атаки на город — выиграл по всей линии литературно-театрального фронта.
Сам спектакль, однако, — постановка, актеры, роли — не слишком занимал Суворина, хотя он одобрил его и схватил ряд деталей — в доказательство того, что на «Вишневом саде» москвичей он был. Как и Беляев, он услышал кукушку в птичьем гомоне, доносившемся в первом акте из распахнутого в сад окна. Кукушку услышали самые тугоухие в дальних рядах партера и на ярусах. Ее нельзя было не услышать, как и грозу, «рокотавшую» в «Юлии Цезаре». И читал он не одних нововременцев, своих сотрудников, — Беляева и Буренина. У Кугеля, к примеру, он позаимствовал образ танца на вулкане — в третьем, бальном акте чеховского «Вишневого сада». Но позаимствовал лишь образ.
У Кугеля вулкан — явление мистическое, непознаваемая стихия, враждебная человеку, обрекающая его жизнь на «ликвидацию».
«Вулкан» Суворина — вся Россия, безнадежно нищая Россия с позорно замершей внутри себя энергией общественного созидания.
В рассуждения Кугеля о жанре пьесы и в его анализ спектакля Суворин не вникал. Поносивший в 1896-м чеховскую «Чайку», Кугель так и остался для него, спасавшего, редактировавшего пьесу после ее петербургского провала, глашатаем «жужжащего» «литературного жидовства»142.
«Говорят, наслаждаются природой, изливаются в чувствах, повторяют свои излюбленные словечки, пьют, едят, танцуют, — танцуют, так сказать, на вулкане, — оговорил Суворин плагиат в своем отклике на “Вишневый сад” москвичей, — накачивают себя коньяком, когда гроза разразилась, или вспоминают свои амуры, плачут, кричат в бессилии и, — выходил Суворин к своей теме, — как стадо беззащитных овец, безмолвно 200 уходят в такую же жизнь, бессмысленную, недеятельную, глупую, с постоянной надеждой ленивого нищего»143.
Пейзаж и звуки природы, танцы и вещи, избыточные, с точки зрения Суворина, у художественников, не мешали его встрече с Чеховым, не заслоняли от него Чехова, созерцавшего с высоты «Эйфелевой башни», как говорил Философов, российскую действительность. И «но чувству поэзии русской природы», и по чувству «русского быта», и по обрисовке людей как типов пьеса выше постановки, пусть и тщательной и добросовестной по отношению к Чехову, — сказал Суворин, отдав должное режиссуре. И на этом с театром в рецензии на спектакль покончил: когда есть «умное слово» и «живая человеческая мысль», собачий лай и кукушка — лишнее, иллюстрация текста высшей литературной пробы, который в иллюстрации не нуждается.
Суворин смотрел спектакль — и беседовал с автором. Ловил его «умное слово» и «живую мысль».
Ему было о чем побеседовать с ним.
Поклонник «Чайки», Суворин не принимал ни «Дяди Вани», ни «Трех сестер». Считал, что Чехов втиснул свою безграничную широту, явленную в «Чайке», в узкую атмосферу провинциальной жизни с ее худосочными идеалами: «В Петербург!» или «В Москву!»
«Вишневый сад», который «шире даже “Чайки”», — он признал лучшей пьесой Чехова: «Ни Москва, ни Петербург тут уже не помогут». Он чувствовал в пьесе «страдальческую душу» поэта, его притягивавшую, и под пером Чехова, который в этот раз не уже своего таланта, — «всю Россию» с ее разорявшимися культурными гнездами и всю «горькую правду» о процессе вырождения «нашей интеллигенции».
Не читавший пьесы Чехова, как большинство петербургских зрителей, Суворин прочитал в ней — сквозь спектакль, поверх спектакля — трагедию не мистическую, как Кугель, а политическую. Это его формулировка. Разрушение дворянской жизни, дворянского быта, культурных гнезд, их благополучия, их достатка — это «трагедия русской жизни», в которой, при всей ее исторической предопределенности, виновна дворянская интеллигенция, распущенная, халатная, погрязшая в благородных разговорах и монологах — и ничего не делающая.
Суворину апреля 1904-го, слуге режима Александра III, человеку буржуазных идеалов, казалось: его с Чеховым ничто не разделяло.
Ему казалось, что вину за гибель России, скатившейся после реформ 1860-х и вследствие их к позорной, унизительной нищете, Чехов, как и он, возложил на образованный класс.
Ему казалось, что поэзия Чехова в «Вишневом саде», ценности Чехова, не дворянина по рождению, но «русского человека до мозга костей», — там, в процветавших «до воли», ослабившей догматы самодержавия 201 и всю Россию, «дворянских гнездах», в крепком, трудовом дворянстве, в его честности, порядочности, в достоинстве.
Каждый из сидевших в зале перетаскивал Чехова в свой стан. Чехов, никого не обвинявший и никого не превращавший в героев, принадлежал всем — Кугелю, Гуревич, Амфитеатрову, Булгакову, Суворину — и никому.
Яркие публицисты, два полюса русской общественной мысли весны 1904 года: Амфитеатров — антимонархист, прошедший через политические репрессии, и Суворин, редактор-издатель «Нового времени», рупор, трибуна монаршей власти, — выделялись на фоне политически неангажированной разноголосицы петербургских театральных обозревателей и рецензентов своей четкой идейной позицией, связанной с оценкой царствования Александра II и текущей современности. Они оба поднимались — вслед за Чеховым, как Горький, как Философов, как Кугель, — на высоту птичьего полета, до которой долетали сами, на которой парили сами, и размышляли о пьесе Чехова и о спектакле, «объективируя» их, в категориях внеэстетических и в соответствии со своей идеологией.
Один — Амфитеатров — увидел в «Вишневом саде» Чехова эпическую картину исторического прогресса, к финишу которого выходил «буревестник» — студент Петя Трофимов.
Другой — Суворин — рассмотрел в новом произведении Чехова картину вырождения нации, начавшегося с освободительных реформ.
Читая пьесу сквозь спектакль, поверх спектакля, Суворин, государственник, державник, как сказали бы сегодня, жалел Россию, свое и Чехова отечество, страну «ленивых нищих», «жалких овец». Какой ее якобы изобразил Чехов в «Вишневом саде», страдая за нее, как истинно «русский человек до мозга костей», — педалировал эту тему Суворин. Сближая политические позиции Чехова с собственными, он жалел «вместе» с Чеховым их Россию, их родину, в которой русский человек так опустился, что не находит в себе «никакого протеста, кроме слез и причитаний и согнутой, понурой спины […] Лица исчезли, остались спины», которую показывают действующие лица при окончательном падении занавеса, — писал Суворин.
Он жалел Россию, как, он думал, жалел ее Чехов, и не жалел опустившуюся до безликой стадности дворянскую интеллигенцию, как не жалел ее Чехов в «Вишневом саде», казалось ему. Гаев — «честный человек, полный хороших монологов о самостоятельности, самосознании, независимости и т. п. добродетелей, вычитанных и воспринятых из хороших книг», обратившийся с одушевленной речью к столетнему книжному шкафу, — «это очень зло» у Чехова, — считал Суворин. Станиславского в роли Гаева он не заметил. Как, впрочем, и других актеров.
202 Суворин сам «зло» судил дворян, выросших «в старых гнездах, сделанных отцами и дедами при крепостном труде», — беспечных, беззаботных, вроде чеховских Раневской и Гаева, развращенных крепостным трудом, — «ничтожнейших» из людей.
Он «зло» судил Лопахиных, «полуинтеллигенцию-кулачество», которое «несколько почистилось и сознает свою отсталость перед образованностью».
Но злее, раздраженнее, чем всех, и с плохо скрываемым высокомерием он судил социально близкую себе и Чехову «интеллигенцию, впрыснутую в дворянство», — Петю Трофимова, который «говорит хорошие речи, приглашает на новую жизнь, а у самого нет хороших калош». Выбившийся из бедности к обеспеченной, буржуазной жизни своим трудом, трудоголик, Суворин презирал чеховского Петю за нищету, за бессребреничество как следствия все того же российского ничегонеделания. Суворин начала XX века осуждал пропагандистов либерально-демократических идей — бездельников — так жалких болтунов.
Рецензией на «Вишневый сад» художественников Суворин послал в Ялту свой одический привет автору, драматургу, единственному герою пьесы и шире — национальному герою, нарисовавшему «широкие слои нашей интеллигенции», осознавшему ее беду и открывшему простор русской мысли об отечественной общественной истории и печальной современности.
Это была последняя заочная встреча Чехова с Сувориным. Итоговая, как с Лейкиным.
Утром 29 апреля Чехов, подписчик «Нового времени», читал «Маленькое письмо» Суворина. Можно только догадываться, с каким интересом он читал это газетное послание человека, который так много сделал для того, чтобы он, Чехов, стал тем, кем стал. Ольга Леонардовна и художественники обсуждали с Чеховым статью Суворина уже лично, в Москве. Обменяться письмами им не пришлось, и реакция на нее Чехова и театра, не зафиксированная источниками, неизвестна.
Чехов, которому в 1880-х доставалось за отсутствие гражданских добродетелей, за беспринципность, то есть за то, что его литературная деятельность чужда всякого интеллигентского направления, как говорил Михайловский, вовлек в дискуссию о своей последней пьесе в исполнении Художественного театра лучших людей России, тех, кому ее настоящее и будущее было не безразлично. Полемика вокруг «Вишневого сада» в Петербурге окончательно развеяла миф о том, что Чехов — писатель беспринципный. А если собрать все то, что написано о «Вишневом саде» в Петербурге, получится нечто подобное исторической книге «Вехи» с подзаголовком «Сборник статей о русской интеллигенции». Она вышла в 1907-м. Задолго до поражения идей либерального сознания в первой русской революции, зафиксированного в «Вехах», 203 литературно-театральный Петербург осмысливал свой и «чеховский тупик» — духовный кризис русской интеллигенции, размышляя о «Вишневом саде» Чехова и художественников. Многие из рецензентов гастрольного «Вишневого сада» и пьесы, вышедшей в мае вслед за гастролями москвичей, участвовали и в «Вехах», и в контрвеховских сборниках — в полемике вокруг исторической роли интеллигенции в судьбе России. «Вишневый сад», пьеса и спектакль, задолго до «Вех» выявили идейный разброд в ее рядах.
29 апреля 1904 года Художественный театр закончил четырнадцатым «Вишневым садом» и статьей Суворина в «Новом времени» петербургские гастроли и закрыл сезон 1903/04 гг. Это был последний «Вишневый сад», сыгранный при жизни Чехова.
1 мая артисты покинули Петербург, а Чехов в тот же день выехал из Ялты в Москву, чтобы встретить жену в их новом московском доме в Леонтьевском переулке.
Весь май Чеховы прожили в Москве, и 3 июня 1904 года, получив от Станиславского трогательную записочку из Любимовки «на посошок», Антон Павлович отправился в сопровождении Ольги Леонардовны за границу — умирать.
* * *
В мае, как обычно, Алексеевы, Бостанжогло, Смирновы, Сапожниковы и Штекеры переезжали на свои дачи в Любимовке, Тарасовке, Финогеновке и Комаровке и жили там до октября.
В середине мая 1904 года Маня Смирнова писала Ольге Леонардовне из Тарасовки:
Дорогая моя, ненаглядная Ольга Леонардовна!
Вы себе представить не можете, как здесь хорошо! Воздух такой чистый, березки кудрявые прелестно выделяются на голубом безоблачном небе; лес шумит; птички заливаются… Черемуха вся в цвету, яблони и вишни распускаются, только ландышей нет.
Посылаю Антону Павловичу вишневых цветов. Как ею здоровье теперь? Прошлый раз мне Мария Павловна показалась такая расстроенная, грустная; я каждый день молюсь за Антона Павловича, а завтра Троицын день, выну за него просфорочку. Знаете, сама того не замечая, я до того привязалась к Антону Павловичу, что мне становится холодно на душе, когда я узнаю, что он болен, делается так жутко, как в день его именин, в день первого «Вишневого сада»! Я вас обоих как родных люблю! Я к вам заезжала накануне экзамена музыки; уж очень я волновалась, и хотелось, чтобы Вы меня благословили. Теперь все мои страхи миновали; 204 экзамены сошли все благополучно, перешла на вторую гармонию, историю музыки кончила, а по музыке, представьте, 5, — похвалили мои гаммы (за которые я больше всего боялась), этюды и Баха я тоже хорошо сыграла (особенно я рада за Баха), а соната (Моцарта) подгуляла!.. И, представьте, переведена на 5-й младший. Я никак не думала дальше 4-го старшего!
Теперь, когда все кончилось, когда я опять со своими, в милой Тарасовке, мне не так весело, как обыкновенно, чего-то не хватает, как-то смутно на душе… Как будто я что-то в Москве забыла.
Вы слышали, что у Коки нашего скарлатина? Он во флигеле с мамой, совершенно отделен, но тем не менее нас все боятся.
А то бы я примчалась завтра к дяде Косте: не могу Троицын день без Художественного театра!
Целую крепко.
Привет Антону Павловичу и Марии Павловне.
Господь с Вами (IV. 1. № 4906).
Маня жила все так же — в мире чеховских пьес: «шумит мой молодой лес», «птички поют». И — «вишни распускаются»! Как раз в это время, в начале мая, когда цвели бело-розовым цветом вишневые деревья, Раневская вернулась из-за границы в свое имение «Вишневый сад».
Вишневые деревья, оказывается, водились в тех местах. Не вишневые сады, конечно, «где это были помещичьи сады, сплошь состоявшие из вишен? “Вишневый садок” был только при хохлацких хатах», — ворчал Бунин, прочитав чеховский «Вишневый сад» и посмотрев спектакль в Художественном с Вишневым садом в средней полосе России (II. 23 : 273).
Но вишневыми деревцами в Тарасовке Маня Смирнова любовалась, майские вишневые цветы посылала Чехову и вишневыми ветками убирала «чеховский» уголок в своем басманном прадедовском доме. Ранней весной, когда зацвели яблони и вишни, она натащила веток и увешала ими полочку, на которой стояли портреты Чехова и Ольги Леонардовны.
За два года, прошедших с лета 1902-го, когда в Любимовке жил Чехов, ничего не изменилось.
Все так же чтили Господа Алексеевы-Сапожниковы-Штекеры и Бостанжогло-Смирновы-Гальнбеки на Троицын день — на пятидесятый день от Пасхи. И Лили Глассби была среди них.
Все так же собирались по традиции всем кланом на молебен в благовестившей любимовской церковке, построенной при Туколевых и любовно украшенной папаней Сергеем Владимировичем. И призрак то ли Сергея Владимировича, то ли чеховского Андрея Гаева, отца Любови и Леонида Андреевичей из «Вишневого сада», — в парадном черном сюртуке 205 по случаю великого церковного праздника, в шляпе и с тростью — невидимо шествовал мимо алексеевского дома «с ушами» — флигелями в направлении колокольного звона.
В майский Троицын день 1904 года Станиславский, переводивший дух после петербургских гастролей, был с семьей в Любимовке. Он плохо чувствовал себя: «Вероятно, реакция после сезона: слабость, плохой сон, склонность к простуде, нервность и т. д.», — жаловался он (I. 8 : 547).
Маня соскучилась без него, но не решалась его беспокоить. И еще Кокина скарлатина — Елизавета Васильевна все так же смертельно боялась инфекций. Для чахоточного Чехова в лето 1902-го мужественно сделала исключение.
И вообще в ту весну Мане Смирновой было не по себе. Она тосковала в Тарасовке без Чехова и Ольги Леонардовны. Чехов так сросся в ее сознании с этим пейзажем, став его душой, что ей в каждом цветке черемуховых, яблоневых и вишневых дерев мерещилось его лицо, только каким оно было не позапрошлым летом, в 1902-м, а на чествовании в Художественном театре 17 января 1904 года, в день премьеры «Вишневого сада». Бледное лицо Чехова преследовало ее в Любимовке, где она познакомилась с ним, навевая тревогу.
В мае 1904 года Чехов приехал в Москву совсем больным. Маня холодела от мысли об Антоне Павловиче.
«Что с Антоном Павловичем? В каком он состоянии? Одни говорят — выздоравливает. Другие — очень плох! — допытывалась она у Ольга Леонардовны. — Вчера за обедней, поверите ли, я, кроме него, ни о ком и ни о чем не могла молиться… Вынула просфорочку; кстати, получили Вы ее и сирень? […] После обеда у нас был молебен с водосвятием (каждый год по переезде дачу кропят), и я окунула Вишневые цветы в святую воду; посылаю их Антону Павловичу на выздоровление и вам обоим на счастливый путь» (IV. 1. № 4907).
Этим засушенным цветкам, сорванным Маней с любимовской или тарасовской вишни, скоро сто лет. Ольга Леонардовна сохранила и их вместе с Маниным письмом. Они, пусть и потеряли свой натуральный бело-розовый цвет, стали белесо-сиреневатыми, живы и здоровы, хотя и рассыпаются от прикосновения. Кажется, когда смотришь на них, что сбывается все, о чем думал Чехов, глядя на красивые цветы вокруг, сиреневые ли, яблоневые, заглядывавшие в окна любимовского дома, вишневые, или «чудные дубы», шумевшие у терраски, где проводила время Ольга Леонардовна, или на «березки кудрявые», выделявшиеся на «голубом безоблачном небе», где витала в лето 1902 года Маня. Чехов сказал об этом суше, строже, без сантиментов, переполнявших Манины письма, устами Тузенбаха-смертника в сцене прощания его с Ириной Прозоровой в «Трех сестрах»: «Вот дерево засохло, но все же оно 206 вместе с другими качается от ветра. Так и мне кажется, если я и умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе» (II. 3 : 181).
В мае 1904-го Маня работала на складе военной одежды уже не два раза в неделю, как зимой, а каждый день. С тарасовского поезда утром отправлялась прямо туда, в Средние ряды, а оттуда еле успевала на вечерний поезд.
«Сегодня была Маня Смирнова, принесла две просфоры», — сообщала Ольга Леонардовна Чеховым в Ялту перед отъездом за границу (II. 1. К. 77. Ед. хр. 7).
3 июня Чеховы выехали из Москвы в Германию.
Известие о смерти Чехова в Баденвейлере принесла Смирновым Ernestin, гувернантка детей Станиславского, подружка Мани и Лили Глассби, послав с посыльным записку на тарасовскую дачу. Маня с сестрами сидела за чайным столом, когда принесли известие. Она еле добралась до своей комнаты и так сильно разрыдалась, что всю неделю не могла свободно дышать. Уснув в половине пятого утра, в семь встала, чтобы послать Ольге Леонардовне телеграмму. Утром, проплакав каждая в отделы-гости, сестры Смирновы, их мать Елена Николаевна и Лили плакали все вместе.
Смерть Чехова ожидали. И все же страшное известие было неожиданным.
Станиславский получил его накануне отъезда из Москвы в Контрексевиль, во Францию. Он вез лечиться за границу больную мать. Узнав о кончине писателя, метался: ехать или отложить отъезд, дождаться гроба с телом Чехова и хоронить его? Колебался «между двумя обязанностями: к мамане и к нему — лучшему человеку (кроме тебя)», — писал он жене, остававшейся с детьми в Любимовке (I. 8 : 548).
Он не отложил отъезд. Елизавета Васильевна умерла через несколько месяцев после смерти Чехова, так что основания для принятого решения у него были веские.
Отослав соболезнования Ольге Леонардовне в Баденвейлер и Марии Павловне, сестре писателя, в Ялту, он 3 июля 1904 года вместе с маманей Елизаветой Васильевной, ее приживалкой Лидией Егоровной Гольст и ее доктором отправился во Францию. Доктор сопровождал их полуинкогнито. Елизавета Васильевна не желала слышать про докторов, устроив сыну по этому поводу страшный разнос. Как она умела.
Ехали через Брест, Варшаву, Берлин — навстречу Чеховым и далее через Кельн до Парижа, маршрутом Раневской. Маманя, как обычно, «оставляла за собой целый хвост писем и телеграмм, разбрасываемых по дороге», — отчитывался Станиславский Лилиной (I. 8 : 550).
При переезде через границу в Бресте, куда прибывал поезд с телом Чехова из Баденвейлера, Станиславский намеревался оставить Ольге Леонардовне письмо — фрагмент черновика сохранился в его архиве. С 207 дороги писал жене, обсуждая возможность приглашения вдовы Чехова до начала сезона в Любимовку.
Ольга Леонардовна брестского письма не получила и приглашением не воспользовалась. После похорон уехала в Ялту с Чеховыми.
Самопожертвование сына Елизавета Васильевна оценила тогда, когда Станиславский, все устроив в Контрексевиле, вернулся в Москву. «Дорогой мой добрый Костя, — писала ему Елизавета Васильевна 23 июля 1904 года из Франции в Москву. — Шлю тебе душевное спасибо с горячим материнским поцелуем за твою ласку, любовь и предупредительность ко мне во все твое пребывание и за старание успокоить меня, и молю Бога, да Вознаградит Он тебя здоровьем и да Вселит твои качества в сердца добрых, милых деток Ваших! Верь мне, очень утешил ты меня своим самопожертвованием» (I. 1).
В Берлине на обратном пути Елизавету Васильевну встречала ее младшая дочь Маня, уже не Оленина, а Севастьянова, и доктор Рябинин уже легально провожал маманю до Москвы. «Спасибо тебе за него, мой дорогой», — благодарила Елизавета Васильевна сына. Теперь, после лечения и отдыха она оттаяла, «перестала быть зулуской — не кричит и не скандалит». Ей, как обычно, было стыдно за свои предотъездные и дорожные капризы, упрямство, брань, стоившие Станиславскому столько нервов. И она, по обыкновению, «лебезила» перед ним, заискивала — извинялась.
Точь-в-точь такой портрет мамани дал Станиславский в письме к Чехову, предваряя его знакомство с ней.
А душа мамани в конце июля переполнялась светлой радостью: «Поздравляю со счастливым рождением Наследника Цесаревича, все рады донельзя за Государыню нашу. В Contrexeville играл оркестр в то утро русский гимн по требованию г. Туколева, прежнего владельца Любимовки», — писала она Станиславскому с дороги из Кельна в Берлин (I. 1).
Со дня кончины Чехова еще не прошло и месяца, но она, «либеральная старуха», все с теми же перепадами в настроении от самодурства «зулуски» к конфузу, баловавшая писателя в Любимовке мятными лепешками, о нем забыла. Он был для нее одним из многих. Куда важнее был Государь, Государыня и значительнее, чем смерть писателя, рождение Наследника Цесаревича.
И вообще характер у нее был легкий. Она думала о сыне, о внуках — как там они, ее детки родные, без нее в Любимовке?
Станиславский, в отличие от мамани, переносил смерть Чехова тяжело и очень лично: «Внутри сидит беспрестанно одна мысль — это Чехов. Я не думал, что так привязался к нему и что это будет для меня такая брешь в жизни» (I. 8 : 552). Терзаемый душевными муками, Станиславский облегчал их письмами из Контрексевиля домой. В самых мрачных, «темно-черных тонах» рисовалось ему и будущее театра. «Как 208 ни верти, а наш театр — чеховский, и без него нам придется плохо», — это Станиславский понимал и год назад, когда ждал от Чехова обещанный «Вишневый сад», а Чехов «Вишневый сад» задерживал в течение почти трех лет (I. 8 : 499).
«Авторитет Чехова охранял театр от многого», — говорил он в 1904-м.
В один год театр лишился Чехова, Горького из-за «Дачников», которых не приняли труппа и Немирович-Данченко, Морозова и Андрееву, — и все в год войны. «Когда нужно бороться с равнодушием публики во всеоружии» (I. 8 : 553).
И в другом письме жене: «С грустью думаю об нашем театре… Недолго ему осталось жить. Представить себе жизнь без него еще не могу. Может быть, война взбодрит немного общество и удержит в нас нашу разрушительную силу. Обидно, что все хорошее так скоро погибает или вянет. Напиши при случае: пишет Немирович пьесу или нет» (I. 8 : 556).
Новой пьесы Немирович-Данченко после смерти Чехова не написал. Ни в 1904-м, ни позже. «Кончатся твои песий, и — мне кажется — окончится моя литературно-душевная жизнь», — говорил Немирович-Данченко Чехову в феврале 1903 года, озабоченный тем, что Чехову — «не пишется» (V. 10 : 152).
Ему самом не писалось давно. С тех пор, как у него появился свой театр, потому что для него ставить пьесу стало «все равно, что писать ее» (III. 5 : 205).
Со смертью Чехова драматург в Немировиче-Данченко умер.
Чехов и Ольга Леонардовна не выходили у Станиславского из головы, пока он устраивал маманю в Контрексевиле. Он перечитывал рассказы Чехова, взятые с собой — «еще больше люблю и ценю его» (I. 8 : 555), — и думал о будущем Ольги Леонардовны, которая скрасила Чехову последние дни. Он считал, что, самоотверженно отдав больному писателю кусок своей жизни, она прибавила ему несколько лет.
Находившийся вдали от России Станиславский нервно отсчитывал дни, остававшиеся до прибытия тела из Баденвейлера в Москву.
О том, как все происходило, узнавал из газет.
Панихида на Николаевском вокзале в Москве шла под свист и ржание локомотивов.
Толпа, собравшаяся на вокзале, сопровождала носилки с телом и четыре колесницы с венками и цветами по всему маршруту следования траурной процессии до Новодевичьего монастыря с остановками, кроме Художественного, у Тургеневской читальни, у редакции «Русской мысли» и у памятника Пирогову.
За гробом шли родные.
В Газетном переулке к ним присоединились два брата писателя, Иван Павлович и Михаил Павлович, мать и сестра — они только что 209 прибыли из Ялты на Курский вокзал. Ольга Леонардовна, печальная, сильно похудевшая, замерла в объятиях Марии Павловны.
В толпе от Николаевского вокзала до Художественного театра шел Горький. Все взгляды были прикованы к нему. Он был в высоких сапогах, черном пальто с перехватом сзади и в какой-то фантастической «поярковой шляпе», — заметил петербургский литератор А. А. Измайлов, писавший о гастролях Художественного театра в Петербурге в «Биржевых ведомостях» под псевдонимом А. Смоленский144. Он прибыл из Петербурга в Москву специально на похороны Чехова.
«Одет он был в обычную блузу и в широкополую шляпу: ничего андреевского, как описывали, в нем не было, — спорил с Измайловым о Горьком едва знакомый с Чеховым маленький писатель С. М. Махалов, писавший в начале века под псевдонимом Разумовский. — С лица он даже похорошел: какое-то оно показалось мне худое, бледное, но очень одухотворенное. Это и не по одному моему впечатлению»145. Махалов заметил в толпе Южина с Эфросом, Сытина с Дорошевичем «в великолепном ландо», Гиляровского, Липскерова из «Новостей дня» и другие лица московских знаменитостей.
Горький, перехватывая любопытные взгляды, ловя реплики, брошенные ему вслед, возмущался тем, что он и Шаляпин, а не похороны Чехова приковывали к себе внимание: «Я шел в толпе и слышал, как говорили обо мне, о том, что я похудел, не похож на портреты, что у меня смешное пальто, шляпа обрызгана грязью, что я напрасно ношу сапоги, говорили, что Шаляпин похож на пастора и стал некрасив, когда остриг волосы; говорили обо всем — собирались в трактиры, к знакомым — и никто ни слова о Чехове»146.
«Проплакал, прочтя описания похорон в газете, и очень взволновался за Ольгу Леонардовну», — писал Станиславский Лилиной 15 июля 1904 года (I. 8 : 558).
«Плохой вид» Ольги Леонардовны подтвердила и Лилина, описав мужу похороны Чехова.
«Уж не надорвалась ли она? Страшно за нее и за театр. Едва ли она будет в состоянии играть, да притом в пьесах Чехова», — отвечал Станиславский Лилиной (там же).
По подробнее всех и очень лично о том, что происходило в день похорон Чехова у Художественного театра, написала ему в Контрексевиль Маня Смирнова. Письмо племянницы заставило Станиславского мысленно проводить Чехова в последний путь и плакать.
Это письмо сохранилось в его домашнем архиве.
1904.VII.9.
Дорогой дядя Костя!
Прости, что пишу тебе, по мне невыразимо тяжело, и этим тоскливым, гнетущим чувством пустоты я должна поделиться с тобой: 210 ты меня скорей поймешь и лучше других. Всю эту неделю я не могла опомниться; мысль о Чехове не покидала меня ни на одну минуту; слова, которые я прочла в прошлую пятницу вечером в письме Ernestin «Антон Павлович est mort» били тяжелым молотом по моему слуху и нервам. Очень было тяжело! А сегодня с утра у меня в голове: «Мы хороним Антона Павловича». И эту фразу я мысленно неотвязчиво повторяю весь день. Я все не верила, не позволяла себе верить, что его уже нет! Я все ждала чего-то, как бы последнего свидания с Антоном Павловичем; все время беспокоилась об Ольге Леонардовне, дай о том, как будут везде встречать Чехова? Это чувство беспокойства было так сильно, что я не могла свободно дышать. Мне не хватало воздуха. Теперь, когда все кончилось, это чувство прошло, но его заменило другое — ужасное чувство пустоты, как будто отняли из самого глубокого тайника моего сердца что-то очень дорогое. Теперь Ольга Леонардовна не выходит из мыслей и из сердца. Такая потребность ее видеть, быть с ней. И ужасно тянет к нему на Могилу; сегодня я никак не могла уехать из Новодевичьего! Так хотелось остаться у дорогой Могилки. Понимаешь, дядя Костя, тебя сегодня страшно недоставало; я несколько раз вспоминала тебя. Рано утром я поехала на вокзал и там сразу натолкнулась на Константина Константиновича Соколова с Саней и еще другой барышней, мы все время были вместе. Потом я нечаянно через плечо какого-то господина прочла в газете о встрече Чехова в Петербурге и сразу расстроилась до слез. Противный, холодный, отвратительный город! Недаром я его всегда и заочно ненавидела! На станции уже было очень много народу, но гораздо меньше, чем у Художественного и на кладбище. Когда гроб пронесли мимо меня, у меля сердце больно, больно защемило и слезы так и потекли! А на Ольгу Леонардовну невозможно было смотреть без слез, они у меня навертываются сейчас при одном воспоминании! Вся ее фигура в большой черной креповой шляпе с длинной вуалью, с скорбным исхудалым лицом, залитым слезами, выражала такую глубоко раздирающую печаль, что становилось страшно за нее, и собственное горе бледнело перед этой скорбью. Она шла, опираясь на Владимира Ивановича Немировича и Гольцева, сзади ее поддерживала Элли Ивановна, жена Владимира Леонардовича5*. Больше никого не было из близких Антона Павловича ни на станции, ни у Художественного; мать, братья и Мария Павловна, которая совершенно занемела в своем горе, и тетка Ольги Леонардовны приехали уже в монастырь, а может быть к «Русской мысли», я там не была.
211 Тяжело страшно было у Художественного! Для меня, которая так любит его, тяжелей всего! Я невольно вспоминала чествование 17-го января! Как перед этим днем перед милым театром стояла огромная, бушующая, веселая, нетерпеливая толпа, чтобы добиться билетов; я с утра радостно волновалась в этот день и вечером, во время чествования, мне было грустно до слез, и ужасное предчувствие меня мучило, какой-то внутренний голос шептал: «Это в последний раз, в последний раз чествуют Чехова, в первый и последний»: И теперь… — перед крыльцом, вместо экипажей с разряженной публикой стоит черная подставка, ждут священник и дьякон, огромная толпа, грустная, молчаливая, торжественная наполняет оба тротуара на протяжении 6-ти, 7-ми домов, а пустая середина улицы ждет вторую толпу, которая двигается медленно с прахом Чехова. Мы были у окна в фойе театра. В театре были Лужский, тетя Маруся, тетя Нюша, М. П. Григорьева, Качалов с женой, Званцев военным, Загаров, Павлова, несколько учениц (Красовская), Шаляпин, Горький, Ф. Гольст, Желябужский. Все грустные, расстроенные; Качалов и Шаляпин, особенно, — и оба очень бледные; Горький очень взволнованный. Все какие-то растерянные.
Вот послышалось вдали пение, толпа хлынула и залила всю улицу, гроб опустили перед дверью Художественного, перед дверью Чеховского театра, которому он дал жизнь и славу и который дал жизнь его пьесам! У меня сердце разрывалось. Я вспомнила Ольгу Леонардовну, какой я ее видела в последний раз в стенах этого театра, — очаровательную парижанку в рыжем парике, в чудном голубом капоте у окна, открытого в Вишневый сад… и теперь! Это было ужасно, ужасно… Несчастная не могла стоять на ногах во время литии, опустилась на колени. Когда лития кончилась, воздух дрогнул от тысячи голосов, поющих «вечную память», — было жутко и торжественно!..
Про монастырь не буду тебе рассказывать… мне слишком тяжело и слезы давят горло!
Отчего тебя не было сегодня!
Маня Смирнова (I. 1).
Образ Антона Павловича не покидал Станиславского, оторванного от людей, с которыми он мог бы разделить свою душевную боль. Ему было тяжелее Мани, Та могла высказаться и выплакаться. Может быть, ему было тяжелее всех.
С Ольгой Леонардовной он встретился только в конце августа, когда труппа собралась к открытию первого сезона — без Чехова.
«Приехал Константин Сергеевич. Я, конечно, разревелась. Поговорили», — сообщала Ольга Леонардовна Марии Павловне (II. 1. К. 77. Ед. хр. 18 : 16).
212 Большего горя, чем смерть Антона Павловича, Маня в своей жизни не знала.
Она была безутешна.
Мысль об Антоне Павловиче и Ольге Леонардовне не покидала ее. Несколько раз на дню, при малейших воспоминаниях о нем и о похоронах, она принималась плакать. В Новодевичьем в момент похорон она не могла подойти к могиле и поклониться Антону Павловичу — так много было народу. И на девятый день она не попала туда — была распорядительницей благотворительного концерта в Пушкине, нельзя было отменить. Но на следующее утро отправилась в Новодевичий. И писала Ольге Леонардовне:
[…] Мне бы хотелось быть совсем одной на Его Могиле, но, к сожалению, не удалось! Какие-то две страшно говорливые монашки все время там были, то и дело кто-нибудь приходил или смотреть, или снимать Могилку, или просто помолиться. Знаете, как хорошо у Антона Павловича! Под этим чудным деревом так тихо, спокойно; птички поют, щебечут, порхают… Как ему хорошо теперь! Я была недолго на Могиле; неприятно молиться, когда на вас смотрят. Но трудно было уйти оттуда, до такой степени там хорошо, свято, так успокаивает нервы, так ото всего окружающего слышится: «Мы отдохнем! Мы услышим ангелов; мы увидим все небо в алмазах… и наша жизнь станет тихой, нежной, как ласка!»
Да, именно нежная ласка светилась в глазах Антона Павловича, согревала вам душу; теперь эта ласка разлита вокруг его Могилы; вам становится тепло, хорошо, дух его живет в вас, вокруг вас… Вы чувствуете его ласкающий, милосердный, грустный, вопрошающий взгляд! Взгляд, который меня преследует теперь, который шевелит и заставляет болеть мое сердце. Так бы и сидела, и молилась на дорогой Могиле, и не ушла бы оттуда! А приходится расставаться.
«Что же делать, надо жить!» — приходит невольно на ум (IV. 1. № 4908).
Особенно тяжело было Мане в Любимовке, где все напоминало Чеховых. Потом навалилась «страшная, огромная пустота», «чувство, что отняли и не отдадут». Несмотря на все доводы рассудка, что Ольге Леонардовне не до писем, что ужасно, скверно, бессердечно писать ей, Маня не могла не писать, так сильно ей хотелось говорить об Антоне Павловиче.
И она писала и писала Ольге Леонардовне. И бежала в Новодевичий, как только вырывала свободную минутку, чтобы снести цветов, убрать могилку, побыть с ним наедине или отслужить молебен. Дома приходилось сдерживаться: родители так часто не отпускали бы ее.
213 Мане казалось, что когда она увидится с Ольгой Леонардовной, ей станет легче на душе. «Вы для меня составляете часть Антона Павловича», — летело Ольге Леонардовне в Ялту (IV. 1. № 4909).
Иногда она думала, что при свидании с Ольгой Леонардовной еще сильнее почувствует тяжесть утраты. А еще чаще не верила, что Антона Павловича нет, и тоже делилась этим с Ольгой Леонардовной:
[…] Сейчас долго смотрела на его карточку — как будто он жив, не верю, не верю. Ведь сегодня сороковой день; я надеялась Вас увидеть в монастыре. Была там у обедни; свезла Антону Павловичу цветов из его милой Любимовки… Ах, Ольга Леонардовна, если бы Вы знали, как часто я переношусь мыслями на два года назад и как мне становится тяжело тогда […]
А Ольга Леонардовна и на сороковой день в Москву не приехала. Впрочем, и она не верила, что Антона Павловича нет. Все писала и писала ему письма, когда вернулась в Москву, как будто он жил в Ялте.
Маня подробно рассказала Ольге Леонардовне, как проходили сороковины на кладбище Новодевичьего монастыря:
[…] Сегодня в монастыре все было очень хорошо, тихо, чинно, не то, что на похоронах! Народу было много, но никакой давки, толкотни. Почти все художественники (большей частью младший персонал) с дядей Костей во главе были; и приехали все рано, в начале и в половине обедни. Я вынула заупокойную (вот еще к чему я не могу привыкнуть и что меня расстраивает каждый раз) просфорочку и мысленно разделила ее с Вами. После обедни всем роздали свечи и мы пошли на Могилу; там было уже много народу, так что пришедшие после обедни далеко стояли. После панихиды (очень хорошо пели монашки, и за обедней тоже) все по очереди подходили поклониться Могиле […].
Потребность говорить об Антоне Павловиче и излить свою душу перевешивала в Мане страх расстроить Ольгу Леонардовну и быть назойливой, нежеланной ей. Она пыталась навестить ее, как только та вернулась в Москву. Но швейцар московского дома Чеховых в Леонтьевском никого не впускал.
Как-то в самом конце августа, когда Маня бродила возле Его дома, она встретила Анну Ивановну Книппер, мать Ольги Леонардовны, и та отговорила ее подниматься наверх. Расстроившись, Маня уехала в Тарасовку. Все уже с дачи съехали в город, и она сидела одна в своей разоренной светелке, как на бивуаке, и мысленно разговаривала с Ольгой Леонардовной о Нем: «Эта обстановка мне напоминает последнее действие 214 “Вишневого сада” и переносит мои мысли к Вам и к Нему… — так грустно становится на душе» (IV. 1. № 4910).
И в сентябре Маня никак не могла попасть к Ольге Леонардовне. Только все писала ей, кляня за это себя, «глупую Манго», но ничего не могла с собой поделать. Ничто не могло отвлечь ее от горя. Она не могла справиться с ним. Ее глаза все мутились и мутились от слез, как она вспоминала о Нем.
С сентября начался театральный сезон, и Маня включилась в него, как всегда. Но Чехов все равно не отпускал. Она даже оперу слышала через Него. «Вчера была на “Дубровском” — музыка мне разбередила душу!» — читала бедная Ольга Леонардовна в очередном Манином послании. Маня расстроилась с первого же действия оперы Направника, с того момента, как старик Дубровский умер, а Владимир объявил это народу: «В оркестре шла панихида, и меня ударило по нервам. Ясно вспомнился вечер 2-го июля, как мы тихо сидели за чаем и мне принесли письмо от Ernestin. А потом…» (IV. 1. № 4911).
Бродила Маня и около Художественного, не могла дождаться его открытия. Все вспоминала прошлую зиму.
И наконец свершилось.
«Я глазам своим не поверила — в воскресенье “Вишневый сад”… Дай Бог Вам силы», — желала она Ольге Леонардовне, увидев афишу октября.
Первый «Вишневый сад» в новом сезоне, первом без Чехова, шел в Художественном в воскресенье, 3 октября 1904 года, а накануне, в субботу, 2 октября давали премьеру «Метерлинковского спектакля» — трех одноактных пьес Метерлинка в переводе К. Д. Бальмонта.
Сезон решили открывать Метерлинком. Сначала думали о чеховском «Иванове» с Ольгой Леонардовной в роли Сарры, о единственной не поставленной в Художественном театре большой пьесе Чехова, но Ольга Леонардовна не выдержала бы нагрузки новой роли. Решили дать ей время прийти в себя. «Иванова» сыграли 19 октября, двумя неделями позже метерлинковского триптиха.
Конечно, Маня была в театре и в субботу, на Метерлинке, и в воскресенье на «Вишневом саде». И 19-го на «Иванове», и на «Иванове» 20-го. На Метерлинке она издали увидела Ольгу Леонардовну и подошла к ней. А после спектакля, запершись у себя на Старой Басманной, делилась с дядей Костей впечатлениями. Ольге Леонардовне писать не решилась: завтра у нее «Вишневый сад».
И Манин дядя Костя все три месяца, что прошли со дня кончины Чехова в Баденвейлере, мысленно не расставался с ним. Чехов преследовал его беспрестанно, как и Маню. Только в сентябре, проведя генеральную репетицию «Метерлинковского спектакля», начатого еще при Чехове и с его благословения, Станиславский преодолел свой «невдух» — свой нервный кризис, совпавший с творческим, с тупиком театра на 215 чеховских путях. Он всегда, с гимназических лет, впадал в «невдух» перед очередной полосой «блужданий», и только в творчестве — в отличие от Мани, которой творчества не дал Бог, — мог его изжить. Этот «невдух» он изживал на Метерлинке.
* * *
На первый взгляд все казалось не так страшно. Были сборы, был успех у публики и критики, было покорение холодного Петербурга, оттаявшего и к Чехову, и к Художественному театру.
Но все чаще, теперь уже из стана молодых поэтов-декадентов, набиравших силу и авторитет, раздавались упреки в ненужности той сценической правды, какой умели добиться в Художественном. За ним у молодых закреплялась репутация «натуралистического», исключавшая его «художественность». У поэтов-девятидесятников вызывала сомнение сама принадлежность спектаклей МХТ к явлениям искусства. Российские последователи Метерлинка и французских поэтов конца XIX века — Вердена, Рембо, Малларме — считали, что театр Станиславского ограничен «бытовым» репертуаром, что он отступает, пасует перед метафизическими безднами и философской символикой его же авторов — Ибсена, Гауптмана и Чехова.
Станиславский понимал, что постановочные приемы и актерские приспособления, обретенные в работе над А. К. Толстым в исторических трагедиях «Царь Федор Иоаннович» и «Смерть Иоанна Грозного», над Шекспиром в «Юлии Цезаре» и над столпами современной драмы во главе с Чеховым, отнюдь не универсальны. Они не пригодны для работы с произведениями «нового» искусства, принципиально оторванного и от житейской, и от исторической реальности. Сторонники «нового искусства», выражавшего апокалиптические настроения, настроения fin de siècle — конца века, зачитывались драматургической поэзией Метерлинка, переведенной символистами, его пьесами-притчами и пьесами-сказками, Недавние новаторы, революционеры в искусстве, Станиславский, Немирович-Данченко и их актеры, игравшие Чехова и современную западную драму — Ибсена и Гауптмана под Чехова, попадали у символистов в консерваторы.
Станиславский, обласканный славой, на критику реагировал болезненно.
Но он не воспринимал декадентскую поэзию, искавшую свою сцену и не находившую ее в Художественном.
Он вообще поэзии не знал и не чувствовал.
Когда Бальмонт первый раз читал свой перевод метерлинковских «Слепых», передававший их поэтическую стилистику, все смеялись над 216 обрывочностью, немотивированностью диалогов. Пьесы Метерлинка казались художественникам выходками безумца.
Впрочем, литературные генералы, оппонировавшие декадентам, и Бальмонта считали пациентом клиники душевнобольных.
Станиславский и актеры с трудом уясняли философию и настроения Метерлинка. Он слишком «туманен», слишком «глубок» для нас, — жаловалась подруге ученица Немировича-Данченко М. Г. Савицкая, Ольга «Трех сестер». Она получила в «Слепых» роль самой старой слепой. У Метерлинка слепые — безымянны. А то и обозначены номерами — первый, второй…
Ориентиры и контуры метерлинковского театра в Художественном подсказывал Станиславскому, как ни странно, Чехов в их последние встречи в мае 1904 года.
Отношения с Чеховым в тот последний его московский месяц были у Алексеевых — Константина Сергеевича и Марии Петровны — очень близкие. Станиславский доверял Чехову беспредельно. Больше, чем Немировичу-Данченко, отношения с которым по-прежнему ограничивались деловой перепиской. Это устраивало обоих. Склеить трещину в отношениях так и не удалось.
Чехов умер в разгар работы над Метерлинком. Но успел внушить Станиславскому свое восхищение «странными, чудными штуками» бельгийского поэта и убедил художественников их ставить. Он участвовал в составлении репертуарных планов театра. Еще до открытия МХТ он говорил Суворину, что если бы у него был свой театр, он непременно поставил бы «Слепых», только предварительно вкратце, прямо на афише, рассказал бы публике содержание пьесы — без всякого символизма: «старик проводник слепцов бесшумно умер, и слепые, не зная об этом, сидят и ждут его возвращения» (II. 9 : 26).
«Слепые» нравились ему у Метерлинка больше других пьес.
Теперь у него был свой театр.
В одну из последних встреч со Станиславским Чехов смотрел макеты декораций к «Метерлинковскому спектаклю», включенному в репертуар будущего сезона, знакомился с режиссерскими планами Станиславского, требовал разъяснения мизансцен и давал советы, обозначая совершенно новые подходы к постановке. «Вспоминаю все большие мысли, которые он бросал в разговоре, не напирая, не выставляя их и не придавая им значения», — писал Станиславский позже (I. 6 : 188).
Например: «Три пьесы Метерлинка не мешало бы поставить […] с музыкой», — говорил Чехов (II. 9 : 94). Или: в «Слепых» — «великолепная декорация с морем и маяком вдали» (II. 9 : 26).
Прежде Художественный театр пользовался лишь конкретным звукорядом. Тут были лай собаки, звон бубенцов у крыльца, пастуший рожок, иллюстративная музыка. В «Вишневом саде» в сцене бала у Раневской 217 «еврейский оркестр» играл польки, вальсы, кадрили, grand rond.
Специально для «Слепых» — по совету Чехова и по программе, заданной Станиславским, — композитор Н. А. Маныкин-Невструев, заведовавший музыкальной частью в театре, сочинил оркестровую прелюдию — некую фантастическую поэму ужаса и эпилог. В режиссерском экземпляре «Слепых», завершая мизансценирование и характеристики действующих лиц, Станиславский записал: «Звуки на сцене понемногу смолкают. Ветер утихает и пока еще не совсем утих — музыка, невидимая публике (которая все еще сидит в темноте), начинает играть музыкальное заключение. От чего-то бурного, как смерть, перейти в тихую спокойную и величавую мелодию — грустную и спокойную, как будущая жизнь за порогом вечности. Звуки затихают, замирают и на неразрешенном аккорде останавливаются. Занавес» (I. 16 : 468).
Это был звук, похожий на чеховский — из финала «Вишневого сада», — отдаленный, точно с неба, замирающий и печальный. Его не сумели добиться в «Вишневом саде». Теперь его пытались взять в «Метерлинковском спектакле» музыкой.
Музыкальные заставки, обрамлявшие все три метерлинковские миниатюры — «Слепые», «Непрошенная» и «Там, внутри», — исполнялись невидимым симфоническим оркестром при опущенном занавесе и полной темноте.
По-иному, чем прежде в МХТ, решались и декорации в постановке Метерлинка. И тоже не без влияния Чехова, равно как и Бальмонта, консультировавшего театр в его первой встрече с декадентской драматической поэзией. Раздумывая над абстрактно-философской символикой Метерлинка, перекладывая ее на язык сцены и на роли, Станиславский прислушивался и к одному и к другому, пытаясь совместить повествование, привычное его режиссуре, с поэтическим языком нового автора.
В обширной ремарке Метерлинка, предварявшей «Слепых» и воплотившейся в макете, который видел Чехов, предлагалось соорудить на сцене «первобытный северный лес под высоким звездным небом». Голые стволы художник спектакля В. Я. Суреньянц сделал исполинской, фантастической толщины, они переплетались внизу с обломками скал и корнями причудливых форм. Обстановка давила «маленьких» — в сравнении с нею — изможденных людей.
Это была идея Бальмонта, одобренная Метерлинком: «О деревьях он (Метерлинк) согласился со мной, что стволы должны быть огромными сравнительно с людьми и уходить ввысь, так что вершин не видно», — сообщал Станиславскому Бальмонт (I. 2. № 7176), посетивший Метерлинка в Париже. Поэзия на сцене требовала концептуального решения пространства, соответствовавшего космизму автора. Чем Симов не владел. Впервые с открытия Художественного Станиславский не работал с 218 Симовым. Он пригласил для оформления «Слепых» художника, окончившего архитектурное отделение Московского Училища живописи, ваяния и зодчества. Может быть, не без влияния Чехова. Суреньянц учился одновременно с Николаем Павловичем Чеховым, Антон Павлович мог его знать.
Излагавший содержание «Слепых» как программу симфонического произведения, Чехов интуитивно нащупывал новые формы театрально-декорационного искусства и звуковой партитуры в драматическом спектакле и подводил к ним Станиславского. Он боялся «похоронного настроения», и Станиславский тоже боялся его. Чехов возражал против него еще в «Вишневом саде». Он возражал против решения пьесы как трагедии и против финальной сцены «человека забыли» как библейского сюжета «положения во гроб» и давал выход вверх, хоть и печальный.
В макете «Слепых», выполненном Суреньянцем, Чехова смущала атмосфера первобытного хаоса, придавливавшая человека. Она создавалась нагромождением упавших развороченных деревьев, гигантских пней, камней, веток, заваленных сухими листьями. Ему не хватало перспективы. Ему виделись море и маяк вдали, отсутствовавшие у Метерлинка.
И в декорации Суреньянца появилась живописная перспектива, игравшая существенную роль в преодолении «похоронного» настроения первой метерлинковской миниатюры. Вдали на заднике темнело море, виднелись верхушка старого дома — приюта слепцов — и светящийся маяк.
Режиссерский план метерлинковского триптиха Станиславский написал в мае 1904 года, после бесед и с Бальмонтом, и с Чеховым.
Рекомендации Бальмонта и Чехова иногда исключали друг друга.
Например, пользуясь модной фразеологией, обозначавшей самые что ни на есть мистико-декадентские намерения, Станиславский пометил в режиссерском плане «Слепых» совет Бальмонта: «Играть пьесу вечно, раз и навсегда». И не замечал, как пронизывают его режиссерские разработки отзвуки чеховского мировоззрения, близкого и ему, и театру, как наполняют они абстрактные схемы Метерлинка и Бальмонта по-чеховски теплой, человеческой конкретностью.
Каждый слепой со стертой, кроме возраста, индивидуальностью, действовавший у Метерлинка под номером, а не под именем, нес в спектакле определенную смысловую нагрузку. Станиславский распределял ее между персонажами, заменяя образно-философский смысл поэмы нравственной аллегорией.
Подразумевалось, что сумасшедшая слепая олицетворяет хаотично-бесовское начало в природе.
Самая старая слепая — это «доброта и вера». Самый старый слепой — это «кротость».
219 Молодая — созидательное, творческое начало.
Пятый слепой — лентяй, тунеядец, «отребье человечества». Его Станиславский усадил в грязь.
Шестой слепой — это философ. Его одевали во все черное, и он напоминал Фауста. Философа дали Качалову. Чтобы было понятно, что он ученый и много думает, Станиславский загримировал его под лысого и отвел место на возвышении, на камне. Как бы философском.
Уже в режиссерских разработках возникала характерность, поглощавшая единообразную у Метерлинка слепоту: смирение старых, поэтичность молодой. На основании индивидуальных характеристик подбирался костюм. Мейерхольд накрыл бы всех одной материей, свел бы слепых в некую общность, как впоследствии он сделал с монашками в своем петербургском спектакле «Сестра Беатриса» по Метерлинку, поставленном для Комиссаржевской.
Станиславский придумывал каждому слепому характерные позы, жесты, перемещения. Мейерхольд свел бы перемещения до минимума — в соответствии с эстетикой «неподвижного» театра, который он утвердит через несколько лет для символистской сцены в петербургском театре Комиссаржевской на Офицерской улице.
Станиславский строил свою иерархию — духовной, нравственной слепоты, и координаты ее располагал на планшете сцены, по соотношению с фигурой пастора-поводыря, и по вертикали. Выше всех сидела безумная — злобная, презрительная ко всем, как природа к человеку. Ниже, но высоко, размещалась самая старая слепая и самый старый слепой: «Они сидят выше других, так как они больше их духом, они ближе к небу», — считал Станиславский. Слепорожденные копошились в грязи, валялись на земле, прятались за стволами и корягами, сливаясь с ними. Молящиеся женщины били поклоны и падали ниц.
Фигура мертвого пастора переместилась у Станиславского из центра, который она занимала у Метерлинка, к крайней правой кулисе, а юная слепая, которая у Метерлинка всех ближе к мертвому, отодвинулась у Станиславского на крайний левый передний план сцены. С ней и ее зрячим малышом связывалась надежда на будущее — в общем смысле спектакля. К ней тянулись слепые, отзываясь на крик ребенка. Они «присматриваются к культуре», противостоящей смерти и смерть преодолевающей, — писал Станиславский в режиссерском плане. Фигура юной слепой со зрячим ребенком на руках, олицетворявшая искусство, доминировала в финальной мизансцене.
Священник-поводырь в этой пантомиме всеобщей устремленности к искусству, побеждающему смерть и темноту, был забыт. Но это в режиссерском экземпляре пьесы, написанном в мае 1904 года.
Смерть Чехова внесла в него коррективы.
220 Второго июля Станиславский погрузился в ситуацию отнюдь не вымышленную и не умозрительную. Рассуждения о смерти поводыря и судьбе слепых, о смерти и об искусстве сменились личными переживаниями.
Переживая смерть Чехова, Станиславский остро, на себе почувствовал не символизм, а реальность Метерлинка. Горькие личные наблюдения входили в ткань спектакля. Беспомощные метерлинковские слепые, оставшиеся без духовного наставника, как художественники — без Чехова, сидели, остолбенев, сбившись в группы, не шелохнувшись, заброшенные и потерянные, раздавленные страшной вестью, как Станиславский, его близкие, его друзья и коллеги в тот вечер 2 июля 1904 года, когда они получили известие из Баденвейлера. Его привез в Любимовку Сулержицкий. «Принимая во внимание здоровье Антона Павловича, надо было давно ждать его, и мы пугливо ждали его годами; но в минуту известия оно показалось невероятным и ошеломило. Весь вечер мы, точно прижавшись, сиротами сидели, боясь разойтись, и говорили, чтобы не молчать и не плакать. Я и жена потеряли близкого родственника», — писал Станиславский 3 июля 1904 года Ольге Леонардовне в письме, которое намеревался оставить ей на границе в Бресте по пути из Москвы в Контрексевиль (I. 6 : 188).
За поэзией Метерлинка высветилась живая жизнь, и Станиславский, попав в материал жизни собственной, стоявшей за пьесой, попадал в свой гений.
Но как играть на сцене, чтобы не двигаться, и как на сцене говорить, когда говоришь, чтобы не молчать и не плакать, — этого не знал никто. Ни Бальмонт, ни Чехов, ни практики сцены, посвященные в вопросы технологические, помочь Станиславскому не могли. Это была сфера режиссуры, где он был первопроходцем и где равных ему не было.
На репетициях он двигался ощупью, вслепую, совсем как персонажи Метерлинка, оглядываясь лишь на новое, символистское искусство в поэзии и живописи, опередивших театр. Еще недавно оно вызывало недоумения и насмешки, но уже утвердило в своих художественных средствах выразительность «дематериализованного» человека. Станиславский размышлял над полотнами Врубеля, над секретами профессиональных классических танцовщиц, выделяя из всех Анну Павлову, над мастерством Шаляпина в оперных ролях, над пластикой Айседоры Дункан, гастролировавшей в России и захватившей «святостью плоти». Метерлинк должен был открыть сцене подобного рода новые, внебытовые формы пластики и речи, заимствуя их у других видов искусства.
Еще и еще раз восстанавливал он мысленно подробности смерти Чехова, «Ich sterbe», — были последние слова умирающего, — вертелось у него в голове (I. 4 : 348). Для него смерть Чехова была «красива, спокойна и торжественна».
221 Пастор уже не мог быть в его спектакле дряхлым, как виделось Метерлинку, с желтым восковым лицом и синими губами. Ассоциации Станиславского шли вразрез с метерлинковскими. У пастора должен быть вид «окаменелого, когда-то красивого, но теперь очень старого божества — вдохновенный мертвец!» — поучал он скульптора-модерниста, заказывая ему статую пастора (I. 4 : 354). А тому виделся муляж, сделанный из пакли.
«Читаю Чехова, много думаю о нем, пишу свои записки», — делился Станиславский с женой (I. 4 : 558). Вероятно, тогда и были зафиксированы мысли о Чехове, впоследствии включенные в одну из глав «Моей жизни в искусстве», поданные в тексте со скрытым в нем подзаголовком «вместо некролога». Станиславский смотрел на метерлинковских персонажей глазами Чехова, каким он представлялся ему в его памяти, и Чехов входил в «Метерлинковский спектакль» голосом от автора-режиссера, лирического героя спектакля, заглушая голос Метерлинка.
Трое слепорожденных олицетворяли для Станиславского ту пошлость, которая убила пастора. Станиславский не скрывал неприязни к ним. У них были «противные старческие лица», а позы на фоне живописно-красивого заднего занавеса Суреньянца с чеховскими морем и маяком вдали — подчеркнуто неэстетичны в эстетике жизненных положений. Это была чеховская интонация. «Кто больше его ненавидел невежество, грубость, нытье, сплетню, мещанство и вечное питье чая», — писал Станиславский (I. 4 : 349). Насчет «ненависти» — тут явный перехлест, спровоцированный в «Моей жизни в искусстве» экстремами революционной эпохи, временем издания мемуаров.
«Кто больше его жаждал жизни, культуры, в чем бы они ни проявлялись?» — спорил Станиславский с теми, кто считал Чехова поэтом будней, серых людей, духовного прозябания, инертности. Он не переставал удивляться, как больной писатель, приговоренный самим собой — врачом — к смерти, «прикованный, как узник, к ненавистному ему месту, вдали от близких и друзей, не видя для себя просвета впереди, тем не менее умел смеяться и жить светлыми мечтами, верой в будущее, заботливо накапливая культурные богатства для грядущих поколений» (I. 4 : 350).
«Театр значительно транспонировал “Слепых” из минора в мажор, — писал Н. Е. Эфрос. — У Метерлинка непроглядное уныние и тоска. “Слепых” писал мрачный мистик-фаталист. В Художественном театре […] пьеса звучала почти гимном свету, порыву вперед, к гордому будущему»147. Видимо, в стремлении преодолеть пугавшее Чехова «похоронное настроение» у Метерлинка Станиславский переусердствовал: взбодрил чеховские интонации чуть ли не до горьковских. Как и в «Вишневом саде» конца прошлого сезона на гастролях в Петербурге.
222 Друзья МХТ воздавали должное отчаянным попыткам режиссера преодолеть «несценичность» Метерлинка. Те, кто обвинял художественников в натурализме, привычно злословили по поводу мелких подробностей и сценических эффектов. Писали о бутафорских совах, ночных птицах и собаке, вилявшей хвостом; о плаче ребенка, воспроизводимом фонографом; о призраке Смерти, появлявшейся в «Непрошенной» в белом облаке из тюля; о задушевных интонациях Москвина, произносившего в «Слепых» — «это собака»; о декламации актеров с «московским распевом», «кваском» и «оттяжками». Доставалось и «Там, внутри» — трагической пантомиме, имевшей, сравнительно с первыми двумя пьесами триптиха, больший успех, — за мелодраматичность тона и жанровое решение метерлинковских идиллических сцен в комнате, написанных в Художественном театре «сочной фламандской кистью».
Станиславский решал в «Метерлинковском спектакле» задачи психологические, но не лирико-поэтические или мистические, обращая диалогические поэмы Метерлинка в психологический диалог, основанный на личных переживаниях. Метерлинковская поэзия, ее стилистика так и не проходила испытания сценой Художественного театра. Природа творческой фантазии Станиславского оказывалась сильнее индивидуальности Метерлинка. Режиссер подавлял ее и подчинял себе.
«Метерлинковский спектакль» был поставлен в эстетике чеховских спектаклей МХТ, несмотря на бальмонтовский перевод и музыку, транспонировавшую его в программно-симфоническое произведение с драматическими артистами.
Кугель, Эфрос, другие критики разной в отношении к МХТ ориентации, посмотрев премьеру «Метерлинковского спектакля», делали вывод о принципиальной невозможности Метерлинка в театре. «Слишком непримиримо противоречие между природою этой новой поэзии и природою театра, которому никуда не уйти от реальности […] — писал Эфрос. — Оторваться от мира вещей, совлечь с себя покровы живой жизни, со всем богатством их красок и вместе со всего определенностью и ограниченностью телесных форм, растаять в идеальной общности сцена никогда не сумеет. Для нее это — четвертое измерение. И если путь драматической поэзии в эту сторону, если там ее ждут новые, прекрасные завоевания, как грезит молодая школа, — этой поэзии придется остаться без услуг театра. Их дороги разойдутся», — предсказывал Эфрос148. Он не предполагал, что Мейерхольд найдет для этой поэзии так называемый условный театр, построенный на отрицании принципов Художественного театра как театра прежде всего чеховского.
Брюсов, лидер поэтического символизма, думал иначе. Метерлинк недоступен Художественному театру, а не сцене вообще, — считал он. Пусть Художественный театр ставит «Горького да Чирикова», — презрительно рекомендовал поэт Станиславскому. «МХТ знает только 223 один принцип: близость повседневной, внешней, кажущейся действительности. Для него существует один закон: реализм. И драмы, по самой своей сущности нереальные, были уложены в прокрустово ложе реализма», — писал Брюсов, рецензируя премьеру метерлинковского триптиха в журнале «Весы»149. Нельзя играть Метерлинка актерам с психологией чеховских героев, — ополчался поэт на «чеховский ансамбль» в Метерлинке, требуя иных, ритмопластических приемов и взаимосвязей действующих лиц при передаче «метерлинковского настроения».
Брюсову отзывался Мейерхольд, «пропитанный» в ту пору Метерлинком: «Не совсем удачная попытка Московского Художественного театра поставить […] Метерлинка […] объясняется не тем, что репертуар театра Метерлинка не пригоден для сцены, а тем, что артисты МХТ слишком привыкли разыгрывать пьесы реалистического тона, не могли найти изобразительных средств воспроизведения на сцене новой мистически-символической драмы» (V. 17 : 89). И в 1907 году, вспоминая «Метерлинковский спектакль» в связи с собственной постановкой «Смерти Тентажиля» Метерлинка в Театре-студии на Поварской, обобщал: «Нашедши ключ к исполнению пьес А. П. Чехова, театр увидел в нем шаблон, который стал прикладывать и к другим авторам. Он стал исполнять “по-чеховски” Ибсена и Метерлинка» (V. 17 : 123).
Станиславский и сам сознавал постановку Метерлинка как неудачу в освоении театром символистской поэзии. Позже, в декабре 1908 года, пройдя через пробы «новой сцены» в постановке «Драмы жизни» Гамсуна, «Жизни человека» Андреева и «Синей птицы» Метерлинка, он признался Блоку, отказываясь от постановки его пьесы «Песня судьбы», в том, что он «неисправимый реалист» и что, в сущности, «дальше Чехова» ему нет пути.
Метерлинковским триптихом он прощался с Чеховым и его драматической прозой. Этот спектакль стал рубежом первого, чеховского этапа в жизни Художественного театра, войдя в историю драматического искусства как ответ Станиславского на смерть Чехова, как реквием драматургу и другу.
А постоянная публика Художественного театра откликнулась Чехову в Метерлинке Станиславского. Среди тех, кто поддержал Станиславского, была, конечно, Маня Смирнова. В ночь после премьеры, переполненная впечатлениями от происходившего по обе стороны рампы, она писала дяде Косте. Это был голос из зрительного зала, воспитанного на пьесах Чехова:
1904.X.2/3.
Дядя Костя, дорогой мой!
224 Что же это? Художественный открылся, а Антона Павловича нет… Я не могу примириться с этой мыслью! Невыразимо тяжело на душе. Как раз передо мной сидел Иван Павлович; когда я его увидела и он с нами заговорил, часть спектакля утратила свой интерес. Я в первый же антракт увидела Ольгу Леонардовну издали в ложе Владимира Ивановича и, конечно, не могла удержаться, чтобы не подойти к ней.
Я ее в первый раз видела, и сердце прямо рвалось от тоски!
Пьесы невольно напомнили мне его шее, Чехова; так в «Непрошенной» я вообразила все эти тени, визг косы, приход Смерти, одним словом, при другой обстановке, в далекой стране чужой, в Badenweiler’е. И пьесы-то такие трагичные, и во всех трех Смерть, Смерть, Смерть, как будто мы Его хороним.
Меня совсем заледенило в театре; такое сильное, мрачное впечатление, какая-то гнетущая тяжесть без единой слезы; даже хочется разговаривать, чтобы забыться.
На обратном пути домой я уже не могла удержать слез; плакала всю дорогу. И сейчас — начала раздеваться, причесываться, но ежеминутно должна была садиться без действия, потому что слезы меня всю трясли.
Ты понимаешь — нет духа Антона Павловича в театре! Сироты вы стали, и, Боже, как это чувствуется, или, по крайней мере, как я это сильно почувствовала.
Какая отвратительная публика была! Деревянная какая-то. Что значат эти хлопки жидкие, прерываемые шиканьем?! Тетя Нюша говорит, что в Художественном нельзя хлопать сразу, такое сильное впечатление. Я с ней вполне согласна; по нельзя и шикать сразу! Вообще находишься так далеко от действительности, что нельзя никаких признаков жизни издавать. Но раз есть люди, которые могут аплодировать, зачем останавливать их! Так это все противно, глупо, неприятно!
А завтра «Вишневый сад», его лебединая песнь…
Как вы можете играть? Особенно Ольга Леонардовна. Я бы не могла! Еще скорей «Дядю Ваню», «Чайку», но ведь с поэзией «Вишневого сада» связаны все последние впечатления, все репетиции с Антоном Павловичем.
Ты очень занят, милый дядя, я не должна была бы писать тебе, но должна же я вылить свою душу, свою тоску кому-нибудь! Ольге Леонардовне боюсь писать перед самым «Вишневым садом». А после нее моя мысль остановилась только на тебе; мне кажется, ты лучше и глубже других поймешь, что я чувствую.
Завтра, конечно, буду на «Вишневом саде»; как-то пройдет!
Боюсь за Чехова. И зачем вы «Иванова» не приготовили на открытие?! Лучше было бы.
225 Дядя Костя, голубчик, ты меня пропусти на «Иванова» на генеральную; а то если я расплачусь на первом представлении, это будет не совсем приятно.
Дай вам Бог успеха, полного, заслуженного. Пойду завтра к обедне и буду горячо, горячо молиться за вас, — неужели Бог не услышит, мою молитву?
Целую. Господь с вами.
Твоя Маня (I. 1).
Ольге Леонардовне Маня написала после второго «Иванова».
За два дня до премьеры «Иванова» хоронили Елизавету Васильевну, маманю Станиславского, Манину крестную.
Смерть Чехова, смерть поводыря в Метерлинке, смерть Елизаветы Васильевны и смерть Сарры в «Иванове» — все это сливалось воедино в Маниной душе. Она сходила с ума, теряя ощущение границы между явью и сценой Художественного.
1904.Х.21.
Дорогая моя Ольга Леонардовна!
Спасибо Вам за трогательную Сарру. В 3-м действии Вы мне так напомнили мою подругу, умершую прошлой осенью от чахотки, что у меня мурашки по спине побежали… Какой у Вас дивный грим! Какая Вы несчастная, страшная, — я боялась на Вас в бинокль смотреть. А Вашу сцену последнюю с Ивановым Вы провели идеально… Я ее всю вижу, если закрою глаза; и, напрягая слух, слышу Ваш надорванный голос. Мне и сейчас страшно, страшно, даже холодно стало от одного воспоминания! Боже, какая раздирающая душу сцена… Я Вас уверяю, что меня сейчас трясет, как в лихорадке, от нервности. А в театре я чувствовала, как у меня левый глаз и нижняя губа задергались; страшно хотелось плакать, но слезы от ужаса как-то застыли, душили меня, а наружу не выходили! Впечатление было так сильно, что я в ночь увидела во сне, как Вы умираете, и именно в образе Сарры. Боже, как я плакала! Когда проснулась, вся подушка была мокрая. А Ваш кашель мне выворачивал душу!.. Так вспомнился наш Антон Павлович!.. Вот спасибо ему за «Иванова».
Мы с Наташей были сегодня в Новодевичьем монастыре, съездили поклониться дорогой Могилке… Я мысленно поблагодарила его за «Иванова». Свезла туда Ваш красный цветочек, который Вы мне дали во вторник; на самую Могилку положила, под пальмовые ветки.
Боже, как там хорошо! Какой покой, какая тишина; так отовсюду веет словами: «Мы отдохнем! Мы услышим ангелов в небесах… Мы увидим все небо в алмазах!..»
226 А ведь они теперь вместе с мамой крестной… как скоро она ушла за ним!
Я чувствовала во вторник их души в Художественном театре, обе были на «Иванове» и радовались вместе с нами; я в этом глубоко уверена.
А я-то как радовалась за у спех его пьесы! Публика-то первого представления — этот лед как разошелся! После Метерлинка наш ненаглядный Антон Павлович всех согрел задушевным, искренним, понятным, метким словом.
Какие типы в «Иванове»! Дядя Костя бесподобен, он еще ни в одной роли не был так хорош. Это такой законченный, художественный, выдержанный тип. Этот грим, этот смех, как он держится — прямо идеально! Качалов мне страшно понравился в четвертом действии; в первых двух его не слыхать, а в 3-м местами он восхитителен (сцена с Шурочкой, когда ему Лебедев деньги предлагает, сцена с доктором), но с Вами он перекричал.
Однако, надо кончать.
Крепко, крепко поцелуйте Марию Павловну, она такая кроткая, тихая, так мне Его напоминает, я ее положительно не могу видеть равнодушно. На «Иванове» чуть не расплакалась, увидав ее.
Господь с Вами.
Ваша Маня.
Марии Павловне дайте прочесть это письмо (IV. 1. № 4912).
Станиславский играл в «Иванове» графа Шабельского, не сорвал премьеру, несмотря на смерть мамани.
Качалов играл Иванова.
Сохранились неоконченные фрагменты Маниных писем Ольге Леонардовне и о следующих премьерах сезона, поздравления с Великим Праздником Рождества и с Новым Годом — на художественной открытке с рисунком Елизаветы Бём к чеховскому рассказу «Спать хочется». Виделись они и на елке у дяди Кости, где были «все свои».
Чехов никак не уходил из Маниной жизни.
В годовщину смерти писателя ни Марии Павловны, ни Ольги Леонардовны не было в Москве. В июле 1905-го Ольга Леонардовна путешествовала по Скандинавии. Мария Павловна и Евгения Яковлевна поминали Антона Павловича в местной ялтинской церкви. Присутствовавшая в Ялте на всех траурных церемониях по усопшему Антону Павловичу старшая из сестер Станиславского Зинаида Сергеевна Соколова писала родным в Москву о впечатлении, какое производила на нее Евгения Яковлевна, потерявшая любимого Антошу:
… Бедная старушка мать до сих пор не может привыкнуть к возгласу «Усопшего раба Божьего Антона!» Рыдания, истовое моление и поклоны, 227 как-то распластывается по полу, и в этом чувствуются не зажившие раны ее души.
Я на днях была у них, сидела в кабинете Антона Павловича, Мария Павловна много говорила о брате, о том, как пусто ей теперь, словно высказаться ей было надо, хоть и не близко меня знает. Мать сказала мне: «Никуда не хочется, ни в Москву, никуда, а все бы ехала и ехала куда-то и так бы всю жизнь». Не казалось ли ей, что так скорее доедет до своего Антоши? Глубоко, трогательно их горе. Обещали дать почитать письма Антона Павловича, писанные во время путешествия по Сахалину. За три месяца до смерти спрашивал, целы ли они, хотел сам их перечитать, верно, нужны были ему, как материал, еще не использованный до конца. Я радуюсь чтению этих дорогих писем…150
Маня Смирнова одна за всех родных Чехова была 2 июля 1905 года в церкви и на кладбище Новодевичьего монастыря. В тот же день она отправила большое письмо в Ялту с отчетом о том, как все было в Москве в первую траурную чеховскую годовщину.
1905. VII. 2.
Мария Павловна, голубушка, а ведь мысли мои сегодня все время улетают в Ялту к Вам и Евгении Яковлевне! Они бы делились между вами и Ольгой Леонардовной, но я даже не знаю, где она, не могу ей написать, и мысли и чувства неудержимо мчатся в Ялту. Мне так грустно, так тихо, томительно грустно! Нет той острой боли, которая в прошлом году 2-го июля мне резала сердце, как ножом, заставила меня проплакать почти навзрыд всю ночь, нет, я теперь даже не могу плакать… Какая-то тихая тоска, томительная грусть легла на меня… как будто не большая грозовая туча находит, а все небо заволакивается серой пеленой и начинает моросить, устанавливается ненастье. Сейчас я долго гуляла одна и все время думала об Антоне Павловиче. Под конец я так настроила свое воображение, что в шорохе деревьев будто слышала его голос — такой тихий, глубокий, немного глухой и такой задушевный, задушевный! Но увидать его я не могла! Как ни оборачивалась, как ни всматривалась в темноту деревьев. Минутами у меня являлись дикие мысли — упасть, вывихнуть себе ногу, чтобы физической болью заглушить нравственную. Я шла так быстро, что устала, и мне жарко сейчас очень. Утром сегодня была с Таней (моя младшая сестра) в Новодевичьем у обедни. Народу было немного, далее мало, особенно в сравнении с похоронами Антона Павловича. А главное, кроме Гольцева, ни одного знакомого лица. Мне так стало обидно и больно, что я до сих пор зла! Мне бы хотелось, чтобы были тысячи людей, чтобы все плакали, чтобы люди эти были благородные, хорошие… Мы сперва пошли поклониться Могилке — она 228 такая свежая; засажена чудными цветами, особенно белые лилии хорошо подходят к Антону Павловичу, и гвоздик много. Свезла ему большой сноп васильков тарасовских, но пришлось его устроить на памятник Вашему отцу; жаль было мять цветы на Антона Павловича Могилке.
Обедню служили в большой красной церкви; очень симпатичный батюшка, служил хорошо, и пели очень хорошо, стройно. Вынули просфорочку за Антона Павловича, а после обедни заказали панихиду и пошли на Могилу. Публика была ужасно какая-то пошлая; хотя большинство учащейся молодежи, но… не то! Мы с Таней встали около самой Могилки, — смотрят, как на диких зверей, невозможно молиться! И потом — божественная тишина и спокойствие, которое всегда царит на Антона Павловичиной Могиле, было нарушено этой пестрой толпой. Мне хотелось спрятаться от них и быть там невидимкой, одним только сердцем! Когда я сравниваю эту панихиду — публичную с теми скромными литиями, которые я иногда зимой, весной служила в будни одна на этой дорогой Могиле… я тогда молилась горячо, я чувствовала, что дух Антона Павловича витает около меня, что он, милый, знает, слышит мою молитву. Надеюсь, что в 2 часа будет очень много народу, не сможет быть мало! Мы ждать не стали… У меня темно на душе, да и теперь не светло, и брови невольно хмурятся, сжимаются.
Завтра у нас будут гости, пикник предполагается, а мне ни о чем и ни о ком думать не хочется! Не хочется быть с людьми; сейчас, гуляя, выбирала самые дальние дорожки, так и тянуло подальше от дома, подальше от людей, в полное одиночество. Голубчик, Вы не сердитесь. Мне сейчас как-то теплей стало на душе; даже приятно, что напишу на конверте Чеховой, что письмо пойдет в Ялту.
Целую.
Маня Смирнова.
Москва, фабрика Бостанжогло (II. 1. К. 96. Ед. хр. 42 : 1 – 4).
16 июля 1905-го Маня написала и Ольге Леонардовне, раздобыв-таки ее заграничный адрес. Она «поняла и простила» Ольге Леонардовне ее отъезд из Москвы незадолго до 2 июля, вспомнив, какой у нее короткий отдых и сколько ей нужно сил на трудную зиму. Конечно, она поздравила ее с днем именин, с Ольгиным днем 11 июля. И снова, как и Марии Павловне, описала свой день 2 июля 1905 года: обедню, просфорочки, панихиду и могилку Антона Павловича, тарасовские васильки и пошлую публику, мешавшую молиться.
Но и у нее на душе «светлело». Вернулся из-за границы папа. Сергей Николаевич побывал в Париже, Вене, Мюнхене, жил у своей матери в Швейцарии. В Швейцарии он встретился с Сапожниковыми, Соней Штекер, возвращался в Москву с Ваней Четвериковым. И все водворились наконец в свои Тарасовку, Финогеновку, Комаровку, чтобы 229 насладиться радостями летней подмосковной жизни, отлаженной дедами и родителями. «Купаюсь, как никогда, запоем! Верховая езда, tennis, прогулки, лодка, велосипед», — писала Маня Ольге Леонардовне (IV. 1. № 4915). А на дороге, что вела из усадьбы Любимовка к железнодорожному мосту и в город, откуда пред очи растерянным Раневской, Гаеву, Лопахину, Варе, Пете и Ане мог предстать грозный Прохожий, их напугавший, Маня встречала Любочку Гельцер-Москвину и Грибунина. Они рассказывали ей о том, что делается в филиальном отделении Художественного театра. Дядя Костя профинансировал и открыл его весной, а летом молодые артисты, художники и режиссеры во главе с Мейерхольдом поселились в Пушкине, где репетировали пьесы Метерлинка, Пшибышевского, Гауптмана. Они осваивали символистскую драму, как когда-то, перед открытием Художественного, осваивали «Царя Федора Иоанновича» и мечтали о чеховской «Чайке».
Круг замыкался. Чеховский период в жизни Художественного, его основателей и его верных зрителей был завершен. Он отодвигался в прошлое, оставаясь воспоминанием не об утрате, а о счастливой поре.
* * *
В конце лета 1905-го Мане захотелось попутешествовать по России. Не получилось. Собралась ехать к Беклемишевым в Рязанскую губернию — не нашла спутника, и мама не отпустила. Задумала прокатиться по Волге с Наташей к дяде в его имение в Самарской губернии, — там случились беспорядки. И дядя сам не поехал, испугался. Еще больше напугало всех декабрьское вооруженное восстание в Москве. Из-за него не открылась студия на Поварской, задуманная Станиславским и Мейерхольдом как филиальное отделение МХТ. Художественный театр, так и не преодолевший творческий кризис, оказался еще и на грани финансового краха. Решили ехать за границу и переждать там, пока все в России не уладится. Станиславский двинулся капитально: с детьми и гувернанткой Ernestin Dupon, той самой, что прислала Мане и гувернантке Смирновых Лили Глассби на тарасовскую дачу известие о кончине Антона Павловича. Она и была связной между двумя семьями: Алексеевых, гастролировавших с театром по Европе, и Бостанжогло-Смирновых, ждавших от Алексеевых вестей.
Без Антона Павловича, Ольги Леонардовны, дяди Кости, тети Маруси и своего Художественного Маня заскучала. Но его из вида не упускала. Читала немецкие газеты — гастроли начались в Берлине, собирала рецензии и письма от Ernestin, радовалась успехам театра. Словом, мысленно 230 следовала за художественниками по всему их европейскому маршруту. И писала Ernestin и дяде Косте. Одно из ее писем с бесценными подробностями о Москве после декабря 1905-го, какой она виделась простой москвичке, о выборах в Государственную думу, о Горьком и Марии Федоровне Андреевой, сохранилось в домашнем архиве Станиславского:
1906. III. 11.
Поздравляю тебя, дорогой мой дядя Костя, бесподобный Штокман! Я страшно за тебя рада. Сегодня, наконец, получила от Ernestin известие о Штокмане; ну, слава Богу, мои молитвы помогли. На радостях хотела сейчас же послать тебе поздравительную телеграмму, но финансы мои оказались в таком плачевном состоянии, что о заграничной телеграмме мечтать нельзя! Ничего, благо есть надежный человек в Дрездене, пишу тебе туда; надеюсь, что мое письмо застанет вас еще там!
А потом уже не знаю, куда и писать! В какую-то Прагу едут, адрес неизвестен… неприятно. Ехали бы в милейшую Вену, очаровательный город! Сегодня Вы прощаетесь с Берлином — ужасно это интересно! Я так хотела бы быть с вами! А каков успех перед Вильгельмом! Я ужасно довольна Берлином; только надо было назначить больше цены и раскошелить немцев! Из Дрездена мне пишут, что очень вам рады и что напрасно вы дольше не останетесь; правда, неделю вы там могли бы пробыть! И было бы полно.
Все московские знакомые страшно вами интересуются; меня со всех сторон умоляют сообщить какие-нибудь подробности про «наш Художественный». Сегодня, например, я уже в десять мест звонила по телефону и читала Ernestin письмецо. А после завтрашнего визита у Марии Павловны (Господи, я кажется не доживу до этой радостной минуты), пожалуй, придется целый день сидеть у телефона и удовлетворять всеобщее ненасытное любопытство.
В Москве усиленно занимаются выборами в Государственную Думу; что-то она нам даст и чем все это кончится?! Говорят о забастовке, но на этот раз едва ли она пройдет. А социал-демократка Мария Федоровна после того, как кричала, что подло оставлять родину в такое время, сама укатила в Берлин со своим Горьким?! Здорово!
Напиши мне хоть два слова на открытке и вложи к Erntstin в письмо; я так буду рада! Привет всем, всем. Целую тебя, тетю Марусю, Ernestin, Киру, Игоря.
Господь с тобой.
Твоя Маня (I. 1).
231 Когда в России уладилось, утихло и театр вернулся в Москву, Маня снова зачастила в Камергерский. Ходила на все спектакли, выпадавшие на ее абонемент. На «Дяде Ване» и на «Вишневом саде» плакала. Никогда не могла отделить их от покойного Чехова, от его вдовы, от них в своей ранней юности. Она не замечала, что душа Чехова уже отлетела от его пьесы на сцене Художественного и Ольга Леонардовна давно пережила смерть мужа и возродилась к жизни. А вместе с ней полегчало ее Раневской. И вообще жизнь театра продолжалась, и Маня жила вместе с ним.
Волнующим событием стал для нее десятилетний юбилей Художественного, и «милый дядя» получил и ее поздравленьице и подарок.
Потом — из тех событий, что попали в письма, — «Братья Карамазовы» Немировича-Данченко, спектакль в два вечера по Достоевскому на открытие сезона 1910/11 гг. вместо намечавшегося «Miserere» по пьесе Юшкевича. Станиславского тогда не было в Москве. Он летом отдыхал в Кисловодске, заболел там тифом, и так серьезно, что чуть не умер. Маня исстрадалась за него. И не было человека, кроме Станиславского, с кем бы ей так хотелось поделиться впечатлениями от «Карамазовых». Но о подмене «Miserere» «Карамазовыми» ему решили не сообщать, чтобы не расстраивать. И Маня написала Марии Павловне Чеховой о первом вечере со всеми подробностями, сцена за сценой. Марию Павловну она любовно называла Тонечкой, переиначив имя Антона Павловича. На нее переносила свою неизбывную нежность к нему. А когда разрешили писать дяде Косте, послала ему четыре письма со своим анализом «Карамазовых». Еще более подробным, чем Тонечке.
В «Братьях Карамазовых» играли все ее любимые артисты, любимые — по чеховским спектаклям: Москвин, Леонидов, Качалов, который «замечательно хорош», когда он и Иван и черт. Дитя чеховского Художественного театра, сформированная, воспитанная в этом театре, хранившая в потаенных уголках своей души намять о Чехове, Маня, дочь купчихи третьего колена династии Бостанжогло и дворянина, учителя словесности, отлично знала Достоевского и чувствовала его:
Москвин — Снигирев изумителен, прямо за душу хватает! Когда он паясничает, хочется расплакаться, и смех даже на ум не приходит. Превосходна и Бутова — «мамочка» сумасшедшая! У нее совершенно бессмысленный взгляд, устремленный вдаль, голубые пустые глаза, она далее молча создает полную иллюзию, а когда начинает говорить слабым, певучим голосом бессмысленные слова, делается жутко. Какая она живая! (I. 2. № 10364).
232 К Бутовой Маня побежала в гримуборную — не удержалась.
[…] Ах, дядя Костя, как дивно идет у них «Мокрое»! Впрочем, я не верно сказала, не идет, потому что никто из них не играет, а все живут на сцене! Полтора часа проходит, как 10 минут, и ты не успеваешь очнуться. Я никогда не подозревала, что в Леонидове такой гигантский драматический талант, такая сила души, столько искренности! Это изумительный Митенька! В первый вечер никак нельзя было этого предположить, и когда думали о драме в Мокром, даже страшно за него становилось, не справится!.. Но тут, когда Грушенька взвизгнула и закрыла лицо от страха, а из-за синей занавески вышел бледный, взволнованный Митенька, все сомнения, все страхи пропали, мы перестали существовать, мы переселились из театра, из наших спокойных мест партера в Мокрое, мы стали переживать страшную драму души Мити, и сердце наше заболело его страданиями! Это что-то было необъяснимое и непонятное, какая-то сила нас унесла! И все о «Мокром» до последней девки изумительно хороши, живые! Германова превосходна — я ее никогда не видала такой искренней! […]
А песни, а девки… откуда они таких набрали! Настоящие деревенские, которые так горланили, что я бы себе с первой ноты голос сорвала! И все время над всем этим разгулом и весельем чувствуешь грозную тучу и заранее замираешь от ужаса! И чувствуешь это именно глядя на обнаженную душу Митеньки […]
Ах, дядя Костя, приезжай скорей и переживи все это сам! (I. 2. № 10365).
Ревностно следила Майя и за Алешей Карамазовым. Из всех братьев Карамазовых он был ей самый близкий. «Идя на “Карамазовых” в Художественный, я больше всего боялась за Алешу! — писала она Станиславскому. — Я его так люблю у Достоевского, он такой идеальный, что мне казалось, — его непременно испортят. Но когда вышел в первой картине Алеша — Готовцев и молча в пояс поклонился отцу и брату, я его сразу полюбила и страшно ему за это благодарна. Есть много нехорошего, много недостатков (кладет йогу на ногу; не хватает душевной силы), но все-таки я душой чувствую, что — это Алеша, а это главное» (I. 2. № 10364).
В пятнадцатой картине — «Бесенок», второго вечера «Карамазовых», — Готовцев — Алеша играл с Кореневой — Lise. Маня и ее папа, филолог, записались «в число глубоких поклонников» актрисы; «Изумительно хороша Коренева! Вот это талант, это сама жизнь! После Гзовской глаз отдыхал. — Гзовская, которую Станиславский перетащил 233 из Малого в Художественный, — играла в “Карамазовых” Екатерину Ивановну. Смирновы не приняли ее (“Все деланное, все напоказ, внутреннего переживания никакого, ни в одну из ее истерик вы не верите”), А Кореневой — Лизой восхищались. — Выкатывают ее на синем кресле в кружевном платьице, в белых туфлях на вытянутых ножках, рыжие волосики, кудрявые, непослушно торчат ореолом вокруг миловидного личика во все стороны; перехвачены черной бархоткой — совсем кукла. Но вдруг эта кукла оживает, в глазах загорается злой огонек, личико передергивается от нервности, перед вами появляется капризный ребенок с истерзанной душой, и вы верите ее страданиям, переживаете ее историю», — писала Маня Марии Павловне (II. 1. К. 96. Ед. хр. 42 : 5 – 8 об.).
Но Готовцев, «такой милый, скромный» в первый вечер, во второй Маню огорчил: «Он был слаб! Вырядили его чучелом гороховым — маленькая шапочка круглая фетровая, без полей, куртка гороховая, застегнутая на все пуговицы — дубовый какой-то! Мне было так досадно» (там же). И Маня просила Станиславского: «Напиши, пожалуйста, Немировичу! У Достоевского сказано: “Алеша носил теперь прекрасно сшитый сюртук, мягкую круглую шляпу и смотрел он совсем красавчиком”» (I. 2. № 10365).
Маня не подозревала, что Владимир Васильевич Готовцев в 1916 году станет мужем ее сестры Жени, той, что подписывала свои письма к Чехову «гребец Женя», и родственные связи Смирновых-Бостанжогло с Художественным станут еще теснее, еще крепче. Только Майя уже не будет жить в Москве.
В осенне-зимний, театральный сезон — до 1912 года — Художественный оставался центром ее жизни.
И еще она много путешествовала. Подолгу жила в Италии, Швейцарии, Вене, Германии, во Франции. Большей частью с сестрами. С наслаждением осматривала города, их окрестности и достопримечательности, обожала античность, музеи, национальные галереи. И конечно музыку. Не пропускала за границей ни концертов, ни оперных премьер. Жизнь ее переполнялась музыкальными и художественными впечатлениями. Она делилась ими с И. С. Остроуховым, другом ее отца, художником из мамонтовского окружения. Он опекал Наташу. И Наташа писала Остроухову.
А весну и лето Маня старалась проводить в Тарасовке. Ни на что не могла променять подмосковную природу, ее леса, поля, речки, дальние прогулки с сестрами и братом Кокой, с кузинами и кузенами — сестрами и братьями двоюродными — четвертого колена московских купеческих династий — с Микой, Шурой и Кокой Алексеевыми, сыновьями 234 Владимира Сергеевича, ее сверстниками, с Соней Штекер и сыновьями Анны Сергеевны, с Борей и Валентиной Гальнбек, с Васей Бостаножогло, сыном Василия Николаевича, с братьями и сестрами Сапожниковыми. Иногда Маня ездила в Крым, в Ялту, к Тонечке — Марии Павловне, и, расставаясь с ней, именно ей писала о Тарасовке и Любимовке, где Антону Павловичу летом 1902 года было так хорошо и где она познакомилась с ним. На любимовском флигеле не повесили мемориальной доски, как шутил Станиславский, оповещавшей о том, что в этом доме жили писатель А. П. Чехов и актриса Художественного театра О. Л. Книппер-Чехова, и скамьи имени Чехова в саду не стояло. Но память о нем в этих местах не угасала. У Мани, во всяком случае. И образ жизни в Любимовке, Тарасовке, Финогеновке, Комаровке с тех пор мало переменился. Только старшие старели, а младшие подрастали и обзаводились собственными семьями.
Кока Смирнов, младший из Смирновых, 1892 года рождения, тот самый, который в 1902 году «нарезала нога», как писала Чехову Лили Глассби, его гувернантка, который в 1903-м, посмотрев «Юлия Цезаря», играл дома в сражения, а в мае 1904-го болел скарлатиной, изолировав на Троицын день Маню от Алексеевых, — в 1911-м окончил Вторую московскую мужскую гимназию, где преподавал его отец, и поступил в Коммерческий институт. Единственного мальчика по линии Бостанжогло — сына Елены Николаевны Бостанжогло-Смирновой, его готовили к карьере фабриканта: он должен был со временем принять дела у дяди Михаила Николаевича Бостанжогло. Тот был еще в расцвете сил. Пройдя два курса Коммерческого института и курс юридического факультета в Московском университете, Кока — Николай Сергеевич Смирнов параллельно учебе на практике осваивал дело, основанное прадедом. Как его отец и дед. И дядя Михаил Николаевич. В 1913 году Николай Сергеевич уже заведовал типографией и складом готовых изделий на табачной фабрике Бостанжогло, что на Старой Басманной. Крупнейшей в России.
Маня, окончив музыкальные курсы Визлер с дипломом наставницы и домашней учительницы музыки, работала в той же гимназии, где преподавал Иван Павлович Чехов, давала частные уроки и, как и мать, занималась благотворительностью.
Она часто писала Марии Павловне в Ялту.
29 мая 1911 года, например, — из Тарасовки по возвращении из-за границы, как раз в ту весну, когда Кока окончил гимназию:
[…] У нас сейчас цветут ландыши (очень поздно в этом году), в парке белые ковры, во всех комнатах букеты белые и чудный запах, в 235 одной моей комнате три вазы с ландышами — это мои любимые цветы. Все наши живы, здоровы; были страшно мне рады! Первые три-четыре дня я с утра до вечера рассказывала, рассказывала без конца. Особенно про мое путешествие с Голубкиной. Много есть курьезов! Но какая она славная! Я ее ужасно полюбила, и мы в Киеве расстались большими друзьями! Еще ни разу не была у нее в Москве, все некогда (II. 1. К. 96. Ед. хр. 42 : 9 об. 10).
13 июня того же года из Тарасовки:
[…] У нас в Тарасовке дивно хорошо! Даже при моей страсти к путешествиям мне никуда не хочется ехать! Сейчас чудесный, лучезарный вечер, солнце только что село и все небо золотое, рожь не шелохнется, как утихшее море. Ходили сейчас с Женей в дивный Фомичевский парк, старинный, запущенный, заросший, как девственные леса на экваторе; принесли оттуда громадные букеты пестрых диких цветов и трепещущих трав.
Вчера проводили Наташу в Гапсаль купаться в Балтийском море и немного поправиться и окрепнуть; она такая худенькая и усталая! Она поехала через Петербург […]
Живем мы чудесно, совсем как в имении: гуляем очень много, читаем, играем, купаемся по два раза в день — жара невероятная, и когда приходится ездить в Москву, положительно умираешь, и возвращаешься в Тарасовку, как в царство небесное! Прямо бежишь в реку. По воскресеньям всегда кто-нибудь приезжает из Москвы или приходят соседи в гости. У меня всего один урок — с Сережей Сапожниковым; их дача в 15 минутах ходьбы от нас. Урок два раза в неделю по 1 часу 45 минут; он такой хороший, старательный мальчик, что это не утомительно.
У Алексеевых две свадьбы: Мика (младший) женился 1 июня в Париже на Александре Павловне Рябушинской. Шура (старший) женится на нашей хорошей знакомой Жене Фрейтаг, урожденной Масленниковой; она разводится с мужем, берет двух своих детей и выходит за Шуру.
И у Сапожниковых свадьба, но невеселая — Гриша женится на их горничной; хотел сейчас же жениться, но родители воспротивились и настояли отправить ее в Англию на два года отшлифоваться.
Сестры зовут в рожь за васильками […]
И Маня, размахнувшаяся на длиннющее письмо Тонечке, закруглялась (II. 1. К. 96. Ед. хр. 42 : 11 – 13 об.).
Маня давала Сереже Сапожникову уроки музыки.
Мика Алексеев, сын Владимира Сергеевича, племянник Станиславского, — этот тот самый шестнадцатилетний в 1902 году шалун, что 236 подвесил к рыболовному крючку Антона Павловича сапог или калошу, чем так расстроил рыболова.
В 1905 году Мика закончил гимназию, а в 1912-м — Московский университет по медицинскому факультету, избрав специальностью теоретическую дисциплину — патологическую анатомию, и был оставлен при кафедре помощником прозектора.
Александра Павловна, наследница купеческого рода Рябушинских, потомственных почетных граждан Москвы, была слушательницей каких-то частных московских женских курсов. Свадьбу молодые действительно сыграли в Париже. Из Германии, прервав свой отдых, в Париж прибыли Владимир Сергеевич и Прасковья Алексеевна Алексеевы с дочерью Вевой, Верой Владимировной, подружкой сестер Рябушинских — Александры Павловны и Надежды Павловны. Владимир Сергеевич не забыл пометить в «Семейной хронике», что накануне отъезда в Париж на свадьбу сына слушал в Берлине «Мадам Баттерфляй», а в Дрездене, куда заезжал к Четвериковым, — «Похищение из сераля». Все это для него события одного ряда.
Надежда Павловна Рябушинская прикатила в Париж вместе с молодоженами. Погодки, сестры вместе росли, никогда не расставались и умерли в один день. Правда, не своей смертью, в 1937-м. Мика после свадьбы поселился в фамильном московском особняке Рябушинских в Малом Харитоньевском переулке. Там всех троих в ночь с 17 на 18 июня 1930 года и арестовали.
Шафером на свадьбе у Мики и Александры Павловны в счастливый день 1 июня 1911 года был Качалов. То-то было весело! В архиве правнука Владимира Сергеевича Алексеева, внука Веры Владимировны, сохранилась парижская фотография, подклеенная в семейный альбом. Молодые — невеста в белом и с фатой и жених во фраке, оба торжественные, выходят из церкви, Точно такие же фотографии молодоженов, сделанные в дни бракосочетаний Анны Сергеевны, Нюши, и Андрея Германовича Штекера в 1885-м и Станиславского и Лилиной в 1889-м, спускающихся после обряда венчания со ступенек любимовской церкви Покрова Святой Богородицы, уже были вклеены в семейные альбомы Алексеевых.
Четвертое колено Алексеевых принимало традиции третьего и готово было передать их следующему, пятому.
Через год после свадьбы у Мики и Александры Павловны родилась дочь Татьяна, в 1916 — сын Сергей. Их юность — детей «врагов народа» — придется на время сталинских репрессий. Ни у Татьяны Михайловны, в замужестве Четвериковой, ни у Сергея Михайловича не будет 237 детей. И линия Михаила Владимировича Алексеева на генеалогическом древе Алексеевых оборвется.
Маня Смирнова в 1910-х тоже была замужем. Очень счастливо за Александром Семеновичем Ивановым и носила его фамилию.
Александр Семенович, по домашнему Шура, Шурик, родился в Петербурге в 1882 году. Отец, сплавщик леса, умер, когда сыну исполнилось 10 лет. Учился Александр Семенович сначала три года в низшей начальной школе, потом три года был певчим в придворной певческой капелле, потом учился во Втором петербургском реальном училище, а в 1900-м, восемнадцати лет, поступил в Петербургский институт путей сообщения и окончил его в 1906-м. После окончания института отбыл воинскую повинность вольноопределяющимся, служил в Главном Инженерном управлении в Петербурге. «Работал чертежником», — как писал он в своих показаниях следователю НКВД в 1933-м. Без этой анкеты и протоколов допросов его и Манину биографию не удалось бы восстановить.
По окончании воинской повинности Александр Семенович служил начальником партии на Армавиро-Туапсинском участке Северо-Кавказской железной дороги, потом его перевели на Беломорско-Балтийское направление, а с 1912 года он вместе с Маней жил в Ровеньках и работал на Екатерининской железной дороге начальником участка службы пути.
У Ивановых было трое детей — это пятое колено Бостанжогло, если считать от Михаила Ивановича, основателя фабрики «М. И. Бостанжогло и сыновья»: 1914-го, 1915-го и 1919-го года рождения. Сына своего Маня назвала Константином в честь дяди Кости — Константина Сергеевича Станиславского.
Ивановы часто переезжали с места на место: Александра Семеновича переводили на разные железные дороги, он был крупным специалистом в области службы пути. Маня, верная жена, следовала за ним.
Конечно, она стремилась в Москву, на Старую Басманную, в свой дом — дом Бостанжогло. Но где бы она ни жила — в Ровеньках ли, в Воронеже или в Свердловске, ее гостеприимный дом был полон людей, гостей, пирогов, музыки и пения. Ведь она окончила в Москве музыкальные курсы с пятерками по фортепиано, сольфеджио, гармонии и музыкальной литературе. На импровизированных домашних вечерах она аккомпанировала своему Шурику. Бывший певчий придворной капеллы любил петь с женой дуэты.
Часто к Ивановым в Ровеньки наезжали сестры — Женя, Таня, Наташа. Маня дружила с Наташей и, как старшая, опекала ее.
238 В 1911 году умерла их мать Елена Николаевна, и Сергей Николаевич женился на гувернантке детей Лили Глассби, той самой, что обращалась к Чехову на «ты» и «брат Антон».
Лили стала Еленой Романовной Смирновой.
Одиночество пра-Шарлотты Ивановны оказалось не вселенским.
Сестры невзлюбили свою бывшую гувернантку. Она отняла у них отца и часть наследства. Сергей Николаевич у Мани в Ровеньках ни разу не был. А сестры из Ровенек все вместе, душой согревшись в Манином доме, отправлялись за границу. Не могли жить без впечатлений.
Все барыни Смирновы — четвертое колено Бостанжогло, родившиеся в семье потомственных почетных московских граждан, — были образованны, интеллигентны, обучены музыке, пению, танцам, языкам, рисованию. Наташа стала известной художницей. Женя и Таня занимались на женских курсах искусствознанием и религиозной философией. Очень всерьез и тем и другим, судя по собранной ими в 1910-х годах домашней библиотеке, распродававшейся в 1990-х Еленой Владимировной Готовцевой, дочерью Жени, Евгении Сергеевны Смирновой и артиста Художественного театра Владимира Васильевича Готовцева. В 1990-х книги из библиотеки ее матери и теток можно было обнародовать без страха сесть в тюрьму за хранение «антисоветской» литературы.
Жизнь «смирновских девиц», как звал их Чехов, — Мани, Наташи, Тани и Жени и их братика баловня Коки, кузин и кузенов Алексеевых, Сапожниковых, Гальнбеков и Васи Бостанжогло-младшего — четвертого колена династий, если считать от Владимира Семеновича Алексеева и Михаила Ивановича Бостанжогло, основателей канительной и табачной фабрик, — сложилась к 1917-му вполне счастливо. Как у их прадедов, дедов и родителей. Казалось, цепочка старинных купеческих родов Алексеевых и Бостанжогло будет виться вечно.
239 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
«ПРОЩАЙ, СТАРАЯ ЖИЗНЬ!», «ЗДРАВСТВУЙ, НОВАЯ!»
(1905 – 1950-Е)
240 ГЛАВА 1
«ВИШНЕВЫЙ САД», ЕГО СОЗДАТЕЛИ И КРИТИКА «ПОД ТОПОРОМ ВРЕМЕНИ» (1905 –
1917 – 1924)
В последние три с половиной месяца сезона 1903/04 гг., включая апрель петербургских гастролей Художественного театра, «Вишневый сад» Станиславского и Немировича-Данченко прошел рекордно много — 43 раза.
В сезоне 1904/05 гг. цифра снизилась до 25.
Осенью 1905 года спектакль сыграли 4 раза, в начале 1906 года всем театром уехали за границу и на гастроли с собой не взяли.
В дальнейшем играли его и на шехтелевской сцене в Камергерском, и на гастролях в Киеве, Варшаве, Одессе. И каждую весну с 1908-го по 1913-й «Вишневый сад» с бессменной Ольгой Леонардовной в роли Раневской ездил в Петербург.
Но самое сильное впечатление на столичных театралов «Вишневый сад» москвичей произвел все же весной 1904 года. Петербург не мог забыть комедийности той редакции «Вишневого сада», показанной в канун смерти Чехова. Она последовала через два месяца после окончания гастролей. Спектакль застрял в памяти видевших его критиков чем-то вроде «сцен г. Лейкина, только потоньше», — формулировал Кугель в 1905-м. «Я не допускаю никакого оптимизма, никаких радостных надежд, никаких действительных, от сердца […] упований […] Пессимизм Чехова шел crescendo» — от начала его творчества к «Вишневому саду», — писал Кугель в 1905-м, констатируя нарастание трагизма в чеховских пьесах, которого весной 1904-го не расслышали художественники151.
В 1905-м петербургская Александринка, испытывавшая комплекс вины перед покойным Чеховым за проваленную в 1896-м «Чайку», показала свой «Вишневый сад». Он был пронизан полемикой с «веселыми режиссерами» Художественного театра.
Постановщик александринской версии чеховской пьесы Ю. Э. Озаровский разворачивал ее в сторону трагедии. Первый акт у петербуржцев полон «тревоги и тумана», а последний «отдает похоронами», — замечали критики премьеры. Кугелю, в принципе приветствовавшему такой подход к постановке «Вишневого сада», этого «отдает» было маловато. Ему не хватало в петербургском спектакле именно трагедии. Кугель считал, что Озаровский «недотёпал» в сторону трагедии. «Должно все время чудиться, что комнаты полны облаками ладана и что свежие, зеленые ветки устилают путь, по которому движется саркофаг […] Заживо погребенный Фирс умирает под глухие звуки топора. То не топор 241 рубит лес, — то горсты земли колотятся в ящик гроба», — писал Кугель в рецензии на премьеру спектакля Озаровского152.
Несовершенная постановка в Александринском театре ему нравилась все же больше, чем совершенная в своем роде в Художественном, «перетёпавшем» последней чеховской весной 1904-го в противоположном направлении — в сторону комедии.
Словечки Беляева привились, стали в театральной критике обиходными.
В сезоне 1906/07 гг., по возвращении труппы из Европы, «Вишневый сад» прошел в Художественном театре 11 раз, в 1908/09 – 9 раз, в 1913/14 – 26 раз, в 1916/17 — тоже 26 раз.
Ежегодно в день рождения драматурга, совпадавший с днем премьеры «Вишневого сада» в Художественном, спектакль стоял в репертуаре театра.
17 января 1910 года его играли 116-й раз.
17 января 1910 года на торжественном утре в Художественном театре в честь 50-летия Чехова с чтением своих заметок о нем выступил по просьбе Немировича-Данченко И. А. Бунин. Тексты Чехова Бунин передавал так мастерски — с чеховской интонацией, что художественники, узнавая ее, готовы были пригласить Бунина в труппу театра.
9 декабря 1911 года состоялось 150-е представление «Вишневого сада».
17 января 1914-го отметили 10-летний юбилей спектакля.
И в 1910-м, и в 1914-м — в дни рождения Чехова и в юбилейный день «Вишневого сада» — в Москву приезжала Евгения Яковлевна Чехова, мать писателя, и артисты играли в ее присутствии. Евгения Яковлевна умерла в 1919-м, как и мать Ольги Леонардовны Анна Ивановна Книппер.
В январе 1914-го состоялось 200-е представление спектакля.
Все 200 раз выходили на сцену в своих ролях трое: Ольга Леонардовна, Муратова — Шарлотта и сотрудник театра С. А. Мозалевский. Чуть-чуть не дотянул до этой цифры Москвин, заболевший незадолго до юбилея.
Все 200 раз Мозалевский в бессловесной роли дворника заносил в дом хозяйки, приехавшей из-за границы, ее багаж, а в финале спектакля выносил со сцены скарб и все нажитое, оставшееся от родителей, что она могла увезти с собой.
В феврале 1916 года Книппер-Чехова и Муратова вышли на сцену в своих ролях в 250-й раз. За кулисами состоялось их торжественное чествование.
Юбилейные представления «Вишневого сада» приковывали к нему внимание театральной общественности. Однако, идя на спектакль, все же шли на Чехова, вернее, на Чехова, которого лучше всех понимали 242 в Художественном. На протяжении полувека драматурга и театр, его открывший русской публике, отождествляли. Чехов, его личность, его феномен и драматургия и после смерти будоражили умы грамотной России в большей степени, чем спектакль художественников. Хотя и зрительный зал театра на «Вишневом саде» с Книппер-Чеховой — Раневской и Станиславским — Гаевым в течение всего десятилетия после смерти Чехова заполнялся восторженной публикой.
Критиков поражала эта неоскудевавшая любовь русского интеллигентного общества к Чехову. Он не становился «вчерашним» ни в 1905-м, когда «новая жизнь», которой Петя и Аня прокричали здравицу, настигала предреволюционную чеховскую Россию с ее людьми и вырождавшимся дворянским бытом. Ни в 1910-м и в 1914-м, в юбилейные чеховские годы, когда послереволюционное будущее — после 1905 года — судило предреволюционные чеховские ожидания.
Девятьсот пятый год и последовавшая за ним политическая реакция не оставляли никаких надежд российской интеллигенции либерально-демократического толка. «Чехов умер накануне 1905 года. Пронесшаяся буря ничего не изменила. Когда Тузенбах говорит теперь: “Нет больше пыток, нет казней”, — это звучит, как горькая ирония. Если бы жил теперь Астров, он опять бы мог сказать: “У меня вдали нет огонька”», — сказал на чеховском утре 1910 года Немирович-Данченко153.
Огонек, маячивший вдали и перед чеховскими Петей и Аней, погас. Итоги революции отбирали надежды утописта и мечтательницы на всеобщее счастье в процветающей России. И надежды Чехова на конституцию, если верить Н. Е. Эфросу. Вспоминая свои встречи с Чеховым, Эфрос говорил, что в «Вишневом саде» звучали «оптимистические ноты, ноты веры и надежды» — самого Чехова. И не в загробную жизнь, «где мечтала отдохнуть Соня из “Дяди Вани”». И не в прекрасное далеко через 200 – 1000 лет, о котором мечтал чеховский Вершинин. Чехов «чуял, что повеяло новым духом, что грядет какая-то весна. И иногда, со своей манерою говорить неожиданно и афористически, вдруг заявлял:
— Через 10 лет у нас будет конституция», — всплывало в памяти критика154.
Но после 1905 года либерально-демократическая Россия увидела «конец русского интеллигентного общества, его теперешнее крушение» и воспринимала «сумеречные» настроения Чехова как абсолютно современные155.
В 1914-м, когда отмечали десятилетие со дня смерти Чехова, литераторы утверждали, что чеховская Россия, отдалившись от великих событий 1905 года, вступила в полосу стагнации, что наша история — бег на месте, что уездная, коренная, почвенная Россия, такая характерная и в Таганроге, и в провинциальной Москве, городах, которые так хорошо знал и чувствовал Чехов, — ничуть не изменилась с чеховской поры. 243 Поэтому Чехов не стал «вчерашним», поэтому он «с нами». «Чехов все еще живет меж нами», — откликался П. П. Гнедич на юбилейный чеховский «Вишневый сад» в Художественном театре в 1914 году.
Имя Чехова в январе 1914-го, до первой мировой войны, неизменно связывалось не с предсказаниями будущего его героями в «Трех сестрах» и в «Вишневом саде», а с уездной, провинциальной Россией. Может быть, через 200 – 1000 лет жизнь станет «великолепной, необыкновенной», но в это верится с трудом, — рассуждал П. П. Перцов. Ручательства чеховского Вершинина внушали скептикам подозрения. Да и сама горячность Вершинина очень походила «на лихорадочную грезу умирающего от жажды о холодном свежем роднике», — писал Перцов в 1914-м156.
«Оптимопессимизм», обнаруженный в творчестве Чехова философами-идеалистами в начале века, критики 1910-х, размышлявшие о мечтателях-утопистах Вершинине и Пете Трофимове, скатывали к пессимизму.
Впрочем, о России перед первой мировой войной были и другие мнения. Брюсов, Ф. А. Степун, поэты-авангардисты видели, как быстро строится Москва, как вырастают на ее улицах «девятиэтажные небоскребы», как летят по городу на бешеных скоростях заморские лимузины. Но этих Чехов, связанный со вчерашней Россией, не интересовал вовсе. Они списывали его в прошлое.
А те, кого поражала исключительная популярность писателя среди либерально настроенной интеллигенции и после его смерти, занялись исследованием самого чеховского феномена. Пытаясь объяснить его, В. В. Розанов шел в рассуждениях методом «из ряда вон». Он составлял ряды ярких литераторов самого разного толка, определивших самосознание нации, и исключал из них Чехова.
Чехов не пророк, не проповедник, как Толстой или Достоевский. Эти не составляют ряда, они слишком гениальны, слишком уникальны, слишком сами по себе.
Чехов и не политик, как Короленко или Горький.
Не Толстой, не Достоевский, не Короленко, не Горький. А кто он, этот человек своей переходной эпохи, так неотрывный от нее, а остающийся «живым лицом, хотя на самом деле он уже умер», — размышлял Розанов в 1916-м, погрузившись в чтение личных писем Чехова, издаваемых Марией Павловной Чеховой. Он был потрясен близостью духовного мира писателя русскому интеллигенту совсем другой, далекой от него эпохи. Во взгляде Чехова через пенсне со шнурочком он не замечал ни утверждения, ни отрицания. Портрет Чехова — это портрет скорее читателя, чем писателя, — приближался Розанов к разгадке чеховского феномена. Чехов, именно Чехов — человек, «как все», но — в идеализированной форме, — нащупал Розанов свой ответ, всмотревшись в лицо Чехова, такое всем знакомое157.
244 «Как все», но — в идеализированной форме…
К этому выводу пришел еще в 1904-м, сразу после смерти писателя, профессор С. Н. Булгаков, будущий отец Сергий, соученик Розанова по елецкой гимназии. Чехов был «одержим теми же муками, сомнениями и борениями, что и мы», и «лишь особым, ему одному свойственным способом» выражал их в художественных образах; Чехов — человек, как мы, — говорил философ на публичной лекции о Чехове-мыслителе158.
Чехов равновелик своему читателю и зрителю.
Концепция личности Чехова и его произведений — в самом читателе, зрителе, в их восприятии.
Эта формула, выведенная Булгаковым и Розановым, действовала и в 1908-м, и в 1910-м, и в 1916-м, как действовала в начале 1900-х, при жизни Чехова, когда каждый от Дорошевича до Кугеля и от Амфитеатрова до Суворина — полюсов эстетического и общественно-политического спектров в театральной журналистике — мог сделать писателя и его героев, их трактуя, своими единомышленниками. Достаточно прочитать статьи 1908 года о «Вишневом саде» Художественного театра Гуревич и Чюминой, давних поклонниц Станиславского, его спектаклей и актеров. Или статьи киевских и одесских рецензентов. Весной 1912-го, 1913-го и 1914-го Художественный гастролировал в Малороссии.
«Вишневый сад» в рецензиях 1908 года похож на Россию и ее зрителей и критиков 1908-го, в начале 1910-х — на зрителей и критиков 1910-х. Он менялся в их восприятии.
Гуревич освещала в 1908 году петербургские гастроли МХТ в столичной газете «Слово»159. Чюмина под псевдонимом Оптимист написала в «Слове» статью о «Вишневом саде», завершавшем гастроли160. С ними в унисон звучал голос П. Н. Шатилова. Под псевдонимом П. Сурожский он писал в отделе искусства газеты «Приазовский край», выходившей в Ростове-на-Дону161. Он тоже смотрел спектакль москвичей, привезенный в Петербург весной 1908-го.
Прошло всего четыре года с тех пор, как столица познакомилась с «Вишневым садом». В 1908-м спектакль приехал внешне мало изменившимся в сравнении с тем, каким узнала и описала его Гуревич в 1904-м в журнале «Образование». Все так же смотрели в окна помещичьего дома ветки старых вишневых деревьев в бело-розовом цвету и еще дышали свежестью краски холмистых равнин средней полосы России на пейзаже, написанном Симовым. Так же гармоничен был ансамбль исполнителей, «отрекшихся от артистического эгоизма», — восхищались критики, не разделявшие кугелевских приоритетов «нутра» актера на драматической сцене над всевластием режиссуры. И не было в «Вишневом саде» художественников, как и прежде, ничего театрального — ни актеров, ни пьесы, ни обстановки, — что разбило бы «протокольное изображение жизни», — писал «Приазовский край».
245 Но в зале сидели люди, пережившие смерть Чехова и 1905 год. И в их восприятии старого чеховского спектакля возникали его новые измерения, и идеологические, и эстетические, связанные с переоценкой чеховских персонажей и драматических ситуаций пьесы, неотрывных в сознании критиков от Чехова и его предреволюционной эпохи. Петербургские зрители 1908-го не могли отделаться от ужаса, испытанного во время кровопролитных акций 1905-го. Сурожский, Гуревич и Чюмина с ностальгической нежностью погружались на спектакле художественников в предреволюционную реальность. Она казалась им почти идеально-прекрасной. Они совсем забыли о духовных тупиках, осознать которые их заставил Чехов в своем «Вишневом саде», и о том, как страдали они в 1904-м из-за того, что так жить нельзя и изменить ничего невозможно. В том отошедшем времени, зафиксированном в «Вишневом саде» Станиславского и Немировича-Данченко, жили люди такие разные — и порочные, неисправимые, и люди со странностями — недотепы, и существа безгрешные, — но все такие славные, и жили одной семьей, «не отравляя друг другу жизни, не хватая друг друга за глотку», — писал Сурожский. Вот что поражало теперь в Чехове Художественного театра: мирное, бескровное сосуществование сограждан, отсутствие у них взаимной ненависти, вражды, озлобления в их разногласиях, в их спорах друг с другом.
Киевский критик Н. И. Николаев (тот, что на восьмом «Вишневом саде» в Москве в феврале 1904-го вздрагивал от хохота зрительного зала в четвертом акте — на проход Шарлотты) писал в рецензии на спектакль художественников начала 1910-х, впоследствии включенной в его книгу «Эфемериды», вышедшую в 1912 году: типическая черта в людях русской жизни, схваченная Чеховым в 1903-м, состоит в том, что «они не врага». «В них нет даже сознания, что их материальные и духовные интересы несовместимы, что они исключают друг друга своим несогласимым противоречием… Они полны искреннего желания оживить остывающий на глазах труп упраздняемой историей формы человеческого существования»162.
Публика, оглушенная ворвавшимися в их жизнь кровавыми событиями 1905-го, наслаждалась атмосферой интеллигентности, разлитой в спектакле, мягкостью, сердечностью Раневской, Гаева, Лопахина, Ани, Пети, Вари, Пищика и даже их прислуги, абсолютно лишенных агрессии в исполнении Станиславского, Книппер-Чеховой, Леонидова, Качалова, Лилиной, Москвина, Александрова — всего ансамбля художественников.
И на первый план в рецензиях конца 1900-х выходила эпическая составляющая чеховской пьесы, представляемая Прохожим, взрывавшим мир идеально-прекрасного.
246 «Чехов точно предчувствовал безобразный разгул злых и темных сил человеческого духа», он «угадал своей почти символической фигурой Прохожего (второе действие) вторжение в русскую жизнь хулигана, победно шествующего среди общей растерянности и испуга», — рецензент «Приазовского края» признавался, что и сам он еще не отошел от 1905-го, когда «великое и святое смешалось с преступным и низким».
«Вишневый сад» написан в канун великих потрясений, в нем много художественного провидения, — утверждали рецензенты в 1908-м. И переводили пьесу Чехова из разряда «протокольной», какой она виделась в 1904-м и какой формально оставалась, — в произведение совсем нового искусства.
«Какой глубокий внутренний символизм! Тут — вся наша жизнь за последние годы!», — восклицала Чюмина, размышляя, как неожиданно слилось в «Вишневом саде» Художественного театра неслиянное: «протокол» и «символ», чеховская эстетика и обобщенный образ. «Вишневый сад» Художественного театра обретал черты произведения чуть ли не новаторского, характерного для послечеховской театральной эпохи.
И Немирович-Данченко в 1910-м, когда Москва и Петербург отмечали 50-летие Чехова, признавал, что только теперь и он, и публика по-настоящему поняли Чехова, и тоже определил «Вишневый сад» как «очаровательную ткань быта и символа»163.
В настоящие новаторы-символисты попал Чехов и у Гуревич.
«После пережитого за последнее время» она читала пьесу Чехова совсем не так, как в 1904-м. 1905 год открыл ей глаза. Оказалось, что в чеховском реализме, истонченном до прозрачности, сквозь рисунок фабулы и характеров «с их трагикомическими изломами» высветилась «безбрежная стихия жизни в ее целом». Этот срез ни в пьесе, ни в спектакле Любовь Яковлевна не улавливала прежде.
В пьесе Чехова обнажилась «внутренняя значительность» сюжета, его эпическая составляющая — писали и Чюмина, и Сурожский.
Прекрасный Вишневый сад трещит не под топором Лопахина, а под «топором времени», — формулировала Гуревич, педалируя всесилие временнóго фактора — общественных условий, поглотивших индивидуальную волю.
«То, что происходит, не есть осуществляющаяся воля отдельной группы, одного или нескольких классов, а нечто высшее — стихийный процесс, огромный, могучий», — вторил ей Сурожский в «Приазовском крае».
Маленькими, беспомощными — игрушками в руках этих независимых от человеческого разума и воли стихийных процессов были теперь в статьях столичных критикесс и ростовчанина и «старики», и молодые «Вишневого сада». И Петя с Аней казались теперь Чюминой жалкими, слабыми, себя пережившими людьми.
247 В июле 1904-го в статье «Памяти Чехова» она спорила с Гуревич, которая, назвав Петю «юродивым», не увидела в нем «положительного типа». «Юродивые сыграли не последнюю роль на Руси в деле умственного движения», — писала тогда Чюмина, и только близорукие могут сомневаться в том, что Петя «способен на величайший подвиг самоотвержения». В 1904-м Чюмина не сомневалась: Петя, не задумываясь, отдаст свою жизнь за общее дело и «дойдет к счастью», да еще «в первых рядах», и Петя и Аня будут счастливы, потому что у них есть высшее понимание счастья как жизни не только для себя. А если Петя не дойдет до всеобщего счастья, то дойдут другие (IV. 1. № 5691/1).
Теперь, в 1908-м, в формуле Пети: не дойду, так другие дойдут — Чюминой слышался «пафос жертвы».
Петя не дошел, он положил себя «за друга своя», — оплакивала она судьбу молодых людей, которым революция и спровоцированная ею реакция, душившая свободы, пропели отходную. Их жаль, молодых людей, — скорбел «Приазовский край», потому что в них, таких молодых, таких светлых — в исполнении Качалова и Лилиной, — «еще не умер человек».
Пережитое в 1905-м сильно надломило петербургских дам, снисходительных и сентиментальных. Их зрительские переживания становились частью спектакля художественников. Спектакль вмещал и их.
О «Вишневом саде» Станиславского и Немировича-Данченко петербургские критики 1908 года, признавшие пьесу Чехова символистской, и киевские — начала 1910-х писали почти так же, как о стилизациях Мейерхольда, Ф. Ф. Комиссаржевского и Н. Н. Евреинова в петербургском театре В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской улице. Прием стилизации столичные режиссеры применяли при постановке пьес Метерлинка, Ибсена и Гофмансталя в переводе русских поэтов-символистов Брюсова, Вяч. Иванова, Блока. «Вишневый сад» в Художественном как феномен эстетический воспринимался критикой 1908-го – 1910-х не драмой жизни, не слепком с настоящей драмы жизни, как прежде, а изысканно-стильным произведением искусства, совершенным в законченности сценического рисунка, почти музыкой — в интонациях, ритмических движениях артистов, паузах и выразительных позах. Постановка Станиславского и Немировича-Данченко воспринималась даже не драматическим спектаклем, а музыкально-поэтическим представлением о прошлом, очень далеком и очень дорогом для тех в зрительном зале, кто «огрубел» или «расшатался в жизненных кошмарах, в удушающей атмосфере вражды и жестокости», — это писал «Приазовский край». Мир искусства, мир идеального, очищенного от драматизма, но подернутого печалью, вытеснял в восприятии нового зрителя прежнее сопереживание его персонажам.
248 Киевские критики, освещавшие гастроли Художественного театра, отдавали должное красоте спектакля как «гобелена». Николаев видел в «Вишневом саде» художественников живое и прекрасное произведение искусства, заключенное в «чудную раму»164. Киевские газеты писали: Чехов «Вишневого сада», посетивший Малороссию в начале 1910-х, похож на «сына сегодняшней России, нежной, бледной, мечтательной, подкошенной, неуверенной в себе, иронизирующей и недвижной. Да, пока — недвижной»165. О танцах «на вулкане» никто не вспоминал.
Рецензенты-малороссы, идентифицируя Чехова с его читателем и зрителем, подтверждали бессрочный универсализм розановско-булгаковской концепции чеховского феномена.
А в основном московские и петербургские критики, давно утратившие интерес к старому спектаклю Художественного театра и только отмечавшие дни рождения писателя и дни его памяти, на юбилейных представлениях «Вишневого сада» ностальгировали, предаваясь элегическим настроениям, и писали о его красоте, переходящей на сцене в священнодействие.
Пик ностальгии по Чехову в «Вишневом саде» Художественного театра пришелся на 1914 год, на 10-летие со дня смерти Чехова и на 200-й «Вишневый сад» Станиславского и Немировича-Данченко. Этот чеховский спектакль объявлялся высшим в России газетной периодикой достижением сценического искусства.
Отмечавшие эту дату погружались на юбилейном представлении в «милый сон», в поэзию воспоминаний, в «дивные грезы». Их вдохновенные элегии укрепляли легенду «Вишневого сада».
Молодой московский критик Юрий Соболев, посмотрев 200-е представление спектакля, слагал оды старому-старому помещичьему гаевскому дому, в окна которого ранней зарей чудесного весеннего утра смотрели стройные вишневые деревья, обсыпанные белым цветом. Он слышал, как просыпались скворцы и ныла тихая жалейка, как просыпался день, «нежный и светлый», как просыпались поля, раскинувшиеся до «широчайшего» горизонта, и как дышало «лаской» и «такой смиренной и мудрой красотой» голубое небо над этой просыпающейся «прекрасной суровой родиной».
Он почти физически чувствовал, как чеховский в Художественном театре Вишневый сад с его длинно-длинной, прямой, как ремень, аллеей, звал в былую молодость, улыбаясь грустной улыбкой несбывшегося счастья.
Соболев испытывал на 200-м «Вишневом саде» эстетическое наслаждение: «Чудесной властью огромного мастерства и благородного художества ожил перед нами — в 200-й раз! — этот нежный Вишневый сад, и ожили его милые, родные нам и близкие люди […] Было радостно отдаться этой власти, которой владеют только подлинные художники, 249 жизнь преображающие в искусство и искусство превращающие в жизнь […] Чеховская элегия, скорбная и нежная, тоскливая и просветляющая, — звучала так, как может звучать только в этом театре.
И звук лопнувшей струны, “унылый и протяжный”, нашел отзвук в нашей душе, в которой сладостные и скорбные слезы […] нежная грусть и волнующая радость рождаются тогда, когда она соприкасается с совершенным созданием искусства непреходящего»166.
Соболев не стыдился возвышенного слога и «сладостных и скорбных» слез.
Спектакль, однако, мало походил на тот, каким он был при жизни Чехова. Меняясь в восприятии читателя, зрителя и критики, литературной и театральной, он жил в Художественном собственной жизнью, независимой от полемики вокруг Чехова и его драматургии. И рецензенты не оказывали на спектакль ни малейшего влияния. Как и вся обширная чеховиана. Реплики, книги, исследования философов, продолжавших изучать проблемы идеализма в России, статьи литераторов и публицистов, их коллективные труды — юбилейные сборники о Чехове — оставались лишь фактами, событиями даже, но — в литературоведении и культурологии.
По мере того как отодвигались в прошлое смерть Чехова и 1905 год, спектакль менялся изнутри, развиваясь во времени и по его законам.
Менялась, прежде всего, Книппер-Чехова, его центр. А вместе с ней помимо ее воли менялась ее Раневская.
Актриса трактовки роли не пересматривала. Просто оставалась на сцене самой собой, сиюминутной. А в роли Раневской, ее психофизика и муза, тем более. Но «топор времени», повисший над Садом, повис и над ней.
В 1904-м, сразу после премьеры, художник Н. П. Ульянов написал большой живописно красивый портрет Ольги Леонардовны в роли Раневской, портрет — в рост, в дымчатой светло-серо-сиреневатой гамме, оттенявшей темно-рыжие волосы утонченной прекрасной дамы с умными и печальными темными глазами.
В том же 1904 году — после кончины Чехова — Ульянов написал другой портрет, Ольги Леонардовны в трауре, парсунный, сурово-скорбный. Будто не владела кисть художника изысканно-удлиненной линией и импрессионистской, серовской манерой письма.
В июле 1904-го Ольга Леонардовна и русская барыня Раневская вместе с ней познали боль утрат. И обе, неотделимые друг от друга, вышли из переживаний иными.
Воскресение Ольги Леонардовны совпало по времени с 1905-м.
Другая не справилась бы с трагедией, потрясшей в июле 1904-го всю интеллигентную Россию. Но на сороковой день, когда полагалось 250 оплакивать и поминать покойного, она в Москву из Ялты не приехала. Ссылалась на волю Чехова, не велевшего скорбеть.
С начала сезона 1904/05 гг. она уже играла Раневскую и новую чеховскую роль — Сарру в «Иванове». Ей достало на Сарру сил.
И через год, в первую годовщину смерти мужа, ее не было в Москве. Она путешествовала по Европе.
А осенью 1905-го, накануне декабрьского вооруженного восстания в Москве, — еще и полутора лет не прошло, как ушел ее Антон, — она по-новому, со светлыми надеждами играла свою Раневскую. Она, казалось ей, никогда прежде не играла Раневскую так светло, потому что высокая радость переполняла ее, — говорила она. «Какая жизнь, какие чувства! Кончился век нытиков, идет громада, надвигается. Боже мой, во всех, во всех пьесах Антона пророчества этой жизни. С совсем новым чувством я играю “Вишневый сад”», — эти слова написаны Книппер-Чеховой в частном письме не в 1917-м или позже, а в ноябре 1905-го (IV. 5 : 74). Так она откликнулась на полыхание зарниц первой русской революции и на царский манифест 17 октября 1905 года, в котором Николай II обещал народу гражданские свободы: неприкосновенность личности, свободу слова, совести, собраний и союзов, обещал созвать выбираемую всем народом Государственную думу.
Осенью 1905 года она участвовала в собраниях труппы, где выражалось сочувствие всероссийской забастовке.
Вместе с тысячной толпой шла под красными знаменами по Тверской к дому генерал-губернатора и даже попала под выстрелы.
Она была на митинге в университете, на земском съезде, слушала ораторов, стала разбираться в партиях: одна «передовая», другая — «революционная».
Ей даже самой захотелось действовать, участвовать. «Мы живем в великое время», — вдохновенно повторяла она реплику Анны Мар из «Одиноких» Гауптмана и приветствовала объявленные свободы, «пророчески предсказанные Антоном», как казалось ей в тот революционный год.
«Все перевернулось, идет новая жизнь, и всюду должно быть обновление, и люди должны новые появиться, и в искусстве уже надвигается перелом», — верила она (IV. 5 : 74).
Пульс улицы, охватившая многих в 1905-м гражданская лихорадка вовлекали в человеческую общность, так ей необходимую, вытесняя душевную тяжесть, наступившую после утраты. Она приходила в себя, выкарабкивалась из личной беды. Отчаяние в принципе не было свойственно ей.
Подобным образом восприняла она уличный скандеж «Большевики победили!» и в октябре 1917-го, когда утром вышла из своей квартиры в театр, на репетицию. Но это, похоже, уже газетная риторика, ее позднейшее 251 «услужливое», как говорил Пушкин, воспоминание, искаженное добровольно исполненным заказом военных 1940-х в день юбилейной, двадцать пятой революционной годовщины167.
На самом деле в 1917-м эйфории 1905-го не было.
В одном из писем 1917-го к Марии Павловне Чеховой в Ялту Ольга Леонардовна жаловалась на душевную усталость и на то, «как легко сойти с ума от того, что перестаешь понимать, что делается кругом» (IV. 5 : 119).
Впрочем, она и в 1905-м быстро отрезвела — от обысков, пулеметов, пушек, винтовок, от зверств и солдат, и дружинников, стрелявших в солдат, и от действий правительства. «Бедная Россия! […] Если бы была серьезная единодушная революция, стыдно было бы уезжать, а теперь, напротив, хочется и нисколько не стыдно», — оправдывала она свой отъезд с труппой Художественного театра в Европу в начале 1906-го, полемизируя с Марией Федоровной Андреевой (IV. 5 : 75). Та отъезда труппы не одобряла, как свидетельствовала Маня Смирнова («социал-демократка Мария Федоровна […] кричала, что подло оставлять родину в такое время»). В 1920-х Мария Федоровна, осуществляя в драматических театрах политику новой, большевистской власти, выезду труппы Художественного за границу будет препятствовать.
В Москву после европейских гастролей Ольга Леонардовна вернулась «милой актрисулей», с порхающей улыбкой на устах. Какой знал и любил ее Чехов. Ни 1904-й, ни 1905-й не оставили на ней следов, тех, что запечатлел на ее парсунном портрете Ульянов. В отличие от Немировича-Данченко и петербургских интеллектуалок Гуревич и Чюминой, надломленных общественной трагедией, она не чувствовала, вернувшись домой, удушающей атмосферы. Прошлое не висело над ней тяжелым грузом впечатлений и воспоминаний и не давило ее. Как и ее Раневскую. Чеховская Раневская, полная «радостной тайны», по выражению Щепкиной-Куперник, пленительная женщина, в которой таился дьявол, как писала о ней Кнебель, снова безраздельно отдавалась тому, что сию минуту владело ее существом. Без шлейфа пережитого или увлекшего ее минутой раньше.
Самое трудное в роли — легкость Раневской, соглашалась Ольга Леонардовна с Чеховым, когда он прислал рукопись «Вишневого сада» в Художественный театр и когда она и Станиславский вытягивали из него авторское понимание им написанных в пьесе «совсем живых людей».
Теперь, когда драмы, и личная, и общественная, были позади, Ольга Леонардовна находила то, что не далось ей на премьере: эту легкость Раневской в сиюминутных сменах настроения в диапазоне от смеха к подступающим слезам и снова к смеху. Ей как актрисе на сцене было легко 252 и светло. Она могла быть самой собой в этой любимой роли. Она срослась, сжилась с нею. Она чувствовала себя Раневской, могла быть ею.
А Станиславский на нее сердился.
Эта легкость, эта бездумность, это «хаотичное состояние души» — актерское «наитие» на подмостках возмущали его в Ольге Леонардовне, когда он стоял с ней за кулисами перед выходом на сцену, стоял уже не как режиссер и учитель, а как Гаев, как брат с сестрой, вернувшейся из-за границы, и пока Дуняша — Халютина и Лопахин — Леонидов, готовясь к встрече хозяйки «Вишневого сада», вели свой диалог.
Полудетскую привычку обдумывать то, что происходило с ним на сцене, и вести подневные «Художественные записи» Станиславский сохранил и в зрелые годы.
Придя домой после очередного спектакля и анализируя его, он записал: «Первый акт “Вишневого сада”. Выход (приезд Раневской и других). Все готовятся к выходу, болтают анекдот и глупости. На сцене Леонидов и Халютина слышат приезд и уже дают новый темп и ритм пьесе. Этот ритм и темп — первый толчок, камертон для последующей сцены. Хоть бы раз кто-нибудь из участвующих прислушался к этому камертону и, схватив его, настроил свой внутренний темперамент и энергию, а следовательно, и внешний ритм и темп движений. Ольга Леонардовна с мрачным и еще не проснувшимся для творчества лицом сентиментально машет ручками и подбирает подол, любя в Раневской только этот сентиментально-характерный жест. Это так забавляет ее и так удаляет от главного, что происходит на сцене, что она могла бы в этой ванне сентиментальности и грошового женского манерничанья просидеть целых десять минут. Мне каждый раз приходится выталкивать ее на сцену силой, понимая, что эта ее забава не нужна, а лишь вредна для темпа пьесы. На сцену она выходит внутренне не готовая и, чтобы как-нибудь пристроиться и развить внутреннюю радость, прямо идет от внешних жестов, от рук, беготни и других телодвижений. Сцена короткая, поэтому настоящий ритм и темп внутренний Книппер получает только тогда, когда она ушла уже за кулисы и торопится переодеваться в свою уборную. Этот момент она делает в настоящем ритме, и им любуются мастера за сценой, пожарные и бутафоры, но не публика. То же повторяется при каждом выходе: анекдот, махание ручками, неподготовленный выход; и добрую половину сцены — искание ее ритма и темпа» (I. 5 : 378 – 379).
Еще больше сердился на нее Станиславский за монолог Раневской у открытого окна, тоже из первого акта: «Руки пестрят всюду. Почему? В тот момент, когда Раневская мыслями и чувствами погружена в себя». Станиславский придирался к ней не шутя, хотя читать его заметки без улыбки невозможно: «“В этой детской я спала”, — говорит Ольга Леонардовна Книппер, указывая в окно на сад. “О, мой милый сад”, — говорит 253 она в другом месте, повернувшись к комнате. (Я поднимусь на дно морское, я опущусь на облака), — перефразировал Станиславский текст старинного романса, застрявшего в памяти. — Она играет эту роль для того, чтобы показать свою нежность и эфирность (прелесть Книппер в ее широкой руке и крепком мужском сложении). Внутреннюю суть пьесы она никогда не знала» (I. 17 : 324).
К Ольге Леонардовне и Качалову, ведущим актерам труппы, игравшим «по наитию», Станиславский был особенно придирчив за нежелание осваивать его «систему», его подходы к работе над ролями.
В. В. Шверубович, сын Качалова, присутствовавший на репетиции «Вишневого сада» перед началом заграничных гастролей театра в 1922 году, был свидетелем купечески-разнузданной сцены, которую Станиславский закатил Книппер-Чеховой. Он при всех кричал на нее после прогона третьего акта: «“Любительница! Никогда вы актрисой не были и никогда не будете!”, пародировал ее, грубо, уродливо изображал ее сентиментальной и глупой»168. Качалов тогда выскочил из репетиционного фойе, а у Шверубовича-младшего задрожали колени.
Давно разделавшийся со своим любительским прошлым, Станиславский демонстрировал и издержки этого преодоления, требуя буквального перевода слова в его иллюстрацию, в то, что стоит за словом.
Ольга Леонардовна, в роли Раневской во всяком случае, находила свой способ существования на сцене, отдавая приоритет чувству над словом. А суть, «внутренняя суть», в терминах системы Станиславского, роли Раневской и состояла как раз в природе ее собственных чувств, в секрете органичного перетекания слез в смех и смеха в слезы. В этих процессах, совершенно оторванных и от материальной реальности, и от слова, — экзистенциальных, — Ольга Леонардовна и все актеры-художественники первого призыва, и Станиславский в первую очередь, дорожили по-настоящему тем, что через слово и через движение просвечивает: живым трепетом человеческого духа актеро-роли.
Может быть, Ольга Леонардовна, на душе которой было теперь так светло, была чрезмерно легкой. Легкость Раневской ей удавалась теперь так же, как прежде ее слезы. Станиславский корил ее тем, что она была подобием безответственной Раневской в своей жизни, а Раневская подобием ее — в своей.
В минуту раскаяния Ольга Леонардовна просила прощения у Станиславского за свое «беспорядочное нутро», за все то, что ей самой мешало жить. Жалела его, «несуразного», досаждавшего ей требованиями «системного» подхода к роли. А завтра снова забывала о Станиславском, как забыла о Чехове, и играла как играла, махая ручками, подбирая подол и купаясь в «ванне сентиментальности и грошового женского манерничанья», смотрела в окно, когда говорила про детскую, и поворачивалась к окну спиной, когда говорила про сад.
254 Станиславского огорчало, что чеховская Раневская в бездумности актрисы теряла в драматизме.
Но он стал замечать, что и его собственный Гаев уплощался и упрощался. По обратной причине. «Долго играя Гаева, я позабыл, что все дело в его легкомыслии, и я стал жить тем, что Гаев, бедный, озабочен продажей имения»; «легкомыслие — пропало и взамен явилась чеховская нудность», — помечал он свои самонаблюдения в записной книжке (I. 2. № 920, 923).
Немировича-Данченко, в отличие от Станиславского, совсем не огорчали эти процессы.
Напротив, ему казалось, что они приближают «Вишневый сад» к верному пониманию Чехова, снимая прежние пережимы и в трагическое, как было на премьерных спектаклях, и в комическое, когда, прислушиваясь к автору, театр чрезмерно облегчал, дедраматизировал его пьесу.
Немирович-Данченко так объяснял эти процессы, приветствуя их: «От натурализма театр давно отказался и стремится к возможному упрощению, отметая ненужные подробности и стараясь лишь передать стиль исполняемого произведения […] И прежние пьесы, которые раньше были перегружены подробностями, как “Вишневый сад”, теперь идут в более утонченном реализме […] Не натурализма, а реализма хочет театр», — отвечал Немирович-Данченко на вопросы киевского интервьюера в мае 1912 года о сути благотворных перемен и поправок, которые вносило время в старые спектакли и роли.
В процессе перехода от «натурализма» к «более утонченному реализму» мельчали, утрачивая многомерность, и другие персонажи «Вишневого сада». Артисты переставали дорожить психологической сложностью своих ролей.
Лужский, сменивший Грибунина в роли Симеонова-Пищика, потерял красочность и сочный юмор.
Лопахин Массалитинова был прямолинейно груб и только. Артист выдвигал вперед купца из мужиков. Гордого тем, что он, сын и внук мужиков, простаивавших в передней у Гаевых, купил «Вишневый сад». Изображая Лопахина тяжеловесом, чумазым громилой-дикарем, Массалитинов отказывался признать в своем купце новую силу «с белыми руками», какая была у Лопахина — Леонидова в канун 1905-го.
Варя в исполнении Лилиной теряла свой хозяйский практицизм, роднивший ее с Лопахиным. Больше всего Лилина, сменившая в этой роли Андрееву и скончавшуюся Савицкую, боялась суховатости ключницы. Она помнила, что Чехов хотел видеть Варю глупенькой и плаксой. Хлопотливая, наивная и эмоциональная, она легко переходила к слезам, но без смеха, в отличие от Раневской. Даже если слез на глазах 255 нет, ее душа плачет, — говорила Лилина о Варе в конце 1930-х ученицам, передавая им свой актерский опыт.
Варя Лилиной — плачущая душа, — говорил в 1911-м Эфрос, рецензируя актерские вводы в старевший «Вишневый сад»169.
«Подгорный выходит в первом акте просто (для меня одного заметно наигрывание вахлака), радостно, без смущения. Почти быстро входит, точно тенор, желающий петь арию […] На сцене […] он был идиотом», — записывал Станиславский свои замечания Подгорному, получившему роль Пети (I. 2. № 920). Радостно приветствуя возвращение Раневской домой в финале первого акта, Подгорный забывал о ее прошлом. Пропускал Раневскую, потерявшую здесь сына. Актер оправдывался: он копировал рисунок роли Качалова, вспоминая только его.
Но, повторив мизансцены Качалова, повторить Качалова было невозможно. Дублируя Качалова в роли Пети, передавая лишь внешнюю сторону роли, Подгорный давал ей крен в сторону комического. Опрощая Трофимова, умаляя его лиризм и увлеченность, он усиливал тем самым элементы «облезлости», характерности.
А Аням 1910-х не хватало наивности, безоблачности.
На ее лицо, «не по-детски серьезное», залегли глубокие тени «беспощадно разбитых иллюзий», — писал Николаев в газете «Киевлянин» в мае 1912 года об Ане, «поблекшей» в исполнении Кореневой. Критику хотелось видеть в образе молоденькой девушки «первые молодые побеги на обновляемой ниве общественности». А видел он лишь «орнамент», «очень красивый, затейливо переплетавшийся с главными контурами, но все же не более, чем декоративное украшение»170.
Блеклая зелень в орнаменте — характерные цвет и стиль эпохи модерна.
В Ане Ждановой, бывшей ученице школы МХТ, прежде выходившей в толпе в ролях без слов, была чарующая молодость. Что, казалось, хотел и не добился от Лилиной на премьере Чехов. Ане Лилиной аромата юности недоставало, это так. Но Аня Ждановой, — замечал Эфрос, сравнивая ее с Аней Лилиной, «сросшейся» с помещичьим домом, — склада скорее «космополитического, чем русского».
Аня Ждановой, дачница в загородном имении, а не его молодая хозяйка, совсем «пожухла» среди природы во втором действии спектакля, — писала киевская «Вечерняя газета» в мае 1914-го.
Вместо Ани и Пети, звавших за видимый в декорации Симова горизонт, киевский зритель эпохи расцвета модерна утыкался в «унылый», на взгляд южан, левитановский пейзаж ближних планов, забивавших прекрасную светлую даль.
В 1913-м на время болезни вышел из спектакля Москвин. Станиславский сам занимался с М. А. Чеховым, родным племянником Антона Павловича, вводя его на роль Епиходова. Вернее, на роль Епиходова, 256 каким его играл Москвин. Образ, созданный Москвиным, всем, и даже автору в 1904-м казался идеальным.
Станиславский добивался от Чехова самолюбования в роли Епиходова. Он предлагал актеру вспоминать поступки из его жизни, когда он был чрезмерно самоуверен, и делать соответствующие этюды, чтобы найти это необходимое роли самочувствие. Анализируя репетиции с Михаилом Чеховым, Станиславский записывал их эпизоды, их клочки и свои замечания молодому артисту: «Это был больше Чехов, чем Епиходов. А не можете ли вы, Чехов, быть еще нахальнее, самоувереннее, распущеннее, без воротничка, то есть дать волю в своей душе тому элементу, который заготовлен в вас для Епиходова». Но актер держал Епиходова в жестких рамках интеллигентного поведения. Станиславский настаивал на наивности и тупости Епиходова: «Хвастайтесь: я замечательный человек: отсюда епиходовская бестолковщина […] Ваш Епиходов слишком любезен со мной, слишком воспитан и толков» (I. 2. № 1273). С чела чеховского Епиходова не сходила печать угрюмой подавленности. Артист шел на репетицию, как на плаху. Епиходов Москвина у него не получался. Свой образ — не рождался.
Спектакль устаревал, изнашивался морально, отдавал «ретро», превращаясь в «бледный гобелен» времен стародворянской России. Новые исполнители держали рисунок спектакля. Живая жизнь уходила из него.
Однако не только артисты Художественного театра, но и рабочие сцены уже не проявляли к чеховскому «Вишневому саду» должного трепета. Они забыли, как их товарищи в день похорон писателя вынесли с высокого крыльца здания в Камергерском сноп колосьев, обвитых незабудками, возложили его «от театральных рабочих» на гроб с телом Чехова и как сразу стихла толпа, провожавшая Чехова в последний путь.
Электротехники по расхлябанности могли теперь в первом действии устроить рассвет сначала в комнате, а потом доводить его до полной силы за окном. «Мне было больно… и я искренне страдай», — записывал Станиславский в дневнике спектаклей Художественного театра 21 декабря 1914 года. И сердился: как можно не чувствовать прелести раннего утра в деревне?
Ценнейшую музейную мебель красного дерева, купленную для второго акта «Дяди Вани» и игравшую в третьем — «Вишневого сада», — «драгоценную и замечательную по редкости» (из записи Станиславского в дневнике спектаклей 15 февраля 1915 года), — стали использовать для выгородок на репетициях, а потом подновляли, выкрашивая старинную политуру бутафорской краской.
Станиславский свирепел, обвиняя рабочих в вандализме.
257 Такой же его гнев вызывала и бригада, отвечавшая за звуковую партитуру первого акта. Рассвет сопровождался пением птиц — тут по сигналу суфлера рабочие, музыканты и актеры, свободные в данной сцене, получали свистульки и начинали дудеть в них, изображая щебет.
Формальное дудение режиссера не устраивало.
Больше того, он впадал в отчаяние, сталкиваясь с равнодушием «скворцов», лишенных поэзии, не чувствующих природы, не умеющих любить Чехова.
И начинал им рассказывать, чудак, рыцарь поэзии в Чехове, о значении атмосферы в чеховском спектакле, как его Гаев половым в дрянном ресторане — о декадентах.
Увлекаясь, описывал весеннее леденистое утро, свежий ветер, первые лучи солнца, пробудившие птиц. Их перекличку. Как они отряхиваются и чистят перышки, как ищут, как ловят тепло лучей. Он сам расставлял «птиц» по-своему и каждому давал задачу, на ходу фантазируя. Одному говорил: «Вы скворец, влюбленный в скворчиху» — и учил, как объясняться в любви: «Приглашайте ее разделить ваши восторги от этого дивного утра, от прелести цветущих вишен». Тому, кого назначал скворчихой, говорил: «Вы его не любите, вам больше нравится» другой скворец; «Вы поете для него, хотите обратить на себя внимание, соблазняете его, стараетесь покорить его сердце, а он занят делом и сплетает себе гнездо, больше его ничего не интересует…» Третий — Станиславский обращался к третьему рабочему со свистулькой — «потерял скворчиху-жену, он вздыхает по ней, тоскует и плачет… Ему мучительно противны любовные муки товарищей». И этого было Станиславскому мало. Он менял «скворцов» местами. Кого-то заставлял «перебегать с манком с места на место», чирикая «на лету». У кого-то отбирая роль кукушки и передавал другому. Так описывал репетицию Станиславского с «птицами» на рассвете, а потом и с гобоистом, изображавшим жалейку, Шверубович-младший, став однажды ее свидетелем (V. 27 : 536).
Станиславский в одиночку, как мог, поддерживал угасавшие драматизм и поэзию «Вишневого сада». «Чехов […] остается важнейшей ценностью» Художественного театра, — говорил он в 1916 году (III. 1. № 8033/2б).
Молодые посмеивались над стариком.
И Ольга Леонардовна грустила вместе со Станиславским, перекладывая вину за «осыпание» цветов с Вишневых веток на войну, которая «спутала все понятия, все меры и все ценности»: «Грустно… Осыпается “Вишневый сад”. Но я по-прежнему верю, что пройдет несколько лет и пьесы Чехова засияют нетленным, немеркнущим светом в освеженных гигантской грозой человеческих душах», — говорила она интервьюеру журнала «Театр» в феврале 1916-го171 совсем как Маша Прозорова, наслушавшаяся 258 возвышенных речей Тузенбаха — Качалова и Вершинина — Станиславского и поверившая им.
Однако зрительный зал заметно для артистов охладевал к Художественному. В театр пришла другая публика, сменившая его постоянных абонентов. «Беженская» публика — называли ее в театре. Артистов, привыкших к тишине в зрительном зале, «непосредственная» немосковская «беженская» публика «нервировала». «На днях у нас “Три сестры” шли при громком хохоте. Его вызывала в зале каждая смешная фраза, особенно реагировали на подвыпившего Чебутыкина», — рассказывала корреспонденту «Театра» одна из участниц спектакля.
А 31 мая 1917 года, когда «Вишневый сад» играли на закрытие сезона, Станиславский сделал в дневнике спектаклей такую запись: «Поразило меня бесконечное гуляние за кулисами. В этой пьесе должна быть абсолютная тишина. Шумят все и даже сами артисты, исполнители главных ролей. На лестнице митинги, не предусмотренные Чеховым» (I. 18 : 61).
Станиславский считал лестницы, ведущие из артистических уборных на сцену, «чистилищем» перед выходом актера к публике.
На лестницах из жизни в театр, в искусство уже шумела новая историческая эпоха. Как и в зрительном зале, по другую сторону рампы, и за стенами в Камергерском.
Станиславский не слышал ее приближения.
«Под топором времени» трещал весь уклад российской жизни.
Февраль и октябрь 1917 года поставили его перед свершившимся фактом.
Впрочем, и литературно-театральная критика была не готова к общественному взрыву. И даже опытные политики — такие, как Амфитеатров, — оказались беспомощными перед революционной стихией. Жизнь загоняла их в тупики пострашнее чеховских, духовных.
В канун великих потрясений в чеховедении, литературно-критическом и театральном, царила академическая благодать. Страсти по Чехову и его театру — в Художественном, обострившиеся в 1904-м и 1905-м, между двух революций заглохли. Чеховым и его драматургией занялись почтенные литераторы. Мемуарная чеховиана пополнилась воспоминаниями Стороженко, Безобразова, Боборыкина, Гнедича, всех не перечесть. Они не уставали добавлять новые штрихи к портрету Чехова — поэта сумерек, глухого к брожению в молодежной среде. Да и сами события 1905 года — «освободительные дни» — Розанов 1910-х считал случайными. Пришедшими в связи с непредвиденной русско-японской войной. «В нем не было никакого предчувствия взрыва, ожидания его. Гладко позади, гладко было впереди… По этой глади шел он, больной чахоткой, о которой знал язвительным знанием медика», — писал Розанов 259 о Чехове в «Юбилейном чеховском сборнике» книгоиздательства «Заря», выпущенном к пятидесятилетию писателя (II. 18 : 121).
«Гладко […] впереди…»
К Чехову кануна великих потрясений возвращалась столь ненавистная ему репутация нытика, пессимиста, преследовавшая его с конца 1880-х.
«И слово-то противное: пессимист», — вспоминал Бунин на чеховском утре 17 января 1910 года в Художественном театре, как обижался Чехов, когда его называли пессимистом172.
«Не вина покойного писателя, что его — создателя хмурых и дряблых “нытиков” нашего безвременья — произвели чуть ли не в революционеры и в указатели новых путей всем нам — и юным, и зрелым, и престарелым. Это все — фантазмы дурно-направленных симпатий», — говорил Боборыкин, близко знавший Чехова173. Он не мог успокоиться, что кто-то в «Вишневом саде» и «Невесте» слышал бодрые нотки. Боборыкин утверждал, что Чехов не умел и не хотел видеть «скрытые или явные признаки движения среди нашей молодежи, которые сказались в бурном взрыве 1905 года […] К героической стороне жизни молодежи, к ее революционному (в явной ли, в подпольной ли форме) складу порываний, нравов и навыков у него не было интереса», — еще и еще раз возвращался Боборыкин к этой мысли, замыкая Чехова в эпохе безвременья, длившейся с 1880-х до 1905-го, и призывая трезво оценивать писателя и его молодых героев174.
В центр академической полемики выходили чеховский Петя Трофимов и Саша из «Невесты», после 1905-го — люди без будущего, Боборыкин, Кугель, Философов кануна 1917-го легко и с азартом опровергали давнюю — весны 1904 года — утопию Амфитеатрова, его горьковские пророчества — бури и революционного «безумства», которые тот расслышал в чеховских образах молодых людей «Вишневого сада» в исполнении их Качаловым и Косминской. Петербургские критики с еще большим пылом, чем в 1904-м, отказывали чеховскому Пете Трофимову в задатках сильного лидера и продолжали спорить с Амфитеатровым.
И резвые фельетонисты 1910-х издевались над превращением Пети у Амфитеатрова в горьковского буревестника. Они напоминали, что Чехов сделал Петю «облезлым». Что он дал ему старые заношенные калоши, в которых до неба в алмазах не дойдешь. Каламбурили, что Чехов не мог уверенно решить и такого простейшего вопроса, какой должна быть дорожная обувь революционера. Так что Трофимов, выбравший калоши, — проводник и пешеход в новую жизнь сомнительный. И добивали Амфитеатрова тем же Горьким — из «На дне», переадресовывая ему и всем, кто проиграл в России свои бои за ее революционное обновление и пребывал в эмиграции, реплику горьковского Сатина, перефразируя 260 ее: в карете прошлого далеко не уедешь и в резиновых калошах далеко не уйдешь.
Сам Амфитеатров, освободившись после второй вологодской ссылки, жил и работал в Европе. О Чехове писал и издавал в России мемуары — в составе собрания своих сочинений, вспоминая главным образом о Чехове 1880-х, о базаровских генах в нем и звездном даре смешливости. Но в живой полемике и в коллективных юбилейных чеховских сборниках не участвовал.
Он безоглядно верил в будущую свободную Россию и до 1905 года, и после него, в эмиграции — до 1916-го, и в 1916-м, когда, после десятилетнего отсутствия, вернулся в Россию из-за границы. Верил и строил будущую свободную Россию, пока не грянул октябрь 1917-го и не ворвались в его жизнь настоящие революционеры, а не чеховские, литературно-художественные, не то буревестники, какими их видел в 1904-м автор петербургских рецензий на «Вишневый сад» художественников, не то толстовцы, не то кандидаты в «Проблемы идеализма». Настоящие на его глазах гнали буржуев, жгли и грабили имения, крушили библиотеки и соборы, крушили до основания, чтобы потом строить на выжженной земле коммуналки и общежития для тех, кто до революции был «никем», — для нищих, для рабочих, для прислуги, чьими страданиями чеховский Петя Трофимов корил барыню Раневскую и барина Леонида Андреевича Гаева.
В 1916-м Амфитеатров с Илларией Владимировной и четырьмя детьми, вернувшись в Россию из эмиграции, поселился в Петрограде в роскошном особняке на Николаевской набережной. Прежде в нем размещалось правление Шлиссельбургской мануфактуры. В зале, обставленном в стиле дворянских 1840-х мебелью из лимонного дерева, одаренные дети Амфитеатровых устраивали музыкальные вечера. Старший, Даниил, 1902 года рождения, уже завершил образование у выдающегося итальянского композитора-симфониста Отторино Респиги. Младшим Амфитеатровым — скрипачу, виолончелисту и пятилетней Сабине — суждено распуститься цветами на «старых могилах» предков, — верил счастливый отец, вернувшийся на родину.
Он приехал в Россию, чтобы возглавить редакцию новой петроградской газеты «Русская воля», созданной на средства крупных русских промышленников и банкиров при участии департамента полиции. У него были высокие покровители. Его поддерживал А. Д. Протопопов, товарищ председателя Государственной думы, член ее «Прогрессивного блока», вскоре министр внутренних дел. Атимонархист с большим политическим стажем, сторонник парламентской республики в России, Амфитеатров возлагал большие надежды на Протопопова и Государственную думу. Его многие осуждали за компромисс с властями и капиталом, 261 в том числе и Горький, также получивший приглашение от «Русской воли», но отказавшийся от него.
Стосковавшийся в благополучной Европе по родине и взваливший на себя миссию освободителя, Амфитеатров взялся за реальное дело.
Романовы по-прежнему перемен не желали.
Уже в январе 1917 года — до всех событий — за статью против цензурных гонений Амфитеатров был выслан из столицы в Минусинск, в город, им обжитой в 1902-м. Но до Сибири в 1917-м он доехать не успел: Февральская революция низвергла монархию. Император — для Амфитеатрова он не переставал быть господином Обмановым — отрекся от престола. Свершилось то, ради чего Амфитеатров-публицист шел на все лишения.
Февральская революция отменила дофевральский приговор, и Амфитеатров с этапа вернулся в Петроград. Вернулся, опьяненный объявленной свободой, и основал с единомышленниками союз «Свободная Россия».
Очень скоро Февральскую революцию он назвал «обманными днями». Протопопов, в которого Амфитеатров так верил, пытался подавить ее вооруженным путем. В конце 1917-го, царский министр, преданный царю, он был осужден органами ВЧК.
Октябрьская революция ввергла Амфитеатрова, беспартийного, не скованного дисциплинарными нормами «утопически мыслящего демократа» — так он сам осознавал свою политическую ориентацию в декабре 1917-го, — в состояние «нервной истерики». «Всем нам нелегко и горько, о себе лично скажу, что не выхожу из тяжелой подавленности разочарованием, стыдом и страхом за настоящее и будущее», — делился он с Горьким, скорбя о свободной России и ее прекрасных идеалах, поруганных в бесчинствах явившегося Хама175. Он ведь держал Хама за безобидного случайного чеховского Прохожего…
Ему казалось, что автор гимна «Безумству храбрых» и антибольшевистских «Несвоевременных мыслей», публиковавшихся в газете «Новая жизнь» в 1917 и 1918 годах, лучше других поймет его. Он почувствовал в «Несвоевременных мыслях» Горького «огромную скорбь», сжигавшую и его душу.
Это был как бы второй акт сценария по мотивам «Вишневого сада». Акт «исповедальных разговоров», как называл его английский драматург Пристли, поклонник Чехова.
Первым и коротким актом драмы с фабулой «Вишневого сада», которую пришлось пережить в России либеральному барину, накликавшему «новую жизнь», был его приезд в Россию из-за границы.
За вторым актом, утонувшим в разговорах либерального барина с Горьким и Луначарским, последовали третий и четвертый.
262 В третьем разыгралась история с потерей дома на Николаевской набережной.
В четвертом, молниеносном, — сцена бегства Амфитеатровых из России, совсем трагифарс: с преследованиями и погонями.
Гармония чеховской драмы, уравновешенность сцен чеховской конструкции, продублированной в петроградском трагифарсе Амфитеатрова и его семьи, была разрушена. У драмы жизни, пережитой Амфитеатровыми, был другой темпоритм, чем в чеховской пьесе и спектакле Художественного. Последний акт наступал на третий и второй, комкая, динамизируя и драматизируя их. Чеховский сюжет в любой момент мог оборваться множеством смертей.
Эту драму писал не Чехов, всем все прощавший, милосердный, а другой автор — по чеховской схеме, жестокий, агрессивный. И имя ему — вторая русская революция. Октябрьская. Муза Чехова, грустившего, рефлектировавшего — «Если б знать…» — не справилась бы с материалом последних петроградских лет Амфитеатровых или московских послереволюционных 1917, 1918 и 1919 годов — Алексеевых, Бостанжогло, Книпперов, Чеховых… Этот материал не поддался бы эстетизации. Только документальные жанры — бунинские «Окаянные дни», письма Амфитеатрова к Горькому, Луначарскому и Ленину, письма Станиславского к Горькому, Луначарскому и в партийные инстанции и письма Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой в Ялту, Марии Павловне, сестре писателя, — смогли вместить кошмары «новой жизни».
Впрочем, Ольге Леонардовне казалось, что пьесы Чехова «подходят к переживаемому, точно предсказание»: «Все как-то выскочило из колеи и не знаешь, как наладить жизнь». Ей казалось, что «если бы жил Антон», он сумел бы «разобраться во всем, уловить настоящее, существенное и отбросить ненужное». У нее в голове вертелась чеховская фраза — только не «у лукоморья дуб зеленый», как у Маши Прозоровой, а Алина — из «Вишневого сада»: «Я не спала всю ночь, томило меня беспокойство»… Беспокойство — «от неизвестности…» Посреди московских разговоров о муке, масле и хлебе — пополам с соломой, о «легком» желудке, об ордерах на белье и башмаки, чеховская женщина, «до дна» испившая «чашу унижения» голодом и нищетой, думала, как и покойный Чехов, о будущем: «Перейдут ли наши страдания в радость для тех, кто будет жить после нас?» (II. 1. К. 77. Ед. хр. 39), Но очень скоро чеховское беспокойство неизвестностью обернулось и для Ольги Леонардовны «подавленным состоянием духа», «окаянными» московскими днями, потом харьковскими, ростовскими, новороссийскими, екатеринодарскими, одесскими и — встречами на путях через Константинополь в Европу: с Альтшуллером, ялтинским доктором Антона Павловича; с детьми Стаховича; с сыном таганрогского священника, который знал отца Антона Павловича, Павла Егоровича; с бесчисленным количеством 263 лиц, покинувших Москву и Петербург, бежавших от революции, — с Дорошевичем в Севастополе, с Буниными в Одессе, с Зиновием Пешковым — через него она передала письмо в Париж Маклаковым, принимавшим ее с Антоном Павловичем летом 1903 года на их даче в Наро-Фоминске… Ольга Леонардовна опишет Марии Павловне Чеховой свои скитания в 1919-м и 1920-м по югу России, куда ее забросит судьба: жизнь в теплушках на запасных путях, у чужих людей, среди грязи и умиравших сыпнотифозных больных, в «адском» холоде, в сырости — без теплых вещей и без денег, и у сердобольных местечковых совсем юшкевических евреев, обогревавших артистов, а 24 ноября 1919 года в Ялту полетит: «Москвичи злы, все, как Бунин, говорят только об избиении, повешении» (II. 1. К. 77. Ед. хр. 42 : 12 об.).
А Амфитеатровых выбросило из Петрограда на север, в Прибалтику, а потом в Италию.
Недолго музыка играла в их шлиссельбургском особняке на петроградской Николаевской набережной. Уже в 1917-м ее переименовали в набережную реки Карповки. «Новая жизнь», наступившая с февраля 1917-го — отречения монарха, — обрушилась на Амфитеатрова и его детей, племя младое, с такой силой, что они едва не погибли. Какое там «безумство храбрых». Впрочем, на то, чтобы спастись от разгула «новой жизни», потребовались и храбрость, и доля безумства.
Третий — предотъездный акт сценария «Вишневый сад», где вместо Гаевых действовали Амфитеатровы, развивался в полуистерической атмосфере. Амфитеатровы толком не успели его отыграть. Акт прошел скомканно. Не было ни прощального бала во время торгов, ни аукциона, прежде, в старой, чеховской жизни положенного законом при смене домовладельца. Акт разыгрывался волей революции, волей большевиков. В стране царил хаос, новая жизнь погружалась в беззаконие.
От «минувшего величия» особняка на набережной реки Карповки, обставленного с таким вкусом и любовью в «старой жизни», оставался один рояль, купленный для детей. Всю мебель поглотила печка. Так спасались от холода. Продавали все до последней рубашки, чтобы купить у мешочников хлеб и мясо и не умереть от истощения.
Тем временем подоспели декреты Совдепии об уплотнениях и выселениях, задевшие и Амфитеатровых, и Алексеевых, и Книпперов.
Волнение большое в Москве из-за декрета об уплотнении жилищ и выселении граждан, — писала Ольга Леонардовна Марии Павловне. — Наших — трубниковских — пока не выселяют, выселили пока большие квартиры, которые заняты теперь матросами и красной гвардией. Актеров, говорят, не будут уплотнять, и теперь только страх за мать (II. 1. К. 77. Ед. хр. 39 : 18).
264 Но пока Ольга Леонардовна не обзавелась охранной грамотой, и ей пришлось понервничать:
На днях я вытерпела сильный натиск со стороны солдата — один из них желал непременно поселиться у меня […] К матери тоже приходили, и она волнуется невообразимо […] Тяжело оставить свое гнездо — я так люблю Пречистенский бульвар, свои большие окна, простор, Храм Спасителя (II. 1. К. 77. Ед. хр. 39 : 20).
А семью Ивана Павловича, брата писателя, все же выселили.
Иван Павлович и Софья Владимировна должны выселяться из своего гнезда — приказано. Что-то тупое и гнусное… — сообщала Ольга Леонардовна Марии Павловне в начале января 1918 года. — Я вчера попробовала пойти на Скобелевскую площадь, чтоб узнать и рассказать какому-либо главарю о том, что делается, может, там и не знают. Но вчера был такой волнительный день, они никого в двери не пускали, и я только полюбовалась на штыки. Сегодня Крещение, а завтра у меня утренник, но 8-го опять пойду (II. 1. К. 77. Ед. хр. 39 : 3 об.).
В 1919-м бесквартирные Чеховы покинули Москву и поселились у Марии Павловны в Ялте.
От этих декретов об уплотнениях и выселениях «дрожало нутро», как говорил Владимир Сергеевич Алексеев, брат Станиславского.
Нутро мое дрожит. Если нас выгонят, то деваться нам некуда, да и последние остатки имущества должны пропасть. Голова кружится, как подумаешь об этом (I. 3. Оп. 1. Ед. хр. 30 : 5 об.), —
писал Владимир Сергеевич младшей сестре Марии Сергеевне. Она осела в Петрограде. Старший брат, как исстари было заведено у Алексеевых, опекал младшую сестру и, поздравляя ее с очередным семейным торжеством, желал ей «прежде всего хлеба, мяса, сахара, а затем и прочих телесных и душевных благ». Если бы его с Паничкой выселили из квартиры на Новой Басманной улице, куда они переехали из красноворотского дома, проданного после смерти мамани в 1904-м, им пришлось бы жить в крохотном комаровском флигельке — рядом с Нюшиной дачей, где прежде жила прислуга.
Мария Сергеевна, урожденная Алексеева, младшая из Алексеевых третьего колена, так и жила до своей кончины в Ленинграде, на Петроградской стороне, на Пушкарской улице, в нищей коммуналке, в невероятной тесноте — с детьми и внуками от разных браков: «Один на другом, с крысами, блохами и в W. C. вони…» — ужасался Владимир Сергеевич 265 Алексеев. «Нутро» неугомонной Марии Сергеевны до конца жизни «дрожало» от «отвратной соседки», уплотнившей ее в начале 1920-х.
Владимира Сергеевича революция лишила и любимовской дачи, построенной подле родительского дома с ушами в 1886-м.
Перспектива поселиться в лачуге в ста километрах от Москвы без лошадей и без кучера, прежде отвозившего барина к поезду и встречавшего его вечером на станции, была очень близка.
И у Станиславского с Лилиной «дрожало нутро».
Моя жизнь совершенно изменилась. Я стал пролетарием […] Жене приходится […] очень туго […] весь продовольственный вопрос лежит на ней. Благодаря ей мы питаемся прилично […] Все что мы наживаем, мы только тратим на еду. Во всем остальном мы себе отказываем. Износились. Сократили квартиру, —
писал Станиславский Л. Я. Гуревич в 1919 году176. Но с квартирой в 1919-м «вышла удачная комбинация», — радовался он. Благодаря этой «комбинации» все имущество, а главное библиотека, уцелели:
Передняя, столовая и зал отданы под студии (Первая студия и Студия Большого государственного театра — оперная), одна комната сдается, а в остальных мы ютимся177.
Но в начале 1920-х и Станиславского выселили из квартиры в Каретном ряду. Дом понадобился автобазе Совнаркома.
Станиславский «плакал перед […] перспективой» потерять дом, с которым сроднился, — сообщал Луначарский Ленину, добиваясь для основателя и руководителя Художественного театра, продававшего «последние брюки на Сухаревской», — академического пайка и сохранения его дома в Каретном ряду. Несчастный бросился к наркому за помощью:
Нельзя отнимать у художника его мастерскую, как у скрипача нельзя отнимать его скрипку, а у рабочего орудие его производства и необходимую ему мастерскую. Так точно нельзя отнимать у режиссера необходимое ему помещение для массовых репетиций (I. 2. № 6415).
Луначарский выхлопотал для Станиславского взамен дома в Каретном ряду первый этаж старинного особняка в Леонтьевском. Второй тогда был занят подселенцами. Хороший, но чужой дом.
В 1924-м, распоряжением Наркомпроса, особняк был закреплен за Станиславским пожизненно.
Но Станиславский среди «бывших» — исключение.
266 Тех, кто чудом пережил голод, нищету и выселения, добил декрет, запрещавший торговать своею собственностью, хотя бы и в целях пропитания. Он сразил Амфитеатровых, выживавших исключительно за счет распродажи домашнего имущества.
Работа совсем не кормила.
Буржуазная пресса была разгромлена и уничтожена.
Издательства, обессиленные типографскими неурядицами и колоссальными тарифами, бездействовали и «риску новых предприятий» предпочитали «спекуляцию на старых завалявшихся книгах», — объяснял Амфитеатров наркому Луначарскому, коллеге в новой власти, почему он решил возвратиться с семьей за границу, где у него сохранились старые связи.
Гонораров в горьковской «Всемирной литературе», подкармливавшей писателей, на семью не хватало. Иллария Владимировна тоже получала во «Всемирной литературе» переводы с французского, немецкого и итальянского.
Не выручал и заработок супругов в 27-й петроградской трудшколе, где они оба преподавали.
Александр Валентинович подрабатывал еще разовыми лекциями в Педагогическом институте имени А. И. Герцена и в Тенишевском училище. В декабре 1918 года он читал лекцию о Г. А. Лопатине, друге Маркса, переводчике его «Капитала», только что скончавшемся в эмиграции. «Я говорил о Лопатине как о личности, не затрагивая политического вопроса», — оправдывался Амфитеатров перед следователем петроградской ГубЧК по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией при Союзе коммунистов Советской России, как подписал шапку на следственном деле Амфитеатрова чиновник, когда его арестовали. Арестовали «по общей подозрительности», — объяснял Александр Валентинович. В этот раз его быстро выпустили, взяв подписку о невыезде из Петрограда и лишив права читать лекции без согласования тем с ВЧК.
Жизнь казалась Амфитеатрову «сплошным бредом», а иногда он сомневался, «в здравом ли он уме или сбесился».
Но больше всего страшила Амфитеатрова судьба детей, безоглядно вброшенных им в жизнь на растоптанных «старых могилах».
Он ждал помощи от Луначарского:
Мы с Вами стоим на разных политических позициях, но я знаю Вас как человека симпатичного, сердечного — типического русского писателя, с которым, следовательно, другой писатель может поговорить откровенно, по душе, в минуту, когда ему приходится очень трудно и тяжело, —
писал он «многоуважаемому Анатолию Васильевичу», вспомнив их дружеские встречи на Капри у Горького, когда дети были совсем 267 маленькие178. Луначарский уже тогда приметил дарования юных музыкантов.
Александр Валентинович излагал Луначарскому свою ситуацию не кривя душой. Русские писатели еще не умели говорить одно, думая другое.
Я, кажется, впервые в жизни решительно не знаю, что мне делать дальше, — писал Амфитеатров Луначарскому, который мог бы силой своей власти решить его судьбу и судьбу его семьи. — В Совдепе Илларии Владимировне любезно указали на возможность детей работать в приюте, а самим отправиться в Богадельню. Но мы не чувствуем ни малейшего призвания к тому, чтобы так или иначе садиться на общественную шею. А вместе с тем я не вижу перед собою никакой возможности к труду производительному и добывающему, хотя полон сил и работоспособности. Именно поэтому я стремлюсь уехать в другие условия жизни, более мне привычные, равно и детям моим. В условия, при которых я могу кормить их и воспитывать на свой заработок, чего здесь я, по политическим условиям, лишен. Я не могу идти рука об руку с советской властью, потому что 1) я не марксист; 2) не сочувствую ее методам, способам, темпу, многим ее представителям, апофеозу гражданской войны, ее террору и пр. Очень может быть, что я стар, что многое новое в России мне непонятно и отвычно, но есть поступки, слова и люди, которые для меня несовместимы с идеей свободной личности. Это не «саботаж»; а просто честное признание своей непригодности для условий переустраиваемого мира. Когда человек чего-либо не понимает, лучше ему стать в сторону и не мешать работать понимающим. С другой стороны, я не могу идти против Советской власти, потому что я приемлю ее социальную программу и вижу в ее стремлении и твердости верный залог того, что Россия надолго сохранит дорогой для меня строй демократической республики, что для меня, заклятого антимонархиста, самое главное179.
Амфитеатров еще пытался построить жизнь по-своему — с учетом навалившейся на него реальности. Но реальность решала за него, врываясь в сценарий документальной драмы по мотивам чеховского «Вишневого сада» и осложняя драматургию четвертого акта и коллизии действующих лиц предотъездных сцен.
В начале марта 1921 года арестовали уже троих: Александра Валентиновича, Илларию Владимировну и Даниила. Александра Валентиновича — в четвертый раз за жизнь. Арестовали то ли за саботаж, то ли за соучастие в контрреволюционном заговоре.
Все трое «обвиняемых» заполнили анкету.
В графе «политические убеждения» писатель Александр Валентинович Амфитеатров, сын протоиерея, с образованием общим — высшим 268 и специальным — юридическим, написал: «республиканец-социалист»180.
Иллария Владимировна, урожденная Соколова, дочь композитора, имеющая общее образование — высшее и специальное консерваторское, работавшая до 1914-го переводчицей и в последний год преподававшая французский и немецкий в 27-й петроградской трудшколе, беспартийная, указала: «противница монархизма и сторонница всяческих свобод».
Восемнадцатилетний Даниил, служивший в тот год в распорядительной части штаба Балтийского флота, обозначил свою аполитичность. Его подозревали в том, что он замешан в Кронштадтском мятеже.
Дело о контрреволюционном заговоре, в котором якобы участвовали Амфитеатровы, строилось на доносе некоей В., коммунистки, объявившей себя соседкой Амфитеатровых. Но Амфитеатровы проживали на Петроградской стороне, домашний адрес «соседки»: Васильевский остров, 19 линия, дом 8, квартира 28 — в другой части города.
До войны 1914-го она служила на Уссурийской дороге конторщицей типографии и наборщицей типографии на Северо-западной железной дороге.
В 1919-м получила должность в Дорполите на Николаевской железной дороге.
В 1920-м стала секретарем Политпросвета Цектранса.
Следователь ВЧК зафиксировал в протоколе допроса ее показания: «После февральской революции Амфитеатров основал демократический союз “Свободная Россия”. Ничего демократического в нем не было. Союз состоял сплошь из интеллигенции. Как потом выяснилось, денежные средства шли от капиталистов, интересы которых газета защищала. После выяснения позиции газеты — оттуда половина состава». В числе членов правления «Свободной России», кроме Амфитеатрова и его жены, В. назвала Василия Ивановича Немировича-Данченко. А по существу дела следователь записал с ее слов, послуживших поводом для предъявления обвинения и ареста Амфитеатровых:
По моему мнению Амфитеатров эс-эр. На днях я случайно встретилась с гражданкой Амфитеатровой, та не знала, что я коммунистка и где служу. При встрече она спросила, как дела, я сказала, что все уже ликвидировано, рабочие приступили к работам, а матросы из Кронштадта перебегают. На это Амфитеатрова удивленно ответила: «Как так, наоборот, штаб весь наш, мы имеем непосредственное сношение с Кронштадтом, нам известно, что сейчас только начинается. Советская власть стоит только одной ногой в Петрограде […]»
269 Гражданка Амфитеатрова на очной ставке с В. утверждала, что все это ложь и относительно ее слов о шаткости положения советской власти — тоже ложь. И гражданин Александр Амфитеатров показывал то же:
По поводу заговора в Петрограде мне ничего неизвестно; о беспорядках в Кронштадте я узнал только из объявлений официальных. Никаких источников, откуда бы я мог получать новейшие сведения, у меня нет. Больше по существу данного дела показать ничего не имею.
Может быть, дело и не закрыли бы, но Петроградский заговор и Кронштадтский мятеж были подавлены, и обвинение рассыпалось. За недоказанностью улик Амфитеатровых из-под ареста освободили, дело производством прекратили и сдали в архив. И Амфитеатровы в сопровождении комиссара вышли на волю, мало отличавшуюся от неволи.
Начинался четвертый — последний акт петроградской эпопеи Амфитеатровых. В нем не было ни слез, ни слов прощания с домом. Для эмоций и рефлексии не было ни секунды. Были сжатые в пружину нервы и точный расчет смертников.
Полученные, видимо, с помощью Луначарского заграничные паспорта были давно просрочены, граница — закрыта, денег на легальный отъезд, будь он разрешен и оформлен, не было, и в августе 1921 года Амфитеатровы, доведенные до отчаяния, сыграли финал, положенный чеховской Раневской по сценарию «Вишневого сада»: покинули дом, уже чужой, государственный, и отбыли за границу. Всей семьей, вшестером: двое взрослых и четверо детей. Только не по железной дороге, как Раневская, и не на лошадях, как дореформенные Гаевы. А диким, почти первобытным способом: на веслах, вплавь. Амфитеатровы бежали из Советской России, как в приключенческом романе; перед рассветом, на лодке через Финский залив.
Вот такая развязка случилась в сценарии по мотивам чеховской пьесы «Вишневый сад».
«Мне удалось, пользуясь утренним туманом и нерадивостью Ваших патрулей, покинуть пределы Вашей Империи, которая когда-то называлась моим отечеством», — писал Амфитеатров Ленину в открытом ему письме осенью 1921 года, все еще находясь под напряжением удавшейся акции и всего того, что предшествовало ей181. Письмо Амфитеатрова к Ленину опубликовала ревельская газета. Всю вину за «окаянные дни» 1917 – 1921 гг., за голод, нужду, репрессии, криминальные действия «узколобых большевиков-уголовников», утопивших Россию в море крови, Амфитеатров возложил в том письме на Ленина, выбравшего для утверждения своей идеи мировой революции, всевластия пролетариата и его авангарда, партии большевиков, — путь насилия над «бывшими».
270 Поддержавший отвлеченное пети-трофимовское «Здравствуй, новая жизнь!», Амфитеатров «новой жизни», когда она воцарилась в России, не вынес.
* * *
1917-й разорвал в России связь веков, перевернул быт, нравственные устои и традиции, складывавшиеся поколениями. Отсчет исторического времени в новой общественной системе, сменившей власть императора на власть Советов депутатов трудящихся, пошел не от Рождества Христова, а от нулевой отметки, установленной на цифре: 1917…
Новая власть потребовала от бывших потомственных почетных московских граждан и российской интеллигенции усилий самоопределения, для иных — мучительных.
Станиславский был среди таких мучеников. Мучеников совести.
В 1917-м ему исполнилось пятьдесят четыре года.
Прощание со «старой жизнью» у него сильно затянулось. Разрыва с прошлым, какого требовала советская власть, не получалось. Он врос в «старую жизнь» корнями рода, клана, собственной биографией фабриканта и театральной знаменитости. В ней он слишком «укоренился», чтобы «отречься» от «старого мира». Иммунитет прошлого, спасавший от идеологического дурмана, затягивал обращение в новую веру.
На то, чтобы сказать «новой жизни»: «Здравствуй!»; на то, чтобы ответить «да» революции, перевернувшей прежний миропорядок, принять правила советского общежития и подчиниться им, Станиславскому потребовалось по меньшей мере десять лет. Много больше, чем его ученикам — Мейерхольду и Вахтангову и его младшим современникам — Брюсову и Маяковскому.
Революция красной мантией поделила мир на «старое» и «новое», — говорил Вахтангов своим студийцам, всем существом отдаваясь «новому». Он мечтал инсценировать Библию и «Коммунистический манифест» и поставить спектакль, в котором участвовали бы массы людей, пробудившихся к общественной жизни. «Надо сыграть мятежный дух народа», — записывал Вахтангов в дневнике 24 ноября 1918 года.
Мейерхольд и Брюсов уже в 1918 вступили в партию большевиков и предъявили новой власти свое творческое «да». Мейерхольд в петроградской постановке «Мистерии-буфф» Маяковского в 1918 году лихо развел всех персонажей на «нечистых», пролетариев, обитателей коммунистического рая, и «чистых» — недорезанное буржуазное отродье — и, вдоволь поиздевавшись над «чистыми», приговорил их к истреблению, уготовив им ад.
271 Крайний левый фланг творческой интеллигенции самоопределялся стремительно и мыслил и действовал в искусстве радикально — в ритмах и темпах революции.
Быстро самоопределились и крайние правофланговые литературного фронта, связанные с Художественным театром: Леонид Андреев, Бунин, питерцы Гиппиус, Мережковский, Философов. Пережив свои «окаянные дни» — кровавую вакханалию революционной стихии, они решили свою эмиграцию. Вернее, смирились с ней как с неизбежным.
В стане большевиков оказался Блок. Он сказал им свое отчаянное «да» в поэме «Двенадцать», правда на двусмысленный частушечный лад. Его двусмысленности в 1918-м никто не услышал.
Поэма была издана в 1918-м в «Алконосте» с иллюстрациями Ю. Анненкова. Экземпляр этого издания Блок подарил Станиславскому, репетировавшему тогда в Художественном его пьесу «Роза и крест».
Постановка «Розы и креста» не осуществилась.
Разделив в «Двенадцати» людей на тех, кто держит и кто не держит революционный шаг, Блок сам встал в «державный» строй, пытаясь идти «с левой». Он сумел опоэтизировать банду красноармейцев, сжигавшую дворянские библиотеки у него на глазах и заливавшую землю кровью. Впереди шеренги красноармейцев он поставил Христа. То ли Христос вел их, то ли они шли за Христом. А бойцов колонны, поглотившей персоналии, он превратил в двенадцать христовых апостолов. В одной из современных иллюстраций к поэме художник изобразил Христа в белом венчике из роз, жившего в душе Блока, идущего впереди красноармейцев, — ликом самого Блока.
Станиславский читал блоковскую поэму, но был далек от полемики вокруг нее. После «Двенадцати» петербургская элита 1918 года, продолжавшая верить в христовы заповеди — «не убий», «не укради», «не прелюбодействуй» и другие, «преданные», с ее точки зрения, поэтом, — не подавала ему руки. Хотя вряд ли и Блок перестал верить в те же заповеди. Мережковский, Гиппиус, Философов считали поэта Антихристом, бессовестно продавшимся новой власти нагрянувшего Хама, предсказанного ими до революции, — власти бандитов-безбожников. Бунин в момент эмоционального взрыва кричал, что Блок — «лакей с лютней».
Среди тех, кто сказал решительное «нет» «кровавому кошмару» — братоубийству, репрессиям большевиков, — оказался Горький. Он удивил не одного Амфитеатрова циклом эссе «Несвоевременные мысли» в газете «Новая жизнь». В апреле — мае 1917-го, после Февральской революции, Горький обратился через «Новую жизнь» к творческой интеллигенции с призывом вмешаться в хаос «расхлябавшейся жизни» и остановить ее страшные зверства. Писатель звал художников России «немедля вторгнуться всей силой своих талантов в хаос настроений улицы»: «Я уверен, что победоносное вторжение красоты в душу несколько 272 ошалевшего россиянина умиротворило бы его […] тревоги, усмирило буйство не очень похвальных чувств […] и вообще помогло бы ему сделаться человечнее», — писал Горький в мае 1917-го182. Он верил, что медленный «огонь культуры» «прокалит» и «очистит» от рабства «солдат революционной армии»: «Я не знаю ничего иного, что может спасти нашу страну от гибели»183.
Это для Ленина Горький был громадным художником и слабым политиком. Когда сегодня читаешь эти наивные горьковские строки, кажется, что Ленин прав.
Для Станиславского авторитетнее человека «оттуда», из стана большевиков, чем эсдек в 1910-х Горький, среди знакомых не было.
Он был ушиблен потоками крови, взрывом «зоологических инстинктов» толпы и неизвестностью, нависшей над его домом, над детьми, над близкими, над театром. Он боялся революционной темной уличной массы как стада двуногих животных с их кровожадными инстинктами. В революционере и красноармейце, защищавшем революцию, в человеке с ружьем он видел убийцу, дикаря. В 1917-м, в 1918-м, в 1919-м и в 1920-х — до отъезда из страны в 1922-м, разрешенного властями, — он дрожал за себя, за семью, за театр. Ждал, что товарЫщи, как он произносил, с наганами и ружьями наперевес, разъезжавшие на автомобилях, ворвутся в дом, разграбят его, всех убьют или увезут на Лубянку. Или в Бутырки. Однажды его действительно арестовали, но быстро выпустили. Повторные аресты, преследовавшие Амфитеатрова, его миновали.
В 1917-м, в начале осенней революции, Станиславский мгновенно откликнулся Горькому, подхватив его обращение к творческой интеллигенции России, и перешел к реальному действию. Когда товарЫщи в красноармейских гимнастерках и комиссарских кожанках пришли к нему в театр, заняв в зрительном зале кресла абонентов и «беженской» публики, Станиславский отнесся к ним крайне серьезно. Выступления перед новой для него аудиторией он счел «исключительно важными». Вслед за Горьким, воодушевленный Горьким, он искренне верил, что красота и поэзия облагородят революцию и тем самым победят ее ужас, ее гадость, ее первобытные уродливые инстинкты.
Человек практических ответов, он начал, как умел, этот процесс «победоносного вторжения красоты в душу несколько ошалевшего россиянина».
С нового сезона 1917/18 гг. он всерьез занялся «Вишневым садом». Чеховский материал показался ему самым подходящим для того, чтобы умиротворить душу товарЫщей.
«Отсутствие поэзии» — тут было главное его беспокойство в 1917-м.
273 Он взялся за возвращение чеховской поэзии в атмосферу старого спектакля. Еще до революции художественники перестали любить ее и снижали ее высоту.
Пришлось обновлять декорации Вишневого сада. Вишневые деревья, ветки которых заглядывали в окна дома, обломались и поникли, зелень потемнела, цветы из бело-розовых превратились в серые. «Они обтрепались и лишены всякой поэзии. Вообще у нас всегда был “Вишневый сад” без Вишневого сада, — в сердцах говорил Станиславский мастерам постановочных цехов и бутафорам. — Такой Вишневый сад, как у нас, надо вырубить. Ну его ко всем чертям. Поправить деревья и добавить ветвей со светло-зеленой листвой», — записывал он в дневнике спектаклей, который помощники режиссера традиционно вели в театре (I. 18 : 86).
Обновленный, отреставрированный «Вишневый сад» Художественного играли и на сцене в Камергерском, и в помещении театра Совета рабочих депутатов — на сцене бывшей оперы Зимина.
Свежая весенняя зелень на гибких ветках, обсыпанных бело-розовым цветом, лезла в распахнутые окна.
Электротехники, преисполненные великой целью, внушенной им Станиславским, своей культурно-исторической миссией, начинали, как и положено, рассвет за окном, а потом добавляли свет в комнаты.
Рабочие сцены и актеры, занятые в скворцах, как никогда слаженно выводя заливистые фиоритуры, верещали свои любовные песни.
Станиславский сам играл Гаева перед рабочими, крестьянами и солдатами, сидевшими в зале.
«Это был один из самых удачных спектаклей по вниманию к нему зрителей, — вспоминал он через несколько лет, когда готовил к изданию русский вариант “Моей жизни в искусстве”. — Казалось, что они хотели передохнуть в атмосфере поэзии, проститься навсегда со старой, требующей очистительных жертв, жизнью, — писал он. — Спектакль закончился сильнейшей овацией, а из театра зрители выходили молча, — и, кто знает, может быть, среди них были и те, которые готовились к бою за новую жизнь. Вскоре началась стрельба, укрываясь от которой мы с трудом пробирались по домам после окончания спектакля» (I. 4 : 374).
Трудно сказать, что было в тот день в театре на самом деле и не принадлежит ли этот фрагмент — «услужливого воспоминанья» — времени русской редакции мемуарной книги Станиславского.
«Вишневый сад», играли и в 1918-м. И театр был полон, — сообщала Ольга Леонардовна Марии Павловне. В феврале 1918-го ее и Муратову поздравляли с юбилейным, 300-м представлением спектакля. В директорской ложе — для почетных гостей — сидели Иван Павлович Чехов и Софья Владимировна, решавшие в те дни свой квартирный вопрос.
274 Так как я и Муратова бессменные и так как нам за 100-й и 200-й спектакль дарили часы, то мы решили, чтб теперь нам в подарок починили — для меня Спасские часы и для нее — университетские, —
невесело шутила Ольга Леонардовна посреди невообразимой разрухи, делая вид, что весела (II. 1. К. 77. Ед. хр. 39 : 8 об.). Как учил ее Чехов.
Настроение было не юбилейное. Игралось тяжело.
Юбилейную дату отметили чаепитием в дамском фойе. Книппер-Чеховой и Муратовой поднесли «исторические подарки»: по полпуда муки и по 10 фунтов сахара. Ольга Леонардовна купила два яблока по три рубля — Муратовой и Лилиной, Муратова поднесла ей и Лилиной по гиацинту, и все отправились домой «по темным улицам, но страшнейшим колдобинам».
По тротуарам ходить все равно, что по катку. На улицах интеллигенция продает газеты — дамы, офицеры… Всюду чужда, разорение, особняки все заняты либо советами, либо анархистами, —
описывала Ольга Леонардовна Марии Павловне московскую зиму 1918 года, выпавшую на 300-й «Вишневый сад» (II. 1. К. 77. Ед. хр. 39 : 15).
Энергия заблуждения насчет возможности эстетического перевоспитания вооруженного дикаря в атмосфере поэзии «Вишневых садов» скоро иссякла. И у Горького, и у Станиславского. Стало ясно: поэзия никого не спасала, ни палачей, ни жертв. Поэзия Художественного театра, поэзия «Вишневых садов», уже отправленных революцией «ко всем чертям», не нужна была ей. «Разве не реакционно-похоронным напевом на светлой революционной свадьбе звучала унылая слякоть, интеллигентская дряблость Чехова», — издевалась над «поэзией» Художественного театра, ради которой Станиславский с воодушевлением выходил на сцену в революционные дни, газета «Известия», печатный орган Совета депутатов трудящихся184.
Новая печать обрушилась в сезоне 1917/18 гг. и в следующем — 1918/19 на мелкобуржуазный театр Станиславского и Немировича-Данченко как на прибежище контрреволюции. Обрушилась на его психологизм и камерность, на сами его стены, отгораживавшие старый театр от новой жизни. Маяковский писал о «чеховско-станиславском смердении» в Художественном. Революция ждала не этого — дряблого, слякотно-интеллигентского вишневосадского «да» поэзии Чехова, его тоске по дворянским гнездам с Вишневыми садами. Такому «да», обращенному в прошлое, революция говорила решительное «нет». Она требовала «да» ее поэзии, поэзии кровопролитного и победного революционного 275 боя, который она дала Вишневым садам, «старой жизни», и здравицы жизни «новой», свободной от дореволюционных «пережитков».
Большевистская власть ждала от художественников верноподданнической премьеры. Ждала год, два, третий…
Художественный молчал, не выпустив за два сезона в «новой жизни» ни одного нового спектакля.
Горький, не веривший в очистительную силу социалистической революции и разуверившийся в спасительности культурной работы с массой, искалеченной веками рабства, отбыл в эмиграцию.
И Станиславский мысленно прокручивал варианты отъезда. Скорее всего, и в 1917-м, и в 1918-м он решил революцию переждать, пересидеть. Так подсказывал опыт 1905-го. Уже в 1906-м российское правительство справилось с беспорядками. Вернувшись после зарубежных гастролей, Художественный мог спокойно работать.
Но революционная ситуация ни в 1918-м, ни в 1919-м, ни в 1920-м не рассасывалась, ужасая злодеяниями Хама-Антихриста.
Первого мая 1918 года Ленин, революционный вождь, во время демонстрации собственноручно стащил с постамента высокий бронзовый крест, отлитый по проекту В. М. Васнецова и установленный на месте гибели близ Кремля великого князя Сергея. С 1908-го на постаменте в резном фонаре круглосуточно теплилась неугасимая лампада. Сотрудники ВЦИК и Совнаркома, сопровождавшие Ленина, помогли вождю русской революции опрокинуть крест на булыжную мостовую и сволокли его в Тайницкий сад.
Покойный великий князь Сергей Александрович Романов, генерал-губернатор Москвы, познакомился с братьями Алексеевыми в марте 1893 года, приняв их в своей резиденции на Скобелевской площади на следующий день после похорон Николая Александровича Алексеева.
Станиславский бывал на приемах у Сергея Александровича. Режиссировал великокняжеские бальные действа. Сергей Александрович помог с открытием Художественного театра. Осенью 1899-го, во второй сезон Художественного, великий князь с супругой Елизаветой Федоровной смотрел «Дядю Ваню» и «в течение двух дней, за обедом, ужином, чаем у них во дворце только и говорили что о “Дяде Ване”». Эта «странная» пьеса «произвела на них такое громадное впечатление, что они ни о чем больше не могли думать», — сообщал Чехову Немирович-Данченко (V. 10 : 126) со слов Стаховича, генерал-адъютанта великого князя и личного друга Станиславского, впоследствии актера и третьего директора Художественного театра.
Супруга Сергея Александровича, великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра императрицы, ежегодно до гибели мужа приезжала в Художественный на торжественный молебен по случаю открытия нового сезона или присылала приветственную телеграмму. А Ольга Леонардовна 276 произвела в «Дяде Ване» на нее такое сильное впечатление и так заинтересовала ее, что весной 1901 года она подошла на благотворительном концерте к Анне Ивановне Книппер, матери Ольги Леонардовны, певице, исполнявшей на вечере романсы, и стала расспрашивать ее о здоровье Антона Павловича и о свадьбе дочери. Анна Ивановна замялась — она ничего подобного не знала. Чехов и Ольга Леонардовна свое решение — вступить в законный брак — скрывали и от нее до последнего момента.
После гибели Сергея Александровича Елизавета Федоровна ушла в монастырь. Марфо-Мариинская обитель сестер милосердия, основанная Елизаветой Федоровной, опекала самых тяжелых больных.
Восемнадцатого июля 1918 года, на следующий день после расстрела царской семьи, арестованных и сосланных в Сибирь игуменью Марфо-Мариинского монастыря Елизавету Федоровну вместе с одной из ее монахинь и верным слугой; великого князя Сергея Михайловича и других членов царской семьи чекисты привезли к шахте под Алапаевском, сбросили на глубину 60 метров и, уходя, бросили туда же две гранаты и кучу подожженного хвороста. Очевидцы говорили, и молва разнесла по всей России, что из шахты долго слышалось пение молитвы «Спаси, Господи, люди твоя…»
В феврале 1919-го покончил жизнь самоубийством Стахович. То был его ответ на преступления «нового времени» против человечности.
Этот железный старик — повесился. Жутко. После спектакля «Три сестры» (во время спектакля это произошло) я с Алексеевыми пошла прямо к нему, — писала Ольга Леонардовна Марии Павловне. — Все было еще нетронуто, отрезанный шнур висел, стул, который он оттолкнул, а сам лежал уже, красивый и довольный. Не вынес всего (II. 1. К. 77. Ед. хр. 41 : 8).
Станиславский тяжело переживал случившееся. «Сбит с позиции, ударили по морде», — писал он в своих режиссерских заметках, раздумывая в 1919-м о человеке, которому предстояло самоопределиться в мире растоптанных нравственных ценностей.
Он не уезжал, но и не присягал революции.
Политического смысла ее по своей политической безграмотности он совсем не понимал.
Он готов был принять революцию, но без насилия.
Он ужасался крови, но не революционной идеологии, идеологии красного террора, узаконенной Лениным и осуществляемой ВЧК.
Интеллигентско-религиозное сознание Станиславского не могло найти оправданий лишь братоубийству.
277 Присягнуть революции, надругавшейся над человеком, над светлыми личностями — над Государем, великими князьями и княгинями, которых боготворили его прадеды, его мать и он сам, означало — стать вероотступником, поддаться атеизму, насаждаемому большевиками. Революция решала конфликт Христа и Антихриста в пользу Антихриста.
Станиславский не был философом православия, как интеллектуалы Мережковские. Их исследования творчества Толстого, Достоевского и современных поэтов в свете борьбы идей Христа и Антихриста и их религиозно-общественные мотивировки антисоветизма были для него слишком умозрительными.
Но верующим Станиславский был и верующим оставался.
О его твердости в вере знали только близкие.
Его вера была наивной, патриархальной, верой его предков, воспринятой от родителей, частью бессознательного, составляющего, как считал Станиславский, 9/10 живой природы. И человека.
Он венчался в домашней любимовской церкви.
Крестил детей и внучку. Благословлял их перед сном.
Поклонялся святым мощам.
Отмечал, как положено православному, церковные праздники — Рождество, Пасху, Троицу, хорошо знал церковные обряды, соблюдал посты.
Прежде чем открыть новую фабрику, непременно освящал ее.
Новый сезон начинал молебном — до самой революции.
В его спектаклях божеское и дьявольское — бесовское, антихристианское — было облачено в человеческие одежды, скрываясь под ними. Божеское означало любовь к ближнему и смирение, прочувствованное им еще в царе Федоре Иоанновиче («ко всем добр») и чеховской Нине Заречной («неси свой крест и веруй»). Дьявольское — эгоизм, самовлюбленность и все то, что из них вытекало порочного и злого.
Роли злых гениев, таких, как Сальери, нарушивших божеский закон, евангельскую заповедь «не убий», ему как актеру вообще не удавались. Слишком противилась их сущности его природа. Идеалом, внутренней сверхсверхзадачей ролей и спектаклей дореволюционного Станиславского была христианская идиллия — равенство людей в добре. Но не равенство людей в нищете, которое соответствовало идеалу социалистической революции, все накопленное поколениями его предков экспроприировавшей и поделившей между всеми.
Впрочем, в обоснования веры он не внедрялся. «Вера слепа». Сомнения в вере его не посещали. Религии предков он не предавал, несмотря на гонения государства на верующих.
С потерей фабрики, с нищетой, голодом, бытовыми лишениями он смирился. Сносил их молчаливо, безропотно. Менял вещи на продукты. Как Амфитеатровы. Как все. Лето 1919 года жил с семьей на Волге, 278 «отоваривая» в это голодное время свой актерский труд в областном театре продовольственными пайками.
И другие актеры, сбившись в группы — качаловскую, москвинскую, — отправлялись летом в «продовольственные» поездки по южным, еще сытым российским губерниям.
Ужасала только кровь и бесчинства Хама.
Напрягалась до взрывоопасной и внутритеатральная ситуация.
Зимой 1919-го активизировались пробольшевистски настроенные молодые актеры труппы. Их не удовлетворял ни репертуар, ни эстетика театра. Они бунтовали против своих руководителей. Лишенные творческого поиска, молодые художественники упрекали Станиславского и Немировича-Данченко в том, что они, сделав свое дело, устали, состарились и оберегают свой завоеванный душевный комфорт, закрыв в театре все форточки.
Эти упреки Станиславский и Немирович-Данченко выслушивали на «творческих понедельниках» — на еженедельных диспутах молодых актеров театра, где обсуждались проблемы современного искусства. «Творческие понедельники» проводились в МХТ в выходные дни с начала 1919 года.
Молодежь Художественного завидовала сверстникам из левых молодежных студий, без числа открывавшихся в Москве. Студийцы осваивали азы пролетарского искусства — азы нового искусства ярких сценических форм.
Молодых привлекали новации Мейерхольда, напрямую с подмостков обращавшего революционные призывы к зрительному залу, заполненному рабочими и красноармейцами.
Их восхищали художники-авангардисты, работавшие у Таирова, пластическая стихия его спектаклей и в Камерном театре, и в клубе-мастерской ТЕО Наркомпроса — Театрального отдела Наркомата по просвещению. ТЕО Наркомпроса ведал всеми театрами России, был своеобразным центром политуправления ими.
Молодых художественников вдохновлял спектакль московского театра имени В. Ф. Комиссаржевской «Стенька Разин» по пьесе поэта-футуриста В. В. Каменского. Премьера «Стеньки Разина» была показана осенью 1918-го в дни торжеств, приуроченных к празднованию первой годовщины Октября. На сцене действовали восставшие крестьяне и их предводитель, разбойничий атаман, что было созвучно юбилейному событию. Культ революционного героя поддерживался всем контекстом революционной эпохи.
Заглавную роль в спектакле исполнил артист Художественного театра Н. А. Знаменский. В это же время Станиславский поручил ему роль Прохожего в «Вишневом саде».
279 Молодые художественники хотели играть другие роли — роли бунтарей, сильных личностей, оставивших след в мировой истории. «Фигура Робеспьера пленяет нас», — говорил В. Г. Гайдаров, студент Московского университета, еще не отдавшийся в ту революционную пору всецело актерской профессии.
Они не хотели работать в театре «мещанской пошлости и интеллигентской скуки», каким им и левой теакритике виделся Художественный театр с его «Дядей Ваней», «Тремя сестрами» и «Вишневым садом».
«Наше искусство лишилось прежней вдохновенности и стало мещанским, уныло будничным», — говорила актриса театра Е. Ф. Краснопольская в докладе на первом «понедельнике» 13 января 1919 года.
О том, что искусство Художественного театра не соответствует времени перемен, что оно превратилось в музей добрых воспоминаний, говорили все выступавшие на «понедельниках» молодые артисты.
«Наше искусство похоже на пруд, обнесенный оградой», — говорил А. Э. Шахалов.
«Наша революция произвела громадный переворот, она ворвалась в недра и глубины жизни. Искусство наших дней должно идти вслед за жизнью и создавать что-то новое, большое, соответствующее тем колоссальным переменам, которые происходят кругом нас, — говорил Гайдаров. — Нам надо перестать бояться быть “большевиками”, какими были когда-то Станиславский и Немирович-Данченко», — призывал Гайдаров радикально активизироваться бесправную в театре молодежь, задавленную авторитетом учителей. Приравнивавший революционность в театре к «большевизму», Гайдаров претендовал на роль лидера бунтующей молодежи, на роль «патетического вожака» большевиков, как говорил о нем Немирович-Данченко.
Десятого марта 1919 года на девятом «понедельнике» Станиславский отвечал оппозиционерам, размышляя вслух: «Может, и вправду наши пьесы […] устарели и отошли в область истории литературы. Или же формы нашего искусства для них уже не годятся и надо искать новые формы импрессионизма или футуризма. Может быть, и вправду интимное искусство потеряло ценность и должно уступить место “аренному” искусству». Но перспектива спектакля-митинга, спектакля-плаката и спектакля-цирка — сценических жанров агиттеатра — его не прельщала, была ему противопоказана. Двадцать с лишним лет он возводил в Художественном театре «четвертую стену». Снести ее?
Куда и как двигаться дальше, он не понимал.
Не знал, что конкретно играть и как это новое ставить.
Не знал, что делать со словом, с голосом, пластикой актера в том новом романтическом репертуаре, отвечавшем революционному пафосу 280 времени, которого так жаждали в его театре молодые. И ждала новая власть.
Но трагедия и романтическая драма и до революции ему не удавались.
К концу сезона 1918/1919 гг. Станиславский отчетливо сознавал: чтобы двигаться дальше, нужна «пушкинская работа». Та, что совершили ученики Немировича-Данченко, теперь — «старики», летом 1898 года в подмосковном Пушкине, недалеко от его Любимовки, перед открытием Художественного театра.
Он понял также, что для такой лабораторной, студийно-школьной работы нужна другая атмосфера: «Нас нужно пересадить на другую почву».
К концу второго советского сезона созрела идея отъезда всем театром.
«Мы уезжаем отсюда не потому, что наши художественные души не могут больше творить здесь, в этой обстановке. Нам нужно встряхнуться, нам нужно переменить небо», — говорил Станиславский на общем собрании труппы театра в марте 1919 года185. При этом, обращаясь к местным властям, просил сохранить их московские квартиры. Планируя отъезд, намеревался вернуться, когда «пушкинская работа» будет проделана, а революционный хаос — преодолен.
Жизнь, однако, на три с лишним года отодвинула этот замысел и изменила его.
К «пушкинской работе» с нового сезона приступили на своей, московской почве. А под «чужим небом» оказался не весь театр, а его часть, качаловская «продовольственная» группа. Гастролировавшая летом 1919 года по сытому югу России, отрезанная фронтами гражданской войны от Москвы, она попала на Украине в белый плен и вынуждена была двинуться еще южнее, а оттуда — в эмиграцию.
Прорывать деникинское оцепление и возвращаться домой было небезопасно. Артистам в Москве грозил арест.
Покидать Россию никто из артистов качаловской группы не собирался, отправляясь в «красный» Харьков, первый пункт гастрольного турне.
Я, Маша, измучена […] Мы боимся разъединиться, коллективом мы вернее проберемся. Мы сюда приехали в своем отдельном вагоне. Или опять уедем в Москву (ужас!), или, может, устроимся под Харьковом, Полтавой. Если так, мечтаю, чтб ты выбралась к нам и вместе поедем в многострадальную Москву, —
писала Ольга Леонардовна Марии Павловне из Харькова, оказавшегося в руках «белых».
281 В Харькове — «под белыми» — было «сравнительно с Москвой сытно, по крайней мере видишь хлеб».
В «белом» Харькове Ольга Леонардовна сумела найти и купить башмаки «по ноге».
Из «белого» Харькова качаловская группа двинулась вместе с Денинкинской армией — на юг России, давая по пути спектакли и концерты, чтобы заработать на жизнь.
До Екатеринослава ехали «великолепно» в своем вагоне. «Белые» уважали художественников. Но из Екатеринослава до Одессы добирались уже на пароходе, «скорчившись на багаже, прикрытые всем, что было, не смыкая глаз». А из Одессы до Новороссийска — в «грязнейшем» вагоне третьего класса: «Наш вагон отняли для военных».
В Новороссийске:
проводили ночь в каком-то обширном стеклянном павильоне, а несколько наших дам с Качаловым нашли приют рядом с вокзалом в доме служащего. Я с Качаловым легли на кухне на полу, а наши рядом в комнате тоже на полу, — описывала Ольга Леонардовна Марии Павловне свое «мрачное» путешествие с редкими светлыми моментами. — Утром […] ушли за поселок на горе, где стоит серая деревянная церковь, кругом зеленая трава, козы, дети с собакой, налево море и по берегу раскинулся город с многочисленными поселками, и надо всем сияло и грело по-летнему чудесное солнце и заставило забыть все, что пережито было мрачного за последний месяц (II. 1. К. 77. Ед. хр. 42 : 11, 11 об.).
В Ростове — уже в декабре 1919-го — качаловцы дали 7 концертов «в каком-то балагане» на 500 человек, едва заработав на хлеб. Театр в Ростове реквизировали. В Екатеринодаре на Рождество объявили комендантский час — запретили выходить на улицу после 9 часов вечера. Сыграли только два утренника.
В Тифлис весной 1920-го приехали уже с заграничными паспортами. До Поти из Новороссийска плыли на итальянском пароходе: «Я как вошла на пароход, так и проплакала — очень уж тяжка мысль о нашей родине, противен вид свежести, прекрасно одетых иностранцев» (II. К. 77. Ед. хр. 43 : 5 об.). «Тифлисский сезон» Художественного театра открывали и закрывали «Вишневым садом».
В Тифлисе Ольга Леонардовна «ошалела»:
Здесь весна, море цветов, элегантный город, все есть, хоть и дорого. Играем здесь с приятностью. Чудесный театр, уборные; отношение замечательное. Чествуют нас без конца, все пиры, речи, точно в сказке. Течет внешняя жизнь… а в душе все что-то мешает отдаться этой волне праздничной (II. 1. К. 77. Ед. хр. 43 : 6).
282 Мешала — не отпускавшая мысль о Москве и доме. Все ждали, что «вот-вот нас позовут в Москву». Из Москвы приходили трогательные письма, полные «лиризма».
Но определенно звать нас туда никто не решается, т. е. официально, — Ольга Леонардовна обо всем писала Марии Павловне. — У нас был безумный день. Мы заседали с утра до ночи, не могли решить, что нам делать. Прислали нам протоколы репетиций у нас в Камергерском. Как сильно заволновала эта вдруг близкая атмосфера нашего театра! […] Как я хочу в Москву! Как надоело скитаться, жить по чужим людям, закусывать на бумажках! (II. 1. К. 77. Ед. хр. 43 : 10 об., 11)
Ехать за границу Ольге Леонардовне было «противно и зазорно». Но ехать в Москву не могла:
Мне иногда кажется, что приеду в Москву, и нет у меня там угла (II. 1. К. 77. Ед. хр. 43 : 8).
Она мучилась целый месяц, не могла решиться ехать на Запад. За всю жизнь она не пролила столько слез, сколько тогда, в Грузии.
Страшно. Помолись за нас и за меня. Никогда я не увижу Москвы! Не увижу Ялты, Гурзуфа! —
прощалась она с Марией Павловной, отплывая в сентябре 1920-го в Константинополь (II. 1. К. 77. Ед. хр. 43 : 12).
О том, как все случилось в 1919-м, попало в советскую прессу только в 1939-м — с просоветским, разумеется, акцентом. Ольга Леонардовна дала интервью корреспонденту газеты «Социалистический Донбасс», когда театр гастролировал в городе Сталино на Украине: «1919 год. Часть нашей труппы играет в Харькове. Мы приехали для обслуживания красного фронта. Идет “Вишневый сад”. Когда кончился спектакль, мы узнали о том, что перемена власти. Мы видели несколько дней разгул белогвардейщины, которой удалось на время перейти в наступление. Наша труппа оказалась отрезанной от красной Москвы и была вынуждена добираться в столицу кружным путем — через Турцию, Болгарию и другие страны»186.
Скитания качаловской группы продлились два с лишним театральных сезона.
Юг России и Европа встречали артистов как посланцев Художественного театра, как его «великолепный обломок».
В Берлине их приветствовал В. Д. Набоков, бывший член временного правительства, лидер кадетов: «В эти тяжелые и злые времена, когда 283 все русское общество распалось на две части […] театр тоже раздвоился […] Мы вас не потеряли […] Вас считают театром Чехова […] На занавесе вашего театра чайка, среди вас милая артистка, носящая никогда не забываемое имя»187.
Она не только тонко чувствует Чехова. Она сама немножко Чехов, — вторили Набокову люди из эмигрантской публики.
В 1921-м в берлинском зале на Кенигретцерштрассе собрались старые абоненты Художественного театра. Они помнили каждый жест, каждую интонацию Станиславского в роли Гаева, Москвина в роли Епиходова и покойного Артема в роли Фирса. Тот скончался в 1914-м, до войны. И не могли смириться с тем, что их не было в гастрольных «Трех сестрах» и «Вишневом саде».
«Даже такой изумительный актер, как Качалов, не может сразу отлучить нас от Станиславского. А как заслонить Артема, создавшего Чебутыкина, навеки незабываемого. Это было противно всем законам естества», — писал берлинский «Голос России»188.
В начале поездки Качалов взялся за Епиходова. Ему хотелось сыграть чеховского конторщика, артистический шедевр Москвина, совсем по-своему. Идя дальше мягкого, подавленного Епиходова — Михаила Чехова, он пробовал Епиходова — «двадцать два несчастья», как называли его, — почти блоковским «Рыцарем-Несчастье» из поэмы «Роза и крест», которого он репетировал в театре до отъезда.
Эта трактовка провалилась. Русские, пострадавшие от «рыцарей счастья» для «всей России», творческого замаха Качалова не приняли и епиходовым в праве на страдания и сочувствие к ним отказали.
Роль отдали другому исполнителю, который мог смешить, развлекать зрителя москвинскими трюками.
Артист остановился на Гаеве.
Многие из тех, кто помнил Станиславского в роли Гаева, отдавали предпочтение искренности Качалова перед Станиславским, у которого роль была виртуозно «сделана». Качалов решал Гаева изысканным русским барином-аристократом и играл его «с чарующей простотой и благородством и настолько тонко, что не всякий зритель может оценить все те легкие по видимости, но “на вес золота” значительные акцентировки, которые артист щедро рассыпает в интонациях, движениях, игре. А главное, конечно, что Качалов и не играет. Он живет», — писала тифлисская газета189.
Роль Ани в спектакле впервые в поездке сыграла молоденькая А. К. Тарасова, блеснувшая до отъезда из России в спектакле Второй студии МХТ «Зеленое кольцо» по пьесе Зинаиды Гиппиус и незнакомая русским в Европе. В ней видели барышню из породы чаек, которые не падут от выстрела первого охотника: «В ней здоровые зерна будущего»190.
284 Несмотря на тяготы беженской жизни, несмотря на то, что муж Тарасовой еще в России свалился с сыпняком, фраза Ани — «Я не спала всю ночь, томило меня беспокойство» — не сверлила ее голову мукой, как голову Ольги Леонардовны.
«Тарасова очаровательная Аня», — писала Ольга Леонардовна Марии Павловне (II. 1. К. 77. Ед. хр. 42 : 6 об.).
Но сердца «русских без России» были отданы прошлому: Раневской, ее экспансивной нежности к саду; Гаеву, беспомощному ребенку, его «огромной родовой теплоте к сестре»; их прощанию со «старым домом» и Фирсу, сросшемуся и с гаевским имением, и с господами. Для «беженцев» из России самыми сильными впечатлениями были две сцены: приезда Раневской из-за границы домой: «Именно приехала, а не из кулис пришла […] Беспокойное хождение по комнате утомленных с дороги, после долгого отсутствия немая встреча» с родиной. И финал, отъезд в четвертом действии: «Все это яркие куски подлинной жизни».
«Вишневый сад» качаловцев был для «усталых путников», осевших в Европе, «драмой прощания» с домом, с прошлым, с отечеством.
В литературных портретах Ольги Леонардовны — дореволюционной Раневской — проступали черты русской барыни с оттенком парижской кокотки, «сильно пожившей», увядавшей. Критики описывали туалеты Раневской, выполненные, им казалось, в стиле парижских бульваров, и ее лицо, будто с картин Тулуз-Лотрека, в ореоле подкрашенных рыжих волос — нервное, с ярко очерченными губами, со слоем индиго на длинных ресницах, выделявшемся на прозрачной, выхоленной коже.
В Раневской Ольги Леонардовны — вынужденной эмигрантки, в «усталой печали», «в скорбных линиях у губ и глаз, молчаливых даже во время самого яркого смеха» видели теперь «неутихающую горечь воспоминаний». То, что случилось с Раневской, потерявшей дом, случилось и с ними. Они отчетливо видели Раневскую Книппер-Чеховой, пережившей эмиграцию, среди людей с хмурыми, озабоченными лицами на чужих, парижских или берлинских улицах, «сквозных, как вырубленная просека, с неумолчно грохочущими трамваями».
«Чехов еще мог улыбаться. Мы уже не можем», — писала пражская газета «Воля России»191.
Ольга Леонардовна чувствовала, что приехала от «своих» к «своим».
Но ее сердце осталось дома.
«Все наши мысли и стремления туда, в Москву, в Москву… Так хочется встретиться с Константином Сергеевичем Станиславским, с Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко, со всеми, кто остался там, кто неразрывно связан с нами», — отвечала она на берлинские приветствия192.
285 И публика готова была подхватить стон «милой артистки» с фамилией Чехова в своей фамилии: «В Москву, в Москву!» Публика чувствовала в Ольге Леонардовне «свою».
Ее портреты, портреты Чехова и Качалова украшали их оставленные дома. «Точно самих себя нашли», — писали эмигрантские газеты, испытав «нечаянную радость» от встречи «нас самих 15 лет назад — с нами»193.
В спектаклях качаловской группы из репертуара Художественного — в «Трех сестрах», «Вишневом саде», «Братьях Карамазовых», «На всякого мудреца довольно простоты» — они узнавали свой дом, до боли родной, свой потерянный рай, свое русское прошлое и осознавали свое настоящее — беженцев, эмигрантов.
Вместе с чеховскими спектаклями художественников в Европу была доставлена «горстка родной земли» и «быт, стертый до основания», — писали эмигрантские газеты. На сцене были три сестры Прозоровы, рвавшиеся в Москву, одна Раневская, выдворенная из дома, один Гаев, которому жизнь не давала возможности быть беззаботным. В зале таких «жалких щепок», «вынесенных, как пена, на поверхность бурной стихии», было много больше. Чуть ли не «весь Петербург» и «вся Москва». А вместе с ними и «вся Россия», «растрепанная стихией», собиралась на чеховских спектаклях художественников, — писала берлинская газета «Руль» весной 1921 года.
«Действительно “надвинулась на нас всех громада, сильная буря сдула с нашего общества лень, равнодушие к труду, гнилую скуку…” Хоть, по правде, сдула и самое общество», — вносила Ольга Леонардовна свою поправку к чеховским словам, которые с воодушевлением произносил когда-то Качалов — Тузенбах194.
Ее тоже «сдуло» вместе с обществом.
В начале 1920-х она еще отдавала себе отчет в том, что: «Не о такой буре мечтала прекрасная душа Чехова, так болезненно сжимавшаяся при виде малейшего насилия над человеком, над его духом, так мучительно съеживавшаяся при виде малейшей грубости даже в обыденной жизни»195.
Эмигрантские залы не могли смотреть на пьесы Чехова как на исторические, музейные вещи. У русских в Тифлисе, Праге, Берлине, Вене не было вопроса, безальтернативно стоявшего перед теми, кто остался в России: нужен Чехов или нет, современен Чехов или он — история. Слишком «потрясающе современным» были для них, тосковавших по родине, по прошлому, по жизни лучшей, чем нынешняя, мучения изгнанных из дома. Чехов был с ними в этот трудный час. Он соединял их с теми, кто остался в России, сказав «новой жизни»: «Здравствуй!»
«Разве не все мы сошлись в этом кругу: от бессильно тоскующих на пепелищах своих “Вишневых садов” до смелых строителей в неумолимом 286 жизненном процессе? Или не весь наш круг в этих двух восклицаниях:
— Прощай, старая жизнь!
— Здравствуй, новая жизнь!
Не все ли мы здесь: одни, которым осталась лишь вера в прошлое, другие, которые кипят верой в будущее?
Или не современность Чехова в том, что эти две бездны представил он не в яростном антагонизме, а примирил в своем нежном, лучистом душевном тепле, в котором все понято и все прощено», — подводил итоги тифлисских гастролей качаловской группы критик А. В.196
Раскрыть псевдоним не удалось.
Литературно-художественные образы Чехова — «старая» и «новая» жизнь — обретали в Европе реальный смысл. Они вернулись в «Вишневый сад» качаловской группы исторической конкретностью: до и после революции. Спектакль, которого не существует без зрителя, его составляющей, вместил ее.
А. В. и другие критики эмигрантской прессы считали, что Чехов, примиривший две бездны, принадлежит как до, так и после революции. Каждый из них вместе с русской публикой «вне России» измерял Чеховым, этим «волшебным зеркалом», собственную душу и путь, пройденный ею «от Чехова до наших дней»: «Между нами и первыми триумфами его пьес лег океан — война и большевизм […] 15 лет назад это была русская действительность […] Теперь нежная лирика заглушена кровавым эпосом, мечтательные порывы в прекрасную даль — мучительными сомнениями и проклятиями. И даже надежда, посещающая нас в светлые минуты, имеет уже другой лик, более мужественный и строгий», — писала берлинская газета «Голос России»197.
То, что до революции называлось чеховскими мечтаниями-предчувствиями, после революции превратилось в пророчества. «Голос России» видел в чеховском «Вишневом саде» «пророческий символизм великой русской трагедии. Драма Раневской — драма Раневских — драма целого народа, целой культуры»198. Пьеса Чехова с элементами повествовательности, поставленная в начале века, вместила и кровавый русский эпос.
«Вишневый сад» качаловской группы, копия спектакля Станиславского и Немировича-Данченко, с Ольгой Леонардовной в роли Раневской, с успехом колесил по Европе, переадресовывая благодарному эмигрантскому зрителю поэзию Вишневых садов, не востребованную в России.
Впрочем, у театральной Европы были разные мнения по поводу спектаклей качаловцев. Трещина века прошлась в 1917-м и по душам европейцев.
287 Коммунистическая пражская газета «Руде право», «товарищ советских “Известий”», как говорили русские беженцы в Праге, оповещала читателей, что русская культура раскололась на две — «белую» и «красноармейскую»; что «белый» десант не слышит Чехова, который написал пьесу на тему классовой борьбы в России, переложив на музыку учение Маркса, и допевает в Европе последние дворянские мелодии. Чешские коммунисты считали, что лучшие силы остались в Москве; что «красноармейская» часть театра, завершив рубку негодной поросли русской жизни, обновляет репертуар новыми революционными спектаклями. Пока «белые» допевали в Европе дворянские мелодии, «красные» в Москве сыграли байроновского «Каина» — свою первую «революционную» премьеру, — сообщала читателям «Руде право».
Но в критике спектаклей качаловской группы тон задавали все же русские голоса, ностальгировавшие по «незабвенному Чехову» как по утраченной России. Выражая это коллективное мнение русских колоний, осевших в Берлине, Праге, Загребе, драматург Художественного театра Чириков, застрявший в Праге и побывавший на спектаклях «волшебников сцены», писал в книге «Артисты Художественного театра за рубежом», изданной в 1922-м в пражском издательстве «Наша речь»: «Точно в сказке: слетал на ковре-самолете в родные провинциальные захолустья, побывал в Москве, повидался с Антоном Павловичем и снова превратился в человека без родины, без родного дома, одинокий и заброшенный, как бесприютная собака, потерявшая своего хозяина. И как собаке, мне хотелось выть от душевной скорби. Точно я вернулся с кладбища, на котором зарыл в земле все дорогое, все любимое, без чего нельзя жить. […] Картины прошлого, тесно переплетенные с Художественным театром, одна за другою, вставали на моей памяти, и душа шептала, глотая слезы: “В Москву! В Москву!”»199
* * *
Одна половина расколовшегося надвое Художественного театра — качаловская — прощалась «под чужим небом» со «старой» русской жизнью.
Вторая — московская, Станиславского и Немировича-Данченко, — и в самом деле пыталась выскочить из круга, очерченного в «Вишневом саде» стражевско-чеховскими восклицаниями: «Прощай, старая жизнь!» — «Здравствуй, новая!» — выпуском революционной премьеры.
Другого выхода не было.
288 Луначарский, нарком просвещения, одобряемый Лениным, не торопил старые театры, бывшие императорские и Художественный, с перестройкой. Но жить с репутацией контрреволюционно настроенной силы и медлить с приветствием большевистской революции дольше было нельзя.
К началу сезона 1919/20 гг., третьего от рождества советской власти, московская половина труппы художественников оказалась в тупике. Вместе с Качаловым и Книппер-Чеховой театр лишился лучших дореволюционных спектаклей: «Трех сестер», «Вишневого сада», «Братьев Карамазовых». Без них и новых постановок не одолели. Блоковская пьеса «Роза и крест», доведенная до генеральной репетиции, без Качалова была невозможна. А отъезд остатков московской труппы за границу для воссоединения с «обломком» Художественного и совместной «пушкинской работы», необходимой для преодоления творческого кризиса, не был разрешен.
В этой безысходной ситуации Немирович-Данченко принял решение ставить байроновского «Каина», переведенного Буниным еще в начале века. Опытный литератор и театральный политик, Немирович-Данченко лучше всех в театре понимал, что и когда надо играть и что играть не следует. Так было с Чеховым, Горьким, Андреевым, Достоевским на сцене МХТ.
В критический для жизни театра третий совдеповский сезон он выбрал в союзники — Байрона.
Философско-романтическая трагедия Байрона на сюжет ветхозаветного мифа об убийстве брата братом вполне отвечала революционному заказу. Большевики, оправдывавшие кровопролитие революционной целесообразностью, оправдывали Каина, сильную, мятущуюся личность первого убийцы на земле. Луначарский видел в Каине, протестующем против несправедливости миропорядка, установленного на земле ветхозаветным богом Иеговой, прообраз современного революционера. Об этом говорил на одном из публичных выступлений.
Жанр, проблематика, герой-бунтарь, будь поэма-мистерия Байрона осуществлена в этом революционном ключе, могли бы разрядить внутритеатральную ситуацию, удовлетворив желания молодых, и, главное, снять претензии критики к камерности и психологизму репертуара МХТ, — рассчитывал Немирович-Данченко. Ведь мистерия — это «великое в революции». Так расшифровывал средневековое понятие мистерии — массового религиозно-культового действа на библейские темы, переводя его в современный регистр, — Маяковский, когда в 1918-м отдавал Мейерхольду, присягнувшему большевикам, свою «Мистерию-буфф».
Включая «Каина» в репертуар Художественного театра 1919/20 гг., Немирович-Данченко надеялся, что Станиславский с готовой режиссерской 289 партитурой, разработанной еще в 1907 году, и с восемью актерами, рвущимися в бой, быстро поставит спектакль. Трагедия Байрона намечалась в 1907-м в один сезон с «Жизнью Человека» Андреева и «Борисом Годуновым» Пушкина. Она должна была высветить «мировым законом» Жизнь Человека и смуты русской истории, — говорил Немирович-Данченко, сверстывая тот давний репертуарный план. Но в 1907-м «Каин» был запрещен Синодом за богоборческий пафос. И постановочные приемы, заготовленные Станиславским для пьесы Байрона, — эффекты черного бархата в оформлении сцены, в частности, — достались «Жизни человека» и «Синей птице» Метерлинка. Черный бархат должен был обрамлять, по режиссерскому плану 1907 года, сцену полета Каина и Люцифера в глубины мирового пространства. В «Синей птице», как и в «Каине», только в сказочном варианте, были миры иные — за пределами земли: Лазоревое царство — царство будущего, царство не родившихся душ, прошлое — страна воспоминаний, дворец Злой Ночи и тому подобный населенный фантастический эфир, адекватный аду, раю, вселенной с мириадами звезд и угасших планет, царству теней — царству Смерти, где парили Каин с Люцифером.
В 1919-м у «Каина» появился шанс — исполнить свою не исполненную в 1907-м миссию в Художественном театре: высветить «мировым законом» смуту российской жизни, переломившейся в 1917-м в пользу рабочих, крестьян и солдат революции. Байроновский «Каин» входил в список классических пьес, рекомендованных ТЕО Наркомпроса для постановки в государственных театрах. МХТ из частного превратился в государственный, подконтрольный Наркомпросу. Постановка «Каина» в концепции Луначарского: Каин, библейский герой и герой романтической трагедии, протестующий против несправедливости на земле, — прообраз большевика — обещала качественно новый, просоветский Художественный театр.
Трагедию Байрона, насыщенную революционными аллюзиями, собирался ставить Мейерхольд в Эрмитажном театре, открытом в 1918 году решением петроградского ТЕО Наркомпроса.
«Каин» был включен в репертуарные планы «Театра трагедии», созданного по инициативе и при поддержке Горького, Андреевой и Шаляпина. Роль Люцифера предназначалась Шаляпину.
«Каина», резонировавшего с современностью, хотел ставить в Первой студии Художественного театра Вахтангов. В 1917-м состоялась читка пьесы. Свой постановочный план и распределение ролей Вахтангов обсуждал и согласовывал со Станиславским. На роль Каина намечался Леонидов. И темперамент, и национальность артиста, мешавшая в 1903-м при назначении на роль Лопахина, явления чисто русского, пришлись библейскому герою впору.
290 После премьеры в Первой студии спектакль предполагалось включить в репертуар метрополии.
Задумывая «Каина», Станиславский и Вахтангов обсуждали дилемму: ставить ветхозаветный миф об убийстве брата братом, заимствованный Байроном из священного писания, и одевать спектакль «в шкуры». Или ставить «Каина» как романтическую пьесу о душе, мечущейся между божественным и земными, человеческими страстями. В этой сценической версии режиссеров смущала буквальность физического тела актера в таких сценах, как жертвоприношение или убийство Авеля. Вахтангов предлагал ввести чтеца, который напоминал бы зрителям сюжет мифа, давая спектаклю каркас, а актеры иллюстрировали бы его, передавая величие, пышность и поэтическую сторону байроновской трагедии в пластике и в интонациях200.
Станиславский и в 1917-м шел дальше Вахтангова в этом, втором варианте постановки. Он предлагал играть пьесу «всю во фраках», чтобы избежать реальности бренного тела исполнителя, опускающего душу, идею спектакля на землю и априори убивающего ее.
Ни один из этих замыслов ни в Москве 1917 года, ни в Петрограде 1918-го не осуществился. Но все понимали — и Немирович-Данченко, и Вахтангов, обратившийся к Станиславскому за советом и помощью, — что только Станиславскому, театральному Микеланджело, как говорил о нем Мейерхольд, было подвластно грандиозное философско-религиозное сооружение Байрона, отвечавшее на «вековые вопросы» человечества.
Станиславский доверял Немировичу-Данченко, его литературному вкусу и театральному чутью абсолютно. Как и в год создания Художественного театра, когда Немировичу-Данченко принадлежало право литературного veto, В августе 1919-го Станиславский приступил к работе над «Каином» и 4 апреля 1920 года, в конце сезона, показал премьеру.
На постановке «Каина» сошлось все: и страх перед большевиками, которым Станиславский вознамерился «служить» как высшей власти, олицетворявшей теперь его отечество; и преданность «вере», преследуемой новой властью; и его творческая растерянность в «новой жизни» — только со второй попытки он нашел режиссерское решение спектакля; и дерзновенная, поистине микеланджеловская творческая сила его режиссерского мышления, с которой он подошел к революционному рубежу.
Без «Каина» — на переломе духовно-творческой биографии Станиславского из дореволюционной в советскую — не понять ни его истинного режиссерского потенциала, не востребованного «новой жизнью», ни компромиссной второй редакции «Вишневого сада», осуществленной в 1928 году, ни попытки третьей редакции спектакля, предпринятой, хотя и не осуществленной в последние годы жизни Мастера в Оперно-драматической студии его имени.
291 Все, что произошло со Станиславским в первые послереволюционные годы, что ломалось, но так и не переломилось, не переродилось в нем, произошло на «Каине». Высветив «вековым законом» «смуту» «новой жизни», «Каин» высветил и «смуту» в душе Станиславского «сбит с позиции, ударили по морде», — так и не преодоленную в процессе работы над спектаклем. В первой после 1917 года премьере Художественного театра он не смог изжить свой духовный и творческий кризис, свой «невдух», как изжил его осенью 1904-го в постановке «Метерлинковского спектакля», первого — после смерти Чехова.
Пробольшевистски настроенных молодых актеров, активистов московских «понедельников», богоборческий «Каин» вполне устраивал. Оставив Каина за Леонидовым, как намечалось в Первой студии, Станиславский распределил роли между ними. Решил использовать в спектакле их творческую неудовлетворенность и их «большевизм». «В какой-то степени это был ответ МХТ на события в нашей стране», — писал Гайдаров в своей мемуарной книге201. Он получил роль Авеля. Роль Ангела репетировал Шахалов, Адама, как намечал Вахтангов, — Знаменский, исполнитель главной роли в «Стеньке Разине» Каменского и Хама-Прохожего в «Вишневом саде».
На роль «огневого, мечущего молниями» Люцифера Немирович-Данченко намеревался «взвинтить» Качалова. Но Качалов экспериментировал с чеховскими Епиходовым и Гаевым, прощался в Европе со «старой жизнью», не сказав «новой» — «Здравствуй!», и его роль отдали Ершову, молодому актеру, окончившему два курса историко-филологического факультета Московского университета и в 1916-м принятому по конкурсу в труппу театра.
Молодую актрису Шереметьеву, игравшую в «Вишневом саде» безымянную и бессловесную прислугу Гаевых, их дворню, Станиславский назначил на роль Евы, хотя в отряде гайдаровцев она была чужой. «Большевичек» в женских ролях — Краснопольскую, Сухачеву, рвавшихся в бой, — режиссер не захотел. Аду играла Коренева, Беллу Молчанова, студийка Второй студии.
Станиславский фантазировал в «Каине» мистерию. Но не как «великое в революции» — по Маяковскому, уже прогремевшему «Мистерией-буфф» у Мейерхольда, а как традиционное западноевропейское церковное действо, как инсценировку библейских эпизодов в рамках культового ритуала.
Эпизоды из Ветхого завета, отобранные Байроном, должны были разыграть перед зрителями, как бы прихожанами храма, актеры, одетые в монашеские рясы. Как разыгрывались мистерии в средневековье.
Решая концепцию спектакля, Станиславский уже в августе 1919 года начал работу над декорациями «Каина», пригласив на постановку скульптора Н. А. Андреева.
292 Андреев в 1919-м воздвиг в Москве по ленинскому плану монументальной пропаганды свой памятник революционерам-демократам Герцену и Огареву. Тогда же, с 1919 года, Андреев был допущен в Кремль рисовать Ленина — вождя русской революции.
Именно такой художник нужен был Станиславскому. Монументалист, современно мыслящий, вписавшийся в новую эпоху. И новичок в сценографии. Длительный союз Художественного театра с Добужинским к этому времени был расторгнут. Рамки функционера, отводимые режиссером художнику, маститому живописцу были скучны и мучительны.
Андреев мощно отзывался видениям режиссера.
Подхватив идею мистерии — первоначального режиссерского замысла Станиславского, — Андреев рисовал единую декорационную установку, размещенную в глубине сцены. Она изображала средневековый готический собор с серыми стенами, пятью стрельчатыми витражами в алтарной части, фронтально развернутой к зрителю, с хорами по бокам и лестницей, ведущей к ним. В архитектуре храма и в скульптурных группах, украшавших его, Андреев использовал хорошо им изученные орнаментальные мотивы византийской культуры. Действующих лиц и их костюмы он изображал на эскизах, как фресковых алтарных святых: фронтально, с воздетыми вверх ладонями.
Зрители располагались как бы внутри храма.
Сквозь окна, по-разному освещаемые, мог брезжить рассвет, могло светить солнце, могли сгущаться сумерки, могла надвигаться ночь, если стекла загораживались толстой слюдой.
В эпизоде жертвоприношения Авеля сцена сверху, с купола храма, должна была залиться кроваво-красными закатными лучами или отсветом, заревом пожара.
Восхождение по лестницам на хоры означало полет в надземные сферы.
Ночная процессия с зажженными свечами внизу создавала глубину пространства с мириадами звезд. Это была бы массовая сцена мистерии.
Множество церковных свечей должно было гореть и на жертвеннике Авеля.
Станиславский ввел в действие орган и хор певчих. Церковные песнопения писал для постановки композитор и хормейстер П. Г. Чесноков, бывший регент московского церковного хора и автор знаменитой в России духовной музыки. Для сцены убийства Авеля Чесноков написал по заданию Станиславского хор «Смерть Христа». Он же дирижировал огромным хором, участвовавшим в сценах молитвы, полета Каина и Люцифера по внеземным цивилизациям и в сцене погребения Авеля.
293 В этом режиссерском и стилистическом решении спектакля обрядовая мистерия сводилась к христианскому освещению ветхозаветных эпизодов. Даже больше: сражение Иеговы и Люцифера за душу Каина трансформировалось в трагический конфликт Христа и Антихриста, и ветхозаветная метафизика отзывалась православием, поддержанным и Чесноковым, и Андреевым. В сцене явления людям Ангела Господня должен был звучать вместе с громом (тут заказывалась музыка ударных инструментов) сильный и густой звон, будто с колокольни кремлевской звонницы Ивана Великого, — записывал Станиславский в режиссерской тетради. Андреев рисовал Авеля рублевским ангелом, а Небесного посла Господня с черно-золотыми крылами — распятым на голгофском кресте.
С Андреевым и Чесноковым Станиславскому работалось легко.
С актерами — труднее.
Репетиции утопали в дискуссиях о религиозной вере.
Станиславский размышлял о вере и неверии, чреватом большой кровью, и вчитывал в персонажей доевангельского мифа христианское начало. «Авель потом вернулся к людям Христом», — считал он, заставляя Гайдарова искать в Авеле затаенное христианство.
А молодые актеры, в большинстве атеисты, осуждали «рублевского ангела» за покорность, за рабское смирение и оправдывали Каина как богоборца. Гайдаров даже в сомнениях Каина видел отрицание веры.
Когда дискуссии заходили слишком далеко, Станиславский просил: «Не надо богословских споров».
В компании «большевиков»-гайдаровцев он чувствовал себя то Каином, познающим мир, себя в нем и ищущим новую веру, то отцом Каина и Авеля, каким он понимал его: «Адам — человек опыта, познающий мудрость Бога»202. Он гнул свою линию правоверного христианина: Адам не восстает против Создателя и не проклинает старшего сына, убийцу младшего. Он покоряется высшей воле, вложившей в руку Каина смертоносную головню, не изменяя вере в божественные святыни. «В “Каине” […] надо доказать, что вера слепа, что человека, преступившего границу, неизбежно влечет к катастрофе», — формулировал режиссер сверхзадачу своего спектакля (I. 2. № 834 : 61).
Конфликт с революционной властью воинствующих большевиков-атеистов был предрешен.
Но с молодыми актерами Станиславский находил общий язык. Не изменяя себе.
Бредивший своей системой, дополнявший ее в то время разделом «аффективная память» — память чувств, Станиславский искал в каждом исполнителе им лично пережитое чувство, которым можно было бы одушевить и оправдать переживания каждого — и Каина, и Авеля, и Адама, и Бога, и Люцифера. «Иегова — Бог, это не абстракция, а живое, 294 реальное существо», — повторял Станиславский, осуществляя в анализе роли подмену бестелесного духа — человеком203. «Вы прежде всего человек, а потом уже сверхчеловек», — спорил он с Шахаловым о роли Люцифера. «Люцифер — дух, но он все равно подчинен известным физическим законам», — объяснял режиссер. Шахалов настаивал на том, что дух нельзя выявлять на сцене человеком. «Вы человек и можете изображать только человека», — парировал Станиславский (I. 2. № 18892 : 14 об.). Даже тени умерших, попавшие в рай, были для него реальны. Одна из теней, отбрасываемых гигантским чучелом в сцене полета Каина и Люцифера, была у него духом Толстого, и Каин должен был смотреть на нее с благоговением, — записывала Шереметьева замечание Станиславского Леонидову204.
Очеловечивая дух и одушевляя человека на сцене, Станиславский дублировал в застольных беседах с актерами всю ветхозаветную иерархию от дохристианских богов до первых землян, познавших вкус крови, — революционной иерархией, как он ее понимал: большевистскими вождями, равновеликими богам, и первыми советскими людьми, равновеликими первым землянам. И в «Каине», как обычно в Художественном театре, материал пьесы — библейскую вечность — постигали, опрокидывая ее в реальность и поверяя ею авторский вымысел. Заставивший отвечать на «вековые» и сиюминутные вопросы бытия, сопрягаемые с «вековыми», «Каин» возносил режиссера на немыслимую высоту созерцания, ему как режиссеру подвластную, и возвращал в кровавую реальность ленинского красного террора.
Боги, как и революционные вожди, устанавливали законы бытия.
Первые люди земли — Адам, Ева, Каин, Авель, Ада, Селла — подчинялись богам.
Первые советские люди, каиновы дети, осваивали новую жизнь, построенную по законам, установленным Советской властью.
Высшим иерархом, дублировавшим в современной реальности ветхозаветного Бога-законодателя Иегову, Станиславский назначал Троцкого, председателя реввоенсовета.
Иегова изгнал Адама и Еву из блаженного Эдема.
Троцкий и его соратники взорвали быт и нравственные устои, складывавшиеся веками, поколениями, помнившими свою родословную.
Иегова вложил в руку Каина смертоносную головню.
Троцкий, главный военный начальник, вооружил товарЫщей наганами и ружьями наперевес: «Оказывается, что Бог-то (Иегова) в произведении — в Библии — еврей карающий (Троцкий)», — открывала Станиславскому современность205.
295 Накладывая на библейскую легенду собственное ощущение реальности, первую сцену пьесы Байрона — сцену «молитвы и поклонения Богу» — он решал «только на страхе».
Только страх испытывал Станиславский перед Троцким.
В таком раскладе высших небесных сил и комиссарских иерархов Каин, волею Иеговы покаравший Авеля, ассоциировался с большевиком; Иегова, Бог-Создатель, Бог-консерватор, — со старым миропорядком, со «старой жизнью», если по Чехову; Люцифер, новый пророк, Бог-анархист, Бог-разрушитель, принесший на землю хаос, — с жизнью «новой». Ей, построенной на критике Иеговы, и предстояло прокричать: «Здравствуй!» Люцифер, пригласивший Каина полетать с ним по вселенной, показывал ему, как несправедливо устроил Иегова Жизнь Человека на земле. Каину, полетавшему над землей, предстояло присягнуть идеологии социальной справедливости, чтобы включиться в строительство на земле коммунистического рая. Ершов, игравший Люцифера, должен был, чтобы возбудить в себе живое чувство, видеть перед собою Ленина, носителя новой, коммунистической идеологии.
В воображаемой реальности, построенной Станиславским на базе его краткосрочного советского опыта в параллель библейской — у Байрона, не было цельности. Да и политик он был неважный. Но его схемы, тождества, прямолинейные подмены-персонификации, подстановки под библейских персонажей современников и себя самого были подвижны и имели не постановочный, а чисто рабочий, репетиционный характер. Это был творческий ход режиссера-практика к молодым актерам, пропитанным духом революции, к их живому чувству современности. Но он высветлил в ветхозаветном сюжете — проклятие Иеговы богоборцами и победу Люцифера, по шкале Нового завета — Антихриста. И Станиславский, приведя в репетиционных беседах с актерами к победе — Люцифера с Каином и Ленина с большевиками, пройдя полпути к премьере, отказался от постановки мистерии в байроновской трагедии. Постановка ветхозаветного мифа, перетрактованного в свете Христовых заповедей, вела к проклятию Бога, как бы он ни назывался — Иеговой или Христом. Такой поворот для авелева сердца Станиславского — при непреодолимой каиновой тяге к познанию, влекущей к новой вере, — был неприемлем. Вера Станиславского — доставшийся ему от предков Высший разум, определявший нравственные принципы, которых он не преступал ни при каких обстоятельствах, — перечеркнула его верноподданнические намерения.
Ссылаясь на отсутствие средств, необходимых для изготовления архитектурных рельефов храма, так оно и было на самом деле, Станиславский круто изменил первоначальный замысел.
Пытаясь уйти от осмысления ветхозаветного мифа святынями Нового, уклоняясь от библейской легенды о Каине, убившем брата, и от темы 296 веры и неверия, чреватого большой кровью, Станиславский остановился на втором варианте постановочной дилеммы, которая рассматривалась в 1917-м вместе с Вахтанговым. Он решил ставить байроновского «Каина» не как мистерию, а как философскую поэму о Каине, трагическом герое, в душе которого под влиянием Люцифера, показавшего ему землю из вселенной, происходит переворот представлений о жизни, о смерти, о добре и зле. Каин должен был нести в спектакле тему познания мира, частью которого были земля и человек земли.
«Каин — фигура созерцательная», — говорил Станиславский, уходя от библейского Каина — братоубийцы. Он вел его к полной растерянности в финале: «И все-таки он остается с вопросом — без разрешения», — записывал режиссер свое «резюме»206. Мрачный, подавленный случившимся Каин был ему ближе, чем разочаровавшийся в Боге богоборец первоначального, отвергнутого замысла.
В гриме профильно изображенных многочисленных голов Каина Андреев выделял взгляд, вперившийся в одну точку, пытливый, сверлящий — онтологический, постигающий под руководством Люцифера законы вселенной и земного неблагополучия, установленные Иеговой.
Люцифер — дух, в отличие от людей, получил в эскизах Андреева к «Каину» тонкое, напряженное лицо интеллектуала.
Иегова с его старыми святынями, которым предан Авель, и Люцифер, заставлявший Каина взглянуть на землю и землян по-новому, существовали в самом Каине. И Иегова, и Люцифер — порождения сознания Каина, первого мыслящего человека на земле, — разъяснял Станиславский свой подход к роли во втором варианте режиссерского замысла трагедии.
Следуя за переменой режиссерской концепции спектакля, Андреев изменил первоначальное сценографическое решение. Выправляя религиозно-православный крен, отчетливый в архитектуре и интерьерах храма, он вывел действие первого и третьего актов новой версии спектакля из храма на гигантскую площадь перед ним, окруженную величественной колоннадой. Монументальная колоннада, устремленная ввысь, подавляла своими масштабами человека, мизерного на ее фоне и на фоне гигантских ступеней в глубине сцены, обрывавшихся в темно-синюю бездну.
Режиссер думал о лестнице, ведущей в небо.
Художник оставил два марша.
Там, в небе, были врата Эдема, откуда Бог изгнал Адама и Еву.
Из бездны на верхнюю массивную плиту уступа взлетал Люцифер, сопровождаемый разрядом молний. Там же в последнем акте в перекрещивавшихся голубых лучах должен был появляться Ангел Господен с мечом в руке и с «каиновой печатью» в другой. Избегая бытовизма в 297 этой высшей точке трагедии, Станиславский ограничил роль Ангела голосом чтеца и самого чтеца увел за сцену.
Пропорции колонн и человеческих фигур тщательно выверялись в макете. Это был принципиальный, образно-концептуальный момент и для режиссера, и для художника. Внизу колонны сужались, подчеркивая бесконечность пространства над ними и ничтожность простого смертного, еще не ведающего, что он не равен бессмертным богам, что он — «ничто», и обреченного Богом ютиться внизу, на земле.
Колонны изготовлялись как футляры из серого холста, прибитого снизу и сверху к деревянным кругам. Эту технологическую идею принес в театр Андреев. Левые художники использовали холсты для оформления митингов, демонстраций, гуляний и других массовых мероприятий, в которых участвовали толпы трудящихся. Десятки тысяч метров раскрашенного холста уходили на драпировку дворцовых ансамблей и старых памятников, презираемых гегемоном. Культурная революция в такой условной форме довершала свою разрушительную работу. 7 ноября 1918 года художник Альтман задрапировал холстом Александрийскую колонну на Дворцовой площади в Петрограде, выточенную Монфераном из цельной гранитной глыбы. Той, что доставил из Финляндии Василий Абрамович Яковлев, дед Станиславского с материнской стороны. 7 ноября 1918 года она стояла перед Зимним дворцом, покинутым прежними хозяевами, обернутая рогожей — излюбленным материалом нищего простонародья.
Так символично «новая жизнь» перелицовывала «старую».
Конечно, Станиславский действовал интуитивно в предлагаемых обстоятельствах времени. Он не мог воспринять в полной мере новации своего художника. Он согласился на холст — по бедности театра — и был глух к иным смыслам фактуры.
Из того же ломкого крашеного декорационного холста шились длинные одежды. Они ложились несминаемыми складками, будто вылепленными на человеческом теле. Леонидов был недоволен тем, что люди сливаются с фоном. Левый художник и старые мастера театра не всегда находили общий язык.
Второму замыслу спектакля досталось многое из первоначального, отвергнутого. Его сопровождала православно-византийская церковная музыка хоров Чеснокова. На иконостасе — на живописном своде всех действующих лиц «Каина» — Андреев рисовал Аду мадонной с младенцем, ничуть не смущаясь смешением образов Ветхого и Нового заветов. Выстраивая внутреннюю, душевную партитуру роли и не обращая внимания на внешнюю, доверенную художнику, Станиславский не замечал никаких стилистических несоответствий.
Для второго акта — полета Каина и Люцифера в мировом пространстве — Андреев использовал вертикальные, этажные планы сцены.
298 Здесь был свой верх и низ.
Пол сцены был снят. Для картин ада — подземелья, первохристианских катакомб — Андреев, опережая новации конструктивистов, работавших у Мейерхольда и Таирова, искал ломаный фон, устанавливая разновысокие могильные плиты и гробницы.
Человек и Дух вели свой диалог на высоком помосте над сценой. Их фигуры, утопленные в бархат и холсты, спускавшиеся сверху донизу, висели в корсетах на лямках, создавая образ путешественников, летящих по мирозданию.
Угасшие светила, планеты, звезды, проносившиеся в черном мраке мимо них в виде стекол («хрусталики»), клеили на ткани, развешанные на разных планах глубины.
Среди звезд была и «земля, синеющая в эфире».
«Круг уменьшается, светит ярким светом и теряется среди звезд», — помечено в монтировочном плане.
Земной шар, излюбленная метафора мейерхольдовских художников, в спектакле Станиславского имел лишь фабульный смысл.
Для облаков пробовали мятый тюль, нашитый на бархат, и простую белую материю. Ткани освещали гирляндами электрических лампочек, мигавших разными цветами, и раздували вентиляторами.
В первом варианте вместо лампочек предполагались церковные лампады.
Фантазия Станиславского, «пламеневшая», как в годы его молодости, превращала сцену в густонаселенную обитаемую вселенную, открывавшуюся пытливому взору Каина.
Андреев, подчиняясь режиссеру, рисовал, вырезал из фанеры силуэтные контуры и лепил левиафанов, гелиозавров и гигантских змеев со струящимися гривами и головой, «что больше в десять раз высоких кедров», и других чудовищ. Станиславский вспомнил и «ужасы» из «Синей птицы»: исполинские призраки на ходулях и летающие тени. Собственно, они для «Каина» в 1907-м и предназначались. Станиславский просто возвращался к своему неосуществленному режиссерскому плану, ничего не меняя в нем в этой сцене. Андреев лепил предадамитов, населявших мир до того, как появилась земля и человек на ней — Адам и Ева. В виде куклы был сделан Енох, первенец Каина и Ады. Мастерские театра без счета изготавливали огромные головы с плечами и руки людей, попавших в рай, и прообразы тех, кто еще будет. Головы насаживали на палки, и это подобие живого драпировалось в холст, обретая туловище.
Каин рядом с ними должен был осознать свое ничтожество, чтобы потом обвинить Бога в несовершенстве его творения.
«Черные люди» — сотрудники театра, одетые в черный бархат, заменившие первоначально намеченных церковнослужителей и монахов, — 299 таскали эти чучела на высоких черных палках, то поднимая, то опуская их, сообразно с полетом Каина. Чучела отбрасывали гигантские тени на гигантские скалы или на два ряда тюлевых занавесов, населяя пространство призраками и привидениями.
Светлые тени получались с помощью зеркальных отражений.
Все это зрелище прошлых дней, настоящего и грядущего либо ярко светилось, либо тускнело сквозь тюль и скрывалось за клубящимся на переднем плане паром («бертолетова соль с сахаром»). Это Каин с Люцифером исчезали в облаках.
В первоначальном плане то был кадильный дым.
Режиссерская фантазия Станиславского, поражавшая не одного Немировича-Данченко, «пламенела» в постановке «Каина», этой трагической неудачи Художественного театра, быть может, в последний раз. Тут, похоже, был его звездный час и начало заката, за ним последовавшего. Кажется, ничего равного «Каину», каким он задумывался, Станиславский не поставил.
Это было донкихотство — взяться за такой постановочный спектакль в тяжелейших условиях разрухи.
Не хватало черного бархата, имитировавшего бесконечность вселенной. Его заменяли крашеным черным холстом, плохо поглощавшим свет.
В спектакле, который строился на игре света и тьмы, мрака мироздания, не зажигались и не горели лампы.
Моторы примитивной сценической техники не заводились и глохли.
Машины останавливались — в городе отключали и без того нормированную электроэнергию. Так случилось на генеральной репетиции. Театр вынужден был задержать начало, и Станиславскому пришлось выйти к зрителю с незаготовленным вступительным словом. Он сказал что-то о трудности задачи, которую взял на себя Художественный театр, пытаясь облечь в театральную форму философскую поэму Байрона.
Он сознавал, что иллюзорно-изобразительная сценография второго акта, трансформируя идеальное в реальное, может убить идею, ради которой он взялся ставить «Каина». Но он надеялся на актеров, несмотря на скромные пределы их возможностей. Актеры должны были одухотворить зрелище.
Главным в спектакле, как и прежде, оставался для него человек и движение его души в процессе развития драматического действия. Будь то Бог — Иегова. Или духи — Ангел Господен и Люцифер. Или тени умерших. Или первые люди на земле.
Исходя из зерна, из живого, конкретного человеческого начала, Станиславский строил схему чувств, по которой актер должен был двигаться по линии роли. Над голосом и пластикой он обычно не работал 300 отдельно, потому что чувство, если оно было верно найдено актером, должно было самопроизвольно рождать и слово, и пластику, — считал он. Внешнее в его спектаклях — жест, осанка, походка персонажа — естественно, не деформируя человеческой органики, вытекало из внутреннего, определялось им. В первичности чувства, верно найденной сути образа был один из основополагающих принципов искусства Художественного театра и творческого метода Станиславского, каким он сложился к моменту работы над «Каином», хотя еще не был сформулирован.
«Надо понять душу, чтобы создать тело», переживание — первично, воплощение его на сцене — второй вопрос, — повторял Станиславский, подключая Андреева к поискам «тела» спектакля и обязывая художника проходить все этапы актерско-режиссерских поисков образа.
Андреев безоговорочно принял методологию сотрудничества со Станиславским, пережив вместе с режиссером и актерами весь цикл репетиционных бесед. Их было 160. Художник сидел рядом с ним за режиссерским столиком и послушно иллюстрировал реплики и видения Станиславского в карандашных набросках прямо в его режиссерских тетрадях.
Исходя из найденного режиссером зерна образа, Андреев фиксировал сам образ в рисунках гримов, жестов, осанок и других лейтпластических характеристик данного конкретного персонажа. Эскизы отдельных фигур и групп он писал в мастерской по карандашным наброскам на репетициях, сохраняя подписи к ним. Потом сводил их в иконостас, реализуя первый замысел Станиславского, потом — для второго варианта — в живописные картины или горельефы. Так подробно сегодня работает с образом художник мультфильма. Актеру остается только озвучание.
Весь огромный изоматериал Андреев предоставлял Станиславскому. Станиславский просматривал его и отбирал варианты, наиболее подходившие его замыслу, бесконечно менявшемуся в процессе репетиций.
Фигуры, задрапированные в холсты, выглядели у Андреева статуями и скульптурными группами. Фигуры и группы на эскизах и живописных панно Андреева наполнялись торжественным пафосом, будто скульптор, участвовавший в мероприятиях ленинского плана монументальной пропаганды, устраивал на сцене выставку живых памятников героям и жертвам революции. Его многофигурные композиции читались в спектакле пластическими и смысловыми доминантами. Николай Ефимович Эфрос, рецензировавший «Каина», назвал Андреева мизансценером.
Станиславский принял весь образный ряд художника, выполнившего его заказ. И оказалось, что, закрепив в панно скульптурный принцип 301 решения спектакля и проделав всю «душевную» работу над образом за актеров, художник уже создал «тело» их ролей. Психофизическая конкретика, столь детально проговоренная на репетициях, целиком укладывалась в зрительный ряд. Актеру оставалось оживить скульптуру, то есть пройти обратный путь — от внешнего к внутреннему наполнению роли.
Здесь и сделал Станиславский свои фундаментальные методологические открытия. Они переворачивали теорию и практику драматической сцены. Станиславский нащупывал наконец новый путь — преодоления камерности, — по которому мог пойти Художественный театр.
Но не пошел.
Открытия эти не принесли сиюминутного успеха, столь необходимого «революционному» спектаклю. Больше того, они убили «революционность» «Каина» и новой, советской жизнью были похоронены.
К открытиям своим Станиславский шел давно, с «Драмы жизни» Гамсуна — спектакля 1907 года. В нем Станиславский опробовал ход от внешнего к внутреннему, от пластики к чувству — в работе с актером над ролью. То был первый шаг театра в сторону «левого фронта», как оценивал он опыт «Драмы жизни» в «Моей жизни в искусстве», путая времена. Думая о пластике «Каина», Станиславский вспоминал, как, направив все свое внимание на иррациональную, символическую сторону пьесы Гамсуна, он поддался влиянию Мейерхольда, его экспериментам с художниками, композиторами и актерами в студии на Поварской, пытаясь вдохнуть живую жизнь в пластические картинки, нарисованные Ульяновым и Егоровым, художниками «Драмы жизни».
То был отрицательный опыт.
Станиславский вспоминал, как «коченел» он сам и его партнеры в «Драме жизни», застывая в прорисованных позах и лишая актера живой жизни человеческого духа.
В «Каине» ему предстояло оживить не картинку, а скульптурную фигуру или композицию, почти памятник, «вылепленный» Андреевым на эскизах, или грим-маску, предложенную художником персонажу вместо живого человеческого лица. Предстояло найти, как актеру жить и двигаться в пластическом рисунке Андреева, не насилуя свою органическую природу, но и не разрушая и не искажая внешнего, рисованного образа бытовыми телодвижениями и мимикой.
Отвергнув в «Каине», поставленном по скульптурному принципу, неподвижный театр «Драмы жизни», Станиславский предложил новую идею и технику сценического движения и поиски пластики «Каина» перенес в лабораторию.
«Пушкинская работа» с труппой, о которой Станиславский давно мечтал, пришлась на двадцать второй сезон Художественного. Теоретический 302 и практический курс по пластическому искусству актера Станиславский провел с молодыми не на чужой почве и не «под чужим небом», как задумывалось в начале 1919-го на «творческих понедельниках», а дома, в Камергерском. Стоило только вообразить земное и надземное пространство обителью некоего божественного принципа, божественного абсолюта. Режиссерской фантазии Станиславского и на это хватило.
Теоретической основой экспериментального исследования, предпринятое Станиславским в связи с постановкой «Каина», стало древнеиндийское религиозно-философское учение йогов. Практической основой — хатка-йога, занимавшаяся телом человека как явлением физическим.
Йоги разделяли в человеке дух и тело, как и «система» Станиславского, сложившая к началу 1920-х. Йоги полагали душу человека частицей вечного бессмертного начала, божьей искрой — «я есмь», а тело — преходящей внешней оболочкой, в которую заключена искра высшего, божественного принципа. Станиславский, признавая первичным сознание, а природу бытие, материю — вторичным, разделял искусство актера на внутреннее психологическое переживание (психотехнику), и на внешнее — физическое воплощение.
Впоследствии, в 1930-х, он от этот разделения отказался.
«Йоги не забывают, что тело — инструмент, посредством которого проявляется и действует дух. Они знают, что — тело храм духа», — подчеркивал Станиславский заинтересовавшие его строки «Хатки-Йога», изданной в русском переводе в 1909 году. Экземпляр этого издания с пометами Станиславского хранится в его режиссерской библиотеке в Музее Художественного театра.
Йоги знали как отделить и освободить дух, индивидуальное сознание «я есмь» из-под влияния телесного, физического аппарата для слияния его с Божеством, с Абсолютом. Хатка-йога предлагала человеку комплекс физических и дыхательных упражнений для овладения телом, ибо духовные процессы протекают «не физически», — учила она. Хатка-йога ведала подготовкой телесного аппарата к духовному акту, к общению «я есмь» с Абсолютом.
«Оказывается, тысячу лет тому назад они искали то же самое, что мы ищем, только мы уходим и творчество, а они в свой потусторонний мир», — говорил Станиславский слушателям его первой лекции цикла, прочитанной на «творческом понедельнике» 13 октября 1919 года (I. 2. № 833 : 79 об.).
Йог так владел своим телесным аппаратом, так умел развить его, рядом упражнений, что мог «отрешиться от земли», то есть убить свое физическое тело, превратить его в астральное. Того же в идеале должен был добиться и актер, чтобы привести себя в творческое состояние.
303 Механизм освобождения тела Станиславский также заимствовал из хатки-йоги.
Это был механизм управления праной — жизненной энергией, присущей, по учению йогов, каждому живому организму и всей органической природе. Отсутствие праны — это отсутствие жизни, «прана разлита во всем живущем, везде и всюду», прана — это форма энергии, необходимая частица Божества в «я есмь», — разъяснял Станиславский. И переводил основные тезы йоги в принципы актерского искусства. Движение праны повинуется мозгу, мыслительному аппарату, тело подчинено разуму, мозг с помощью нервов, опутывающих тело, как провода, телеграфирует приказания всем частям тела и получает сообщения от них — так понимал Станиславский йогийский механизм управления мышцами. Вы хотите двинуть пальцами — вы посылаете телеграмму, жизненную прану в конец пальца, и он двигается, — пояснял он. Прана в его системе актерского творчества связывала желания, хотения — задачи, поставленные при анализе данного действенного куска роли, с двигательным аппаратом, осуществляя перевод внутреннего во внешнее, переживание в воплощение его.
Практические занятия Станиславского, перемежавшиеся с лекциями и сопровождавшие их, сводились к упражнениям по переливанию праны, к одновременно мозговой и физической работе. Отзывая прану, актер освобождал тело от лишних движений, не задействованных в данной позе или жесте. Посылая прану при выполнении задания, актер напрягал мышцы, нужные для поддержания тела в равновесии в данной позе. «Только тогда движения красивы и пластичны, когда напряжены только те мышцы, которые необходимы», — пояснял Станиславский.
За процессами переливания праны должен был следить, тоже в соответствии с учением йогов, воспитанный в себе инспектор, контролер. Мозг, управляемый инспектором, должен был снимать и ненужные напряжения, и зажимы, постоянно возникавшие при освобождении одних и напряжении других мышц. Мышечный зажим — это застрявшая по пути прана — так понимал теперь Станиславский свое мучительное актерское «коченение» в «Драме жизни». Регулируя, смягчая и искореняя зажимы, инспектор должен был довести эту работу с помощью систематических тренировок до автоматизма, до бессознательной заученности. На сцене актер не должен думать, сокращается ли «мускул на пятке» или нет. «Мышечного контролера необходимо внедрить в свою физическую природу, сделать его второй натурой», — писал Станиславский в 1930-х207.
На занятиях, прослушав лекции Станиславского, актеры начинали с простых упражнений — сидя, лежа, стоя, в одиночку, группами, пробуя наполнить праной самый рутинный театральный жест. Потом переходили 304 от неподвижности к ходьбе и к жесту в ходьбе. И пытались во всех случаях превратить походку, жест — в действенные.
Для превращения позы в действенную, то есть пережитую, необходимо было пройти три этапа. Сначала в очень медленном темпе, потом все убыстряя процесс.
На первом этапе мышцы полагалось напрячь. Это был этап напряжения, посылки праны.
На втором этапе прану из тех же мышц отзывали, то есть снимали с них напряжение, следя при этом, чтобы не возникали мышечные судороги, спазмы или телесные зажимы в других местах.
И наконец, за этапом освобождения мышц (но не расслабления, а именно освобождения, — настаивал Станиславский) следовал процесс оправдания позы, положения или жеста. Без оправдания, без выполнения живой действенной задачи поза мертва, — говорил Мастер, придавая именно этому процессу особое значение. Для оправдания позы надо было включить, кроме мыслительного аппарата, рассылавшего сигналы, еще и аффективную память, и воображение, представив себе очень определенные обстоятельства, при которых только и можно наблюдать эту позу или этот жест. Зафиксировав в сознании нужный образ, следовало посылать прану в названные мышцы плавно, без толчков, ведя ее от основания двигательных центров — спинного хребта, плеча или бедра — до шеи и головы, кистей и стоп, мускулов пятки и кончиков пальцев рук и йог. Только в этом случае движение, одухотворяющее образ, будет пластично, — говорил Станиславский.
От простого упражнения переходили к более сложному. Например, брали памятник Пушкину Опекушина или памятник Минину и Пожарскому Мартоса и пробовали насытить их праной, то есть сделать живыми. «Попробуйте принять эти позы и освободить их. Все эти памятники страшно напряжены. Возьмите их такими напряженными, какие они есть, и попробуйте физически освободить и психологически оправдать их, и вы придадите им смысл и дадите исход вашей пране. Как только вы оправдаете эти позы, они перестанут быть позой и станут действием», — такое задание предлагал Станиславский ученикам на третьей лекции цикла 24 октября 1919 года (I. 2. № 834 : 29 – 30).
По такой же схеме — физического освобождения и психологического оправдания поз и жестов, заданных Андреевым, и шла работа над воплощением внутреннего переживания актера в «Каине», работа над «законченным и выраженным действием». Большинство поз и «памятников» Андреева — коллективных скульптурных композиций: молитва, жертвоприношение, оплакивание и положение во гроб — требовало «прилепленной» к полу ступни и медленного, «верблюжьего» темпа. Станиславский проверял при этом в репетиционном зале «излучение и лучевосприятие» в диалогах и следил за внутренним ритмом при переливании 305 праны. Полагалось строго соблюдать ритмы вдохов и выдохов, соответствующих биению сердца. Это был внутренний темпоритм чувствований. В конце каждого действенного куска следовало акцентировать жест, во время которого прана выпускалась на объект общения персонажа или в зрительный зал, если объект находился там, среди «прихожан».
Важные свидетельства работы Станиславского над выразительной пластикой в «Каине» оставила Шереметьева. «Обратите внимание на жест — переливание праны, когда встаешь с колен»; «мелких жестов и движений не должно быть»; «походка величаво-спокойная»; «движения тела, жест должны усиливать чувство», — фиксировала актриса в личном дневнике замечания Станиславского. «Молодец, Анна Александровна, — сказал ей Станиславский 7 января 1920 года. — Но относительно праны неблагополучно», — записывала Шереметьева.
Видимо, «относительно праны» у всех было неблагополучно. Энергия, заключенная внутри позы, мизансцены, роли и всего спектакля, за рампу не переходила.
Критики премьеры писали, что ритм спектакля не соответствовал ритмам эпохи, что эпоха не может узнать себя и своего героя в Каине Леонидова и что «Каина» убил внутренний, психологический натурализм. Они сожалели, что у Леонидова, привычно «опиджачившего» своего героя, не вышло первого революционера духа и мысли, которого так все ждали от Художественного.
И заклинаний Евы, которые посылала Шереметьева Богу, никто не услышал. Может быть, и к лучшему. Восторженно внимавшая учителю и глубоко верующая, Шереметьева записала в дневнике, придя со спектакля: «Быть может, всю свою жизнь я жила только для этой минуты, чтобы в это ужасное время, когда везде расстрелы и братоубийственная война, я со сцены мирового театра крикнула им: “Каины, остановитесь! Боже! Дай мне силы”»208.
Но Бог — Абсолют — силы не давал.
От проклятий Евы — Шереметьевой «не содрогнется мир в веках и поколениях», — писала критика.
Новая методика, опробованная в «Каине», не подключала актеров к высшим силам, как задумывал Станиславский. Напротив, упражнения, которые проделывали исполнители ролей в спектакле, «посылая» и «отзывая» прану — духовную энергию — из мышц, предварительно их освободив, актеров обезволивали.
Даже верные друзья Художественного театра, оправдывавшие его за смелость обращения к такой несценичной вещи, как поэма для чтения Байрона, испытывали «опечаленное смущение», глядя на «величественные движения», выполняемые в замедленном темпе, якобы соответствовавшие важности мировой мистерии.
306 Более других оценил подвиг Станиславского в «Каине» как попытку уйти от «сверчков», «гибели надежд», «зеленых колец», «узоров из роз», которыми увлекались экспериментировавшие в революционную эпоху студии Художественного театра, Мейерхольд, профессионал, нашедший свое место в революционном искусстве. «Резкий порыв к освобождению от всей этой слащавой идиллии — в “Каине”», — писал Мейерхольд в статье 1921 года «Одиночество Станиславского»209.
Но и он считал: «Каин» — трагическая неудача «великого Мастера».
Посвященный в тайны сценического творчества актера и режиссера, Мейерхольд почти высмеял «банную расслабленность» и Авеля, покорного воле богов, смирившегося со своей участью жертвы, и богоборца Каина с его интеллигентской рефлексией, и духа революции Люцифера, и сам новый метод Станиславского, «выношенный в гинекеях Московского Художественного театра, рожденный в муках психологического натурализма, в кликушестве душевных напряжений, при банной расслабленности мышц […] Пресловутый “круг”, душевная замкнутость, культ скрытого божественного начала — своего рода факирство так и сквозит за этими вытаращенными глазами, медлительностью и священством своей персоны»210.
Через восемь представлений Станиславский снял спектакль, признав свое поражение. Но он не унывал. Он умел двигаться дальше, отбрасывая отрицательное в опыте. «Польза от него была», — считал Станиславский. Он готов был продолжить эксперимент в области новой актерской технологии. Призванный перевести театр на советские рельсы, «Каин» определил долгосрочную перспективу в творческом самостоянии Станиславского, без насилия над его природой, над его органикой. И это, быть может, главный итог «каиновых» мук режиссера. «Каин» утвердил Станиславского в профессии режиссера-педагога, овладевшего законами творчества роли в процессе создания спектакля. Хотя движение по этой колее — уже с опытом «Каина», прерванным новой театральной властью, — Станиславский начал позже, через десять лет, когда исчерпал свои резервы действующих актера и режиссера. Лабораторные эксперименты конца 1919 года и начала 1920-го он использовал при подготовке к печати главы «Освобождение мышц» в книге «Работа актера над собой в творческом процессе переживания», Они стали частью «системного» подхода актера к творчеству на сцене.
* * *
Мучительный, но и звездный 22 сезон Художественного театра, отданный творческим и не творческим перипетиям выпуска первой послереволюционной премьеры театра, решил и ближайшие годы Станиславского — 307 бывшего потомственного почетного гражданина Москвы, поставив его перед выбором: быть или не быть ему и его семье — жене и детям. Вопрос стоял именно так — жить дальше, жить физически или не жить, — не оставляя выбора.
Самый тяжелый удар, высказав в печати политические претензии, нанес метру в начале 1920-х тот же Мейерхольд, назначенный заведующим ТЕО Наркомпроса, политцентра российского театра. Он объявил о двух опасностях, идущих из Художественного театра. Методом «факирства» воспитываются в Художественном «аполит-актеры» и, что особенно опасно, «аполит-трудящиеся массы», — писал Мейерхольд: «Опасность этого метода тем более велика, что его незатейливое антитеатральное мещанство заражает рабочие, крестьянские и красноармейские объединения. И вот на эту-то опасность мы им и указываем»211.
Мейерхольд недвусмысленно намекал на «политическую контрреволюцию» в Художественном театре, осуществившем постановки «Каина» в метрополии и оперетты «Дочь Анго» в Музыкальной студии. Станиславский и Немирович-Данченко работают для «остатков буржуазии, не сумевшей сесть на корабли в направлении к Константинополю», — писал Мейерхольд в статье «Горестные заметки. Недоумение отпадает, или Дом Чехова и оперетта» в журнале «Вестник театра»212.
Эти угрозы нового московского театрального комиссара, поддержанные апологетами культурной программы «Театрального Октября» из левого фланга теакритики, заставили Станиславского свернуть творческую лабораторию и возвратиться к отложенной на время идее отъезда из страны.
Неудача с «Каином» укрепила ее.
А последовавшие за «Каином» удары — один за другим и похлеще мейерхольдовских — ускорили отъезд Станиславского из Советской России.
Премьера «Каина» прошла в Художественном 4 апреля 1920 года, а в апреле-мае 1920-го арестовали Софью Александровну Стахович, сестру покойного Алексея Александровича. Ее арестовали за какие-то нелепые денежные операции, связанные с ценностями, которые принадлежали графине Софье Владимировне Паниной и детям Стаховича, племянникам Софьи Александровны. Панина входила в число вкладчиков МХТ. До революции она предоставляла театру солидную денежную сумму и не пользовалась дивидендами. Ее и другого вкладчика МХТ графа А. А. Орлова-Давыдова привел в театр А. А. Стахович.
Софья Александровна доверилась после смерти брата какому-то проходимцу, его арестовали, а вслед за ним в «чрезвычайку», как говорил Станиславский о тюрьмах ВЧК, посадили с ворами и спекулянтами и Софью Александровну.
Узнав об этом, Станиславский кинулся к Горькому.
308 Горький в 1918-м выступал в защиту Софьи Владимировны Паниной, когда ту арестовали за саботаж: она отказалась передать советской администрации крупную сумму денег. Горький возмутился арестом Паниной: «Вся жизнь этого просвещенного человека была посвящена культурной деятельности среди рабочих. И вот она сидит в тюрьме», — писал он в «Новой жизни» о произволе большевиков213.
Софью Владимировну из тюрьмы выпустили. После освобождения она приходила в театр. «Была у нас Панина, бодрая, легкая какая-то, рассказывала про Петроград, про свое сидение в Крестах», — писала 1 февраля 1919 года Ольга Леонардовна Марии Павловне еще из Москвы (II. 1. К. 77. Ед. хр. 39 : 8 об.). В декабре 1919-го Ольга Леонардовна обедала у «милой» Паниной в Ростове.
Станиславский рассчитывал на помощь Горького.
Занимавший после Октября 1917-го серединную позицию между большевиками и интеллигенцией, он помогал попавшим в беду, пользуясь своими связями с Совдепией.
Горький знал и Стаховича, и Софью Александровну, хотя и не симпатизировал им.
Обращаясь к Горькому, Станиславский писал, что в порядочности Софьи Александровны сомневаться не приходится и что она жертва своей непрактичности, деловой неопытности и неумения жить в новых условиях:
Наказание превышает преступление, так как при ее избалованности, привычках и пр., — тюрьма и сожительство с ворами слишком жестокое возмездие.
Моя просьба заключается в том, чтоб постараться смягчить ее участь и похлопотать о скорейшем разборе дела и о том, чтобы отпустили ее на поруки. При этом, говорят, необходимо поручительство коммунистов, но у нас их нет среди людей, знающих Софью Александровну214.
Письмо Станиславского к Горькому датировано 18 июня 1920 года. Горький его получил. Оно сохранилось в его архиве. Но о том, кто и как вызволил Софью Александровну из тюрьмы, неизвестно. Ее следственное дело в московских архивах репрессивно-карательных органов разыскать не удалось.
А 9 июля 1920 года в соответствии с решением Президиума ВЧК был расстрелян кузен Станиславского Вася Бостанжогло, Василий Николаевич, друг детства и член семьи Алексеевых: крестник Елизаветы Васильевны и один из мужей Любы, Любови Сергеевны. Все произошло так молниеносно — без суда и следствия, что Станиславскому не пришлось искать коммунистов среди знавших его кузена.
309 До революции Василию Николаевичу, как и его брату Михаилу Николаевичу, директору-распорядителю товарищества «М. И. Бостанжогло и сыновья», принадлежало до 40 % паев. В «Сведениях о купеческом роде Алексеевых» записано, что он был очаровательный, душевный, умный и талантливый человек, всегда веселый, остроумный, располагающе-уютный и беззаботный. Окончивший Московский университет по юридическому отделению, ученый-естественник, всю жизнь изучавший бабочек и открывший бабочку, названную его именем, он после национализации фабрики работал делопроизводителем в Шаляпинской студии.
Его расстреляли «за спекуляцию николаевскими рублями».
Едва Станиславский оправился от самоубийства Стаховича, ареста Софьи Александровны и расстрела Василия Николаевича Бостанжогло, как беда пришла в его собственный дом. В начале 1921 года он получил известие из Крыма о том, что в декабре 1920-го арестован его родной харьковский брат Юра, Георгий Сергеевич.
Получив тревожное известие, Станиславский немедленно кинулся за помощью в Совнарком. Управделами Совнаркома Н. П. Горбунов, мгновенно реагируя на заявление Станиславского, направил запрос на имя заместителя председателя ВЧК товарища И. К. Ксенофонтова о факте и причинах ареста Г. С. Алексеева, обязав его принять соответствующие меры по заявлению Станиславского и о результатах доложить.
Станиславский просил выпустить заключенного из тюрьмы. И в случае, если брат захочет жить в Москве, просил выдать ему разрешение на выезд из Крыма. С документами на въезд в столицу из эмигрантского Крыма было очень строго.
Зарегистрировав бумагу в общем отделе ОГПУ, товарищ Ксенофонтов наложил резолюцию; «Запросить КрымЧК о причинах ареста».
Ни в феврале, ни в марте Станиславский ответа не получил и 1 апреля 1921 года написал в Совнарком вторично. Это письмо, скопированное личным секретарем Горбунова, было по его распоряжению препровождено в ВЧК товарищу Г. Г. Ягоде.
Во втором обращении в Совнарком Станиславский уточнял, что его брат Георгий Сергеевич Алексеев проживал в Крыму, в Иовом Мисхоре, в имении князей Долгоруковых; что в конце 1920 года, перед Рождеством, он был арестован в Новом Мисхоре или в Кореизе и с тех пор пропал без вести. Он просил выяснить через правительственные учреждения, жив ли брат, где он находится, и ходатайствовал о выдаче жене брата Александре Густавовне Алексеевой и их дочери Валентине Георгиевне Алексеевой (по мужу Конюховой), артистке Первой студии Московского Художественного академического театра, соответствующих бумаг и разрешения на въезд в Москву.
310 Только в мае 1921-го в московское отделение ВЧК пришла телеграмма из КрымОбороны. В ней сообщалось о том, что Алексеев был вызван 17 декабря 1920 года особой тройкой и домой не возвратился. В той же телеграмме без знаков препинания подряд перечислялось множество фамилий расстрелянных КрымЧК за контрреволюцию (к/р), за бандитизм и взятых под арест с лишением прав. Г. С. Алексеев был расстрелян.
Эта телеграмма уже не нужна была Станиславскому. Оперативнее, чем ВЧК, оказался Луначарский. Откликаясь на просьбу Станиславского о его харьковском брате, нарком дал телеграмму в Симферопольский ревком и полученный из Симферополя ответ прислал 15 апреля 1921 года Станиславскому, приложив к нему копию своего письма М. И. Калинину. Сообщить Станиславскому лично о зверствах в Крыму нарком не решился. Луначарский сообщал Калинину, что брат Станиславского в Крыму расстрелян и что расстреляны, кажется, один или два его сына, то есть племянники Станиславского.
«Кажется…»
Ольга Леонардовна, завершавшая в конце 1920-го крымскую одиссею, знала, что в Крыму были расстреляны трое сыновей Георгия Сергеевича.
«Одним бароном меньше, одним больше, не все ли равно» — так поворачивала революция парадоксы чеховского Чебутыкина.
Сам Станиславский утверждает, — писал Луначарский Калинину, — что их расстреляли зря, и много, что я слышал о крымской практике первых недель […] допускает и такую возможность.
Удар для старого гениального артиста, подлинной гордости России, конечно, большой.
Из всей семьи остались в живых одни только женщины […] Они находятся в Крыму в ужасающем положении (I. 2. № 11908/2).
Видимо, с помощью Луначарского жена и дочь расстрелянного брата Станиславского выехали из Советской России за границу, чтобы больше никогда домой не возвращаться.
В те же весенние месяцы 1921 года, когда пришло страшное известие о Георгии Сергеевиче Алексееве, металась и чеховская пра-Шарлотта Ивановна — Лили Эвелин Мод Глассби, в замужестве Елена Романовна Смирнова. К тому времени ей исполнилось сорок пять лет.
И ее настигла беда.
Женское счастье Лили, супруги овдовевшего Сергея Николаевича Смирнова, было недолгим. В 1920-м Сергей Николаевич, потерявший все принадлежавшие ему паи на фамильной фабрике его первой жены Елены Николаевны, урожденной Бостанжогло, умер от воспаления легких. 311 Обрусевшая англичанка — Лили уже 25 лет жила в России — осталась совсем одна и в полной нищете в квартире № 2 дома № 35 по Старой Басманной. Бывший дом Бостанжогло, принадлежавший Михаилу Ивановичу, основателю табачной фабрики, его детям и внукам, по распоряжению районной комендатуры перегородили на коммуналки, и Лили, уплотненная жильцами, жила в двух смежных комнатушках, где прежде размещалась прислуга.
Одна посреди людского горя, Лили посвятила себя служению Богу. И несчастным — из городских низов: бездомным, нищим, пьяницам, ворам… Член религиозной организации евангелических христиан «Армия спасения», она верила в ее доктрины. В 1918 году, в разгар гражданской войны и разрухи, международная организация «Армия спасения» была официально зарегистрирована в культпросветотделе Наркомпроса. Ее религиозная пропаганда среди масс была разрешена советским правом. И два с половиной года офицеры и солдаты из отряда «Армии спасения», и Лили в числе 30 – 40 ее солдат, беспрепятственно работали в центре Москвы, осуществляя свою христианскую миссию. А три раза в неделю армейцы занимались изучением Библии, слушали лекции и проповеди и пели на своих собраниях, как положено, евангелические гимны с каноническими текстами в руках, славя Иисуса Христа.
Собрания проходили в молельной комнате в квартире № 1 дома № 9 на Покровке, где размещался штаб Армии, его главная квартира. А в остальные дни солдаты шли на улицы, на вокзалы, в многодетные семьи убитых на войне, арестованных и расстрелянных ВЧК, оставшиеся без кормильца. Лили мыла, кормила, одевала и лечила всех, как могла, раздавая еду, вещи и медикаменты, получаемые штабом Армии от Красного Креста и других международных благотворительных организаций, и врачевала страждущих Божьим словом. В 1920-м на солдат «Армии спасения» стала опираться — в соответствии с постановлением правительства — еще и комиссия ВЦИК Помгола — помощи голодающим. Так что работы прибавилось.
И вдруг в начале марта 1921 года по ордеру ООВЧК — особого отдела ВЧК, что на Лубянке, боровшегося с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем — преступлениями должностными, в помещении «Армии спасения» чекисты произвели обыск, 5 человек — армейскую верхушку — арестовали, молельный зал опечатали, а в жилые комнаты солдат, русских не москвичей и иностранцев, уже через три дня после погрома вселились по ордерам жилземотдела посторонние коечные жильцы. В доме устраивалось совдеповское общежитие.
«Армию спасения» заподозрили в деятельности, направленной на подрыв Советской власти.
При обыске у руководительницы московского отряда Н. И. Константиновой конфисковали письма родителям в Гельсингфорс и полковнику 312 «Армии спасения» К. Ларсену в Стокгольм, где Надежда Ивановна писала: «Мы живем словно в глубокой и темной юдоли»215. Следователь, юрисконсульт ВЧК, усмотрел в этих строках «письменные сношения с заграницей политического характера».
Вожди «Армии спасения» понимали: в стране начались религиозные гонения. Заместитель наркома юстиции товарищ П. А. Красиков в своей статье 1921 года «Революция и церковь», помещенной в стенной газете наркомата, вывешенной в коридоре армейского общежития, давал ВЧК идеологическую установку: «Чем больше избавления от зол капиталистического строя крестьяне и рабочие буду искать в пустых небесах, тем удобнее и спокойнее можно дурачить и обирать их в действительной жизни».
Четверых арестованных через месяц выпустили, и постановлением конфликтной комиссии Горсовдепа отряд получил вместо прежних, уже занятых комнат, другие в той же квартире.
Но вслед за этим пришло новое распоряжение из отдела Управления Московского Совдепа, полученное райотделением милиции, о выселении молитвенного собрания «Армии спасения» без предоставления другого помещения и без объявления причин.
Власти еще метались.
Константинову держали в Новинской женской тюрьме семь недель без допроса и предъявления обвинения, а потом передали дело в Ревтрибунал. Тогда-то весь московский отряд армейцев вступил в бой. Завалил все возможные советские инстанции протестами против необоснованных репрессий в отношении общественной организации, просьбами о незамедлительной защите деятельности отряда и об освобождении Константиновой. Активисты обратились в Совнарком, во ВЦИК, в Политический Красный Крест, в ВЧК. На заявлении отряда в Совнарком резолюция управделами: «Председателю ВЦИК тов. М. И. Калинину. Прошу принять и выслушать “спасителей”».
К управделами Совнаркома попало и личное письмо солдата «Армии спасения» Лили Глассби — Елены Романовны Смирновой — Луначарскому. Она обратилась к наркому просвещения, высокопоставленному лицу, безбожнику, как к брату во Христе, с тем же «ты», как к «брату Антону», и с той же обезоруживающей искренностью, с какой писала свои записочки Чехову летом 1902 года:
20. IV. 1921
Товарищ Луначарский
Я умалаю: пожалуйста отпусти на свобода Надежда Ивановна Константинова (она сидит в Новинская женская тюрьма камера 13). 313 Она почти два лета сидит, я знаю, что там отнощени хорошо и чисто там, и она бодра духом так как она живет с Богом, но это так ужасно быть отрезан от все и главна когда нет за что. Постав себя на ее места подума если у теби мать или сестра сидела как была бы теби тяжело. Я так ее люблю что если позволит я сама поду сидеть за ней, хотя на праздник отпусти если не ради Пасха, хоть ради всенощни праздника пожалуйста отпусти.
Прости, что я безпокою сама хотеласъ видит теби но незнаю куда идти. Хотя я Англичанка я очень люблю русски, ибо от них кроме любое и ласка я нечего ни получила всегда. Ищи раз прошу, отпусти пожалуйста хотя на праздник.
Елена Смирнова
урожден Глассби
Е. Р. С.
Ст. Басманная д. 35, кв. 2216.
На письмеце Лили, зарегистрированном в Наркомпросе, резолюция: «тел. поc.» — телефонограмма послана. В то время как на других прошениях в той же папке управделами, отправленных в Кремль, в собственные руки Луначарскому, иная резолюция: «без последствий».
Общими усилиями Надежду Ивановну Константинову из тюрьмы вызволили.
Но «Армия спасения» в России была ликвидирована. А те ее солдаты, что «жили с Богом», собирались теперь в басманной комнате Лили, поддерживая христианское общение, и тихонько пели хором, прославляя «Господа нашего Иисуса Христа» в евангельских гимнах ему, пока Лили в год расцвета в стране шпиономании и в год разрушения в Москве храма Христа Спасителя после изнурительных хлопот о визе не отбыла на родину, в Англию, где не была с середины 1890-х и где умерла на покое в начале 1950-х, так и оставшись миссис Смирновой.
Гнетущая атмосфера репрессий, расстрелы Василия Николаевича Бостанжогло и Георгия Сергеевича Алексеева и убийственная критика «Каина» сделали отъезд Станиславского неотвратимым. Похожим на бегство.
К сентябрю 1922 года вся труппа Художественного была в сборе. Накануне заграничного гастрольного турне театра большинство артистов качаловской группы вернулось в Москву. После долгих переговоров с советским правительством и серьезных усилий Немирович-Данченко сумел добиться для возвращенцев гарантий безопасности на самом-самом верху и оформления их выезда за границу с труппой театра, Ольга Леонардовна, Качалов и другие артисты качаловской группы, едва ступив на родную землю, снова отправились на два года играть «под чужим небом».
314 Отъезд Художественного театра в Европу и Америку был разрешен этими же высокими партийными инстанциями. А может быть, то был «корабль артистов», подобный «кораблю ученых», на котором «интеллект» России как раз в это время выдворялся из страны навсегда. Может быть, Советская Россия рассчитывала на то, что и «аполит-актеры» никогда не вернутся домой — воспитывать методом «факирства» «аполит-трудящиеся массы». Такой, каким Художественный уезжал, «новой» России он был не нужен.
Если то была высылка, то обставили ее в высшей степени корректно.
Ольге Леонардовне ехать не хотелось.
Ты не поверишь, как я была счастлива приехать в Россию! — писала она 21 августа 1922 года Марии Павловне. — И ничего не критиковала, ничего меня не шокировало — было только одно чувство: я люблю все это… Было приятно попасть в семью, не обедать по ресторанам и не ужинать на бумажках, было радостно видеть очаровательных наших девушек, было для меня умилительно пожить месяцы в настоящей русской природе — простой и прекрасной. И вот… Снова судьба отзывает меня от всего этого и в половине сентября опять едем: Берлин, Прага, Париж, Лондон и с января — Америка месяцев на пять!!
Меня только поддерживает мысль, что мои товарищи, измытарившиеся за эти три года, отдохнут и посвежеют. Мне лично как-то тяжело опять бродяжничать. Хочется работать, а не ездить и играть старое, хоть и милое душе (II. 1. К. 77. Ед. хр. 44 : 2 – 3).
И она снова пустилась в странствия.
Уезжали капитально, тяжеловесно, как говорила Ольга Леонардовна: с декорациями, с постановочной частью, с семьями и детьми, как в 1906-м, в «старой» жизни, 15 лет назад, когда первая русская революция вытолкнула театр из страны. Только Ольга Леонардовна из всех «стариков» уезжала одна, «бобылем», как «венгерец»: «Бабушка Средина меня всегда называла венгерцем — вот и правда — скитаюсь как венгерец бездомный». И Чехов называл ее венгерцем.
На этот раз законно — представлять советское искусство за рубежом — пересек границу и чеховский «Вишневый сад». А как было ехать без Раневской?
Специально для гастролей художник Н. П. Крымов подновил декорацию второго акта.
Тщательно выверялись еще в Москве составы «Вишневого сада», «Трех сестер», «Царя Федора Иоанновича», «Братьев Карамазовых», «На дне», других спектаклей, включенных в гастрольную афишу
Качалов в очередь со Станиславским получил Гаева.
Массалитинов делил Лопахина с Леонидовым.
315 Тарасову, выступившую в роли Ани в «Вишневом саде» качаловской группы, поставили в очередь с Кореневой.
Молоденькую Тарасову, барышню из породы чаек, которая не падет от выстрела первого охотника, как писали о ней в Европе, Станиславский в роли чеховской Ани не жаловал. Ему больше нравилась Коренева, Аня 1910-х. И Лилина, первая Аня Художественного театра, поддерживала мужа.
В Ане — Тарасовой Станиславскому недоставало дворянства, барственной породы.
В труппе считали, что предпочтение Станиславского ошибочно, что Тарасова отнюдь не плебейка и больше подходит к роли, чем неюная Коренева. Его убеждали, что Аня — не аристократка; что выросла она без гувернанток-француженок, а с немкой, да еще взятой из балагана; что она не училась в институте благородных девиц и поэтому мало разницы между Аней и полуключницей Варей, ее почти сестрой.
Но Станиславский в отношении к Тарасовой в роли Ани держался неколебимо.
Он категорически не хотел сдавать ни Аню, ни Раневскую с Гаевым всеобщему «погрубению» нравов. Процессам, прокатившимся и по России, и по Европе. «Страшные годы всемирного братоубийства погрузили всю Европу во мрак ожесточения», — писали пражские газеты.
Аня не аристократка, но дворянская дочь, и это самое важное в роли, — твердил Станиславский то, что и он, и Немирович-Данченко поняли еще осенью 1903 года, при распределении ролей, отказавшись назначить на роль Ани — Халютину, подходившую по возрасту и актерскому опыту. «Халютина — недостаточно дворянка», — писал Немирович-Данченко Чехову в Ялту, раскладывая «пасьянс» из артистов и ролей в «Вишневом саде» (V. 10 : 164). И в начале 1920-х Станиславский отстаивал в Ане, подружке полунищего студента, — капризно-своенравную и легкомысленно-беззаботную барышню-дворянку.
«Дворянство очень важно, так как это то старое поколение, которое, подобно саду, вырубается. Аня — это будущее России. Энергичная, стремящаяся вперед. Этого не было у Лилиной, и это ее недостаток», — говорил Станиславский в 1909-м, вводя в спектакль Кореневу217.
«Энергичная, стремящаяся вперед»…
И в 1920-х Станиславский верил, что будущее России определят энергичные выходцы именно из интеллигентных дворян, носителей культуры, к которым он сам всю жизнь тянулся, а вовсе не безродные пролетарии, терроризировавшие «бывших» за контрреволюцию и саботаж. Связь артистки, играющей Аню, с дореволюционной Россией, со «старой» жизнью, с дворянской культурой и безоглядно кидающейся в жизнь «новую» была для Станиславского в 1920-х так же принципиальна, как для покойного Чехова — молодость Ани. Станиславский готов 316 был жертвовать возрастом барышни ради более важного для него момента в звучании роли: «Дворянство […] — это будущее России», ее культурное будущее.
Актерские вводы — и плановые, и неожиданные — обновляли старый спектакль. Молодые художественники — и качаловцы (Тарасова), и москвичи (Добронравов и Пыжова) — вносили в старый спектакль, вывезенный за границу, новый, демократичный акцент. Они снимали с чеховских ролей оттенки излишней «мягкотелости», неуместные в «новой жизни».
Б. Г. Добронравов, служивший в театре с 1915 года, впервые в Америке сыграл Петю Трофимова, заменив Подгорного, второго после Качалова исполнителя роли Пети.
О. И. Пыжову, ярко заявившую себя в студийных спектаклях Вахтангова, Станиславский ввел на роль Вари. Он много репетировал с ней.
У Подгорного студент выходил дряблым и «дрянненьким». Корреспонденты берлинских газет, рецензировавшие открытие гастролей Художественного театра, были удивлены тем, что осенью 1922-го Петя, приехавший из «красной» Москвы, победившей «белых» в гражданской войне, не представлял революционного поколения, которое повернуло Россию на новый путь. Их удивило, что в московском Пете нет победителя, нет убежденного большевика. Петя Подгорного в лучшем случае «правый октябрист», бежавший от большевиков-победителей, — писал рецензент берлинской газеты «Накануне»218, осведомленный о том, как складывался в 1917-м в России нынешний политический режим.
Качалова, первого исполнителя роли Трофимова, Добронравов поразил. В интонациях Добронравова Качалов услышал то, что ему самому не удавалось в роли. Он не сомневался в честности, искренности чеховского студента ни в 1904-м, когда, споря со Станиславским, не играл Петю эсдеком-фразером. Ни в 1920-х, когда играл Гаева в спектакле с Петей Добронравовым. Но идейно-романтическая устремленность качаловских героев всегда размывалась их наивным идеализмом.
Качалова поразила кристально чистая вера молодого человека в исполнении молодого актера в будущую жизнь, устроенную социально справедливо к социально униженным. Честность Пети Добронравова, не замутненная интеллигентской рефлексией, абсолютна, «как абсолютный нуль», — записал В. В. Шверубович суждение отца (V. 9 : 176).
Качалов понимал и поддерживал Добронравова: невозможно в 1920-х играть Петю недотепой, каким играли его в «старой жизни». Время, когда «мечтания» Пети о будущем и «предчувствия» Чеховым «новой жизни» превратились в «пророчества», — ожесточило Петю, сделало его «мучительно-беспощадным» — даже в жалости к Раневской в третьем акте, — соглашался с Добронравовым Качалов.
И Пыжова по-своему играла Варю.
317 Репетируя с Пыжовой, нащупывая новую трактовку роли, больше соответствовавшую новому времени, Станиславский не поленился для убедительности ее подсчитать те тысячи рублей, тысячи — до инфляции, до керенок, которые получили Раневская и Гаев от ярославской бабушки и от продажи имения. Он еще не забыл старый счет и старые деньги: ведь он начинал казначеем — коммерческим директором МО РМО и консерватории, да и потом считал фабричные доходы, дивиденды с паев, принадлежавших Алексеевым, взносы пайщиков и вкладчиков Художественного и театральные расходы. Вышло, что деньги по старым временам были получены немалые, их хватило бы на всех, если бы Раневская и Гаев думали не только о себе.
Станиславский винил теперь Раневскую в барской небрежности, в равнодушии к ближнему.
Сцену сватовства, к примеру, которую устроила Раневская за пять минут до отъезда, он трактовал в Америке чуть иначе, чем раньше: именно этой поспешной попыткой уладить отношения Вари и Лопахина, богатого жениха, нового владельца усадьбы «Вишневый сад», она порушила счастье приемной дочери, не оставив Варе тыла, а недотепе-недокупцу Лопахину — времени на серьезное решение.
Критическая лотка в отношении к Раневской и Гаеву и сочувствие обездоленным, выброшенным на улицу, — это и была та новая интонация в старом спектакле, которую нашли в Америке. Судьба Раневской, умотавшей с деньгами в Париж, или Гаева, укрывшегося, пусть на время, в банке, уже не казалась Станиславскому такой драматичной — в сравнении с участью тех, кто совсем лишился крова.
Вводя в спектакль Пыжову, он пытался вступиться за социально униженную Варю.
Варя считала «мамочку» и «дядечку» родными.
Была бесконечно предана им.
А те, считавшие ее, казалось, членом семьи, только пользовались ее трудом, ее эксплуатировали, держали при себе, как даровую экономку, присматривавшую за хозяйством. Те, кого Варя любила, как родных, отправили ее в прислуги к чужим людям без денег, с одним узелком. И не отправили даже. Они ее бросили, забыли, как и Фирса. Варя, как и Фирс, забытый отъезжающими, — жертва легкомыслия и эгоизма Раневской, Гаева и Ани, — говорил Станиславский Пыжовой в беседах с ней о пьесе, о спектакле, о роли.
Пыжова, репетируя свои сцены с Ольгой Леонардовной, восхищалась ее изяществом, ее артистизмом. Но замечала, что Книппер-Чехова играла «мамочку» так, как видел ее Станиславский: если не критически, то ничуть не приукрашивая, Раневская у Ольги Леонардовны — обаятельная и как будто сердечная женщина — суховата и человечна «в меру», — записала Пыжова, осуждая «мамочку» (V. 22 : 162).
318 Но Ольга Леонардовна давно, с конца 1900-х, простилась с Раневской бессильно «слезоточивой».
Прозревшая американская Варя, обманувшаяся и обманутая, не должна была смиряться с участью «плаксы», уготованной ей Чеховым.
Она не должна была брать за образец вяло-покорную Варю в исполнении Лилиной — «плачущую душу». Станиславский добивался от Пыжовой повадок трезвой, активной практичности в поведении и грубовато-хозяйских ноток в голосе.
Но, кажется, усилия оказались напрасными.
Вся наработанная на репетициях простонародная характерность Вари ушла, когда Пыжова, выйдя на сцену, сменила мягкий лилинский платок, повязанный по-русски, по-бабьи узлом под подбородком, на белоснежный, накрахмаленный, похожий на тот, что надевали сестры милосердия в гражданскую войну. Он обрамил лицо отнюдь не простонародное.
Впрочем, такие тонкости проходили мимо американцев.
Время, поубавившее беспечности Раневской Ольги Леонардовны, иссушившее ее слезы, тронуло и качаловского Гаева: и в его фигуре поубавилось мягкости и «соболезнующих ноток». Это заметили в Берлине. Город помнил первый приезд артиста всего год назад, в составе «великолепного обломка» театра.
Качалову казалось, что подобные коррективы в звучании старых ролей делают спектакль современным, отвечающим духу и российских, и европейских 1920-х.
Но «современности» в спектакле Станиславского русскому зрителю в Европе и Америке как раз и не хватало, несмотря на попытки «демократизации» «Вишневого сада», на его новые акценты и интонацию.
Тем, кому не хватало в Пете Подгорного победителя, не хватало и в Лопахине Леонидова — «свиного рыла». Если Петя не большевик, то «первый большевик» — Лопахин, считали они. Но тогда Лопахин у Леонидова слишком деликатен. Такой большевик — белая ворона среди деятелей Совдепии, экспроприировавших собственность помещиков и старых домовладельцев и их изгнавших из страны, — говорили критики-эмигранты.
Фактор русской революции сказывался на зрительском восприятии и мышлении критиков много больше, чем на исполнителях, подвергших свои роли легкой корректировке. Или вовсе не тронувших их.
А если чеховский Петя у Подгорного, зовущий к «новой жизни», к приятию восходящих зорь над полями, засеянными красными маками Лопахиных, не большевик, то тогда и он, и Аня слишком «мажорны» у художественников, — считали те, кто бежал от «новой жизни».
Красные маки Лопахина воспринимались эмигрантами как красный цвет современной России. Театр, получивший статус государственного 319 и выехавший за границу с разрешения советской власти, сопрягался в их сознании с покинутой ими красной Москвой.
А художественники по-прежнему видели красным — лишь зонтик Раневской, с которым она выходила во втором действии на природу, под солнце — после душного ресторана в городе.
Бежавшие от революции и гражданской войны качаловцы представляли в Европе «старый» Художественный театр, неотрывный от прошлого «русских без России». А зрители и критика отождествляли себя в 1920 – 1922 гг. с Раневской, покинувшей Россию в четвертом акте и вернувшейся в первом акте домой из-за границы в свой «Вишневый сад». Гастроли качаловской группы были их первым свиданием с родиной после отъезда из нее.
В 1920 – 1922 гг. «свои» приезжали к «своим».
Теперь приехали «чужие».
И те же критики и зрители, не простившие большевикам своих последних в России «окаянных дней», ощущали дистанцию — пропасть между собой, изгнанниками, и сценическими персонажами в исполнении артистов, благополучных в красной Москве, их приславшей. Ее не было между критикой и актерами в том же «Вишневом саде» качаловской группы актеров-эмигрантов. Тогда русская Европа узнавала в чеховском спектакле художественников свой дом, свой потерянный рай, осознавая свое настоящее в приютившей их Европе, и сочувствовала Раневской Книппер-Чеховой и Гаеву Качалова — «своим».
Станиславский всеми силами сохранял в гастрольном спектакле верность покойному Чехову, несмотря на легкую ретушь в интонации.
Он дорожил своей памятью о прошлом, о детской — с няниным диваном на проходе, с Чеховым в Любимовке и на репетициях «Вишневого сада»: памятью о неразграбленных имениях и невырубленных садах.
Он дорожил чеховской поэзией «Вишневого сада». Как будто ничего с той давней поры не произошло.
За окнами светлой угловой комнаты по-прежнему распускались в первом весеннем цвету тонкие ветки и играли пятна утреннего света на пожелтевших обоях. И из открытого окна врывались в детскую утренний воздух и трели настоящих птиц.
Это было утро тех дней, когда еще не разразилась «катастрофа»: революция, гражданская война в России и мировая война в Европе, истребившие миллионы жизней, — писали критики о первой сцене «Вишневого сада», которой они при открытии занавеса в «старой жизни» рукоплескали.
Для беженцев, рожденных в России в «старой жизни», их русское прошлое, их утраченный чеховский быт, дом и детская — «свидетельские показания о нашем страшном времени», — писало парижское «Слово» 25 декабря 1923 года.
320 Они, в отличие от художественников, ощущали «под сценой легкое землетрясение» и «переустройство фона жизни» за окном.
Это был их собственный, внетеатральный опыт. Они не могли отрешиться от него.
Станиславский от него стремился уйти и уходил, сохраняя верность покойному Чехову.
Ему чрезвычайно важен был «мажор» спектакля в исполнении ролей Пети и Ани, который вытягивали, хоть и не дотягивая до желаемого звучания, Подгорный и Коренева. Станиславский вспоминал: и Чехов не хотел «похоронных настроений», и от левой критики дома ему здорово доставалось за «нытье», перевешивавшее «мажор».
«“Вся Россия — наш сад!” — в мажоре?» — недоумевали русские на Западе.
Театр потчевал эмигрантские залы, ничего не забывшие, пропагандистской ложью: «Вся Россия — наш сад!»
Их удивляла «глухота» Художественного театра.
Теперь, в Европе, ему доставалось за «мажор» в аранжировке чеховского «минора».
Русские голоса, задававшие тон в критике «Вишневого сада» и других спектаклей качаловской группы, думая о Чехове и о его Пете, восхищались в 1920-м – начале 1922-го «чутким ухом» писателя, уловившим двадцать лет назад сигналы большевистской напасти.
Теперь те же голоса не переставали удивляться узости чеховского горизонта и отсутствию у него общественного чутья: «Его молодежь в “Вишневом саде”, с идеалами мелкого культуртрегерства, не представляет собою будущее революционное поколение, которому дано будет повернуть Россию на новый путь. Они для теперешних зрителей давнопрошедшее», — писал критик берлинской газеты «Накануне»219.
«Новый вишневый сад Ани и Пети будет вырублен, как сад ее матери, и он погибнет, как гибнет всякая мечта под топором действительности», — писал М. Я. Р., критик берлинской газеты «Голос России»220, абсолютно убежденный в трагическом исходе этой истории, как и других, ей подобных. В ролях Ани и Пети в исполнении Кореневой и Подгорного ему не хватало этого чувства современности.
Виншевосадская драма, какой ее играл Художественный, казалась изгнанным из России «давнопрошедшим», «пережитым окончательно», «драмой чужих людей».
«Должно быть, родная Совдепия больше опустошила души творящих, чем скитания по чужим краям», — критик берлинского «Руля» Ю. Офросимов и его русские коллеги фиксировали в откликах на спектакль «расхождения» с художественниками, которых не было у них с качаловцами, игравшими тот же «Вишневый сад»221.
Их не было у «своих» со «своими».
321 Расхождения были идеологические — «белых» с «красными», победившими в гражданской войне, изгнанников — с полпредами советского искусства.
В нынешнем «Вишневом саде» художественников им не хватало трагедии «целого народа», современной трагедии.
Современной трагедией воспринимали русские эмигранты и историческую трагедию «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого, и классических «Братьев Карамазовых», также игранных на гастролях.
Кровь в Угличе сопрягалась в сознании переживших 1917 год и его последствия — с кровью в Екатеринбурге. Безвольный царь Федор — с Николаем Романовым, последним в монаршем роде.
В «Братьях Карамазовых» зрители были «придавлены» «русским бедламом».
Критики сожалели, что Чехов и Художественный театр в «Вишневом саде» слишком конкретны, что они не сделали обобщений; что Раневская и Гаев Ольги Леонардовны и Станиславского 1922 – 1924 гг. не желали знать, в отличие от сидевших в зале, что драма, которую они так лично, так трепетно переживают на сцене, принадлежит не только им. Им хотелось, чтобы Станиславский хотя бы перевел «Вишневый сад» из драмы русской жизни начала века — вырождения дворянства — в общечеловеческую трагедию, основанную на противоречиях действительности и мечты, неразрешимых в любом времени и пространстве, коли он так глух к современной трагедии.
В 1922 – 1924 гг. приехала труппа, представлявшая не бывший Художественный театр, а нынешний, государственный, обручившийся с советской властью. Одного того, что театр выехал с разрешения этой власти, было достаточно для тех, кто навсегда и не по своей воле покинул родину.
Все они, зрители «Вишневого сада», выходцы из дореволюционной России, думали о своей судьбе и судьбе покинутого отечества вместе с Чеховым и его персонажами — после них и дальше их.
«Чехов задумал свой “Вишневый сад” именно так, как выполнили его художники. И не их вина, что прошлое, которое они хотели оживить, мертво и зрительный зал не мог с этим прошлым слиться. Зритель — и сцена остались разъединенными. Лишь изредка, в отдельные минуты музыка настроения, созданного на сцене, звучала и в сердцах зрителей», — писал М. Я. Р.222
Драма жизни, просвечивавшая сквозь спектакль, была сильнее чеховской драмы, разыгранной московской труппой.
Больше, чем театральным Раневской и Гаеву, зрители гастрольного «Вишневого сада» сочувствовали реальным Раневским, Гаевым, Петям и Аням, своим родным и просто соотечественникам — «соотчичам», если словом Тургенева, — всем тем, кто, лишившись дома, остался в 322 большевистской России. Как-то они приспособились к новой жизни? Живы ли? «О, наивные милые призраки, — скорбел о судьбе русских в России из своей “неметчины”, как называл Чехов Германию, Ю. Офросимов, — в недрах каких захолустий скрываются они теперь и из каких новых презрительных уст срывается при встрече с ними жалостная кличка: “Эх, недотепы”»223.
Он ошибался, этот Офросимов.
Слишком давно он покинул Россию.
Родина не думала об этих людях как о несчастных и не жалела их.
Родина презрительно кликала их «бывшими» и истребляла.
Последний, 400-й «Вишневый сад» игрался в Кливленде 3 апреля 1924 года на закрытие второго зарубежного сезона МХТ.
Американцы, не понимавшие русского языка, на «Вишневом саде» плакали. Историю обыкновенных простых людей они понимали без слов.
А американцы профессионалы учились у Чехова и труппы Станиславского. Такой драматургии, так глубоко внедрявшейся в жизнь; такого искусства актера, умеющего залезть в человека и сделать его на сцене живым; такого ансамбля, воспроизводящего связи между людьми и их взаимодействие, Америка до приезда Художественного театра не знала.
Оглушительный успех выпал на долю театра в Париже, где собрался цвет русской эмиграции. Газета «Звено» опубликовала вдохновенные стихи Бальмонта. Поэт помнил «день, как Чайка полетела при вскликах восхитившейся Москвы». Он следил и за нынешним полетом Чайки, олицетворявшей Художественный театр, — простершей крылья, «за дальний Океан» — в «чужеземные столицы»:
Мне радостно, в моей минуте скучной
Я знаю, что жива моя земля,
Когда я слышу в сказке полнозвучной
Парижский звон Московского Кремля.
[…]
Как Солнце и в закате беззакатно
Мечту в огне — не посетит закат
Веленью душ, свежо и ароматно,
В дворцах души цветет Вишневый сад224.
Пространный гимн Станиславскому эмигрантского поэта М. О. Цетлина-Амари напечатали парижские «Последние новости». Цетлин-Амари воспел Станиславского — купца-фабриканта и художника, соединив их в поэтическом образе «золотой канители». Станиславскому, фабриканту бывшему, еще не приходилось читать свою биографию в стихотворной форме и без иронии Lolo — Мунштейна, к которой 323 он привык. Кстати, Мунштейн — тоже эмигрант. Забыв о пережитом, беззаботный, как Гаев, Цетлин-Амари нанизывал в день двадцатипятилетнего юбилея Художественного театра размеренные строфы приветственного тоста в честь Станиславского — одну за другой, как бывало на дружеских пирушках в благополучной «старой» Москве, подарившей России «золотого» мальчика:
Из московской именитой
Из купеческой семьи
Вышел мальчик даровитый,
Словно брызнуло Аи.
Из старинного сосуда
Что хранился в погребах,
Так заискрилось, что чудо,
Заиграло в хрусталях!
Но пока не заиграло,
Он в житейской прозе жил.
И на фабрике не мало
У отца он прослужил.
Да, он был и фабрикантом
Капители золотой,
Но не справился с талантом:
Для профессии «пустой»,
«Легкомысленной» актера
Бросил важные дела…
И судьба любимца скоро
К громкой славе привела.
Но мне кажется, что все же
Он остался тем, чем был.
Тот же он и дело — то же
Ничего он не забыл.
Добросовестно и ловко
Производит свой товар,
И дарят без остановки
Мысли блеск и сердца жар.
Да, не мог он измениться,
Вьется длинная кудель
И горит крылом Жар-птицы
Золотая канитель.
Перед ней в груди дыханье
Нам восторг перехватил
И слепит нас колыханье
Золотых прекрасных крыл.
324 Ничего
светлей и ярче
Не увидеть, не найти.
О, сияй, гори нам жарче,
Темный мир позолоти!
Чтоб глаза у всех блестели,
Чтоб сердца зажглись огнем
Золотой той канители
Что искусством мы зовем!225
В гостеприимном парижском салоне Цетлиных, принимавших художественников, собирался цвет дореволюционной русской литературы и политики: Бальмонт, Бунин, Алданов, Зайцев, Керенский, в 1917-м председатель временного правительства, Милюков, бывший редактор газеты «Речь», министр иностранных дел временного правительства. В молодости Цетлин (Амари — поэтический псевдоним) принадлежал эсеровским кругам. В 1910 он уехал во Францию, а после Февральской революции с семьей вернулся в Москву. Постоянными участниками московского — арбатского салона Цетлиных были Цветаева, Ходасевич, Есенин, Алексей Толстой. Осенью 1918-го Цетлины вместе с Буниными оказались в Одессе, осажденной попеременно то немцами, то французами, то большевиками, пережили уличные бои, грабежи. Из Одессы через Константинополь прибыли в Париж.
Радушный хозяин парижского литературно-политического салона, давний поклонник Станиславского и Художественного театра радовался, как и Бальмонт, парижскому звону Московского Кремля, забыв о том, что Станиславский представляет в Европе не Художественный театр, а советское искусство и что бывшему канительному фабриканту с его непролетарской биографией предстоит возвращение в Россию. Общение с «белыми» было опасно для «красных». Те же парижские «Последние новости», опубликовавшие приветственный тост Цетлина-Амари в честь Станиславского, перепечатали статью из российского журнала «Жизнь искусства» с заголовком «Художественники и белая эмиграция». Советская власть предупреждала гастролеров, что не следует посланцам новой России подавать дружескую руку ее заведомым врагам. Очевидно, речь шла как раз о парижском салоне Цетлиных: «Из кого состоит эта парижская русская публика? Разве артисты советского государственного театра не знают, что под этим общим и как будто приемлемым названием скрывается не что иное, как сборище закоренелых врагов советской республики, ядовитое гнездо белогвардейских эмигрантов, изменническая клика буржуазно-капиталистических деятелей, возглавляемых самим Милюковым? Разве забывчивые и отуманенные похвалами художественники не понимают, с кем они меняются горячими рукопожатиями, в чьи объятия они, может быть, попадают в самозабвении 325 и восторге? Рукопожатия и похвалы этих предателей рабочего класса, этих торговцев русским народным достоянием должны бы заставить содрогнуться от ужаса и отвращения всякого, кому дорога новая пролетарская Россия». Перепечатанный «Парижскими новостями» фрагмент заканчивался открытой угрозой: «Не забывайте, что общение с врагами советской республики есть преступление»226.
Испугавшись опасностей, поджидавших «преступников» в советской республике, многие артисты труппы Художественного театра остались в Европе и Америке.
Станиславский — уехал.
Уехал — вопреки всему: доводам рассудка, расстрелам Васи Бостанжогло, брата Юры и его детей, болезни сына, требовавшей лечения за границей: «Вернуть его […] в Москву равносильно смертному приговору» (I. 9 : 81).
О том, чтобы прервать лечение, не могло быть и речи.
Но Игорь становился невозвращенцем, и это было равносильно «смертному приговору». Он выехал за границу в составе труппы театра, а в апреле 1924 года была получена телеграмма от Немировича-Данченко: «Отсутствие к сроку в Москве каждого члена поездки […] будет квалифицироваться как политическое бегство» (III. 1. № 7136).
В июле 1924 года Станиславский узнал об аресте Ф. Н. Михальского, администратора Художественного театра. «Раз что так, то, значит, с вокзала — в чека»227 — он понимал, куда едет.
Но он не мог жить вне России, вот и все.
Элита русской эмиграции, в неразрушенных «дворцах души» которой по-прежнему цвел невырубленный Вишневый сад, не хотела отпускать Станиславского домой по окончании гастролей.
Американская русскоязычная пресса вдогонку его отъезду, осуждая его, объявляла Художественный театр — продавшимся большевикам, а его самого — агентом Кремля.
В предотъездных интервью, оправдывая возвращение на родину, Станиславский рассказывал о предоставленной государственным театрам автономии, о заботе властей, которую он чувствовал на себе и своей семье. Он вспоминал письмо Луначарского к Калинину с высокими словами о нем — «старом гениальном артисте, подлинной гордости России». О поводе к ним умалчивал. И только близкие знали о его страхах.
Он возвращался в советскую Москву, отметившую без него в октябре 1923-го 25-летиий юбилей Художественного театра и в январе 1924-го похоронившую Ленина.
Юбилейные торжества в Москве в октябре 1923 года также отдавали похоронами.
Хоронили старый, дореволюционный Художественный театр.
326 Собственно, его похоронили еще в 1917-м: «Театр умер естественной смертью в ту самую ночь с 25 на 26 октября 1917 года, когда получил смертельный удар тот класс, лучшие соки которого он сконденсировал в своем великолепном явлении», — пояснял В. И. Блюм, скрывавшийся под всем известным псевдонимом Садко, автор юбилейной статьи в журнале «Зрелища». Его статья называлась «За упокой раба божия юбиляра»228. Блюм констатировал послереволюционный, но еще предотъездный распад прежде единого двухголового организма на два — театр Станиславского, переметнувшегося в оперу, и театр Немировича-Данченко, создавшего свою Музыкальную студию и занявшегося опереттой. Потом Блюм провел еще одно сечение МХТ — по плоскости: тут и там — и, противопоставляя группу Станиславского — Музыкальной студии Немировича-Данченко, экспериментировавшего с опереттой, издевался над гастролерами, благополучно проливающими «там» слезы над страданиями Раневской и Гаева, дяди Вани Войницкого и тети Мани Прозоровой.
Другой автор «Зрелищ» — В. Е. Ардов, писавший под псевдонимом Икар, — облекал юбилейный сюжет о гибели старого театра в юмористическую — в духе раннего Чехова — фантастическую историю о том, как в юбилейную ночь в самом Художественном произошло заседание, а потом и побоище театральных раритетов. Самую длинную речь в прениях того ночного закулисного юбилея держал старик по имени Вишневый сад. Он долго шумел бутафорскими ветвями и шелестел коленкоровыми листьями, и так трогательно, что чувствительный Аппарат для имитации дождя даже прослезился. Старик произнес длинную речь. Он упоминал о своей молодости, о том, как на него нельзя было получить билетов и как восторженно отзывался о нем Чехов. «Боже мой, — шептал Аппарат дождя. — Ведь судьба Вишневого Сада — судьба всех нас! Неужели никто этого не понимает?»229
С той памятной юбилейной ночи, завершившейся в статье Икара побоищем раритетов, все чеховские спектакли были сняты раз и навсегда, потому что погибла монтировка, а старики не выдержали страшной битвы и умерли.
Двадцатипятилетие Художественного театра Немирович-Данченко встретил постановкой в Музыкальной студии комедии «Лизистрата» по Аристофану с музыкой Глиэра и в конструктивистской декорационной установке левого художника Рабиновича. Этот спектакль приветствовал даже Бескин, в ту пору друг и соратник Мейерхольда. Его панегирик Немировичу-Данченко, вступившему наконец на стезю новаторства, назывался «Пожар “Вишневого сада”». «В огне “Лизистраты” горели “Вишневые сады” сценического реализма. Горели весело. Горели молодо», — писал критик. «Сегодня “земля” Художественного театра если не поставлена “дыбом”, то завертелась наперекор 327 всяческой “смысловой” логике кустарно-передвижного реализма», — радовался он, обыгрывая название новаторской постановки Мейерхольда «Земля дыбом»230.
«Молодость, ясное дело, должна воспитываться в атмосфере современной художественности. Ей нужно искусство яркое, здоровое, простое, без сентиментальности. Все это есть в “Лизистрате”. В ней отсутствует сентиментальность и мещанская идеология. Ее идеи вечны: природа, война, мир, здоровье, мужчина, женщина. Недаром один из монологов Лизистраты помещен даже в хрестоматии Коммунизма. Вот почему поставлена “Лизистрата”», — объяснял Немирович-Данченко причины своего обращения к комедии Аристофана. Но он спорил с Бескиным, отстаивая свою неизменную верность традициям Художественного театра — на сцене Художественного театра: «Сад сгореть может, но почва никогда»231. И пояснял интервьюеру «Правды»: «В старых приемах Художественного театра многое отцвело… Отойдя от ненужного, устаревшего, сохранив самое главное — почву и воспользовавшись тем, что можно было взять нового, мы работали над “Лизистратой”»232. Он нащупывал в своей Музыкальной студии МХТ новые приемы, которые можно было бы перенести на сцену метрополии, на ее фундамент, на ее несгоревшую, считал он, чеховскую почву.
Но, продумывая во время отсутствия Станиславского репертуар театра, каким он будет после воссоединения гастролеров с московской частью труппы в Москве, Немирович-Данченко исключал из него чеховские пьесы как «неприемлемые для нашей современности» «по крайней мере в той интерпретации, в какой эти пьесы шли в Художественном театре до сих пор», — пояснял он в рапортичке, посланной в Театральную подсекцию научно-художественной секции ГУСа — Государственного ученого совета при Наркомате просвещения РСФСР. Секция ведала репертуарной политикой российских театров233.
Немирович-Данченко считал, что многие старые спектакли, и «Вишневый сад» в том числе, имеющие блестящих исполнителей, поставлены «в лучших формах старого реализма», «перегруженного трудно воспринимаемым теперь натурализмом»234.
Репертуарный план Немировича-Данченко Луначарский принял «сочувственно».
Чехов в начале сезона 1924/25 гг., когда Станиславский вернулся в Москву после двухлетних зарубежных гастролей, был если не запрещен, то в прежнем исполнении — не рекомендован, не желателен.
Удовлетворенно завершая полемику, Бескин отвечал Немировичу-Данченко в журнале «Зрелища»: «“Вишневый сад” умер — да здравствует 328 “Лизистрата”. Земля осталась. Конечно, осталась. Но “Вишневого сада” нет. Факт. Упрямый. Жестокий. Неоспоримый»235.
Точка в дискуссии о Чехове и «Вишневом саде» в репертуаре Художественного к приезду труппы была поставлена.
* * *
Вместе со Станиславским вернулись в Москву и Книппер-Чехова, и Качалов.
Каждый из участников гастролей Художественного театра в Европе и в Америке по окончании их весной 1924-го выбирал судьбу: уезжать или остаться за границей.
Ехать домой было страшно. Всем.
Остаться? В сентябре 1923-го в Париже, перед вторым американским сезоном, Ольга Леонардовна отметила свой пятьдесят пятый день рождения.
Она носила фамилию Чехова.
У нее была мировая известность.
Она знала немецкий, как русский, и во время гастролей в Америке читала Чехова с эстрады на английском.
Она могла остаться.
Но остаться не могла.
Не могла пережить прощания с родиной.
«… Хоть, кричат, уродина, — прохрипел с лагерным вызовом-надрывом современный бард. — А она нам нравится, хоть и не красавица». Как будто перефразировал книппер-чеховское, когда она летом 1922-го оказалась на три счастливых месяца после скитаний по югу России и Европе с качаловской группой в Москве и «ничего не критиковала»: «Ничего меня не шокировало — было только одно чувство: я люблю все это».
Это чувство заглушало поднимавшуюся со дна души «бунинскую» злость на большевиков за «окаянные дни», за «избиения» и «повешения».
Уже пять лет, как Ольга Леонардовна не жила в России, и все за границей ей было немило. Даже комфорт, как когда-то Чехову. Берлин был ей «ненавистен». И при одном слове «Москва» у нее текли слезы, как у сестер Прозоровых. Она тосковала по скверным тротуарам, по колдобинам Камергерского: «Нет надежды увидеть Москву, могилы…» (IV. 5 : 121)
Москва, Пречистенский бульвар и храм Спасителя, Новодевичий монастырь, могилы, Камергерский, Станиславский, Немирович-Данченко, 329 спектакли в Художественном — там была вся ее жизнь. Та, что прошла, и та, что оставалась.
И Ольга Леонардовна вернулась в Москву из затянувшегося зарубежного турне.
Так, как встретили ее и Качалова, отсутствовавших пять лет, осенью 1924 года в Художественном, могли встретить только дома.
В тот день, когда они в первый раз после возвращения из-за границы приехали в Камергерский, весь театр — труппа, работники мастерских, администрация — выстроился от подъезда до сцены. В нижнем фойе их приветствовали «старики» во главе со Станиславским. Затем их повели через зрительный зал на сцену. А когда разлетелся занавес с нашитыми на него белыми чайками, в залитых солнечным светом распахнутых окнах декорации первого акта «Вишневого сада» появились молодые актрисы с цветами. «Ани», протягивая цветы Ольге Леонардовне, говорили: «Мама, милая мама! Ты помнишь эту комнату?» «Вари», кутаясь в легкие шали, приветствовали приехавших каким-то своим текстом. Девушки «Дуняши» кланялись Ольге Леонардовне и Качалову со словами: «Заждались мы вас». Молодые актеры в епиходовских шляпах, подавая цветы «брату и сестре», говорили: «Вот садовник прислал…» И наконец, из дверей выходил Немирович-Данченко в старинном цилиндре Фирса. Опираясь на палку, он семенил к «господам» — долгожданным господам-артистам, произносил «фирсовым» голосом: «Ну вот и приехали» — и обнимал Ольгу Леонардовну и Василия Ивановича.
Растроганную Ольгу Леонардовну усадили в «детское креслице». А Василий Иванович в установившейся тишине очень серьезно, как клятву, — произнес импровизированную речь, переадресовав гаевский монолог перед «многоуважаемым шкафом» — «многоуважаемому Художественному театру», расположившемуся в партере шехтелевского зала: «Приветствую твое существование, которое вот уже более двадцати пяти лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости. Твой призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение этих двадцати пяти лет, поддерживая в поколениях бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания. Обещаем и впредь служить тебе и нашей прекрасной родине так же честно, страстно и целеустремленно!»236
Никто в тот счастливый день не мог предугадать, как отзовется в «новой жизни» воодушевившее зал чеховское слово, вынутое из комедийно-ироничного контекста «Вишневого сада» и произнесенное завораживавшим голосом великого артиста.
330 ГЛАВА 2
ЧЕХОВ — «ПРОРОК РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» (1924 – 1950-Е)
Родина встретила Станиславского и его актеров, как вернувшихся «с того света».
Родина их не ждала.
Так долго — год шел за три — они отсутствовали.
Москва считала, что Станиславскому вместе с его стариками, с его отжившим свой век репертуаром, с его интеллигентским Чеховым, давно оплаканным, лежать в Пантеоне. В лучшем случае. Чтобы не причинять вреда живым, не сбивать их энтузиазма своими буржуазно-упадочническими настроениями.
Кончилась эпоха «либерального купечества» — опасно намекала советская пресса на социальную чужеродность Станиславского и его театра новой жизни.
Он и вправду, вернувшись домой, не мог осмыслить всех перемен и приспособиться к Совдепии. Не житейски, нет. Нищенский быт мало беспокоил его. Он знал цену богатству. Да и жить стало легче, чем до отъезда. Братоубийство и военный коммунизм сменились относительно благополучными годами нэпа.
Он действительно хотел участвовать в культурной революции, завершавшей общественную, политическую. Он не лукавил.
Но ничего, кроме старых спектаклей, не рекомендованных Наркомпросом в прежней интерпретации, он ни труппе, ни новому зрителю предложить не мог.
Из писем брата Станиславский знал, чем жила без него театральная Москва начала 1920-х. Связь с Владимиром Сергеевичем не прерывалась. Тот писал и в Европу, и по американским адресам гастролей. Рассказывал о студийных экспериментах, захвативших новую российскую столицу, о постановках оперных и драматических спектаклей «на ящиках», «на трапециях» и «на туго натянутых канатах», где все сводилось «к скаканию по лестницам и подмосткам и тому подобному турандотству». Владимир Сергеевич ужасался этому «театральному цирку»: «До противности опостылели все эти кривляния и циркачество на 35-и площадях» (I. 2. № 21545).
Спектакль «на туго натянутых канатах» — это, наверное, о мейерхольдовской постановке «Леса» Островского. Любовный диалог молодые, энергичные мейерхольдовские герои Островского вели, раскачиваясь на гигантских шагах. Чем выше был эмоциональный градус диалога, тем круче и стремительнее взлет.
331 О «Лесе» у Мейерхольда Станиславский знал и от секретаря Немировича-Данченко по театру О. С. Бокшанской, участвовавшей в европейских и американских гастролях труппы. Владимир Иванович делился с ней впечатлениями от мейерхольдовской постановки. Станиславский читал это послание из Москвы: «Фигуры такие: Гурмыжская — актриса лет 35, во френче, в короткой юбке, в высоких лакированных сапогах, с хлыстом, в огромном рыжем парике. Вся — “желтая”. Бодаев — исправник с зеленой большой бородой. И Буланов в зеленом парике и в костюме лаун-теннис. Милонов — священник с золотыми волосами и бородой. Аксюша, разумеется, в красном платье. Восьмибратов — весь в черном (понимай: черносотенец)» (III. 6 : 291).
Возмутившись фамильярным обращением режиссера с Островским, Немирович-Данченко ушел после первого акта спектакля.
Мейерхольд демонстрировал в «Лесе» способность «мертвеца» Островского соответствовать «злобе дня», его «цветам». «Воскресающие мертвецы» — так называл молодой критик Б. В. Алперс классиков, русских и европейцев, приветствуя их появление на советской сцене. «Воскрешение мертвецов» стало возможно, когда к середине 1920-х ослабилось идеологическое давление Пролеткульта, выбрасывавшего театральную классику из современной культуры. Классик далее в дерзких заявлениях писателей Левого фронта — лефовцев, оппонировавших идолопоклонникам Пролеткульта, — переставал быть пугалом.
Станиславский не мог работать с классической драматургией так, как Мейерхольд 1920-х. Мейерхольд «осовременивал» ее; вынимал пьесу из исторического контекста и помещал в новый, приближенный к злободневному.
Станиславский не мог работать и с современной прозой так, как это делал Мейерхольд с помощью своих литсотрудников: нарезать текст на куски, монтировать из них аттракционы, скетчи, приспосабливая театральное представление к вкусам пролетарской публики, жаждавшей зрелищ, или к вкусам публики эстетской, обручившейся, как и Мейерхольд, с новой властью.
Не мог Станиславский поставить и нечто ультрасовременное, на эффектных театральных приемах и с актерами, работающими на биомеханическом, внеличностном уровне, вроде политобозрения Мейерхольда «Д. Е.» — «Даешь Европу!» — о том, как советский пролетариат совершает мировую революцию, покоряя континенты. Те же континенты, которые Станиславский и его актеры покорили Чеховым.
И актеры Художественного театра не владели агрессивным театральным диалектом, на котором разговаривали со своим зрителем трамы, теревсаты и многочисленные самодеятельные и полусамодеятельные клубы и студии. Те отплясывали на подмостках победу «новой» жизни, сильной, здоровой, — над «старой», «тлетворной». Воспитанные 332 на Чехове, на его эстетике уважения «всех правд», а не одной — революционной, глумления над поверженной дореволюционной Россией, — художественники не владели техникой сценических агитки и плаката — техникой сатирического разоблачения, окарикатуривания персонажа из «старой жизни» и прямого контакта молодых и крепких детей «новой жизни» — с современностью, с новым зрителем, контакта — вне спектакля, вне роли, а при посредничестве роли.
Мейерхольдовскую эстетику «Театрального Октября» Станиславский отметал как абсолютно для себя неприемлемую. Отметал — без деклараций. Просто искусство его театра требовало иной, чем в театре Мейерхольда, связи сцены с залом. Оно не существовало без сопереживания, без непрерывной работы души в ответ. А новый зритель, привыкший крушить и грабить, не ведал, что такое духовная работа. Он приходил в театр хохотать над свергнутым царским режимом и утверждать гегемонию нищих — «нечистых» над «бывшими», «чистыми».
Юрий Соболев, восторженный рецензент 200-го представления «Вишневого сада» на сцене Художественного театра, объявлявший о его «непреходящей» ценности, писал через десять лет, в 1924-м: Художественный обречен на безотзывность. В статье «Новые формы нужны» в журнале «Новая рампа» он писал о том, что «Вишневый сад» Станиславского и Немировича-Данченко устарел: между «Вишневым садом» Художественного и «Даешь Европу!» Мейерхольда такая же пропасть, как между «чеховскими нытиками» и современными людьми. Он переадресовывал Станиславскому и его актерам, вернувшимся домой, треплевское требование к искусству: «Новые формы нужны». И выносил им треплевский приговор: «Если их нет, ничего не нужно»237.
«Ничего не нужно…» — родине от художников, переживших «чеховские драмы», драмы жизни в духовном тупике, и поклявшихся служить «светлым идеалам добра и справедливости».
Хорошо еще, что нарком просвещения Луначарский, ведавший театрами, с сочувствием смотрел на растерянного Метра. Вызванный в Наркомпрос, тот со своей «чуть-чуть смущенной улыбкой» оправдывался, доверительно выкладывая в кабинете Луначарского аргументы, снимавшие с него вину за промедление с творческим приятием «новой жизни». В 1933-м Луначарский, давно не нарком, опубликовал в газете «Известия» монолог Станиславского, произнесенный в его рабочем кабинете по возвращении Художественного из-за границы:
Анатолий Васильевич, я же ни в каком случае не против революции. Я очень хорошо сознаю, что в ней много священного и глубокого. Я прекрасно понимаю, какие она несет высокие идеи и напряженные чувства. Но чего мы боимся? Мы боимся, что эта музыка нового мира еще долго не найдет себе выражения в художественном слове, в художественной драматургии. 333 По крайней мере, до сих пор мы этого не видим, а если нам, театру, дадут несовершенный, косноязычный, сухой, искусственный материал, то как бы ни был он публицистически согласован с высокими идеями революции, этим идеям мы не сможем дать должного звучания: мы не сможем как театр, как художник, послужить революции, оказаться ее рупором, а сами себя, свое искусство мы снизим, потому что нельзя музыкантов, прошедших уже известную школу, достигших высокой музыкальной культуры, заставить играть школьные вещи, незрелые, лишенные жизни238.
Великодушный нарком, заручившись поддержкой вождей революции, пришедших к власти, позволил Станиславскому ждать новой драматургии высокого литературного уровня, способной ответить на его запросы.
Театр получил такую только во второй половине 1920-х, когда заказал Булгакову инсценировку его романа «Белая гвардия», когда Всеволод Иванов переработал для сцены свои партизанские рассказы и подоспели пьесы молодых Леонова и Катаева.
Приверженность своей художественной идеологии вовсе не означала, что Станиславский был доволен собой и своими актерами. Он понимал, например, что грех радоваться заграничному успеху «Царя Федора», «Трех сестер» и «Вишневого сада», его и Немировича-Данченко лучших дореволюционных спектаклей. Он стыдился слез Ольги Леонардовны и своих в сцене прощания Раневской и Гаева с домом и садом. Но с трудом сдерживал их. Еще в Америке он «конфузился», представив, как они будут играть на родине, перед новым зрителем, сцену прощания Маши с Вершининым. «После всего пережитого невозможно плакать над тем, что офицер уезжает, а его дама остается. Чехов не радует. Напротив. Не хочется его играть», — писал он Немировичу-Данченко из Америки, думая о возвращении домой (I. 9 : 29).
Немирович-Данченко разделял «конфуз» Станиславского по поводу их прежних сантиментов, вздохов, слез и нытья, сопровождавших подобные ситуации из «старой жизни» в чеховских сюжетах.
Но Станиславский по-прежнему не мыслил театра без Чехова. Он был уверен, что Чехов не устарел, только «Три сестры» и «Вишневый сад» нельзя играть по-старому. Нельзя на сцене плакать, ныть. Не нужен Чехов — «слезоточивый», как говорил Горький о чеховской Раневской, не нужен Чехов — «нытик».
Уже в Америке он развернул спектакль — вводом новых исполнителей — в сторону если не «беспощадного» Чехова, бичующего «бывших», то Чехова суховатого, «бесслезного». Не готовый отказаться от лирической, драматической интонации «Вишневого сада», чего требовала от художника необратимо победившая революция, он уже в Америке 334 перестал «оплакивать» гибель дворянских гнезд и буржуазных дам — «благотворительниц», на самом деле равнодушных к бедам безродного ближнего.
В таком — без «нытья», «бесслезном» — повороте «Вишневый сад» казался Станиславскому вполне созвучным революционной современности. Он считал, что спектакль Художественного, как он шел в Америке с молодыми Добронравовым, Тарасовой и Пыжовой, не нуждается ни в перемонтаже сцен, ни в идеологическом переосмыслении текста, ни в переакцентировке даже, ни в новых декорациях, ни, тем более, в переодевании действующих лиц в современные костюмы: энергичного реформатора Лопахина или бессребреника Пети, молодого человека новой формации, — в кожанки большевиков; простолюдинки Вари или переломившей свою жизнь дворянки Ани — в красные кофточки или платья комсомолок. «Вишневый сад» без переодеваний и красных платочков, но с новыми молодыми актерами в молодых ролях спектакля получался демократичным.
Немирович-Данченко разделял убеждение Станиславского в том, что если грубо — по-трамовски, по-теревсатовски или по-мейерхольдовски «осовременивать» «Вишневый сад», — получится «кривляние». Он тоже подумывал не о перетрактовке, а о возобновлении «Вишневого сада», но в новом исполнении. Приятель Чехова Потапенко, доживший до большевизма, свидетельствовал: «Мне говорил Владимир Иванович Немирович-Данченко перед своим отъездом за границу, что Художественный театр намерен ВОЗОБНОВИТЬ из чеховских пьес только “Вишневый сад”, как более близкий к современной эпохе по настроению»239.
В отношении к «Вишневому саду» в первой половине 1920-х Станиславский, вернувшийся из-за границы, и Немирович-Данченко, отрекшийся от чеховского репертуара в старом исполнении и экспериментировавший в своей Музыкальной студии с «новыми формами» в комической опере и оперетте, были солидарны.
Немирович-Данченко быстрее и легче Станиславского адаптировался к вкусам нового времени. Он сумел ответить на его запросы. После «Лизистраты», принятой большевистской критикой, он переделал классическую «Кармен» Бизе в музыкальный спектакль «Карменсита и солдат», где суровый рок настигал фабричную девчонку и простодушного солдата. А в 1925-м, опередив Станиславского, все еще растерянного, выпустил на сцене Художественного «Пугачевщину» — по современной пьесе, «не блещущей архитектоникой», несовершенной, но дающей залу «революционный настрой».
Сорежиссеры «Вишневого сада» во взглядах на перспективу их старого спектакля в новой, «бесслезной» трактовке не расходились. Но театр медлил с возвращением Чехова в репертуар. И по причинам скорее 335 внутритеатральным, чем прямых запретов Чехова театральными чиновниками.
Выпустив «Пугачевщину», Немирович-Данченко отправился на гастроли в Европу и Америку с артистами Музыкальной студии и задержался за границей на два года.
Станиславский на два года остался в театре один. Все в эту ответственную, переломную для театра пору свалилось на него.
Возвращение Чехова в «лихорадке» новых, советских буден, не относилось к числу первоочередных задач.
«Вишневый сад», примеривавшийся к афише с начала сезона 1924/25 гг., вынужден был уступать шехтелевскую сцену, на которой родился, то «воскресавшим мертвецам» — классикам: «омоложенному» Грибоедову («Горе от ума» актеры Второй студии театра сыграли в 1924-м), Островскому и Бомарше, то молодым советским авторам. Они отбирали творческие силы от «воскрешения» Чехова, занимая сцену для выпуска оригинальных премьер, но и расчищали Чехову дорогу.
В 1926-м Станиславский поставил «Горячее сердце», смелый — балаганный, буффонно-эксцентрический спектакль. Это была первая серьезная смычка театра с Советами, — считала газета «Правда», высший революционный суд, идеологический ревтрибунал. «Правда» сумела разглядеть у художественников нечто полезное для просвещаемых и воспитуемых ею граждан. Редакция рекомендовала отпрыскам Хлынова и Градобоева посмотреть новый спектакль Станиславского, дабы они узнали своих отцов и себя в персонажах Москвина и Тарханова и «перековались». В жанровых фигурах комедийного «Горячего сердца» Островского актеры Художественного сумели выставить на осмеяние то наследие дореволюционной России в людях, те ее «пережитки», с которыми революция продолжала схватку, — приветствовали рецензенты работу в спектакле старых мастеров.
В процессе репетиций «Горячего сердца» Станиславский открыл прием «внутреннего оправдания» роли в том числе и отрицательного, разоблачаемого персонажа, ставший впоследствии законом для артиста Художественного театра. Он позволял режиссеру и исполнителям пользоваться сатирическими красками и гротесковым заострением характеров — приемами, не противоречившими художественной идеологии театра: играя злодея — ищи, где он добрый.
В 1926-м Станиславский показал премьеру «Безумного дня, или Женитьбы Фигаро» «революционера» Бомарше. Но французский «революционер» не спас по-прежнему «контрреволюционный» театр от нападок московской критики. Бескин в отклике на премьеру удивлялся: как умудрился Станиславский вытравить до основания социальный фон пьесы и превратить ее в «патриархально-салонную пастораль»; как бесследно исчезли из спектакля общественная подоплека и политический 336 акцент драматурга, у которого выходившее на историческую арену третье сословие брало верх над социальным цинизмом буржуев. У Станиславского Фигаро и граф Альмавива «в сущности одинаково добрые малые, занятые одними лишь “амурными шалостями”», — писал критик в «Вечерней Москве», не упустив очередной возможности задеть Художественный, идеологически и эстетически чуждый современности240.
И премьеры «Дней Турбиных», «Бронепоезда 14-69», «Унтиловска» и «Растратчиков», отодвигавшие возвращение Чехова на сцену, не изменяли репутации Художественного ни в верхах, ни у критики. Несмотря на преобразившуюся афишу, театр оставался учреждением буржуазно-интеллигентским, враждебным строителям социализма.
Сколько пришлось выслушать Станиславскому от партийных чинов и представителей «рабочих организаций» за «Дни Турбиных»! Театр думал, что получил современную драматургию высокого художественного достоинства и сделал рывок в сторону современности. А его пинали за «кремовые шторы», за чаепития у самовара — за все эти «мещанские устремления», не уступавшие чеховским. Бескин писал, что все это — каноны «старенького натуралистического правоверия». На шехтелевскую сцену вновь пробрался Чехов в лице его эпигона Булгакова, — продолжал Бескин свою полемику с Художественным театром, не уступая ему ни пяди на территории советского искусства.
Одна часть критики левого толка попрекала Булгакова Чеховым. Другая — защищала Чехова от Булгакова.
В. И. Блюм, оппонент мхатовского направления в драматическом искусстве, борец за советский репертуар в современном театре, заявлял, что «нет никаких оснований думать, что Чехов, доживи он до наших дней, докатился бы до булгаковщины. Наоборот, все указывает на временный характер его неожиданной влюбленности в дворянскую культуру и ее легенду»241.
Рецензент журнала «Новый зритель» С. А. Марголин выговаривал «молодняку» Художественного за то, что тот в «Турбиных» пошел за логикой Булгакова, оправдавшего своих героев, потомков чеховских, и в «смене вех» — чеховского репертуара на современный — предпочел робкую эволюцию революционной дерзости242.
Это были самые мягкие из претензий к театру, режиссуре и молодым актерам, принятым в труппу и занятым в «Турбиных».
Ортодоксальные коммунисты высказывались резче. Их настораживало то, что молодые легкомысленно и в конечном счете «опасно» простили потомкам чеховских нытиков противодействие революции, не осудив, не заклеймив их как врагов трудового народа. Главные претензии к спектаклю были, конечно, идеологические: вслед за Булгаковым театр реабилитирует белогвардейское движение.
337 Чуть улучшил ситуацию в отношении властей и прессы к Художественному и к Станиславскому, руководившему постановкой «Турбиных», — «Бронепоезд 14-69», приуроченный к десятилетней годовщине Октября. Премьеру сыграли 8 ноября 1927 года. Тон критике задал Луначарский. Театры «окончательно причаливают к нашему берегу и вступают в работу вместе со всеми строителями социализма», — сказал нарком о «Бронепоезде», поощряя художественников и пытаясь заглушить своим веским словом залп придирок, выпущенный комиссарами из Главреперткома243. Нарком прощал спектаклю некоторые отступления от идеологических установок партии. Ему был важен сам поворот.
Но следующая премьера Художественного — «Унтиловск» по пьесе Леонова — огорчила и Луначарского. Хотя нарком и констатировал «голод» на современную пьесу, обозревая репертуар театров страны в «Красной газете», он не принял ни пьесы Леонова, ни ее режиссерской интерпретации. Леонов не дал театру стройной и художественно значительной пьесы, а театр, включивший ее в репертуар, сделал шаг назад после «Бронепоезда», с точки зрения идеологии, — отозвался об «Унтиловске» в Художественном Луначарский244. От обвинений театра в преступном искажении революционной современности не оградил даже комсомольский хор, чьей бодрой песней, доносившейся из-за кулис, заканчивался спектакль. Слишком ярко сыграли художественники во главе с Москвиным, как перепились ссыльные, кооператор, поп, эсеры и местные роковые дамы в глухой российской провинции и как далека глубинка от революционных перемен.
Так что возвращение «Вишневого сада» на афишу Художественного в конце сезона 1927/28 гг. шло на неблагоприятном для него фоне.
Но против «Вишневого сада» в репертуаре театра к этому времени уже никто не высказывался. За четыре года, пока «Вишневый сад» примеривался к сцене, ожидая своей очереди, общественное мнение в отношении к Чехову переломилось. Он вошел в обойму «славных мертвецов», воскрешению которых Наркомпрос не препятствовал. «Мертвец» ничем не запятнал себя перед советской властью. Ранняя смерть, которую Россия так искренне оплакивала в начале нового века, помогла ему не опорочить своего имени ни контрреволюционными выступлениями, ни эмиграцией и избежать идеологических преследований и репрессий, выпавших на долю тех дореволюционных писателей, кто остался в России. «Вовремя умер человек — до революции, до эмиграции, в городе Баденвейлере, в Шварцвальде, на юге Германии», — говорили писатели, покинувшие Россию в 1917-м – 1920-х и хлебнувшие эмигрантского горя245. Покойный Чехов, чуть задержавшись на старте «новой жизни», смог войти в «красную новь» вслед за переосмысленными Островским и Бомарше.
338 На доброе имя Чехова поработали и старые театральные «спецы». Прежде чем Чехов «Вишневого сада» вернулся на сцену, его имя вернулось на страницы театральной прессы без пролеткультовской приставки к нему: «Долой!»
В июле 1924-го, в дни, когда отмечалась двадцатая годовщина памяти Чехова, вышли статьи о нем Потапенко, Соболева и Кугеля. Полемизировавшие с пролеткультовцами, они вытеснили их лозунги спокойным разговором о Чехове — сегодня. Писатели и критики дореволюционной формации доказывали необходимость Чехова современному театру и зрителю.
«Чехов теперь» — так и назвал свою статью в журнале «Жизнь искусства» к двадцатилетию без Чехова Кугель246.
Все трое обращались к последнему году жизни Чехова, году создания «Вишневого сада» и «Невесты», как к кануну Октябрьской революции 1917 года. И в преемственности исторических эпох — до и после Октября, сменивших одна другую, видели живой источник сближения чеховской драматургии и современности, рожденной в 1917-м. Соболев так и писал в «Новой рампе»: «Чехов умер в 1904 году под грохот японских пушек, громивших русский флот при Цусиме. Вместе с Чеховым умирала старая Россия, самодержавие доигрывало на сцене истории свой последний акт, и год смерти Чехова стал прологом к февралю и октябрю девятьсот семнадцатого. Чеховская Россия изжила себя окончательно»247.
И Кугель говорил о том же. «Ни один писатель русский не изобразил с такою верностью и таким дарованием затишье перед бурей, как это сделал Чехов. И ни один так не оправдал революцию и неизбежность очистительной грозы, как Чехов», — писал он в статье «Чехов теперь»248. Напрасно считается, что Чехов устарел, что эпоха требует страсти, движения, героических устремлений, а пьесы Чехова проникнуты унылым духом распада, — спорил Кугель с негласным запретом Чехова на сцене. И успокаивал ревнителей чистоты революционной идеи: «Но ведь это все предреволюционное: и бессилие, и нуда, и уныние, и социальная беспомощность, и гипертрофия личного в ущерб социальному и коллективному». Он настаивал на том, что «Вишневый сад» — это документально-художественная страница русской истории, обозначившая канун «теперь», и что пьеса может и должна стать репертуарной.
На этом — на необходимости вернуть Чехова, созвучного «теперь», в репертуар Художественного — единомыслие литературоведов и театроведов, специалистов «по Чехову», заканчивалось. У каждого было свое представление о том, как по-новому следует играть «Вишневый сад». О других чеховских пьесах речь не шла.
Соболев предлагал художественникам расстаться с прошлым по Энгельсу: смеясь вместе с Чеховым Он предлагал искать новый образ 339 Чехова, какой ждала современная сцена, в биографии драматурга и в его эпистолярном наследии. В берлинском книгоиздательстве «Слово» вышла прежде не изданная переписка Чехова с Книппер-Чеховой, приоткрывшая читателям некоторые черты личности писателя и его взаимоотношений с Художественным театром. Бедняк, сын разорившегося лавочника не будет страдать от потери родового гнезда, как богачи Раневская и Гаев, — писал Соболев. Он сравнивал пьесы Чехова с их постановками начала века и утверждал, ссылаясь на письма Чехова, что элегический тон «Вишневого сада» Станиславского и Немировича-Данченко — не от автора, а от театра. «Тот канон толкования Чехова, который якобы с полного согласия автора был установлен Художественным театром, должен в наши дни подвергнуться существенным изменениям. Сам Чехов дает право на новое прочтение текстов его пьес. И в особенности это относится к “Вишневому саду”», — писал Соболев в 1924 году249, призывая Станиславского и Немировича-Данченко подумать о решении «Вишневого сада», изъятого из репертуара Художественного театра «в старой трактовке», в комедийно-водевильном ключе, более отвечающем требованиям нового времени. Чехов настаивал на комедийно-гротескных, водевильных сценических формах «Вишневого сада», — напоминал критик художественникам.
А те знали это в 1903-м от самого Чехова.
Кугель, в отличие от Соболева, считал, что чеховская Россия умерла имеете с Чеховым. Он рассматривал Октябрь как культурно-историческую катастрофу. И если в умозаключениях Соболева Петя с Аней, устремленные в будущее, получали историческую перспективу, независимо от того, видел ее Чехов или нет, то Кугель, автор цикла блестящих статей начала века «Грусть “Вишневого сада”», в 1924-м — по-прежнему сторонник прочтения пьесы как трагедии. Он предлагал художественникам от «грусти», заложенной Чеховым, хоронившим Россию в начале века, не отрекаться. Именно в грусти, в скорбных интонациях видел Кугель ключевой элемент революционности старого спектакля. Ратуя за возвращение дореволюционной постановки «Вишневого сада» в репертуар советского Художественного, критик предлагал сцене не трогать святые гробы, а, как положено, отпеть покойников. Всех подряд: и Раневскую с Гаевым, и Петю с Аней. «Принаряженная во все белое», едва расцветшая, — и Аня у Кугеля покойница. Как и было в его дореволюционных статьях. Революционно настроенная молодежь, произрастающая на совсем другой социальной почве, не должна страшиться таких дворянских барышень. Поминками их не воскресить, живьем они не явятся и героический тонус новой эпохи не собьют, — агитировал Кугель за своего «Чехова теперь», предвидя упреки в упадочнических настроениях, вредных для революционного здоровья нации. Чеховские персонажи останутся в «старой жизни», и в этом ответ Чехова современности, — 340 успокаивал Кугель тех, кто не хотел брать Чехова в «новую жизнь».
Словом, если у Соболева 1924 года «Вишневый сад» — веселое прощание с прошлым, то у Кугеля чеховский «“Вишневый сад” теперь» — поминальная молитва.
А у Потапенко — драма надломленных, расхлябанных и растерянных героев. Потапенко, как и Кугель, остался на своих дореволюционных позициях. Он не делал никаких поправок на время. Человека своего и чеховского поколения Потапенко не держал за героя, привычно для себя слово «герой» и после революции беря в кавычки. Он продолжал считать, что «бывшие» вроде чеховских Раневской и Гаева, не сумевшие выбраться из духовного тупика, заслуживают ту судьбу, которую они имеют. За эту позицию Потапенко получил отповедь эмигрантской критики. Для русских за границей русские, оставшиеся на родине — и погибшие, и выдержавшие испытания, — все были героями. За исключением тех, кто согнулся перед большевиками. Потапенковское отношение к чеховским героям и в советское время как к не-героям в глазах эмигрантов выглядело кощунственным. Кизеветтер, бывший член Государственной думы, сторонник конституционной монархии в России, оказавшийся в Праге, исхлестывал Потапенко в своих мемуарах за подобные рассуждения — «за холопское усердие перед большевистскими властелинами», распорядившимися судьбами людей по своему, варварскому разумению250. Он не прощал Потапенко «умаления» трагизма, настигшего в Советской России Раневских и Гаевых, целый народ.
И марксистско-ленинская критика, оккупировавшая отделы искусства ежедневных газет, столичных и городских, прекратила сбрасывать классику с корабля современности и с середины 1920-х постепенно включалась в разговор о месте Чехова в культуре послереволюционной России. Эта — переводила писателя на свои социально-классовые позиции: «бывших» отсекала в прошлое, только без кугелевского молитвенного поминовения, и брала в союзники Лопахина — социально здоровое, с ее точки зрения, начало жизни. Чехов по-прежнему шел ко всем, кто хотел видеть его «своим».
Харьковская газета «Коммунист», осознав географическое родство с чеховским Лопахиным, земляком, рассуждала, как ей положено, — по-ленински. Чеховская эпоха гибели дворянских усадеб, зарождения капитализма и социал-демократии — это этап освободительного движения в России, — учил Ленин. Все драмы Чехова построены на оторванности жизни личности от этого общего движения русской истории, — продолжали соратники Ленина по партии большевиков. Отсюда тоска чеховских героев, не сумевших реализовать себя, и общая пессимистическая нота. Герои Чехова «не доросли до общественной жизни», — подхватывал установочные идеи ВКП (б) и ее вождей некто Г. Ганжулович в 341 харьковском «Коммунисте», трактуя «Вишневый сад» как трагедию крайнего индивидуализма251. Но именно на этом этапе освободительного движения появляются герои, — писал он. Героем эпохи, проторившим путь в будущее, в революцию, новым хозяином земли, на которой прежде цвели дворянские Вишневые сады, рядовой ленинской партии объявлял чеховского Лопахина, человека труда, вышедшего из социальных низов, в детстве битого, полуграмотного босяка.
«Герой полон ненависти к минувшему, жажда мести горит в его душе, — писал Ганжулович. — Купив Вишневый сад, он вспоминает, как гнули здесь спины его дед и отец перед разоренными теперь Раневскими. Он знает цену себе, хотя как будто и стыдится своей силы. Его топор уже стучит по Вишневому саду, уничтожая красоту, созданную рабством. Вместо красоты он дает пользу, правда, пока только для себя, но скоро новая красота придет на смену Вишневому саду, и новые Лопахины довершат начатое дело»252.
Сын или внук Лопахина брал на себя миссию его духовного наследника, не доверив будущее чеховским Трофимовым. В октябре 1917-го наследники крепостного Алексея Лопахина, отца Ермолая, — развивал харьковский «Коммунист» «чеховскую» мысль, — довершили отмщение бывшим владельцам домов с садами за унижение их предков, батрачивших на эксплуататоров, и пошли дальше Ермолая Алексеевича. Они переустроили все общество, освободив людей труда, социально здоровых людей.
У коммунистов-рабкоров, не обремененных культурным прошлым, чеховский «Вишневый сад» с заложенным в нем «оптимопессимизмом» — оптимистическая трагедия.
Советская пресса середины 1920-х изобиловала концепциями нового Чехова, созвучного революции, и постановочными вариантами «“Вишневого сада” теперь».
Станиславский, занятый текущей работой в театре, директорской и режиссерской, свалившейся на него одного, четыре года не оставлял мысли о новой сценической редакции «Вишневого сада». В 1926-м вышло из печати русское издание «Моей жизни в искусстве». Одну из глав книги он посвятил «Вишневому саду» Чехова, истории создания и постановке пьесы. Вряд ли ключевая мысль, пронизывавшая эту главу, была Станиславскому навязана. Он сам пришел к ней, примеривая Чехова и его последнюю пьесу к новой общественной ситуации. Чехов «один из первых почувствовал неизбежность революции, когда она была лишь в зародыше и общество продолжало купаться в излишествах. Он один из первых дал тревожный звонок. Кто, как не он, стал рубить прекрасный, цветущий Вишневый сад, осознав, что время его миновало, что старая жизнь бесповоротно осуждена на слом», — писал Станиславский. Он разделял вполне своевременные мысли чеховедов о революционности 342 Чехова, «который задолго предчувствовал многое из того, что теперь свершилось» и который «сумел бы принять все предсказанное им» (I. 4 : 351). Эта мысль витала в воздухе. Другой в утвердившемся в России тоталитарном обществе быть не могло.
Возобновление «Вишневого сада» готовили к традиционным весенним гастролям театра в Ленинграде и к предстоявшему в октябре 1928 года его тридцатилетнему юбилею.
Декларируя в русском издании «Моей жизни в искусстве» принципиально новый поворот в трактовке чеховского «Вишневого сада», Станиславский не поменял первого состава исполнителей, его ядра. Напротив, опирался на мастерство «стариков»: на Книппер-Чехову, Москвина, Леонидова, Грибунина, Лужского в роли Фирса, сам играл Гаева. Едва ли не в этом — в стремлении достойно представить искусство своих актеров, основателей театра, юбиляров, вот так, в ансамбле, всех вместе, — и была главная цель обращения театра к старому спектаклю. Она перевешивала продекларированные требования идеологии. И то, что было написано в главе о «Вишневом саде» в «Моей жизни в искусстве», так и осталось в книге.
Станиславский именно возобновлял свой старый спектакль, а не ставил его заново в «революционной трактовке». Он не чувствовал в Чехове — классика, человека из прошлого, «мертвеца», которого он взялся «воскрешать». Связь его с покойным Чеховым была сильнее, чем с аудиторией, представлявшей в зрительном зале современность и требовавшей от театра темпа, ритма, энергии разоблачения старого мира, — как озвучивала левая критика требования зала к театру. Станиславский совсем не знал рабочего зрителя. Собственно, такого в Художественном в 1920-х, даже в конце десятилетия, не было. Администрация театра сохраняла, как в дореволюционные годы, систему абонементов и высоких кассовых цен на места. Спектакли театра по-прежнему собирали старую московскую публику, вернее, ее остатки и тянувшуюся к нему советскую интеллигенцию. Та же интеллигенция стремилась посмотреть «Вишневый сад» и другие премьеры художественников в ленинградской Акдраме, бывшей Александринке, где проходили гастроли Художественного театра весной 1928 года.
Станиславский сохранил на афише жанр «Вишневого сада» как драмы — в нарушение воли Чехова. И реставрировал в «Вишневом саде» — драму. Не комедию и не трагедию, а именно чеховскую драму. Уже одно это было актом принципиальным. Превращать «Вишневый сад» в комедию, которую востребовала бы современность, даже в фарс, — в соответствии с авторской волей и советами авторитетных чеховедов — значило бы выбить из-под Художественного театра «почву», основу его искусства.
343 Немирович-Данченко и здесь, в вопросах жанра и тона «Вишневого сада», солидаризировался со Станиславским: «Относительно версии о том, что Чехов писал водевиль, что эту пьесу нужно ставить в сатирическом разрезе, — совершенно убежденно говорю, что этого не должно быть» (III. 3 : 109).
Линию Раневской и Гаева Станиславский не трогал. Он только просил Книппер-Чехову совсем освободиться от психологического груза, утяжелявшего роль. И сам подчеркивал пластические и интонационные мотивы детской беспечности, барской мечтательности и полнейшей неспособности Гаева к какому-либо труду.
Тем не менее «старики» в новой редакции «Вишневого сада» наполняли свои роли лирикой прожитых лет, вызывая умиление и слезы у таких же «стариков» по другую сторону рампы. А недоброжелатели театра мгновенно отреагировали на то, что Раневская, Гаев, Симеонов-Пищик, Фирс и Епиходов постарели и ослабели, что за двадцать пять лет со дня рождения спектакля потеряли обертоны их голоса и движения утратили гибкость. Левая критика язвила над общей интонацией прощания с молодостью и над Станиславским, ностальгировавшим по ушедшим годам. Та часть московской и ленинградской критики, что гарцевала в местной, городской и фабрично-заводской прессе и отражала вкусы рабочего зрителя, издевалась над тем, что социально-классовая трагедия, заложенная в пьесе Чехова, — ухода старых собственников — подменена в Художественном театре некоей обобщенной драмой переходного возраста, драмой старения и смерти, обусловленной суровым законом жизни. И символический звук лопнувшей струны в Художественном, извещающий в финале о конце себя переживших развалин, — это хруст ломких стариковских суставов и высохших сухожилий, — писал кто-то из репортеров одной из ленинградских заводских многотиражек.
Для этой части критики и публики «Вишневый сад» был «перевернутой страницей».
И все же Станиславский, желая придать «Вишневому саду» «неоголтелую» революционность, сделал при его возобновлений несколько шагов навстречу веяниям времени. Не проводя ревизии старого спектакля, он все же поворачивал его к вкусам новой публики — с помощью новых исполнителей. Халютина, первая Дуняша, переместилась на роль Шарлотты Ивановны. На роль Вари ввели Кореневу. Роль Ани оставили за Тарасовой, лучшей из молодых актрис, игравшей Аню за границей. Роль Дуняши к премьере готовила Андровская. Добронравов, пробовавший за границей роль Пети Трофимова, репетировал и играл роль Яши. Петя остался за Подгорным. Все еще не видел Станиславский Петю — победителем, а видел — облезлым, недотепой.
344 Конец 1920-х, расставлявший свои акценты, не доверял Петиным словам — риторике, не подкрепленной к тому же у Подгорного живым энтузиазмом. Но и Станиславский побаивался «новой революционности», то есть прямолинейной жесткости образа и открытой публицистики, и Подгорного сознательно не заменил на Добронравова. Подгорный играл Петю точно так же, как играл до революции. Монологи свои он произносил «прозаически», «облезло» и глядя в землю или пол, как наметил Станиславский в 1903-м в своем режиссерском плане.
Петя Трофимов в 1928-м в герои еще не вылезал.
«Революционность» возобновленного чеховского «Вишневого сада» проявилась прежде всего в трактовке ролей Яши и Дуняши — слуг Раневской и Гаева, исполненных молодыми Добронравовым и Андровской.
Самому серьезному пересмотру подверглась в спектакле Станиславского линия Дуняши. Из полугорничной-полуподружки Ани она превратилась в разбитную крестьянку, взятую когда-то в дом из деревни. Андровская, а потом Михаловская, игравшая в очередь с Андровской каждый третий спектакль, уходили от образа барышни в Дуняше прежней сценической редакции «Вишневого сада». Прежние Дуняши подражали хозяйке, тянулись за ней в манере одеваться, пудриться, двигаться. Все получалось, как в кривом зеркале. Дореволюционная публика посмеивалась над ней.
Молодые актрисы новой редакции роли пробовали на репетициях деревенский говор и грубоватые повадки. И закрепили их для спектакля.
Станиславскому казалось, что такой колорит расширит социум «Вишневого сада». Он слишком много пережил с претензиями Луначарского к «Дням Турбиных» — именно по этой части, чтобы не скорректировать свой старый спектакль. На одном из диспутов о «Турбиных» в Художественном парком упрекнул Булгакова за то, что в его инсценировке нет простых людей, ставших на сторону революции. Булгаков присутствовал на диспуте и выступил с места. Он был очевидцем киевских событий в 1917-м и 1918-м годах: «Денщиков и прислуги я не мог показать, потому что в то время в Киеве их нельзя было достать “на вес золота”, а прислуга разъехалась по деревням. Но если бы я их и вывел, то не удовлетворил бы критику. Не было в Киеве тогда и рабоче-крестьянского фона, которого от меня требуют». Стенограмму доклада Луначарского и реплику Булгакова на диспуте о «Днях Турбиных» опубликовала газета «Правда»253.
Луначарский счел Булгакова «выразителем новой буржуазии» и тогда же одернул его: «Напрасно виляете».
«Напрасно виляете» — этот невинный в устах наркома словесный выпад против непокорного писателя через несколько лет стал нормативной лексикой следователей НКВД на допросах «врагов народа». 345 «Враги народа», как правило, «напрасно виляли» или «запирались», «скрывая» свои антисоветские — контрреволюционные и террористические намерения.
Решая Дуняшу, Яшу и Епиходова, Станиславский напрочь исключил жалость к «обездоленным». Жалость приводила к «нытью». Он пытался учесть замечания наркома Булгакову и компенсировать в «Вишневом саде» просчеты театра, упустившего в сценическом тексте «Турбиных» рабоче-крестьянский фон. Режиссер, автор спектакля, обладавший на сцене всеми авторскими правами, был независим от драматурга, от литературного текста и мог «подучить» классика — современности, мог «подправить» его. Не только Дуняше, но и Яше, а впоследствии и Епиходову, когда его стал играть Топорков (Москвин колорита роли не менял), — прислуге и дворне Раневской и Гаева, социальным низам, — Станиславский добавил простонародной характерности, заставляя при этом забыть о господах, не отвлекаться на них, а, наоборот, мнить себя полноправными хозяевами жизни. «Подумайте только, какую компанию он [Чехов. — Г. Б.] собрал здесь, — говорил Станиславский Михаловской, вводя ее на роль Дуняши. — Глупая деревенская девка, воображающая себя чувствительной, нежной барышней. Два ревнивца-любовника возле нее: один — нелепый и смешной конторщик, убежденный в своей неотразимой культурности, другой — нахальный деревенский балбес, проживший недолго в Париже и считающий себя чуть ли не французским аристократом. Рядом с этой троицей сидит бывшая циркачка — гувернантка. Вы чувствуете, что у каждого здесь активная задача — перещеголять друг друга, завоевать всеобщее внимание? И еще сложная линия между Епиходовым, Дуняшей и Яшей. Сцена комическая, но в ней не должно быть гротеска и шаржа! Каждый исполнитель должен быть предельно серьезен. Чем серьезнее вы будете вести эту борьбу, тем больше приблизитесь к Чехову. Никакие трюки тут не нужны, они не спасут. Можно легко скатиться к пошлости», — записывала Михаловская в дневнике пояснения Станиславского к чеховским ролям простолюдинов в их общей сцене второго акта (V. 18 : 77).
Прежде Станиславский высекал чеховский юмор из несоответствия внутренней сути персонажа — его претензиям.
Теперь деревенщина, то есть невежество, бескультурье, активно посягали на лидерство. Слуги состязались не с господами, им подражая, а друг с другом. Норовя перещеголять друг друга, они нагло вылезали на передний план, оттесняя на задний — господ. У новой публики такая разбитная компания людей из народа должна была, по расчетам Станиславского, вызывать симпатию. Станиславский ориентировался на нее. Лилина, работавшая с середины 1930-х над «Вишневым садом» с учениками Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского и под руководством мужа, назвала сцену Дуняши, Епиходова, Яши и Шарлотты 346 из второго чеховского действия «Клубом самодеятельности», где каждый человек из народа выказывал свой природный артистический талант. В прошлом либеральная барыня, она относилась к челяди по-доброму.
Видимо, Станиславский одержал на усилении рабоче-крестьянского фона «Вишневого сада», недостававшего «Турбиным», заметную победу, если рецензент возобновления Д. Тальников, защищавший Станиславского от упреков в буржуазной недалекости, написал, что подлинные герои спектакля — классовые собратья Дуняши, Яши и Епиходова, «те самые тихие, безмолвные, ни слова в пьесе не говорящие мужички, которые на сцене Художественного театра появляются только затем, чтобы внести в дом сундуки барыни Раневской, а живут где-то там, за кулисами, невидимо и неслышно»254.
Конечно, тут дело было не в спектакле. Прислуга и прежде отдыхала и развлекалась, как умела; Москвин, как и прежде, отлично пел романс-серенаду: «Что мне до шумного света, что мне друзья и враги…» — которая выражала его любовь и ревность к Дуняше, — вспоминала Лилина (I. 1), хотя голос его, может быть, и потерял обертоны; мужички точно так же вносили и выносили багаж и жили где-то там, за кулисами, невидимо, неслышно. «Пересмотр делает сама эпоха. Она, меняя мировосприятие зрителя, меняет и его отношение к спектаклю, меняет и то, что он от спектакля берет», — понимали критики, помнившие дореволюционный спектакль255.
Расчет Станиславского оправдался.
Новая эпоха, осудившая барство, переполнялась уважением к человеку труда, к простому мужику. И с агрессивной неприязнью посматривала на Гаева. Кто-то видел в нем мишень для сатирического разоблачения, кто-то — «убедительный образчик вредной никчемности», а кто-то и элемент, враждебный обществу труда. Среди таких был и Ю. Соболев. На рабоче-крестьянском фоне, усиленном новыми исполнителями — молодыми, талантливыми и честолюбивыми, получавшими возможность ярко заявить о себе, — тип беспомощного барина-белоручки, эдакой изнеженной орхидеи, словами Амфитеатрова, проростей из 1904-го в 1928-й, — не вызывал у эпохи симпатий.
Молодежная ленинградская газета «Смена» писала во время гастролей театра: «Сам спектакль мало изменился. Но коренным образом изменилось восприятие спектакля, разыгрываемого теперь перед иным по классовому составу зрительным залом. Наивные мечтания молодой Ани, восторженные речи Трофимова в наши сурово-героические годы кажутся такими же несостоятельными словами, как и бестолковые слова стареющего Гаева»256.
Деревенская характерность, приданная Станиславским ролям прислуги Раневской и Гаева, и подчеркнутая беспечность «стареющих» 347 Раневской и Гаева обостряли социальные контрасты спектакля. Драма с упрощавшей ее лобовой социальностью склонялась к комедии, которая все же при возобновлении «Вишневого сада» Станиславским не задумывалась.
Исполнительская ретушь меняла, помимо воли Станиславского, тональность и темп второго акта, заданный молодыми.
Третье действие динамизировалось — танцами, фокусами и почти водевильной сценой Раневской, психологически облегченной, суховато-бесслезной, эгоистичной, и Пети, сценой «тряпки и болтуна».
А последний акт Станиславский подверг основательной темпоритмической коррекции, старательно освобождая Чехова от репутации «нытика». Он сократил знаменитые паузы и убрал излишнюю сентиментальность в сценах прощаний и отъезда. Тальников интерпретировал ускоренный темп последнего акта по-своему: сегодняшние Гаев и Раневская прощаются с домом и садом «спешно» и «тайком», «ибо время не ждало, надо было убегать в зареве пожаров», убегать в эмиграцию.
Не все были довольны нововведениями. «Боязнь показаться смешным сушит тон, торопит и комкает интонации», — заметила ленинградская «Красная газета»257.
Однако всех попыток режиссера освежить старый спектакль, повернуть его к новому зрителю не хватило для того, чтобы советские журналисты и театральные критики признали решительный разрыв Станиславского с прошлым. В «Вишневом саде» Художественного театра все равно просвечивала «барственная поэзия гаевского “Вишневого сада”», а чеховская идеология как была чужда в 1904-м настроениям рабочих кварталов — в то время, когда Горький уже почувствовал их, а Чехов нет, — так и осталась «не нашей», — писал «Новый зритель» в статье, озаглавленной «У своей колокольни». Художественный, по мнению журнала, так и не отошел от нее. В том, что «Вишневый сад» «не наш», убеждал автора статьи «затуманенный призыв к какой-то фантастической новой жизни. Особенно дико слышать о ней теперь из наивных грез молодой племянницы Гаева Ани или из словоблудия эсерствующего старого студента Пети Трофимова», — писал он, обвиняя режиссера в «идеологической прострации», которая заквашена в нем «русской закатной интеллигенцией» и так и не искоренена258.
Булгаков был прав. Даже если бы он исполнил все требования, предъявляемые к советскому писателю, подчинился бы воле наркома и создал бы в «Турбиных» рабоче-крестьянский фон, он все равно не удовлетворил бы критику, не угодил бы ей.
Именно это и случилось со Станиславским, хотя он и после премьеры обновленного «Вишневого сада» пытался оптимизировать спектакль. На роль Ани в дубль Тарасовой он ввел совсем молоденькую А. О. Степанову. Станиславский сам занимался с актрисой. Он выбрал 348 ее, учуяв в ней необходимый спектаклю и роли, как и он считал, «мажор». «Дайте […] молодой Ане темперамент Ермоловой, и пусть […] молодая девушка, предчувствующая вместе с Петей Трофимовым приближение новой эпохи, крикнет навесь мир: “Здравствуй, новая жизнь!” — и вы поймете, что “Вишневый сад” — живая для нас, близкая, современная пьеса, что голос Чехова звучит в ней бодро, зажигательно, ибо сам он смотрит не назад, а вперед», — писал Станиславский в 1926 году в русском издании «Моей жизни в искусстве» (I. 4 : 352).
«Голос Чехова звучит […] бодро, зажигательно…»
Аня Степановой, оставаясь барынькой, действительно была «удивительно звонкой», неукротимо энергичной. Актриса одарила ее своим «светлым сиянием», — вспоминала Кнебель.
Ни слезинки, ни капли сожаления не было в ее прощании с домом, садом, со старой жизнью. То, что делала в этой роли Степанова, не удавалось до нее ни одной исполнительнице — от Лилиной до Тарасовой. Аня Степановой не замечала, что стены ее детской — голые и мебель сдвинута к выходу. И что мама плачет от бессилия. И что дядя поник. Длинноногая полудевушка-полуподросток рвалась отсюда вдогонку за идеей всеобщего счастья, уже всецело овладевшей ею, забыв и маму, и дядю, и Фирса, не отправленного в больницу. Она стремительно летела отсюда, не оглядываясь назад, свободная от прошлой жизни, от людских забот, свободная даже от Пети, от сердечных чувств к нему. Ничто не притормаживало ее бега, ее побега из дедовско-родительского «Вишневого сада». Не она за Петей, а облезлый Петя Подгорного спешил за ней, замешкавшись с галошами.
Пропасть отделяла Аню Степановой от Ани Лилиной. Первая Аня Художественного театра, поздравляя «маму» Любовь Андреевну — Книппер с 70-летием, не могла забыть их дуэта в «Вишневом саде»: «Любовь Андреевна и Аня; бесконечная нежность, жалость и страх потерять маму навсегда!» (IV. 5 : 200).
Аня Степановой летела навстречу будущему бесстрашно.
И все же премьеру возобновления определяли «старики»: Книппер-Чехова, Станиславский, Грибунин, Лужский, Подгорный. Молодежь их не переиграла и стрелку «минора» в «мажор» не перевела. «Старики» забивали деревенский фон и ослабляли энергетическое воздействие Ани — Степановой на нового зрителя. Ее стремительность и безоглядная вера в идеи «новой жизни» не спасали от драмы людей на переломе «старой жизни» в «новую», как не спас «Турбиных» «Интернационал», звучавший под занавес, и «Унтиловск» — финальная строевая комсомольская песня.
«Старики» не дали молодым прокричать «Здравствуй, новая жизнь!» Здравицы, восклицательного знака к юбилею не получилось. Книппер-Чехова и Станиславский слишком мягко развенчивали уходящий 349 класс. А Подгорный в роли Трофимова просто дискредитировал революционность пьесы, даже умеренную, на уровне предчувствия, и официозная критика, несмотря на переполненные залы и овации публики и старым исполнителям, и молодежи, продолжала настаивать на непригодности драматургии «упадочнического периода» в репертуаре советского театра.
Чехов — писатель своего времени, он история, он сметен вместе с Раневскими и Гаевыми, и «толковать тут нечего», — писал журналист московской газеты «Читатель и писатель»259, подтрунивая над «интеллигентским бредом» той части прессы, которая видела в Чехове знаменосца идеи жизнестроительского труда, а в Пете Трофимове — ровесника «нашей большевистской гвардии»260. Труд, о котором мечтают чеховские идеалисты, никак не сопрягается с «героическим трудом миллионных масс, завоевавших небывалую жизнь», а интеллигентская молодежь шла в 1917-м к белогвардейщине, — спорил автор «Читателя и писателя» с теми, кто отправлял чеховских Трофимовых, истолкованных Художественным театром, в революцию. «Подумайте, не идет ли прямая ниточка от Трофимова и Ани к вдохновенным юнкерам из “Дней Турбиных” и гимназисточкам из “Любови Яровой”? А коли так, то что же нашему поколению может дать “Вишневый сад”?» — вопрошал писатель читателя, беря его в боевые союзники.
Эсерствующие студенты, юнкера, белогвардейцы — замелькало в свидетельских показаниях рецензентов новой редакции чеховского «Вишневого сада».
Революция давно расправилась со своими врагами.
Юнкеров и белогвардейцев расстреляла.
Эсеров сгноила в лагерях.
«Новый зритель» не желал видеть их «воскресшими» на сцене Художественного театра.
Только в 1930-х, когда «старики» утратили позиции в «Вишневом саде» и отдали все роли актерам второго поколения мхатовцев, спектакль вписался в идеологию революционной эпохи. Только новый ансамбль смог воплотить нового Чехова, каким его представил в главе о «Вишневом саде» автор «Моей жизни в искусстве».
Для юбилейных торжеств в честь тридцатилетия Художественного театра возобновленный «Вишневый сад» не годился. На торжествах ожидалась вся «большевистская гвардия» и лично товарищ Сталин.
Прислушиваясь к мнению прессы, художественники подумывали о включении в программу юбилейного представления отрывка из «Доктора Штокмана». «Старики» вспоминали, как революционно звучал спектакль в начале века. Но отказались от этой идеи. Станиславский один в «Штокмане» уже не вытянул бы тему. Остановились на отрывке 350 из «Трех сестер». В «Трех сестрах» был ансамбль. Им можно было гордиться.
Но главное было не в этом.
Отрывок из «Трех сестер», а не из «Вишневого сада» и не «Штокмана» выбрали, конечно же, не из-за Станиславского и мечтаний Вершинина о том, как невообразимо прекрасна, изумительна будет жизнь на земле через двести-триста лет. А из-за монолога Тузенбаха: «Надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку» (II. 3 : 123). Именно этих слов — предсказания и приветствия у Чехова октябрьских бурь — ждала от театра советская общественность. И Качалов под изумленный шепот и бурные, долго не смолкавшие аплодисменты, как писали все советские газеты, вдохновенно произнес на юбилейном спектакле 29 октября 1928 года этот гимн новой, трудовой жизни, когда будет работать каждый. «Каждый».
Эти чеховские слова у «стариков» Художественного и у Качалова — Тузенбаха, их доверенного в монологе лица, были в душе и на устах. Они вкладывали в них свой, особый смысл. Вот и Ольга Леонардовна вспомнила их в последнюю предъюбилейную весну, когда театр впервые после революции приехал в Ленинград с «Вишневым садом» в репертуаре гастролей, в их любимый Петербург, в тот же город, но с другим названием. И с другим содержанием. Эти и другие перемены, с которыми приходилось сталкиваться старым актерам, всегда возвращали Ольгу Леонардовну к словам Тузенбаха, а не к монологам Пети Трофимова. Монолог барона стал выражением ее собственных мыслей. Сколько раз ее Маша слушала его на именинах у Ирины Прозоровой, а она сама признавалась, что часто думает про себя, что она и есть Маша. В конце мая 1928 года Ольга Леонардовна, делясь с ленинградцами воспоминаниями о Чехове и Художественном театре, произнесла: «И вот та буря, та громада, о которой говорил Тузенбах, пришла и сдула с нашего общества лень, равнодушие к труду, гнилую скуку, сдула Вишневые сады, сдула тех Гаевых и Раневских, чей был “старый дом”»261.
Незаметно для себя вписываясь в реальность, Ольга Леонардовна превращалась в советского человека, оправдывавшего революционное насилие.
Критики либерально-интеллигентского толка, еще сохранившиеся, приветствовали возвращение чеховских «Трех сестер» на сцену Художественного театра в его юбилейном спектакле. П. Коган, Ю. Соболев, Л. Гуревич, Н. Телешов в газетных рецензиях, отчетах и брошюрах, выпущенных по случаю юбилейной даты, подчеркивали современность звучания Чехова в монологе Тузенбаха. «Пьеса получала в свете нынешнего дня новую, злободневную окраску», — писал Н. Волков в «Известиях» 351 в юбилейные мхатовские дни. «“Трех сестер” можно показывать в наши дни, показывать как историческую пьесу, точно передающую настроения русской интеллигенции 90-х годов. И, кто знает, может быть, в новой трактовке эта пьеса окажется даже нужной нашей, советской стране», — писала «Рабочая Москва», предсказывая возвращение и «Трех сестер» в репертуар театра262.
Но «Три сестры», сыгранные последний раз в Художественном до отъезда труппы за границу, оказались нужными стране только в 1940-м и в новой трактовке, осуществленной после кончины Станиславского Немировичем-Данченко, восьмидесятидвухлетним патриархом русской сцены, с актерами второго поколения МХАТ. Юбилейный фрагмент, вызвавший удивленный вздох всего зрительного зала, не помог этой пьесе Чехова. Больше того, он задержал ее возвращение в репертуар.
Коммунисты и марксистская критика, подводя итоги юбилея, трубили о закреплении старых позиций художественников и о «правой» опасности, надвигающейся на культуру со стороны Художественного театра. Подсекция марксистского театроведения при секции литературы и искусства Комакадемии провела публичное пленарное заседание с обсуждением доклада П. Новицкого «Социология юбилея МХАТ». Публичное судилище. Художественному театру вменялись в вину: внутренняя замкнутость, страх перед действительностью и вследствие этого уход от наиболее актуальных тем в крайний индивидуализм. Докладчик и выступавшие за ним с содокладами и в прениях И. Нусинов, В. Блюм, Э. Бескин, И. Туркельтауб, постоянные и давние оппоненты Станиславского, громили его «систему», построенную на культе индивидуальной психологии, на отдельном человеке, оторванном от коллектива, от общества, от задач социализма, и обрушивались на его юбилейную речь, произнесенную на официальном торжественном заседании. Станиславский поднял коммунистический зал — почтить память Саввы Тимофеевича Морозова, поклонился «дражайшей половине» — Немировичу-Данченко и поблагодарил правительство за то, что позволили театру перекрашиваться в красный цвет постепенно, эволюционно, а не заставили бежать с красным знаменем впереди революционных колонн. Поблагодарил, но не поклонился высокопоставленной ложе.
Этого непоклона и Савву Морозова ему не простили.
«Ответная речь Станиславского на торжественном юбилейном заседании в МХАТ показывает глубокую душевную и духовную — органическую отчужденность его и его театра от нашей эпохи. И нечего больше от него ждать, — говорил докладчик. — Гораздо правильнее взятый Немировичем-Данченко курс на молодежь», — печатал «Новый зритель» в отчете о заседании в Комакадемии263.
Монолог Вершинина на именинах у Ирины Прозоровой, хлопоты по юбилею, физическая и моральная нагрузка в юбилейные торжественные 352 дни стоили Станиславскому сердечного шока, случившегося на спектакле, и окончания артистической карьеры. С конца 1928-го — после того инфаркта — он бесконечно лечился за границей и дома, в подмосковных Узком и Барвихе, в санаториях для привилегированных больных. Приходилось жить «в ссылке», как Чехову — в Ялте. Судилище марксистов и болезнь по существу выбили Станиславского из реальной жизни Художественного театра следующего десятилетия.
С 1929-го Художественный покоился в основном на плечах Немировича-Данченко. Именно ему — с подачи Комакадемии — партия и правительство доверили этот важнейший государственный объект. Хотя Станиславский, второй директор, и формально, и юридически оставался в театре непререкаемым авторитетом и такой же культовой фигурой, как первый.
Невключение «Вишневого сада» в юбилейные торжества оказалось для спектакля спасительным. Всю мощь идеологического удара приняли на себя «Три сестры», попавшиеся на глаза красной профессуры. «Сестры» послужили «Вишневому саду» громоотводом. Избежав судилища театроведов в штатском, «Вишневый сад» удержался в репертуаре МХАТ. А удержавшись и наращивая социально-оптимистический потенциал в Петиных речах, надолго закрепился на шехтелевской сцене, поддержанный репутацией Чехова, созданной «спецами» и Станиславским в «Моей жизни в искусстве», как зеркала «кануна русской революции».
* * *
После десятилетнего отсутствия обновленный «Вишневый сад» вернулся в репертуар Художественного театра на правах классического шедевра. Спектакль любили: на его премьере был сам Чехов, объявленный в 1929-м, через 25 лет после кончины, «великим русским писателем». Любили в «Вишневом саде» и Ольгу Леонардовну — и как Книппер, создавшую образ чеховской женщины, обреченной исчезнуть вместе со своим никчемным сословием. И как Чехову — вдову «великого писателя». Тень Чехова вместе с его фамилией — Книппер-Чехова — следовала за ней по пятам.
С 1928-го до 1940-го, до постановки «Трех сестер» Немировича-Данченко, «Вишневый сад» монопольно представлял Чехова на сцене лучшего театра страны, повернувшегося с «Бронепоезда 14-69» лицом к революции. Украшавший афишу МХАТ до 1951 года, спектакль шел часто. В сезоне 1929/30 гг. его играли 71 раз, в 1932/33 и 1933/34 — по 39 раз, в 1937/38 — 36 раз, в 1942/43 — 8 раз, в 1943/44 — 57 раз, в 1947/48 — 52 раза. С 1947-го «Вишневый сад» Станиславского и Немировича-Данченко делил шехтелевскую сцену с «Тремя сестрами» и «Дядей Ваней», 353 поставленным артистом и режиссером театра М. Н. Кедровым с Добронравовым в заглавной роли. В 1958 году, после семилетнего отсутствия, «Вишневый сад» вернулся в Художественный в постановке В. Я. Станицына с участниками премьеры немировических «Трех сестер», Раневскую играла Тарасова. «Роль очень трудная, там много всего: и деньги рассыпались, и платочки, и телеграммы», — напутствовала девяностолетняя Ольга Леонардовна шестидесятилетнюю актрису (V. 23 : 106).
Последние два с лишним десятилетия своей репертуарной жизни первая постановка «Вишневого сада» в Художественном, отредактированная Станиславским в 1928 году, содержалась в тепличных, оранжерейных условиях. А по мере того как Художественный академический становился первым театром страны, «Вишневый сад» превращался в образец эстетики сценического реализма. Никто впредь не смел терзать его разносами. Его трепетно оберегали как историко-культурный памятник чеховской эпохе, отжитой, сметенной русскими революциями. Он стал неприкасаем, как и Художественный театр.
С конца 1920-х в отзывах о нем советской прессы преобладали интонации умиротворенные, мемуарно-элегические. Этот тон, ласкавший спектакль, задавали «старики», участники премьеры 1904 года. Все газеты, органы ЦК ВКП (б) и Советов депутатов трудящихся разных уровней — от столичных до периферийных — охотно предоставляли трибуну Книппер-Чеховой, Москвину, Леонидову, Качалову, народным артистам Республики, народным артистам СССР, орденоносцам. Не молчал и Вишневский. И во весь голос говорили актеры второго поколения театра, новые исполнители ролей в отредактированной версии старого «Вишневого сада».
За сохранностью памятника бдительно следили и внутри театра.
И в 1930-х, и после смерти Станиславского — в 1940-х все так же суетились, когда разносили по комнатам сундуки Раневской, приехавшей из-за границы, ее чемоданы, узлы, пледы. Станиславский был уверен, что все, как и он, знали, что содержится в этом багаже. Он-то знал, что Гаеву привезены в подарок галстуки, а кому-нибудь — и непременно — «прыгающую собачку на гуттаперчевой трубке (как продают на бульварах в Париже)» (I. 6 : 185).
Так же прислушивалась Дуняша к звуку подъезжавшего экипажа. Это был тот самый звук, который нашли к премьере 1904 года, возя экипажным колесом по песку с камнями в ящике.
Так же протирали запотевшие стекла ладонью, чтобы посмотреть, как разросся за шесть лет отсутствия хозяйки старый сад.
Так же кипел на столе все тот же самовар. Его не меняли с чеховской поры. Он ездил и в Петербург, и в Малороссию, и в Европу, и в Америку.
354 Пока пили чай, туман рассеивался и всходило солнце. И публика всякий раз аплодировала этому театральному чуду. Помня замечания Станиславского, передававшиеся изустно, рабочие сцены никогда не освещали комнату прежде сада за окном.
В третьем акте на маленьком подносе в трясущихся руках дряхлого Фирса лежали пастила, орехи и на всех гостей — бутылка сельтерской, давно исчезнувшая из госторговли. С этим же подносом и этим реквизитом на нем выходил Артем на премьере 17 января 1904 года.
В Художественном театре все было четко, точно, слаженно. И не по-бутафорски фальшиво, а по правде, какой ее нашли на сцене в начале века. За работой постановочной части присматривал В. В. Шверубович, отлично помнивший первую редакцию спектакля, где его отец играл студента, Епиходова и Гаева.
Неприкосновенными были и мизансцены, и рисунки ролей, и темпы, подправленные в 1928-м, и тон, не опускавшийся до «нытья». Напротив, год от года он набирал к финалу радостно-мажорные, пафосные ноты.
В 1935-м, к 75-летию со дня рождения Чехова, обновили декорации Симова.
На подмогу постаревшей Ольге Леонардовне ввели дублерш. Первый раз она уступила роль Раневской в спектакле 2 января 1941 года В. Н. Соколовой, Елене в «Турбиных» Булгакова.
После ранней смерти актрисы в очередь с Ольгой Леонардовной с 3 июля 1943 года Раневскую играла Андровская, Дуняша возобновления 1928 года.
28 января 1945 года в роли Раневской дебютировала В. Н. Попова.
Бессменная с 17 января 1904-го до 2 января 1941 года, Ольга Леонардовна ни в конце 1920-х, ни в первой половине 1930-х ничего в своей роли не меняла. Она вообще не думала ни о рисунке, ни о мизансценах. Чувствовала себя в спектакле, как в собственном доме. Все так же махала руками, задирала подол, предаваясь «грошовому кокетству», которое так не любил в ней Станиславский. И смех, и слезы, и грех, и раскаяние — все было рядом у Ольги Леонардовны, не превзойденной никем из более молодых и, быть может, более умелых актрис, ее дублировавших в этой чеховской роли. Уникальный дар Ольги Леонардовны — эту легкость в смене настроений — повторить было невозможно. Другой талант и профессиональная техника, более крепкая, чем у Ольги Леонардовны, отступали перед ее даром жить легко в условиях полнейшей безысходности и в жизни, и на сцене, — писали ее поклонники. Она завораживала их и личным обаянием и магией имени: Чехова.
В остальных ролях через «Вишневый сад» второй редакции прошли лучшие силы театра — Топорков, Ершов, Грибов, Хмелев, Орлов.
355 Но все юбилейные спектакли — в честь именин Чехова, совпадавших с днем рождения «Вишневого сада» в Художественном, в честь юбилеев самого театра или его корифеев — играли, пока могли, кроме Ольги Леонардовны: Качалов, Москвин, Халютина и Мозалевский. Качалов играл Гаева. Халютина, первая Дуняша, — Шарлотту, подготовленную ко второй редакции. Москвин — Епиходова. Неизменный Мозалевский — роль дворника, выносившего баулы, сумки, чемоданы, корзинки и картонки старой хозяйки «Вишневого сада», приезжавшей в первом акте и отъезжавшей в четвертом.
Шестисотый «Вишневый сад» шел 25 января 1933 года. Станиславский поздравил всех его участников трогательным приветствием:
Дорогие друзья.
Как мне жалко, что я не с вами сегодня, в нашем еще цветущем «Вишневом саду». Прошло четыре года с тех пор, как я в последний раз простился с вами, пролил слезы и, утирая глаза, ушел из него — навсегда.
В свое время я был бдительным стражем и хранителем спектакля. По-видимому, кто-то успешно заменил меня и продолжает заботиться о «Саде», потому что он не увядает. Это приятно и валено, так как единственная оставшаяся в репертуаре чеховская пьеса свидетельствует о прошлой блестящей поре нашего театра и о выращенных нами основах искусства МХТ. Пусть этот показательный спектакль стоит крепко, как маяк, и указывает правильный путь (I. 9 : 328).
Последний раз Станиславский играл Гаева, утиравшего слезы в сцене прощания с домом, на гастролях театра в Ленинграде весной 1928-го.
Ольгу Леонардовну Станиславский отметил отдельно:
Первый мой поклон нашей дорогой и неувядающей Раневской — Ольге Леонардовне. Она пережила во всех странах мира шестьсот раз трагедию женского сердца и всегда жила ею от искреннего чувства и увлечения. Это — пример и своего рода подвиг, за который я кланяюсь ей низко, восторженно приветствую и поздравляю… (I. 9 : 328).
И Мария Петровна Лилина написала Ольге Леонардовне:
К 600-му представлению «Вишневого сада»!
Олечка, дорогая! Вы же единственная, носящая на этом пути эту громадную, почтенную цифру. Ура, ура, ура!
356 Когда Вы первый раз играли эту чудесную роль, я была Вашей дочкой Аней — и соответствие было признано. Через несколько лет я стала Вашей преданной Варей!
А теперь, когда Вы продолжаете быть той же обаятельной и трогательной (я настаиваю на трогательной, ибо трогательность — один из главных и лучших элементов Вашей роли) Раневской, я могу мечтать быть только Вашей старой слугой — Полюшкой, — появляющейся в 3-м акте на балу. Честь Вам и Слава!
Я жалею, что поздно узнала об этом юбилее, я с восторгом вышла бы в этой безмолвной роли в честь дорогого, незабвенного, великого нашего Антона Павловича и в честь Вашу, милая, дорогая Ольга Леонардовна и столь же милая, дорогая Любовь Андреевна. От души желаю Вам не сдаваться и много лет еще благоухать в весеннем аромате прекрасного «Вишневого сада».
Живите, здравствуйте, обогащайте искусство, радуйте людей!!!
Ваша Мария Лилина […] (IV. 5 : 172).
Ответное послание Станиславскому от участников шестисотого представления «Вишневого сада» собрало 30 подписей. Ольга Леонардовна отозвалась своему «брату» и вместе со всеми, в коллективном письме, и отдельно, особо:
Дорогой наш и любимый Константин Сергеевич.
Мне очень хочется сказать Вам самые нежные, самые благоуханные слова за Ваше необыкновенно трогательное, теплое письмо ко дню нашего 600-го «Вишневого сада», которое так умилило и согрело душу воспоминанием о нашем прекрасном и мучительном прошлом, так оно всколыхнуло всю нашу жизнь и все то прекрасное и суровое, что Вы вносили в наше искусство, в наш театр, и что мы по мере сил стараемся донести до конца.
Я пишу, а у меня слезы на глазах, слезы любви и благодарности к Вам, могучему и дорогому, и далекому и близкому […]
Вы, Владимир Иванович и Антон Павлович живут неразрывно в моей душе (IV. 5 : 173).
«Вишневый сад» с Ольгой Леонардовной — Раневской, «показательный спектакль», как сказал о нем Станиславский, счастливо жил на сцене Художественного театра от юбилея до юбилея, бронзовея и при жизни превращаясь в легенду.
Юбиляры украшали ее милыми пустячками.
357 30 января 1935 года, когда «Вишневый сад» впервые шел в обновленных декорациях, Лилина играла роль старой Полюшки на балу у Раневской и преподнесла Ольге Леонардовне «семейный крендель», «сладкий, душистый, сочный и мягкий», по рецептам старых чеховских слуг, ею не забытых. К кренделю и бутылочке шипучего Лилина приложила записку:
Единственной во всем СССР Помещице!!!
Вечной, бессменной Владетельнице усадьбы «Вишневого сада», прекрасней которого ничего нет на свете.
Дорогой Маме, Мамочке и милой Барыне от: Ани, Вари и Полюшки.
Записка завершалась здравицей в честь Любови Андреевны Раневской и подписью: «Мария, родства не помнящая» — текстом Маши Шамраевой из «Чайки» (V. 13 : 224 – 225). С Маши Шамраевой начиналась вереница чеховских ролей Марии Петровны Лилиной, которые она играла в спектаклях с Ольгой Леонардовной.
30 сентября 1935 года Станиславский и Лилина снова приветствовали Ольгу Леонардовну и всех участников семисотого представления «Вишневого сада» — от лица заштатных садовников, дедушки и бабушки Ани. «Если он продолжает и теперь расти и благоухать, то значит, что садовники прекрасно исполнили свою художественную миссию», — напоминали они о себе «всем чадам и домочадцам Раневской» (I. 9 : 414).
Ольга Леонардовна, последняя помещица в СССР, так же тепло и с юмором благодарила своего первого и неповторимого брата Леонида, последнего помещика в СССР, и свою первую юную дочку Аню. «Юную» — взяла в кавычки. Чувство иронии и самоиронии, тоже чеховское, не изменяло ей в общении со старыми друзьями.
Перед последним актом семисотого «Вишневого сада» Немирович-Данченко собрал всю труппу в фойе театра и обратился к Ольге Леонардовне с задушевной речью:
Факт исполнения одной и той же актрисой своей роли в пьесе на протяжении 30 лет в 700 спектаклях, не сдавая ни на йоту своего исполнительского мастерства, безусловно, войдет в историю русского театра. Казалось бы, нашему современному зрителю, чужда элегическая лирика чеховских пьес, и «Вишневый сад» будет непонятен. Но действительность показала, что спектакль одинаково волнует не только нас, стариков, но и представителей нашего молодого поколения264.
Ольге Леонардовне стукнуло 67, но она не сдавалась. «Я волновалась весь день, — писала она Станиславскому и Лилиной, отчитываясь о том, как прошло семисотое представление “Вишневого сада”. — 358 […] Было такое чувство, будто я впервые играю Раневскую. Всколыхнулась и вся прожитая артистическая жизнь, и моя личная жизнь. Я долго не могла успокоиться после этого спектакля. Почувствовала я в этот вечер, что есть у меня еще запас сил и радости жить на сцене» (IV. 5 : 183).
У Станиславского силы и радость таяли.
С конца октября 1928-го он не выходил на сцену, а с осени 1934-го — не переступал порога шехтелевского здания в бывшем Камергерском. Его переименовали в проезд Художественного театра. Всей творческой работой в театре заправлял Немирович-Данченко. У Станиславского делались от холода спазмы в сердце. Весной, когда он мог бы работать по состоянию здоровья, — театр уезжал на гастроли, а потом актеры распускались на летний отпуск. Осенью, когда театр открывал сезон, — задерживался в подмосковном санатории или на лечении за границей.
Он жил и работал в Леонтьевском. Там проходили текущие и предвыпускные репетиции — без декораций, гримов и костюмов — тех спектаклей, в которых он осуществлял художественное руководство. Макеты и костюмы он рассматривал отдельно и подолгу, обсуждая их с художниками, с сотрудниками постановочной части и цехов. Все приходили к нему домой. И этих спектаклей — «Мертвых душ» и «Талантов и поклонников» — он на сцене не видел.
Но, уйдя из-за болезни со сцены и устранившись от повседневной практической работы в театре, Станиславский продолжал заочно исполнять в «Вишневом саде» миссию «садовника». Вся ответственность за спектакль лежала на нем, режиссере второй редакции спектакля. И первые исполнители «Вишневого сада», постепенно выбывавшие из строя, и дублеры, не дававшие спектаклю угасать, — молились именно на него. Этими молитвами и держался ансамбль, отгороженный в 1930 – 1940-х от истинного воздуха современности святыми стенами и микроклиматом, благоприятным для консервации музейного шедевра, подреставрированного в 1928-м.
Кроме навыков и методов практического освоения актером роли, сближения с ней и оправдания ее, передававшихся от старших к младшим, Станиславский оставил своему спектаклю духовное завещание — книгу «Моя жизнь в искусстве» с главой о «Вишневом саде», о последней чеховской пьесе и о работе театра над ней. Она стала настольным пособием для актеров второго поколения художественников, принимавших роли от «стариков» и всерьез задумывавшихся о них. Новые исполнители, трепетавшие перед Чеховым и перед Станиславским, главу штудировали, на нее ссылались, ее цитировали. Ключевые мысли, изложенные там, Станиславский не раз повторял и когда до 1934-го бывал в проезде Художественного театра и репетировал с артистами, и когда беседовал с молодыми у себя в особняке.
359 Его слова о том, что «старая жизнь бесповоротно осуждена на слом», что Чехов задолго до революции предчувствовал многое из того, что теперь свершилось, и что он «сумел бы принять все предсказанное им» о наступившем светлом будущем, превратились в канон для правоверного советского человека. Иных в труппе не держали. Старый спектакль играли в 1930-х люди новой идеологической формации. Они осуждали прошлое, «старую жизнь», и принимали вместе с учителем и «стариками» жизнь «новую». Правда, в отличие от них, не пройдя через душевные муки.
Менялись исполнители — менялись и человеко-роли, а вместе с ними и «показательный спектакль». Он менялся помимо воли и веры актеров, молившихся на Станиславского и его постановку, сыгранную на премьере 1928-го «стариками». Тщательно оберегаемый от разрушения различными приемами консервации, доступными театру, наглухо отгороженный от разрушительного воздействия внешней среды, спектакль подтачивался изнутри самими исполнителями.
«Старая жизнь бесповоротно осуждена», — подхватывал Ершов ключевую мысль Станиславского, получив роль Гаева. Актер стремился обнажить «абсолютную никчемность», ничтожность барина, обременяющего землю своим существованием. «Гаев, интересы которого ограничиваются игрой на биллиарде, всем существом своим показывает вырождение своего класса» — характеризовал Ершов Леонида Андреевича в интервью газете «Комсомолец Донбасса»265. Этот Гаев уже не мог растрогать зрительный зал. Тунеядцев — и Гаева из их числа — зал презирал. Но Гаевы Художественного театра не подвергались сатирическому разоблачению. За пределы допустимого, психологически оправданного в осмеянии и осуждении «бывших» правоверные мхатовские артисты не выходили. Закон внутреннего оправдания роли, открытый Станиславским в работе над «Горячим сердцем», в театре соблюдался неукоснительно.
Антимхатовский «Вишневый сад» мог родиться только за стенами театра. В 1934-м такой спектакль показал в студии вахтанговца Р. Н. Симонова молодой режиссер А. М. Лобанов, ученик Муратовой по Второй студии театра.
«Я за Чехова против МХАТ», — заявлял Лобанов, задумывая свою версию чеховской пьесы (V. 15 : 189). Он позволил себе усомниться в ценности «забальзамированного» в Художественном «Вишневого сада» и предпринял попытку вынести пьесу из «мавзолея». Он замахнулся на реликвию целиком, вместе с Раневской, Гаевым, Петей и Аней, не отделяя «тунеядцев» старых от молодых.
Лобанов поставил «Вишневый сад» как фарс, озорно расправившись с лирическим элементом пьесы.
360 Он добился того, что зрительный зал хохотал над жалкими, ничтожными Раневской и Гаевым: «эта порода ликвидирована», «их песенка спета».
Зал хохотал над Фирсом: тот умирал, выделывая какие-то физкультурные кульбиты.
Зал хохотал над Яшей, любовником Раневской. Он пел шансонетки и танцевал канкан.
Зал хохотал над Шарлоттой. Актриса играла роль в балетных тапочках.
Точно так же зал хохотал и над Петей. «Петя говорил о своей вере в будущее не Ане, а каким-то гимназистам. Эта сцена происходила не на природе, а в душной бане. Потом крепко выпивший Петя произносил в ресторане монологи перед половым — его выводили», — вспоминала Кнебель, следившая за тем, как иронизировал над художественниками ее безмерно талантливый сокурсник по школе Второй студии МХТ (V. 15 : 189).
Это был «безответственный», внеклассовый подход. Главискусство, функционировавшее при Наркомпросе, не приветствовало его.
Немирович-Данченко, уже ощущавший необходимость совсем нового Чехова на сцене метрополии, подобного «раздиранья» «Вишневого сада» в клочья и в мыслях не допускал (III. 5 : 420, 423). И старые, и молодые мхатовцы, соблюдавшие чистоту своего вероучения, от такой крамолы, и идеологической, и эстетической, шарахались. Весь коллектив художественников, а не только Ершов, публично на страницах газет осуждавший тунеядцев, не способных к созидательному общественно полезному труду, был солидарен с учителями.
Труппа слепо, без рассуждений, на веру, ее разделяя, принимала образ Чехова — по Станиславскому 1926 года, витавший над их спектаклем. Петя второй редакции спектакля в первой половине 1930-х если и не попадал в разряд болтунов-фразеров, каким видел Станиславский Петю в начале века и от какого отказался в «Моей жизни в искусстве», то и не попадал в разряд осуждаемых эпохой «бывших».
«Сценическая передача чеховской мечты должна быть рельефна», — учил Станиславский актеров второго поколения художественников. В новом саде, в том, который насадят Петя и Аня, ничто не будет напоминать о кровавом крепостном труде, о помещиках и помещицах, развращенных праздной, сытой жизнью, — считал он, но при этом предостерегал новых исполнителей от прямолинейности, от плакатной революционности в воплощении образов.
Станиславский сам беседовал с Орловым, вводя его на роль студента. Он просил молодого артиста отбросить черты практической несостоятельности, свойственные Пете Подгорного, и найти в этой роли наибольшее соприкосновение с наступившим днем. С его энергией и энтузиазмом. 361 И с самим собой, новым человеком. И Ольга Леонардовна советовала Орлову притушить в Пете недотепу, облезлого барина, высветлить юношу, которому принадлежит будущее, и сыграть его человеком, похожим на нынешних молодых, вламывающих на великих стройках коммунизма. Помогая актеру войти в спектакль, Ольга Леонардовна говорила, что Трофимов, конечно, недотепа, но не божий человек, не юродивый и не люмпен без роду и племени, и поясняла: «В Трофимове бродит неоформленная, не сознающая себя сила, благодаря которой он способен совершить подвиг, о нем не помышляя. Эту силу уважает, эту силу и побаивается в Пете Ермолай Лопахин. Смешной — да, но сильный верой и правдой своей. Вот в чем надо искать Трофимова»266.
Петя — «сильный верой и правдой своей…»
«Верой и правдой…»
«Я жалел эту прекрасную и беззащитную в мире зла женщину, зараженную его пороками», — писал Орлов о Раневской Ольги Леонардовны, обдумывая роль Пети и ощущая пропасть между ним, новым человеком, и Раневской с Гаевым, людьми из прошлого267. Играя Петю сильным, победителем, он отбрасывал все сомнения, все колебания его. «Вот оно, счастье, вот оно идет, подходит все ближе»; «Я уже слышу его шаги» — Петя Орлова был уверен в этом без всяких чеховских «если», без этих интеллигентских глупостей: «Если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его увидят другие!»
«Произнося на сцене эти слова, я мысленно думаю, что в этот момент в зале сидит немало Трофимовых. Их головы седы. Они крупные хозяйственники, ученые, командиры» — признавался актер, и восхищался «пророчеством Чехова, который задолго до революции предсказал в Петиных речах зарю новой», наступившей жизни.
И верно: где-то в зрительном зале сидел Владимир Сергеевич Сергеев, один из прообразов Пети Трофимова, крупный ученый, профессор Московского университета. Он любил ходить в театр. И, глядя на Петю — Орлова, вспоминал, должно быть, себя, недоучившегося гимназиста, имевшего счастье разговаривать в Любимовке на берегу Клязьмы с Чеховым, напророчившим его судьбу.
Одно только не устраивало рабочего зрителя и критику, представлявшую его на страницах заводских многотиражек. Отдавая должное революционному протесту чеховского студента в Художественном театре против гнилой, развалившейся жизни дворянских семей, эта часть критики сожалела, что Петя Орлова — одиночка и что он не ведет за собой массы.
Событием в театральной жизни Москвы стал ввод в спектакль Художественного театра Е. В. Петровой. Окончив среднюю московскую школу, она осенью 1935 года, пройдя через конкурс, вступила в труппу театра и в 19 лет сыграла Аню, решительно отказавшись от лирического 362 тона прежних исполнительниц. «Радостно жить в стране, где самые дерзкие и, казалось бы, несбыточные мечты становятся явью», — говорила она интервьюеру, выходя в роли Ани в юбилейный для себя 30-й раз. У нее была на редкость счастливая биография. Просто образцово-показательная. Критик С. Н. Дурылин, друг Ермоловой и Ольги Леонардовны, опубликовал в газете «Советское искусство» от 1 мая 1941 года статью «Весна творчества» — о Петровой в роли Ани, самой молодой из актрис в этой роли. «Чехов упорно называл свою пьесу комедией. Когда смотришь на Аню — Петрову, это название кажется оправданным: ее Аня вся обращена к будущему, она улыбается ему. Какое оно будет, это будущее, вряд ли она знает, но у нее умное сердце; оно уже чувствует правду будущего, его неизбежность, и эта неизбежность, включая в нее гибель Вишневых садов, окружающих барские усадьбы, для Ани — Петровой не горька, а прекрасна», — писал Дурылин накануне Великой Отечественной войны. Сам человек многотрудной судьбы, бывший священник, принявший сан в 1917-м и в начале 1920-х сложивший его, прошедший через арест, через жизнь с клеймом репрессированного, неизвестно каким чудом отпущенного на волю, критик думал так, как думали миллионы советских граждан, оболваненных сталинским режимом: Аня радуется гибели Вишневых садов, мира зла, и эта гибель прекрасна.
Редкостной красоты Вишневый сад, выращенный поколениями его хозяев, занесенный в старинные энциклопедические словари как национальное достояние России, — мир зла… «Новая жизнь» отреклась от «старой», от лучшего в прошлом.
Пропасть отделяла и Епиходова Топоркова от первого Епиходова — Москвина. Если Москвин окрашивал все смешное в Епиходове любовью к Дуняше, горечью обиды и оскорбленного самолюбия, то Епиходов Топоркова не обижался — был уверен в своей незаурядности и превосходстве над другими. Он не ревновал Дуняшу к Яше, потому что презирал и его. Он грозил револьвером, этот человек с оружием. Кнебель, тогдашней Шарлотте «Вишневого сада», казалось, что играется пьеса другого автора268.
«Вишневый сад» в Художественном театре в исполнении советских артистов звучал в 1930-х бодро, динамично, определенно, по-горьковски. Художественники не только благодарно приняли от правительства имя Горького на вывеске своего театра, бывшего чеховским. Они решительно расстались с эстетикой Чехова — равенства всех «правд», сменив ее на горьковскую, разделявшую «своих» и «врагов». Всех объединял в ансамбль «крепкий» тон, особенно отчетливый в радиозаписи спектакля. Зрительное впечатление от него было мягче.
В радио-Варе — Н. В. Тихомировой, мечтавшей о монастыре и воевавшей с дворней, стирались черточки религиозного «ханжества», 363 намеченные Чеховым, и оставалась одна деловитость с «кулацкими замашками» — приказать, огреть подчиненного палкой.
А. Н. Грибов, играя Яшу, так усиливал деревенский фон, оправдывая его Яшиной деревенской мамашей, так «ржал» в роли и с такой мимикой, что и Лилина, и Ольга Леонардовна, тоже озабоченные новым звучанием старого спектакля, считали, что молодой артист перестарался и «загубил роль».
У Фирса — М. М. Тарханова, «непогребенного мертвеца», — отсутствовала в голосе дряхлость. Она сбила бы общий крепкий тон на недопустимую, «оскорбительную» для советских граждан жалость. Тарханов форсировал интонации нарочитой сердитости, когда его Фирс отчитывал Гаева и Дуняшу, предостерегая ее от печальных последствий легкомысленного поведения. В спектакле при этом он смотрел на непутевую деревенскую девчонку все же «с горьким сожалением», — вспоминала Михаловская.
Старик Фирс у Н. П. Хмелева хоть и развалина, но твердо, как корень, стоял на земле и, казалось рецензентам, был вечен, как советский народ, произраставший из фирсова корня. Социальные тенденции приобретали 1930 – 1940-х и в театре, и в критике гиперболические формы, вытесняя утешительные интонации, чеховский аромат «липового чая». Советский Фирс — уже не бессловесный раб. Театр гордился чеховским старичком. Эпоха утверждала в нем, человеке из народа, нравственное превосходство униженных над порочными дворянами. В умирающем Фирсе эпоха отстаивала неизбывную, неистребимую нравственную чистоту, цельность, мудрость национального характера и способность народа на протест, долго сдерживаемый, но неотвратимый.
А в Лопахине она видела «купца-мироеда», скупщика земель, «рыцаря первоначального накопления». Переводя Лопахина из купцов в капиталисты, презираемые в социалистическом обществе, Добронравов лишал Лопахина нежной души, осложнявшей чеховский образ. Артист в многомерной у Леонидова роли Лопахина рубил все отжившее, остатки барина, выказывая мощный темперамент алчного собственника, как хотел Станиславский в 1926-м (I. 4 : 352). Добронравов оставлял Лопахину силу — без слабости, без недотепистости — и стяжательские инстинкты. Он кружил над Раневской, как ястреб над добычей, напоминая ей о приближающемся сроке торгов, и торжествовал победу, объявляя о покупке сада. Хищник, капиталист, набивавший карман, — он не вызывал симпатий зала. Ольга Леонардовна жаловалась Лилиной, что ей очень трудно вести диалог с Добронравовым, так как он не проявлял к ней любви. А без этого в сценах с ним она не попадала в свою интонацию — растрогавшейся, умилившейся, расчувствовавшейся до последней степени от тепла, любви и уюта, когда возвращалась из-за границы в родительский дом (I. 1).
364 Но теперь и она поддавалась этой всеохватной установке на «ревизию» Чехова, на депоэтизацию «бывших». Стремясь отделаться от «чеховщины», «оскорблявшей» «настоящего» Чехова, — от лирики и расплывчатости акварели, характерных для ее прежней исполнительской манеры, Ольга Леонардовна, как и ее партнеры, не избегала энергичного тона, — заметили рецензенты радиоварианта спектакля. «Этот тон лишает образ Раневской черточек внутренней растерянности, волевого бессилия, которые характерны для всех людей типа Раневской в условиях катастрофы», — писал радиожурналист из издания «Говорит СССР»269. Хотя люди театра, близко знавшие Ольгу Леонардовну, — Лилина, позже В. Я. Виленкин, сотрудник литературной части МХАТ, — все же продолжали различать ее саму в Раневской и поддавались ее трогательности. Но, кажется, только они.
Новый, рабочий зритель и партноменклатура, посещавшие спектакли Художественного, ценили и в этой работе Ольги Леонардовны и ее партнеров прежде всего критическую, обличительную высоту. «Ни капли сожаления не вызывает у зрителя личная трагедия разорившихся дворян Раневских, типичной семьи бездельников, тратящих деньги на заграничные поездки, на свои извращенные прихоти, на приживалок и т. д.», — писала ленинградская газета «Кировец», издававшаяся орденоносным Кировским заводом270. Традиция ежегодных весенних гастролей МХАТа в бывшем Петербурге не прерывалась. Но колыбель русской революции судила теперь спектакль совсем иначе, чем первые петербургские критики «Вишневого сада» — Арабажин, Философов, Измайлов, Кугель, либералы-буржуа. Этой, петербургской породы, не существовало даже в историко-культурной памяти людей критического цеха. Их заменили новые кадры, советские, с «чистым» социальным прошлым, допущенные к печати. Ленинградские журналисты, не видевшие мхатовских «стариков» и не читавшие книг Философова, изъятых из библиотек, не знавшие этого и других имен, составивших славу и честь литературной критики и театроведения, — люди без прошлого — прилагали к спектаклю критерии сиюминутной общественной значимости искусства в условиях социализма. Обновленный «Вишневый сад» Художественного вполне соответствовал им.
Закон тождественности Чехова и его читателя и зрителя, сформулированный Розановым в 1910-х, действовал и в отношении к чеховскому спектаклю. В его лице проглядывали черты «новой жизни», советской.
Ольга Леонардовна играла Раневскую до середины 1940-х.
Но год от года она все меньше походила на чеховскую женщину начала века — «милую актрисулю», музу чеховского образа, а ее Раневская — на бывшую Раневскую, которую так любили, жалели и оплакивали когда-то, вместе с ее родовым имением «Вишневый сад», Художественный театр и его публика. Отливаясь в легенду, Раневская Ольги Леонардовны 365 теряла связь и с прошлым, и с реальностью, бушевавшей за шехтелевскими стенами. Как и положено легенде.
«Чеховским типам в современной жизни места нет. Они вымерли или изменились», — говорила писатель-эмигрант Н. А. Тэффи в 1930-х271.
Защищенная именем Чехова и бронированным панцирем своего театрального дома, Ольга Леонардовна выжила. И не превратилась в музейный экспонат. Она менялась вместе со временем и изменилась, хотя не всегда отдавала себе в этом отчет: становилась другой органично, без ломки, в процессе выживания.
Родина, строившая социализм, окружила семью стариков-мхатовцев заботой и поворачивалась к ним лучшей своей стороной. Все они — и Ольга Леонардовна, и Лилина, и Станиславский, и Качалов, и Москвин — видели ее прекрасное лицо. Другие русские, лишенные родины, называли его показным, парадным.
С середины 1920-х Ольга Леонардовна жила реальной жизнью первой актрисы лучшего, образцового с конца 1920-х, театра страны.
Ей, испытавшей горечь изгнания, было хорошо, тепло на родине, среди друзей, под личной опекой вождей. Сам Калинин, председатель Верховного Совета СССР, вручая высшие государственные награды, пожимал ей руку. Для нее прекрасное лицо страны было светлым, дорогим, с глазами и улыбкой Сталина.
Она полюбила сталинско-калининскую Совдепию больше, чем любила дореволюционную Россию, — признавалась она интервьюеру: «Я не любила людей, которые приходили к нам когда-то только для того, чтобы оплакивать вырубленные Вишневые сады. Но я горячо люблю нынешних зрителей, которые с горящими глазами стоят у рампы и неистово аплодируют, потому что они сами — та молодая поросль, которой суждено разрастись и стать прекрасным садом»272.
Она гордилась своей гражданской значимостью, полноценностью, присоединяя свою скорбь к скорби всего народа по поводу безвременной кончины «большого революционера и прекрасного, отзывчивого человека» Г. К. Орджоникидзе, наркома тяжелой промышленности, члена Политбюро ЦК ВКП (б): «Я не знала его, но ощущение его личности, личности человека мужественного, пламенного, всецело преданного своему большому делу — было всегда неизменно прекрасным», — подписывала она коллективное письмо в мхатовской газете «Горьковец», издававшейся комитетом ВЛКСМ и месткомом, и клялась вместе со всеми в своей преданности великому делу Ленина и Сталина273.
Ее искренний гнев и презрение вызывали все те, кто мешал стране строить счастливое общество, где все равны, как хотел Петя Трофимов, кто тормозил это неуклонное движение вперед, кто пытался сорвать его. Она не могла молчать и не молчала, когда страна разоблачала изменников и предателей, «банду иуды Троцкого», например, «проклятого врага 366 народа, шпиона, диверсанта, пособника иностранных разведок». Вместе с ведущими актерами театра она благодарила органы НКВД за бдительность и оперативность.
Ее подпись украшала благодарственные письма в адрес «славных чекистов», защитников отечества от внутренних врагов.
Пристально и пристрастно отслеживала по газетам то, что происходило на показательных процессах 1930-х, и приветствовала справедливые приговоры советского правосудия. Самого справедливого в мире.
Кажется, одна Лилина из «стариков» Художественного — орденоносцев, народная артистка РСФСР (до СССР она не дотянула), никаких открытых коллективных писем не подписывала, на собраниях не выступала, в президиумы не избиралась и интервью не давала. Она служила одному богу: мужу, великому Станиславскому и Сцене, им созданной.
И слова Сталин не было на ее устах.
Лирические стихи о Ленине, сохранившиеся в ее архиве, неожиданны. Правда, в них Ленин не политик, а дух, вроде Христа, выводящий из темницы двух узников:
За нами
дозорный
катер мчит,
лучом
скользя.
А Ленин смотрит
вечными
глазами
в
такую даль, что сказать нельзя (I. 1).
В другой стихотворной строчке — военного времени, начала 1940-х, когда Лилина осталась в опустевшей замаскированной Москве одна, без Станиславского (он скончался в 1938-м), снова появлялся «Спаситель». Она просила памятник Ленину, одиноко стоявший с протянутой рукой на площади под бомбежкой, просила Каменного властелина: «Дай руку мне…» Хотела, чтобы статуя утянула ее за собой туда, куда ушел Станиславский, — «в такую даль, что сказать нельзя», как пушкинский Командор — Дон Гуана.
А Ольга Леонардовна за все, что случалось в ее театре и в ее жизни нового и хорошего, благодарила свою великую страну и лично товарища Сталина, закрепившего в 1936-м в конституции право на труд и на свободу каждого, всех, а не только ее. Ведь Чехов мечтал о такой конституции, — вспоминала она. «Да здравствует наша прекрасная родина, да здравствует великий вождь народов, наш родной Сталин!» — славила она человека, который дал ей, пятьдесят лет прожившей до революции, счастье жить и творить, и молодому поколению, которое вырастает, счастье воспитываться в самой свободной и самой культурной стране274.
367 «Самой свободной…»
Она и в Чехове, якобы четко разделившем в прошлом, в «старой», «несчастливой» жизни, друзей, «родных» и врагов, видела пророка этой наступившей счастливой «новой жизни». «Помню, сколько друзей и врагов нажила пьеса с первых ее постановок, — говорила она в 1939-м интервьюеру газеты “Комсомолец Донбасса”, предваряя торжественный 800-й “Вишневый сад” в Сталине, на родине “хохлацких Вишневых садков”. — Антон Павлович и я неоднократно получали письма от дворян. “Стыд и срам вам, русскому писателю и русской актрисе, в таком виде показывать дворянство”, — на разные лады повторяли наши враги. Но зато этот спектакль […] еще теснее сблизил Художественный театр со своим зрителем — студенчеством и интеллигенцией. Этих зрителей воодушевлял образ студента Пети Трофимова, любовно созданный Антоном Павловичем Чеховым. Их окрыляла мечта Пети Трофимова о прекрасной будущей жизни»275.
Враги, друзья…
Враги — бывшие дворяне, это знала вся страна.
О том, что поступки Раневской «несимпатичны», говорила даже Гиацинтова, дочь дореволюционного университетского профессора.
«Вся жизнь Раневской была чужда и даже враждебна мне, выросшей в трудовой семье», — признавалась Клавдия Еланская276.
«Враждебна…»
Раневская — барыня, белоручка, этого было достаточно, чтобы эпоха отторгла ее.
И для Ольги Леонардовны 1930-х Гаев и Раневская — враги.
Друзья — Петя Трофимов и зрители, «наши советские зрители, которые тонко и верно реагируют на игру участников “Вишневого сада”. О таком зрителе мечтал Антон Павлович Чехов»277.
А Чехов и Сталин — не просто друзья. Чехов и Сталин — родные…
Смерть Сталина стала для нее тяжким ударом, если судить по газетам: «Ушел от нас самый дорогой человек, наш великий и близкий учитель, наш мудрый и любимый вождь […] Никогда не изгладится из памяти счастье встреч с ним в стенах МХАТа, театра, который он любил и о котором повседневно заботился»278.
В 1953-м, в год смерти Сталина, ей исполнилось 85.
Нравственная цельность, порядочность, интеллигентность не позволили бы ей раздваиваться: говорить одно, думать другое.
Она умела не замечать того, что «шокировало» далее в страшные первые послереволюционные годы красного террора: «избиения», «повешения». Потому что верила: все дурное временно, преходяще. Она и в 1918-м верила в то, что «новая жизнь» будет лучше «старой»:
368 Несмотря на все тяжести, неудобства жизни, несмотря на легкий желудок, несмотря на нелепые декреты — все же угнетенного состояния нет, — писала она в 1918-м Марии Павловне Чеховой из Москвы. — Несмотря на то, что вся жизнь в основе как-то ломается, все же хочется верить, что есть во всем этом перевороте что-то очень нужное и отрезвляющее и что-то новое идет — в очень уродливой отвратительной пока форме (II. 1. К. 77. Ед. хр. 39 : 7 об., 8).
Она и в 1918-м, умела убедить себя в том, что страдания переплавятся в радость для тех, кто переживет их.
Наверное, бывало Ольге Леонардовне совсем плохо не только в 1918-м.
Но жизнь не задавала ей, первой из актрис Художественного театра, образцово-показательного, привилегированного, безответных вопросов: «За что?»
Она была отрезана от родных. Ее племянницы, ей близкие, застряли в Западной Европе. Но после парижских гастролей Художественного театра в 1937 году партия и правительство разрешили ей повидаться с Ольгой Константиновной, урожденной Книппер, по мужу Чеховой, в Германии и пожить у нее.
В благополучные для нее 1930 – 1940-е верить в то, во что хотелось верить, поддаваться облегчающему душу самообману и принимать желаемое за действительное было много легче.
Как и ее Аркадина и Раневская, так удавшиеся ей чеховские женские типы, она умела не заглядывать туда, от чего будет скверно на душе, умела жить с закрытыми глазами или видеть избирательно только приятное.
Неистребимое желание — жить! — роднившее ее с Чеховым, жить вопреки всему, уникальный, «бриллиантовый дар оптимизма», словами В. А. Орлова, помогали жить без душевной дисгармонии. И творчески полноценно в той мере, в какой это было позволено.
Конечно, она знала огорчения, скользившие тенью по ее лицу, добавлявшие ее улыбке что-то совсем невеселое, неустроенное, может быть даже мучительное279.
«Улыбка только не прежняя — она не скрывает больше радостной тайны, в ней грусть утрат и примиренность мудрости», — замечала приятельница молодых лет Антона Павловича Татьяна Львовна Щепкина-Куперник в 1940 году280.
Несмотря на положение и занятость в театре, ее преследовало мучительное чувство творческой неудовлетворенности, нереализованности. Тяжело переносила она простой после горьковских «Врагов», где сыграла в сатирическом ключе роль фабрикантши Полины Бардиной.
Но она не опускала рук, не впадала в уныние.
369 Она думала об Ибсене. Ей казалось, что только при социализме можно вскрыть в пьесах Ибсена «большое социальное содержание», «психологические, семейные и общественные конфликты, которые не могут получить своего правильного и исчерпывающего истолкования на сцене театра капиталистической страны»281.
Ее привлекала роль фру Альвинг в «Привидениях» Ибсена: «Я хотела бы создать образ женщины, жизнь которой растоптана под тяжестью социальных тягот, семейных условностей капиталистического общества. Такой образ явился бы ярким противопоставлением образу социально-активной, раскрепощенной советской женщины»282.
Но в театре боялись патологии и выражали сомнения в созвучности Ибсена новой эпохе.
Она мечтала о возобновлении всего чеховского репертуара, одной Раневской ей не хватало.
Ей говорили, что чеховские спектакли рождают исключительно минорную, элегическую атмосферу на сцене, категорически недопустимую. К ее возражениям не прислушивались. «Это неверно. Все пьесы А. П. Чехова написаны о людях пусть и одиноких, но внутренне возбужденных, с взволнованными душами. Они исполнены своего кристально чистого пафоса», — говорила она283.
Не исчерпавшая творческий потенциал, она ощущала готовность и к новым ролям, и к освоению новых методов работы над ними, «углубляющих и совершенствующих стиль социалистического реализма»284.
Она мечтала о роли женщины из народа: «Мне бы очень хотелось создать на сцене яркий образ современной советской женщины, познавшей эпоху царского самодержавия, прошедшей горнило Великой Октябрьской революции и гражданской войны в СССР и пожинающей счастливые плоды своей упорной и большой борьбы за новую жизнь», — говорила она в 1938-м285.
И в 1939-м: «Мне лично хочется сыграть в одной из новых пьес, которые будут написаны, роль женщины, которая, к примеру, сорок лет прожила до революции и вот уже 22 года честно и преданно работает на благо своей родины, роль женщины, которая много испытала и только в старости в наши дни нашла свое счастье»286.
И еще: «Наиболее глубокое и затаенное мое желание — сыграть в еще не написанной, к сожалению, пьесе советского драматурга роль современной советской женщины, не комсомольского возраста и не старухи-резонерши. Меня увлекает образ женщины, прожившей свою молодость до революции, мир чувств и переживаний которой обогатился событиями первого октябрьского двадцатилетия. Какая это благодарная и плодотворная тема для драматурга и актрисы»287.
Из года в год она повторяла одно и то же: «В своем прошлом простая, талантливая. И вот, только при советской власти заложенные в 370 ней задатки сумели развернуться во всю широту. Мне кажется интересным проследить за психологией такой женщины и за тем, что из нее получилось», — говорила она в статье «Что мы хотим играть к XX-летию Октября»288.
Но в том, что предлагала ей советская драматургия, ролей для нее не было. Годы уходили — мечта о роли советской женщины оставалась. «Увы, драматурги наши не обладают творческой смелостью. В пьесах большинства наших драматургов нет необходимой динамики, нет перспективы, не видно, в каком направлении развивается характер и внутренний мир людей», — писала она в статье «Без ролей. Неутоленная жажда»289.
А когда наконец она получила роль старой большевички Клары в «Страхе» Афиногенова, с трибуны партсобрания клеймящей старого профессора, его играл Леонидов, Станиславский снял ее с роли. «Вся ее легкая стремительность не гармонировала с образом Клары, не помогала и характерность, которую она тщетно искала, и папироса в ее легких изящных руках казалась, скорее, игрушечной пахитоской», — вспоминал заведующий литературной частью театра П. А. Марков290.
Решение Константина Сергеевича Ольга Леонардовна приняла кротко. Она умела убедить себя, что не справилась только с данной ролью. Но от желания сыграть советскую женщину, «которая окружена таким почетом и вниманием со стороны нашей большевистской партии и правительства», не отказывалась. Она ссорилась с Марковым, убеждавшим, что все ее существо требует прежних ролей. И так же бурно, как Раневская с Петей. Марков, как Петя, убегал, а Ольга Леонардовна, иронизируя над собой, возвращала его с лестницы. Была в ней непреодолимая органика, неподвластная никакой идеологии. Было то, что видели другие, тот же Марков, но не видела, не могла видеть в себе она. Это было ее бессознательное, ее тайна. Клара, исполненная «кристально чистого пафоса», как Тузенбах, Вершинин и Трофимов, — она уравнивала героиню Афиногенова и этих чеховских героев, — в словах ей удавалась больше, чем на сцене. Советской женщины она так и не сыграла.
Но все эти неприятные, мучительные даже стороны жизненной и творческой реальности не подрывали уверенности в том, что пророчества Антона сбылись и что партия Ленина — Сталина подарила новую жизнь русскому искусству, вознеся его на невиданную высоту и дав художнику высшее счастье — нерушимую связь с народом.
Она хотела служить народу в тех ролях, которые играла. И в «Вишневом саде» тоже. Хотя Раневская, барыня «с капиталистическим прошлым», была антиподом советской женщины. Эпоха утверждала красоту героини социалистического труда, своими руками созидающей свое счастливое завтра. Ольга Леонардовна уверовала в этот общественный 371 идеал. Она уверовала и в суровую, «мужественную простоту», как говорил Немирович-Данченко, необходимую для воплощения новой идеологии в искусстве. Ей нравилась, к примеру, цементная скульптура М. Д. Рындзюнской «Юная стахановка хлопковых полей», представленная на Всесоюзной художественной выставке «Индустрия социализма» в Москве в июне 1939 года. В буклете, выпущенном к выставке, Ольга Леонардовна подписалась под такими словами: «Цемент передает великолепное ощущение радости, счастья, мощи, изящество внутренней уверенности в протянутых руках молодой девушки, ладони которой едва вмещают изобилие хлопковых коробочек».
В стране социализма с мощной индустрией дореволюционной чеховской барыне-белоручке Раневской, сочиненной по образу и подобию молодой Ольги Леонардовны, следовало превратиться в отрицательный персонаж, несущий пороки своего класса, буржуазные пороки. Зрительный зал требовал «исторического мышления» в роли: требовал социального масштаба, прокурорской тональности.
Превращение чеховской женщины в советскую, незаметное для самой Ольги Леонардовны и ее близких, заметнее всего, быть может, на отношении актрисы к Раневской, не уходившей из ее репертуара. Хотя они не были тождественны, конечно, актриса и роль.
Раневская Ольги Леонардовны менялась по мере того, как сама актриса двигалась от «милой актрисули» к народной артистке СССР.
Менялась и потому, что летели годы и обе старели.
И потому, что, вписываясь в советскую реальность, Ольга Леонардовна крепла духом, мужала («надо быть мужественной», — призывала она и Марию Павловну) и, уверовав в советскую идеологию, набирала общественный вес, отдаляясь от себя прежней, чеховской, легкой, озабоченной исключительно личным и интересами сцены.
После «Врагов», определивших мхатовскую эстетику 1930-х, самых тяжелых, репрессивных лет страны, Ольга Леонардовна много думала о том, как «сделать образ», если его сущность чужда, враждебна актеру, не играя отношения к образу, не превращая его в сатирический, Эстетическое инакомыслие ей не грозило. Она не могла обойти мхатовский закон, не могла не найти внутреннего оправдание роли.
Прежде, до «Врагов», она играла Раневскую дамочкой «в затруднительном положении» — судила она себя за то, что не умела соединить в роли индивидуальное и классовое, ввести в нее социальную перспективу. Не овладевшая «системным» подходом к роли, предлагаемым Станиславским, она мыслила категориями Немировича-Данченко, поставившего «Врагов» и много работавшего с ней. «Не было второго плана, который дал бы роли нужный масштаб, тональность». Все было «немножко весело» и «немножко грустно», — рассуждала она (IV. 6 : 208).
372 «Искусство должно быть большое, обобщающее», — подхватывала она установки и лозунги, соответствовавшие ее нынешним представлениям об искусстве (IV. 4 : 75).
И все же образ получался у нее положительным и трогательным, хотя должен был быть отрицательным. Она недоумевала и решала для себя этот вопрос так: «Почему я должна обязательно показать отрицательный персонаж отрицательным? Я должна показать моего героя живым, каким хотел бы видеть его автор, оправданным сценически, а уж зритель сам разберется, что это за человек, прав он был или не прав. Многие ставят мне в упрек “обаятельность” Раневской в “Вишневом саде” — путают обаяние сценического образа с персонажем пьесы» (IV. 4 : 75).
Передав прокурорские функции той части зрительного зала, которая видела в дворянах тунеядцев, эксплуататоров трудящихся масс, Ольга Леонардовна успокоилась, играя образ дореволюционной русской барыни. Не была той Раневской, которую написал Чехов, а играла ее образ. Схватив зерно образа — легкость, — она играла легкость. Не была легкой, а играла ее. Преподносила легкость как порочащее дворян легкомыслие. И Чехов говорил ей, что самое трудное в роли — легкость и улыбка Раневской, — уговаривала себя актриса.
Теперь она все делала на улыбке. Много смеялась. Так же много смеялась, как раньше много плакала.
В первом акте с улыбкой металась по комнате, в радостном возбуждении обнимала домашних, становилась на колени, целуя кресла и стулья, вскакивала на диван и спрыгивала с него.
Смеялась, когда Раневская рвала телеграммы.
Веселая, нарядная, смеялась, когда выходила во втором акте на природу, на воздух после душного ресторана, куда ездила с братом и Лопахиным. Смеясь, возилась на сене с Аней и Варей. Тем полагалось чувствовать в ней не старшую, а равную, подругу. Смеясь, отдавала прохожему золотой и смеялась, рассыпав содержимое кошелька, хотя отлично знала, что в доме нет ни гроша.
В третьем акте Ольга Леонардовна, кокетничая с Петей, подчеркнуто по-молодому вскидывала руку на его плечо и уплывала с ним в вальсе. И весь драматический третий акт, требовавший от нее нервной распущенности, проводила на нервном смехе. Ее Раневская все время смеялась, — вспоминал Орлов, игравший с ней Петю: «“А Леонида все нет”. Смех. “Отчего нет Леонида?” Смех»291.
Лилина, посмотрев «Вишневый сад» в конце 1930-х, вынесла от Ольги Леонардовны впечатления «печальные и ошеломляющие», как и от новых исполнителей, превративших спектакль «в оперетку у Сабурова» (I. 1).
373 Прежнюю легкость, незаметность переходов от слез к смеху и снова к слезам Ольга Леонардовна подменяла контрастом подчеркнутой беспечности, с одной стороны, и подчеркнутого отчаяния, обреченности — с другой. Беспечность выражалась смехом, обреченность — пластикой: нетвердой походкой, зябким, едва уловимым движением плеч, беспомощно повисающими руками, ронявшими на пол кружевной платок и вместе с ним смятую телеграмму.
Прежде роль строилась на произвольных движениях, на интонации.
Бывало, она смотрела в окно, когда говорила о детской, и поворачивалась к окну спиной, когда молилась на свой прекрасный сад. Она совсем не думала о роли, о тексте, о мизансценах, купаясь «в ванне сентиментальности и грошового женского манерничанья».
Теперь она контролировала себя и смотрела в нужную сторону. И не просто смотрела. Она перевешивалась через подоконник и почти рыдала в голос, когда прощалась с садом. Не было теперь у Раневской Ольги Леонардовны ни случайного жеста, ни слова в проброс, где могли бы прорваться ее органические легкомыслие и беззаботность.
Теперь ее руки не мелькали невпопад, как прежде. Теперь она отбирала и отмеряла движения и жесты, заботясь о суровой, «мужественной простоте», как учил Немирович-Данченко. Виленкин, часто бывавший на «Вишневом саде», успевал рассмотреть старинные кольца «на неожиданно большой, не дамской, но все же красивой руке»292.
Вместо чеховской женщины, беспечной, сентиментальной, чуть-чуть манерной, появлялся статичный образ немолодой дамы, сыгранной старой актрисой, прекрасно сохранившейся, еще подвижной и большого мастера. Она действительно играла образ той, чеховской Раневской «филигранно» и «безо всякой форсировки», как играют умные и талантливые актрисы-травести детей.
Та Раневская отдавалась сиюминутному чувству, порыву, прихоти, капризу, настроению. Кружась в вальсе с Грибуниным — Симеоновым-Пищиком, походила на ночную бабочку с бархатными крылышками, которая носилась вокруг огня. Все понимали, что вот-вот она упадет в огонь и погибнет.
Теперь Ольга Леонардовна, упорядочив элементы души Раневской и сковав их в жестком скульптурно-пластическом рисунке, придавала рисунку законченность, завершенность, совсем не свойственные ни музе Чехова, ни изменчивой, неугомонной чеховской Раневской. Теперь ее танец в третьем акте напоминал настоящий «танец смерти», — писал киевский критик Всеволод Чаговец293, помнивший Ольгу Леонардовну с 1911 года, с гастролей театра в Малороссии. Посмотрев 800-й «Вишневый сад» художественников, сыгранный в Донбассе, он поразился и тремолированию ее голоса в сцене прощания с Вишневым садом, и, еще больше, сильной, ударной концовке в ее роли в третьем акте.
374 Прежде Ольга Леонардовна проводила финал сцены на бесконечной паузе, неожиданной для трепетной, порхавшей Раневской. «Я купил!» — кричал Лопахин — Леонидов. Раневская зажимала рот платком. Отворачивалась вглубь сцены. Медленно опускалась на стул. Подперев голову рукой, сидя спиной к зрителям, беззвучно плакала. Чуть заметно вздрагивали ее плечи — ничто более не выдавало ее переживаний294.
Теперь, когда являлся Лопахин — Добронравов, пьяный от реального счастья, «Раневская — Книппер широко раскрывала глаза, чтобы в первый раз за всю свою праздную, хищную, разрушительную жизнь увидеть правду в неприглядном виде… И рыдала, как на кладбище, перед раскрытой могилой».
Чаговец, автор «Советской Украины», прежде писавший в «Киевской мысли» и других газетах Малороссии о кружевах актрисы в роли, считал, что это могила умирающего класса красивых пушистых зверьков295.
В роли «последней помещицы в СССР», как говорила Лилина, самым важным стало все то, что прежде было неважным, что было средством: мимика, пластика — и текст.
Раньше она не задумывалась, как говорить.
Теперь она говорила с нервозной энергией в голосе, выразительно: «Я с наслаждением “говорю” и чувствую, как это меня увлекает, и я не пыжусь, темперамент идет легко, влезает в определенную форму — и… я счастлива» (IV. 4 : 211).
«В определенную форму…»
Художественный театр, — опиравшийся на чеховское выразительное слово, на скульптурно выверенную пластику и на устремленность всех участников спектакля к единой сверхсверхзадаче: «Здравствуй, новая жизнь!» с восклицательным знаком, отсутствовавшим у Чехова, — уходил все дальше от автора и от эстетических идеалов Станиславского, рыцаря живого, одухотворенного человека, творившего на сцене свою жизнь и существовавшего в ансамбле импровизационно.
Только мифологизированное сознание советских людей могло признать в масштабных, значительных, скульптурно представительных фигурах, приподнятых на социально-классовый постамент, тех самых обыкновенных, заурядных Раневскую и Гаева, которых Чехов подсмотрел в реальности начала века и вывел на подмостки в узловых фрагментах их драматично складывавшихся судеб.
Метаморфозы, происходившие с Раневской Ольги Леонардовны, Станиславского удручали. Он страдал, глядя на то, как отлетала от Раневской Ольги Леонардовны душа чеховской Раневской — жрицы любви, легкой на подъем, на непроизвольно вырывавшееся доброе чувство.
И другие актеры не радовали его. Он не узнавал в их исполнении никого из действующих лиц чеховской пьесы. Раневская, Гаев, Шарлотта, 375 Пищик оставались в его представлении такими же, какими они были в начале века. Ничуть не изменившимися за тридцать лет.
И не в одной идеологии было дело. Станиславский и о Собакевиче рассуждал, как о своем близком родственнике или знакомом, будто он сам и зрители «Мертвых душ» на сцене Художественного жили вместе с ним в гоголевские 1840-е и время на 1840-х остановилось.
Критикуя Ольгу Леонардовну, он вовсе не был против классового подхода к роли вообще и к ролям Раневской, Гаева и остальных персонажей «Вишневого сада». У него не было идеологических разногласий ни с актерами Художественного театра, ни с властями. Он вполне грамотно овладел основами социального анализа и марксистского обществоведения: Раневская и Гаев — представители дворянства; Лопахин — купец, загребающий в свои руки богатства разорившихся господ; Петя — «ярый революционер, знающий жертвы, лишения, холод, голод, тюрьму — ради идеи». Да и Чехов хотел того же в Пете, только, как считал сам писатель, не дотянул, — вспоминал Станиславский. Спор Трофимова и Лопахина — столкновение двух классов, их мировоззрений; Яша развращается среди оскудевающего дворянства, Яша — «это гниль». Все это выкладки Станиславского, относящиеся к 1937 и 1938 годам (I. 7 : 417). Так думала вся страна. И он вместе со всеми.
В критике Ольги Леонардовны и других исполнителей «Вишневого сада» не было и намека на идеологические претензии. Станиславский, если бы вмешался в конце 1930-х в свой старый спектакль, отредактированный в 1928-м, точно так же расставил бы идеологические акценты, как расставил их в главе о «Вишневом саде» в «Моей жизни в искусстве» в 1926-м. Только ему хотелось видеть на сцене настоящее, сиюминутное чеховской роли, ее процесс, не отлившийся в четкой графике и монументе.
Расхождение было исключительно в приемах творчества роли, в психотехнике, в пренебрежительном, непрофессиональном, с его точки зрения, отношении к ней актеров Художественного театра, не желавших сознательно управлять своей органической природой, как учила его «система». Он горевал, что они играли вопреки ей.
Вместо того чтобы творить на сцене жизнь роли, двигаясь по линии сквозного действия пьесы, освещаемого перспективой, — к сверхзадаче, актеры МХАТ играли чувство, застревая на нем, состояние или образ, как Ольга Леонардовна в роли Раневской. Что «система» категорически запрещала. Вместо того чтобы перевоплотиться в роль, пройдя все намеченные «системой» стадии вхождения в нее, слияния с нею, вместо того чтобы вызывать в себе чувства и мысли, аналогичные чувствам и мыслям роли и идти по ее драматургической линии «от себя», сегодняшнего живого человека, — мхатовские актеры играли, по выражению Станиславского, «вообще» дворян, «вообще» молоденьких барышень, 376 «вообще» революционеров — неких среднестатистических типов или свои представления о них. Играли — далеко от самих себя, от своей божественно-творческой природы: я есмь.
Примитивно-упрощенную игру, игру «вообще», лишенную саморазвития, не знающую психологических нюансов, соответствующих мимолетности живого чувства, Станиславский сравнивал с детской живописью: «деревья — сплошь зеленые, стволы — сплошь коричневые, земля — сплошь черная, а небо — сплошь голубое» (I. 2. № 21659. Ч. 2 : 24). Одна краска, один прием — это не творчество роли, а наигрыш, рисовка, — говорил он, укоряя Ольгу Леонардовну за изобразительность — вместо выразительности, за смех, обрываемый повисшими руками и подергиванием плечей — по всей линии роли Раневской; других актеров — за другие жесты, за моторные реакции и интонации, те из них, что подменяли живое чувство каждого мгновения мертвенным слепком с него.
Молодому Чехову, когда он видел подобное изваяние, хотелось подойти и соскоблить с носа капельку гипса.
Но Станиславский над своим «Вишневым садом», окаменевавшим в Художественном, был уже не властен. «Посадивший» его тридцать лет назад, он в середине 1930-х от миссии садовника отказался и Ольгу Леонардовну оставил в покое. Свое последнее сражение за Раневскую и других персонажей «Вишневого сада», максимально приближенных на сцене к людям чеховского времени, он перенес из Художественного театра на другую территорию — в свое исследование механизмов творчества роли на материале чеховского «Вишневого сада».
Актеры Художественного продолжали играть, как хотели и как умели.
Станиславский смирился с этим.
30 января 1939 года, 17-го по старому стилю, в день 35-летия со дня премьеры, «Вишневый сад» шел 792-й раз. К тому времени его посмотрело 800 000 зрителей.
Станиславского уже не было в живых.
Восьмисотый спектакль играли во время гастролей МХАТ весной 1939 года в Донбассе, где Ольга Леонардовна проверяла правдивость звука «сорвавшейся бадьи» и где она получила в подарок от тружеников шахтерскую лампочку, а от руководителей областных и городских партийных организаций города Сталино и депутатов Верховного Совета СССР от Донбасса — макет угольной шахты.
Ольге Леонардовне в 1939-м — 71 год. Ее, все еще бессменную в роли Раневской, неувядающую, телеграммой поздравил Немирович-Данченко: «Мысленно слушаю эту чудесную лебединую песню Чехова. Вспоминаю всю великолепную работу над “Вишневым садом” Станиславского и шлю горячий привет так крепко держащей наше художественное знамя Ольге Леонардовне» (IV. 5 : 183).
377 А вообще Владимир Иванович был уже далек от «Вишневого сада» Художественного. Он поставил свой «Вишневый сад» в Италии с труппой Татьяны Павловой, сыгравшей у него Раневскую. И жил предстоящими репетициями «Трех сестер» в Художественном.
О своем заграничном «Вишневом саде» он как-то рассказывал друзьям, а Тальников записал с его слов: «Павлова после каждого акта прибегала за кулисы, недоумевающая и растерянная: почему ее поведение на сцене и ее реплики неожиданно для нее встречают у зрителей вместо грусти такой радостный смех, как будто она играет комедию? Но именно такова была задача режиссера, в “верном” ключе жанра восстановить прообраз чеховской пьесы»296.
В советской прессе эта заметка Тальникова оказалась чуть ли не единственным свидетельством попытки Немировича-Данченко пересмотреть жанровую сценическую традицию «Вишневого сада», идущую от первой постановки чеховской пьесы в Художественном театре.
В совсем новой постановке «Трех сестер» он мечтал воссоздать ушедшую и из Художественного чеховскую поэзию. «Не удастся ему восстановить то, что было», — считала Лилина, встретившая Немировича-Данченко летом 1939 года в одном из подмосковных санаториев.
Девятисотый «Вишневый сад» выпал на 28 июля 1943 года. В апреле этого года Владимир Иванович скончался. Ольга Леонардовна пережила и остальных участников премьеры 1904-го: Лилину, Москвина, Качалова.
30 января 1944 года, в день сорокалетия спектакля и восьмидесятичетырехлетия покойного Чехова, «Вишневый сад» прошел 937-й раз, кажется, последний для Ольги Леонардовны.
На юбилейном вечере в честь 50-летия МХАТ осенью 1948 года в свои восемьдесят она играла третий акт «Вишневого сада». Хотела сыграть весь спектакль, но «убоялась». Когда она вышла после grand rond’а, зал стоя аплодировал ей.
В день празднования 90-летия актрисы сцена Художественного театра была украшена бело-розовыми цветами Вишневых деревьев. А в апреле 1959-го, когда на этой сцене стоял гроб с ее телом, на заднем занавесе висел ее портрет в траурной рамке — в роли Раневской.
Последняя страница в сценической истории «Вишневого сада» Чехова, Станиславского, Немировича-Данченко и Книппер-Чеховой была перевернута.
378 ГЛАВА 3
ПЯТЫЙ АКТ «ВИШНЕВОГО САДА» «ОДИССЕЯ НОВОГО МИРА»
Сюжет жизни, лежащий в основе своей последней пьесы, Чехов продумал до конца — насколько позволяло воображение ялтинского сидельца осенью 1903 года. До всех русских революций.
Раневскую с молодым лакеем Яшей писатель отправил во Францию. Жизнь оставляла ей альтернативу: жить «там» или «здесь» или то «там», то «здесь».
Гаеву Чехов дал место директора банка с окладом в шесть тысяч годовых.
Епиходов остался в имении, бывшем Гаевых. Лопахин нанял его в конторщики.
Варя договорилась смотреть за хозяйством Рагулиных, соседей Гаевых.
«Хозяйственной Варе, вероятно, суждено кончить жизнь богомольной и сварливой старой девой», — фантазировала Л. Я. Гуревич весной 1904-го297.
Чехов не ведал, когда писал «Вишневый сад», что станет дальше с Варей, Епиходовым. Надолго ли Раневская во Франции. На сколько хватит ее тощего кошелька на безалаберную жизнь с обирающим ее альфонсом. Так называл Дорошевич ее француза. Точное знание было не в характере и не в стилистике Чехова. Ему ближе неопределенное: «Если бы знать…»
А современник Чехова Л. Г. Мунштейн, театральный обозреватель московской газеты «Новости дня» и рецензент премьеры «Вишневого сада» в Художественном, был уверен: кошелька Раневской хватит ненадолго. Как только она пересечет границу, тотчас же запросит денег у братца, новоявленного банковского служаки, финансиста:
Молю тебя, пришли сейчас
По телеграфу хоть немного, —
Пять тысяч франков, — ради Бога!..
Ах, я пустое существо,
Но ты теперь ведь служишь в банке, —
И поменять рубли на франки
Тебе не стоит ничего.
379 Еще и десяти дней не прошло со дня премьеры новой пьесы Чехова в Художественном, а Мунштейн уже раскручивал «Вишневый сад» в ближайшее будущее его персонажей. «Письмо Раневской к брату» он опубликовал под псевдонимом Lolo в «Новостях дня» 26 января 1904 года.
Мунштейн-Lolo продлевал и другие биографии.
Его Раневская интересовалась Аней, Петей:
Что с Аней? В Харькове осталась?
Что с Петей? Все не поумнел?
Жаловалась брату на Яшу:
Представь, мой Яков — страшный плут,
Берет себе на память сдачу
И мне ни слова… Я вчера
Его поймала. Ах, пора
Его прогнать!.. Я много трачу,
А между тем
Сутра до ужина не ем…
В начале февраля Раневская получала от Гаева ответ — в рецензии Lolo на харьковскую премьеру «Вишневого сада» и тоже в стихах.
Мунштейновский Гаев сообщал сестре о Епиходове, о Пищике, о Лопахине.
Епиходов навещал его в городе, был грустен, говорил, что «грозный рок к нему безжалостно жесток» и что он решил не стреляться, а умереть под пулями «шайки желтолицей» в русско-японской войне:
Он собирался на Восток
Окончить жизнь среди походов […]
И раньше, чем уйти,
Он поскользнулся на пути
И полетел со всех ступенек.
Потом приходит наш сосед,
Милейший Пищик… Ждет побед
И неустанно ищет денег.
Охваченный патриотическими чувствами, Гаев ответного письма к сестре одолевал ее многословными пассажами во славу русского воинства, 380 пересыпая их биллиардными терминами. И, посетовав на «новую жизнь», бранил ее — тоже стишками, сохраняя их тональность.
Я в банк хожу… Увы! Пока
В делах и цифрах смыслю мало,
Наука эта нелегка.
Да, трудно жить без капитала!
Дуплетом в среднюю… Тоска! […]
Чуть не забыл… Ты денег просишь…
Ах, Боже мой, когда ты бросишь
Свои привычки и его?!
Пойми, пойми свою ошибку:
Он оберет тебя, как липку,
И бросит… Больше ничего!
Не строй обиженную мину,
Не дуйся, милая сестра:
Тебе желаю я добра…
Очевидно, «милая сестра» так и осталась в Париже без денег.
Уже чеховский Лопахин понимал: будущее Гаева неблагополучно.
Прослышав о предложенном Гаеву месте директора банка, Лопахин проронил: «Не усидит, ленив очень».
И критики премьеры «Вишневого сада» в Художественном не сомневались: пропадет барин без дома, без Фирса. «Для него пойти в банковские чиновники, переехать навсегда в город, в наемную квартиру — смерть», — писала Гуревич, всматриваясь в 1904-м в лицо Гаева — Станиславского. Уже в сцене прощания с домом, когда Гаев еще держался, его лицо «помертвело» — «осунулось», «глаза беспокойно бегали».
Суворин, хозяин издательской империи, человек реального дела, знавший толк в финансах, предрекал в апреле 1904-го: Гаев «наверно попадет под суд, потому что станет подписывать всякую гадость и удостоится сопричислиться с мошенниками…»298
Амфитеатров, прошедший в 1902-м через сибирскую ссылку, узнавший, что такое «вся Россия», предсказывал чеховскому «банкиру» в апреле 1904-го будущее горьковского Барона: «В банке какой-нибудь Лопахин-2, привычный распоряжаться общественными суммами, как собственными, подсунул Божьему младенцу две-три подлые бумажки, а тот их, в невинности душевной и по благородному доверию к человечеству, подмахнул, конечно, не читая […] За сим ревизия, обнаружена растрата, и поехал Леонид Андреевич Гаев, сам не зная за что, населять места не столь отдаленные. А за сим дорога известная, по рецепту Барона 381 […] Разве вот что — постарше он Барона, не успеет примениться к ночлежке и помрет».
«Поехал […] населять места не столь отдаленные»…
Советские писатели о театре, рецензировавшие «Вишневый сад» Художественного на всем протяжении его сценической жизни, тоже думали о судьбе Раневской и Гаева. Раневская бежит в Париж не к любовнику, а в «безрадостную эмиграцию, во все мытарства», — писал Тальников в 1928-м299. Все знали: граница на замке, обратной дороги из Парижа в Россию нет. Он же в 1928-м писал о Гаеве: «Гаев, может быть, и посейчас служит где-нибудь на банковской службе, но не частной, а государственной, если только его не “вычистили”».
Год «великого перелома» — 1929-й — снял все «если».
Гаевых «вычистили». Амфитеатров в 1904-м угадал: «бывшие» — Раневские и Гаевы — умирали на нарах. Только не на горьковских, ночлежных, а на гулаговских, куда загоняли сталинские репрессии конца 1920-х и в 1930-х тех «бывших», кто не убежал в эмиграцию и не погиб в годы красного террора «нет за что», как сказала бы — без солженицынского вопроса — пра-Шарлотта Ивановна — Лили Глассби, вызволявшая из Новинской тюрьмы в 1920-м арестованную руководительницу московского отряда «Армии спасения» Надежду Ивановну Константинову.
Чехов не ставил точек. Предпочитал коронное многоточие.
Точки расставляло будущее.
Судьба Лопахина у Чехова тоже неопределенна. И ее дописывало время, отзываясь трактовками роли новыми исполнителями и оценкой их в театральной газетно-журнальной периодике.
«На дворе октябрь», — грустно-озабоченно произносил чеховский Лопахин, предлагая отъезжавшим на прощание по стаканчику шампанского, купленного на станции, откуда уходили поезда до города. Этот тихий, солнечный чеховский октябрь и отделял для персонажей «Вишневого сада» их прошлое от неизвестного завтра.
Новый хозяин «Вишневого сада» Гаевых недолго оставался в поле зрения драматурга.
Еще отчетливо видел автор, как доедет Лопахин с Раневской и Гаевым до Харькова. Как, прощаясь, Раневская поцелует и, может быть, перекрестит его. Она незлобива и не злопамятна.
Еще отчетливо рисовалось Чехову, как трудно проживет Лопахин зиму. Ведь только когда он много, без устали работает, он забывается. А когда сидит без дела, его одолевают безответные русские вопросы: «Для чего я существую?» И он не справляется с ними. «А сколько, брат, в России людей, которые существуют неизвестно для чего», — признавался он Пете на прощание, перестав задирать нос перед ним.
382 Вписавшийся у Чехова в новую эпоху — после экономических реформ Витте, — Лопахин, прагматик в повседневности, лучше всех персонажей пьесы чувствовал настоящее, начало века — время перемен: время восхождения купцов, свое время, свой звездный час. Лопахин и знаменовал в «Вишневом саде» эти процессы переходной экономики — от неэффективного помещичьего землевладения к рациональному, фермерскому землепользованию. Он оперативно разворачивался в сторону экономических перспектив, приобретая в собственность не бесполезный старый дом и сад, а землю, чтобы его внуки и правнуки увидели на их земле «новую жизнь».
Лопахин у Чехова устремлен в будущее.
Перезимовав в Харькове, он вернется, должно быть, в бывшее имение хозяев своего отца, крепостного мужика, и приступит к реализации задуманного. Вырубит до основания запущенный, нерентабельный помещичий вишневый сад. Построит дачи, чтобы сдавать их внаем. Снова посадит «маку тысячу десятин». Снова будет любоваться его цветением. И снова заработает «сорок тысяч чистого». Такова «циркуляция дела», — говорил чеховский Лопахин.
Он ведь чует, откуда дует ветер, — думал о Лопахине Мунштейн-Lolo, размышляя о его ближайшем будущем. Мунштейновский Лопахин
Стал богатеть немилосердно,
Купил бумаг большой запас
И спекулирует усердно…
А дальше?
Фигура Лопахина, так и не отважившегося на женитьбу, — счастливого дедушки? прадедушки? — неразличима ни в пьесе, ни у Lolo.
Уже чеховский Петя подозревал, что замах Лопахина больше его реальных возможностей.
Трезво мысливший Горький, присутствовавший в октябре 1903-го среди избранных на читке чеховской пьесы в Художественном театре, присланной из Ялты, уже весной 1904-го развеял лопахинский мираж в своих «Дачниках»: ничего путного для России не выйдет из затеи купца со строительством коттеджей.
И Амфитеатров не верил ни в реформы Лопахина, ни в него самого как будущую общественную силу.
Да и Станиславский с Немировичем-Данченко и Леонидовым в 1904-м не возлагали на Лопахина больших надежд. Они с недоверием отнеслись к лопахинскому проекту преображения «Вишневого сада» в землю, обетованную для лопахинских внуков и правнуков, не дав ему в спектакле чистой победы. Энтузиаст пользы, Лопахин побеждал в спектакле Станиславского и Немировича-Данченко с тоской, с надрывом.
383 Но и к горьковскому развенчанию дачников, которые поселятся в построенных для них домах — на месте вырубленных вишен, в театре отнеслись критически. Не простив Лопахину бестактно-скоропалительной порубки сада, Немирович-Данченко просто не пустил лопахинских дачников на свою сцену.
На протяжении всей сценической истории «Вишневого сада» в Художественном, если снова перебрать рецензии на спектакль Станиславского и Немировича-Данченко, Лопахину недоставало силы — изменить нескладно устроенную жизнь.
То он оборачивался «громилой», «свиным рылом» и тянул Россию куда-то в прошлое.
То обещал явление грядущего Хама — по Мережковскому.
То, наоборот: был «слаб», «недотепист», слишком темен и никаких реально обоснованных экономических идей переустройства «нескладной» жизни не имел. Имение Гаевых он покупал так же растерянно, как Раневская и Гаев выпускали его из своих рук. Покупал непреднамеренно, поддавшись стихийному процессу жизни, втянувшему его в коммерцию. Либо зарвавшись на торгах. Или просто хмель ударял ему в голову, — писали критики о Лопахиных Художественного театра.
Стать победителем в советское время мешали «тонкие пальцы». «Новая жизнь» не жаловала белоручек. Для большевика он был слишком деликатен и действовал к тому же в одиночку. А как акула капитализма в условиях победившей «новой жизни» выглядел таким же пораженцем, как дворяне Раневская и Гаев.
«Нет, это не будущее. Здесь Чехов осекся», — писали о Лопахине у Чехова до и после революции.
Случай Пети Трофимова, мыслями и мечтами устремленного в неясную даль, у Чехова, пожалуй, самый неопределенный. И тут все зависело от идеологической ориентации критика и времени, когда тот брался разгадывать Петину загадку.
У Чехова Петя проводит Раневскую с Яшей, Лопахина, Аню и Гаева до города. А на другой день со своей подушкой и связкой книг уедет, должно быть, в Москву. Наверное, в университет — доучиваться и работать на светлое будущее. На студенческих сходках? В партийном подполье? Или — увлекая своими идеями очередное чистое создание, вроде Ани Раневской или Нади Шуминой из чеховской «Невесты», и сколачивая из им подобных женотряд? Может быть, и так, если отталкиваться от «Невесты», где тип молодого человека Чехов разработал подробнее. Впрочем, на женотряд у Пети вряд ли хватило бы сил. Ведь он болен, он может скоро, как и Саша из «Невесты», умереть.
У Пети могла быть судьба Сулержицкого, «вечного студента». Художественники обсуждали его в качестве прототипа Пети.
384 Сулержицкий так и не доучился в Училище живописи, ваяния и зодчества. В последние годы жизни он посвятил себя воспитанию не молоденьких девушек, как чеховские Петя и Саша, а молодых актеров и актрис — артистов театра будущего, которыми мог обновиться Художественный. Он умер незадолго до революции, но его ученики не стали театром Станиславского и Немировича-Данченко. Предпочли собственную художественную идеологию.
Прежде чем стать в спектакле Станиславского и Немировича-Данченко и в коммунистической прессе, его рецензировавшей, «героем нового времени», «новой жизни», и занять достойное место в рядах «нашей славной большевистской гвардии», убеленной сединами, как писали в конце 1930-х, чеховский Петя Художественного театра прошел — под перьями размышлявших о его загадке и вместе с ними огромный — виртуальный, разумеется, — путь саморазвития.
«Облезлый барин» начинал поздней осенью 1903-го в режиссерском плане Станиславского обыкновенным фразером, начитавшимся молодого Горького.
Петя — «всеблаженный человек», любитель поговорить, каких много в России, — считала Гуревич весной 1904-го, уравнивая Петю — Качалова в этом качестве с Гаевым.
Ему отказывали в таланте сильного лидера.
В его словах слышали «пафос жертвы» — «не дойду, другие дойдут».
До 1917-го Петю бесконечно пинали за облезлость, за нищету, за лень и калоши, в которых не дойти до «новой жизни».
От фигуры Пети у Чехова долго веяло «беспросветным пессимизмом». А когда его играл Качалов, искренно веривший Петиной верой во всеобщее счастье всех обездоленных, Кугель писал, что Художественный театр близорук и извращает перспективу.
Критика 1910-х вообще не относилась к Пете всерьез и не обсуждала ни его причастности к революционному подполью, ни будущего России — по его модели.
«Оптимопессимизм», а потом и «оптимизм» в Петиных интонациях прорезались медленно, десятилетиями, пока вечный студент художественников — в его восприятии исполнителями и критикой — шел в своих стареньких калошах вперед, из неясных далей к ясным, коммунистическим. Он уходил от неоплатоника, мечтавшего «о трудовом посестрии» с любимой девушкой; удалялся от кандидата в «Проблемы идеализма»; изживал в себе то легального марксиста, то правого октябриста с идеалами мелкого культуртрегерства, то эсерствующего интеллектуала с его словоблудием… Сколько ярлыков прилипло к Пете за время, прошедшее от Качалова, первого исполнителя роли, до Орлова, одного из последних, от 1904-го до конца 1940-х, пока чеховский студент, доработанный соавторами драматурга — Станиславским, Немировичем-Данченко 385 и актерами Художественного театра разных поколений — не овладел идеологией «Великого» Октября, сформулированной в критических отзывах о спектакле советских рецензентов.
Чехов признавался: революционер ему не удался.
Время делало чеховского Петю Художественного театра человеком, преданным идеям социалистической революции, — революционером.
Зловещего смысла Октября 1917-го, лишившего бывших хозяев их домов с садами, никто ни в 1904-м, ни в канун 1917-го не предвидел: ни Чехов, ни Станиславский, ни Качалов, ни Амфитеатров, прокричавший «счастливый путь» молодым, покидавшим старые могилы.
Чехов в 1903-м был при этом прозорливее других. Он-то знал: «Жизнь долгая — будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия!» — говорил его странник из рассказа «В овраге»300.
Но и Чехов не предвидел масштабов «дурного», поджидавшего его современников: и людей знаменитых — Амфитеатрова, Бунина, Станиславского, корифеев Художественного, и людей «маленьких», прообразов его персонажей — в версии Станиславского, потерявших кто родину, кто на родине свои прадедовские «Вишневые сады».
«Если бы его пощадила судьба, он пережил бы с нами ужасный конец войны, и дни свобод, и дни крови, и теперешние дни — дни усталости, недоверия, предательства и общественного отупения. Бог знает, как отразились бы грозные, смешные, жестокие, нелепые и печальные явления последнего поколения в его большой и чуткой душе?» — размышлял о Чехове А. И. Куприн в 1934 году, переживший первую мировую войну, февраль и октябрь 1917-го и эмиграцию.
Как бы называлась его последняя книга, — фантазировал в 1934-м о Чехове другой эмигрант, поэт-сатирик Дон-Аминадо:
— Хмурые люди?
— Лишние люди?
— Или «Сахалин» просто?
Справился бы Чехов с материалом, требовавшим разворота эпопеи, или документальной хроники, или книги вроде «Острова Сахалин», в которой подобный материал не эстетизирован? Хватило бы ему сил на второй подвиг миссионера, чтобы представить миру страшную правду об «архипелаге» таких античеловеческих зон — в другой исторической эпохе?
И те, кто сказал «новой жизни» — «здравствуй!» — размышляли о том, что делал бы Чехов, переживи он октябрь 1917-го?
Он был «настоящий русский писатель. Он ни в каком случае не покинул бы родины и с головой ушел бы в строительство той новой жизни, о которой мечтал он и его герои» — приятельница Чехова с 1893 года Щепкина-Куперник искренне полагала, как и все советские люди, что советская действительность и есть осуществленная чеховская 386 мечта, а Амфитеатров, Бунин, Куприн, Дон-Аминадо и им подобные — изменники родины, предатели, преступники (II. 21 : 296).
Но Чехов, грустивший и рефлектировавший — «Если бы знать…», всем все прощавший, милосердный, не доживший до «одиссеи нового мира», если по Мандельштаму, до вынужденного переселения миллионов русских на запад и восток, этого продолжения вишневосадской эпопеи — в фабуле его пьесы — не узнал. Его дописал другой автор, агрессивный, жестокий. Пятый акт «Вишневого сада» с заложенной в нем «одиссеей нового мира» дописал палач — кровавая российская история. Она заставила пра-Раневскую, пра-Гаева, пра-Петю и пра-Аню — в версии Станиславского — прожить «новую жизнь». Сама «новая жизнь», наступившая в октябре 1917-го, сочинила развязку «романа жизни» в последней чеховской пьесе. Она дописала ее будущим «маленьких» людей, послуживших автору моделями его персонажей, потерявших дом, и молодых — Пети и Ани, со светлыми надеждами его покинувших.
* * *
После расстрела Георгия Сергеевича с тремя сыновьями настоящая, непоправимая беда до поры обходила семью Алексеевых стороной. К единственному из оставшихся братьев Станиславского — Владимиру Сергеевичу и их сестрам — москвичкам Зине, Нюше, Любе и ленинградке Марии — судьба была милосерднее, чем к миллионам «бывших». Алексеевы третьего колена династии, когда приходил их срок, умирали своей смертью и в своих квартирах.
Впрочем, и такая смерть не означала, что Алексеевы не знали бед. Беззащитные в «новой жизни» брат и сестры Станиславского, их дети и внуки нуждались в его защите. Да и у самого ангела-хранителя рода Алексеевых, фаворита Кремля, «новая жизнь» не была безоблачной.
Нюша — Анна Сергеевна Штекер, «живая хронология», одна из муз, стоявших у колыбели чеховской Раневской, — в первые годы после революции голодала, как все «бывшие».
Сама она совсем больная, почти лежит. На руках у нее больной туберкулезом сын6*, дочь, которая нужна по дому, и мальчик. Другие дети: один призывается, другие служат за гроши. А в результате — голод и холод. Сестру может спасти ее сейф, который хотят конфисковать. Нужно свидетельство о том, что она, теперь, находится на службе театра […] Конечно, это форма, и она никакого жалования получать не будет, не будет и являться в театр, —
387 писал Станиславский Немировичу-Данченко, прося его оформить зачисление Анны Сергеевны, бывшей в 1899 – 1902 гг. актрисой Художественного театра, в его нынешнюю труппу (I. 2. № 5229).
Так называемое «Бюро сейфов» было создано в первый год после революции — в связи с национализацией банков. Артистам и артисткам, «действительно нуждающимся», по предоставлению соответствующего удостоверения, было разрешено — постановлением президиума московского Совета рабочих депутатов — выдавать из сейфов, из ссудных касс юбилейные и именные подношения и другие ценности, прежде хранившиеся в коммерческих банках, без внесения какого бы то ни было налога. Такое удостоверение ранее было выдано Станиславскому и Книппер-Чеховой. Ольга Леонардовна взяла из сейфа часы, цепь и запонки Антона Павловича. За пропуском в «Бюро» в марте 1918 года ходила с Иваном Павловичем Чеховым в Кремль, где размещалась культурно-просветительная комиссия, ведавшая документацией сейфов. Иван Павлович брал что-то для Марии Павловны. Блуждая по коридорам Кремля в поисках нужного кабинета, Чеховы шарахались от вопроса, к ним обращенного: где здесь революционный трибунал? (II. 1. К. 77. Ед. хр. 39 : 17 об.)
Добиваясь для Нюши доступа к ее сейфу, Станиславский напоминал Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко, что «в свое время, когда театр материально нуждался», в первые его сезоны, Анна Сергеевна безвозмездно играла несколько ролей:
Теперь театр мог бы заплатить услугой за услугу […] Если театр не придет на помощь, то вся семья падет на мои плечи, так как старший брат безработный, а сестры влачат такое же жалкое существование (I. 2. № 5229).
Немирович-Данченко помог получить необходимое разрешение.
В 1930-х Станиславский построил для Нюши мхатовский жилкооператив в Брюсовском переулке, решив и ее квартирный вопрос. Она жила на одной лестничной площадке с его дочерью Кирой Константиновной Алексеевой-Фальк и внучкой.
Истово религиозная, замаливавшая грехи молодости, Нюша умерла 1 мая 1936 года от паралича сердца, во сне. Раньше старших братьев, ее оплакивавших.
Немирович-Данченко, выражая соболезнование Станиславскому в постигшем его горе, писал:
У нас от Анны Сергеевны самые трогательные воспоминания, от ее простоты, искренности, добродушия, приветливости. И в воспоминаниях 388 о первых годах Художественного театра так ясно встает ее привлекательный образ (I. 19 : 446).
И Владимир Сергеевич последние годы жил в кооперативном доме, построенном Художественным театром на улице Немировича-Данченко, в бывшем Глинищевском переулке, с семьей удочеренной внучки, дочери Веры Владимировны.
Со своей последней квартирой Владимир Сергеевич намыкался. В 1930-х годах этот вопрос и у него стоял очень остро. В начале 1920-х пронесло, а в 1930-х его дом на Новой Басманной понадобился ответственным сотрудникам Наркомата путей сообщения. Владимиру Сергеевичу — с 1922 года он был вдов — предложили переехать на окраину Москвы, в дом без водопровода и минимальных удобств. И в полутора километрах от трамвайной остановки. А ему было за семьдесят, и у него болели ноги. Константин Сергеевич обращался тогда во все инстанции, добрался до наркома просвещения РСФСР А. С. Бубнова. Ему не отказывали в просьбах.
Он вообще спас после революции и Владимира Сергеевича, и старшую из сестер Зинаиду Сергеевну. Они погибли бы без него от голода и нищеты, как и Нюша.
В 1917-м Владимир Сергеевич лишился средств к существованию. Зинаида Сергеевна осталась без мужа — доктора Константина Константиновича Соколова, его убили бандиты в селе Никольском под Воронежем, где Соколовы жили после свадьбы, с начала 1880-х. В Никольском они создали для крестьян ремесленные мастерские и театр, для слепых открыли школу.
В 1917-м кончилась жизнь и в том доме…
С 1919-го Зинаида Сергеевна и Владимир Сергеевич ассистировали Станиславскому в Оперной студии при Большом театре. В 1920-м студия отделилась от театра. В 1924-м ей было присвоено имя Станиславского. В 1926-м она преобразовалась в Оперную студию-театр имени К. С. Станиславского, а в 1928 году, слившись в Музыкальной студией Немировича-Данченко, — в Оперный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, в своего рода Оперный Художественный.
Исчерпав резервы драматической сцены, Станиславский начал в 1919-м реформу музыкального театра, затрагивавшую музыкально-драматическую основу спектакля, пение, слово и творческое переживание поющего актера. Брат и сестра помогали ему воспитывать оперного певца по его «системе».
Снова, как и прежде, в далекие 1880-е, Алексеевы сбивались вместе, постаревшие, много пережившие, с кличкой — «бывшие» — в сильно поредевший семейный алексеевский клан.
389 Зинаида Сергеевна и Владимир Сергеевич молились на Костю, как и прежде, в Алексеевском кружке, когда они ставили музыкальные комедии, оперетки и водевили с куплетами и не могли друг без друга. Они очень помогли Станиславскому сложить, сформировать в систему свод открытых им законов воспитания и творчества актера, внедряя их в сценическую практику и корректируя его теорию на уроках по мастерству и на студийных репетициях. В предисловии к своему труду, изданному в 1936-м, Станиславский благодарил сестру и брата. Без них его книги — в том виде завершенности, в каком они вышли, — может быть, и не состоялись.
Самому Владимиру Сергеевичу не хватило бы характера перейти из фабрикантов в музыканты-профессионалы. Но к перемене судьбы в пользу музыки, случившейся хотя и не по его воле, а по воле революции, отобравшей у него фабрики, он был давно готов. Его переводы и знание музыкальной литературы были уникальны. Тут и до революции, еще фабрикант, он был известным крупным мастером.
К списку его переводов после революции добавились новые оперы: «Миг жизни» де Фальи, «Лола» Сен-Санса, «Богема» Пуччини.
Был у него и опыт оперной режиссуры. В 1909 году в его переводе и его постановке шла у Зимина опера Гуно «Филемон и Бавкида». В 1910-м он вместе с П. С. Олениным, первым мужем его младшей сестры Марии Сергеевны Алексеевой, работал у Зимина над постановкой «Мадам Баттерфляй» Пуччини. Для нее он покупал за границей японские костюмы и аксессуары. Со времени «Микадо» в Алексеевском кружке он стал японофилом и к концу жизни собрал ценную коллекцию японских вещей и фарфора, завещанную внучке, дочери Веры Владимировны. Премьера «Мадам Баттерфляй» в театре Солодовникова на Большой Дмитровке состоялась в январе 1911 года. Это была первая постановка оперы на русской сцене.
В 1923 году Владимир Сергеевич повторил свой спектакль в акционерном обществе «Свободная опера Зимина». «Мне очень необходимо заработать на дрова и на сено корове», — писал он брату, гастролировавшему с труппой Художественного театра по Европе и Америке (I. 2. № 21545). В начале 1920-х Владимир Сергеевич бедствовал и потому согласился работать в «зиминской клоаке».
Кроме отдельных постановок у Зимина и ассистирования брату в Оперной студии и театре его имени, Владимир Сергеевич преподавал ритмику и дикцию во Второй студии Художественного театра и в студии «Синяя птица».
В Оперной студии и театре Станиславского он разучивал со студийцами — солистами и хором — вокальные партии; следил за всеми спектаклями текущего репертуара на сцене и готовил дублеров. Написав режиссерские экспликации, Станиславский доверял Владимиру 390 Сергеевичу и всю черновую работу по мизансценированию спектаклей. Сам подключался к работе перед выпуском премьеры.
Владимир Сергеевич относился к заданиям и указаниям Станиславского, как к Святому писанию. Сочиняя режиссерские планы оперных спектаклей, Станиславский давал полную свободу воображению, легко переворачивая все каноны оперного театра. Владимир Сергеевич был склонен к традиционному прочтению партитур и с трудом от традиций отказывался. Иногда на заданную братом мизансцену не находил музыки. Или если она была, то не там, где Станиславский ее намечал, и не такая, какая требовалась по сцене. А иногда, напротив, музыка была там, где Станиславский ее не предвидел. Владимир Сергеевич с трудом понимал брата. Бывало, и совсем не понимал, тогда предлагал в письмах к Станиславскому попробовать другой характер сцены или другую психологию действующего лица, укладывавшихся, с его точки зрения, в музыкальный материал. Оперных персонажей, привычных слуху и глазу, он часто романтизировал, возвращая в лоно традиций, а брату указывал на музыкальные фразы, такты, ритмы, воспроизводя в письмах к нему нотный текст, чем очень помогал ему, но и подрезал, и искажал его фантазии. Когда-то Станиславский прислушивался к замечаниям Владимира Сергеевича, чаще — нет, но без брата обойтись не мог. Тот был сильней в вопросах чистой музыки. Станиславский отлично понимал, что режиссерские планы и его чертежи мизансцен нуждаются в «музыкальной» и «темпоритмической» проверке, что внутренний и внешний рисунок ролей и сцен надо перевести на слововедение, дикцию и интонацию так, чтобы они вытекали из музыки. Ибо первейшим условием существования оперного театра, каким он создавал его в своих студийных постановках, было «сценическое отражение каждого момента музыкальной партитуры, идущего по сквозному действию» (I. 2. № 13253).
Уезжая за границу или в санаторий, Станиславский оставлял Оперную студию на Владимира Сергеевича. Тот держал его в полном курсе происходившего и в студии, и в других московских театрах. «Спасибо за твои обстоятельные письма. Я проглотил их с громадным интересом и понял, что студия пока еще хоть слабо, но дышит», — отвечал Станиславский Владимиру Сергеевичу в 1923-м, получив его очередное послание (I. 2. № 4390).
Владимир Сергеевич часто жаловался брату.
Не мог смириться с тем, что материальные соображения, выдвигаемые административно-художественной частью при работе над спектаклями в условиях нищеты студии, превалируют над требованиями искусства.
Он был беспомощен перед амбициями, обидами, тривиальными интригами, без которых не обходится ни один актерский коллектив. Все это обострялось на этапе перерождения студии в театр. Владимир Сергеевич 391 считал, что изгнание духа студийности гибельно для искусства: «Образовались какие-то тайные группы артистов, которые “пока” действуют объединенными силами, стараясь захватить власть в свои руки. Они действуют дружно, тянут один другого и топят всех, кто не с ними. Или я совсем устарел, или у нас сумасшедший дом», — Владимир Сергеевич, привыкший к жесткой дисциплине сотрудников фабрики, писал брату, что хочет уйти из театра (I. 2. № 6943).
Он не мог быть властным, не позволял характер. Но не мог и подчиняться дирекции, которая командовала в отсутствие Станиславского. Он страдал так же, как в молодости — купцом под началом кузена Николая Александровича Алексеева. Его обижали, оттирали, а он был застенчив, мягок, интеллигентен. Ему казалось, что он никому не нужен и всем мешает. «В тебе самом есть нечто, что идет вразрез с законами коллективного творчества, но мне никогда не удается убедить тебя в этом», — увещевал Станиславский Владимира Сергеевича, совсем сбитого с толку, растерянного. Младший высоко ценил музыкальное дарование и эрудицию старшего, его культуру, его ответственность и преданность делу. Он понимал, что Володя пропадет без театра и без средств к существованию, и он пропадет без Володи.
У меня много есть вокруг меня в Художественном театре, но у меня нет режиссера, который наравне с режиссерскими и учительскими данными был бы музыкантом, понимал бы вокал и знал бы ритмику, систему, музыкальную, оперную литературу и, как придаток ко всему, являлся бы обладателем огромной нотной библиотеки, которой безвозмездно пользуется студия. Право оке, смешно и глупо при таких условиях и думать о твоей ненужности, — писал Станиславский Владимиру Сергеевичу из санатория. — Умоляю тебя, брось всякие лишние думы об этом. Студия — это ты. Ты — это студия. Вы — неотделимы (I. 9 : 173).
Но по своей щепетильности Станиславский никогда не брал сторону родных в запутанных театральных ситуациях. Так было и с сестрой — в Художественном, когда Анне Сергеевне пришлось закончить до срока свою артистическую карьеру.
Иное дело — отношения семейные, родственные, когда надо было близкого спасать.
В ночь с 17 на 18 июня 1930 года были арестованы и препровождены в Бутырскую тюрьму Михаил Владимирович Алексеев, сын Владимира Сергеевича, жена Михаила Владимировича Александра Павловна и ее сестра Надежда Павловна, урожденные Рябушинские.
Михаил Владимирович — это тот самый шестнадцатилетний в 1902 году Мика, что подцепил на удочку Чехова сапог или калошу и так расстроил писателя.
392 Младшие Алексеевы — Алексеевы четвертого колена — Михаил Владимирович и Александра Павловна с детьми жили вместе с Надеждой Павловной, неграмотными домработницами и компаньонкой, приживалкой Надежды Павловны, в доме № 2 по Малому Харитоньевскому переулку, в фамильном особняке Рябушинских.
Владимир Сергеевич узнал об их аресте рано утром 18 июня. Но пошел на репетицию «Богемы».
В его дневнике этот факт отражен весьма скупо:
22 июня
[…] настроение ужасное […]
23 июня
[…] настроение ужасное […]
9 августа
Сегодня Минина рождение!
18 августа
[…] одолевает тоска […] (I. 2. № 15825 : 19)
9 августа 1930 года по новому стилю, 27 июля по старому, шестнадцатилетнему в 1902-м Мике исполнилось 44 года.
Часто приезжали к Владимиру Сергеевичу в Глинищевский Микины дети: девятнадцатилетняя Таня и четырнадцатилетний Сережа. И Владимир Сергеевич бывал у внезапно осиротевших внуков в Малом Харитоньевском. Один лишь раз вырвалось у него в письме к сестре Мане — Марии Сергеевне Балашовой 6 августа 1930 года: «Чувствую себя отвратно. Особенно в нравственном отношении»301. Все. И в студиях, и в театре ничего не знали. Он не пропустил ни одного рабочего дня, ни одного вечернего дежурства на спектакле.
Только брату он мог довериться до конца.
Тот был за границей — долечивался после сердечного приступа, случившегося с ним на праздновании 30-летнего юбилея Художественного театра в октябре 1928 года.
К началу сезона 1930/31 гг. Станиславский должен был вернуться и вернулся в СССР.
Владимир Сергеевич очень ждал брата.
Брат был всесилен.
Он мог обратиться к Енукидзе, секретарю Президиума ВЦИК.
Через Енукидзе проходили все документы ОГПУ — Объединенного государственного политического управления, выдававшего ордера на обыски, аресты и выносившего обвинительные заключения. Возглавлявший Государственную комиссию по руководству Большим и Художественным театрами, Енукидзе не раз помогал Станиславскому и в делах театра, и в решении личных проблем.
393 В мае 1928-го Енукидзе помог Станиславскому вызволить из Лубянки арестованную дочь Саввы Ивановича Мамонтова Александру Саввишну. После революции она создала в бывшем своем подмосковном имении «Абрамцево» мемориальный музей и его первую экспозицию, но в середине 1920-х была уволена за ненадобностью. Вскоре после этого ее арестовали, тогда и написал Станиславский письмо к Енукидзе. Пожалуй, первое из подобных:
Глубокоуважаемый и дорогой Авель Сафронович,
я принужден беспокоить Вас большой просьбой. Арестована дочь покойного Саввы Ивановича Мамонтова — Александра Саввишна Мамонтова. Она уже немолодая женщина и страдает грудной жабой. По слухам, она находится в очень тяжелых условиях в ОГПУ на Лубянке.
Я счел своим долгом известить Вас о случившемся, так как твердо уверен, что Вы, зная заслуги ее отца и ее личную работу, найдете возможным сделать то, что в Вашей власти.
Извините за беспокойство […] (I. 2. № 6476)
Через год, в мае 1929-го, Станиславский снова обратился к Енукидзе с «большой просьбой»: помочь его двоюродной сестре Елизавете Васильевне Сапожниковой, урожденной Якунчиковой. Муж ее Владимир Григорьевич Сапожников (тот, что летом 1902-го приходил к Чеховым «отрекомендоваться» и пригласил гулять в свой парк) в 1916-м умер, оставив Елизавету Васильевну с большой семьей после национализации сапожниковских фабрик без средств к существованию.
В 1934-м он будет хлопотать за внучку Елизаветы Васильевны и покойного Владимира Григорьевича, свою двоюродную внучатую племянницу Александру Григорьевну Сапожникову. Ее «вычистят» «по социальному происхождению (дочь бывшего фабриканта)» с третьего курса Экскурсионно-переводческого отделения института новых языков, где она училась. Он будет писать заместителю наркома просвещения РСФСР М. С. Эпштейну:
Очень прошу Вас оказать содействие к восстановлению ее и дать возможность окончить курс, так как дети не могут был ответственны за происхождение (I. 2. № 6442).
Станиславский один отвечал за всех отпрысков Алексеевых, Сапожниковых, Штекеров, Мамонтовых, бывших потомственных почетных московских граждан, купцов первой гильдии, фабрикантов.
Считал «своим долгом» взять их под защиту.
394 В июне 1930-го Енукидзе выслал ему солидную сумму в валюте и обставил его отъезд из Европы с максимально возможным комфортом, распорядившись об освобождении пересекавших границу от унизительного таможенного досмотра.
На помощь Енукидзе в деле Михаила Владимировича Алексеева и сестер Рябушинских можно было надеяться…
Дети Владимира Сергеевича, его сын Мика и невестка Александра Павловна Алексеева, арестованные в ночь на 18 июня 1930 года, — не расставались со дня своей парижской свадьбы 1 июня 1911 года.
Они не расставались даже в первую мировую войну, когда Мика был призван в царскую армию младшим врачом 122-го Скопинского пехотного полка. Александра Павловна работала там же, на западном фронте, медицинской сестрой.
Мика уцелел, когда 5 ноября 1914 года его полк ушел из Ревеля на передовую и почти весь погиб в тяжелых боях.
В февральскую революцию он служил в тыловых частях города Борисова Минской губернии и работал в анатомо-бактериологической лаборатории эвакопункта. И здесь Александра Павловна была рядом с мужем.
В 1918 году Мика демобилизовался и получил место прозектора в Яузской, а с 1920 года — в Басманной горбольнице, где вскоре стал заведующим анатомическим отделом. Попросту говоря, заведовал моргом и по совместительству работал в институте патологической анатомии при Московском университете. Там, где работал до войны с 1912 года, когда окончил в университете медицинский факультет.
Александра Павловна Рябушинская-Алексеева с 1922 года работала в лаборатории КУБУВа, комиссии, занимавшейся улучшением быта врачей. Потом перешла в лабораторию Октябрьского отделения Боткинской больницы. В мае 1930 года закончила курсы усовершенствования микробиологов и сдала в Московский медицинский журнал научную работу по исследованию бактериальной флоры у скарлатинозных больных.
Надежда Павловна Рябушинская, физиолог-химик, окончив в 1919-м Второй Московский университет, работала там же до 1924-го, а в 1925-м заняла должность старшего ассистента по физиологии труда в Государственном научном институте охраны труда и по совместительству работала в Институте питания Наркомздрава.
«Мика живет пока все так же, но денег не хватает и потому трудно», — сообщал Владимир Сергеевич сестре в Петроград в 1923 году302.
До революции Михаил Владимирович имел паи в товариществе «Владимир Алексеев». В делах фабрики он не участвовал, ибо к роду занятий дедов и прадедов не имел ни малейшей склонности, а отец не оказывал на сыновей никакого давления.
395 Сестры Рябушинские владели капиталом в процентных бумагах, и эта троица — Мика с сестрами — жила вполне широко, хотя и не с такой роскошью, как транжир, кутила и эстет брат Александры и Надежды Николай Павлович, хозяин виллы «Черный лебедь» и журнала «Золотое руно». И не так, как сестра Евфимия Павловна, в замужестве Носова, устроившая из своего московского дома дворец, расписанный Серовым, Лансере, Сапуновым и Судейкиным и увешанный ее портретами кисти лучших русских художников-современников. Ее портрет, написанный Серовым, перекочевал после революции в Третьяковскую галерею.
Далеко было Михаилу Владимировичу и сестрам Александре Павловне и Надежде Павловне и до других братьев Рябушинских, владевших миллионными паями товарищества «П. М. Рябушинский и сыновья», банкирским домом, особняками, коллекциями икон, живописи, антиквариата.
Все они, те, кто дожил до 1917 года, эмигрировали, потеряв русскую недвижимость.
Александра Павловна и Надежда Павловна жили после революции на нищенскую государственную зарплату. Как все.
Заграничные Рябушинские жалели родных.
В первой половине 1920-х сестры получали посылки и валюту для их выкупа от сестры Евгении, обосновавшейся в Париже. Деньги приносил Э. Чарнок, секретарь английской миссии в Москве. До революции он был директором одной из фабрик Коншиных в Серпухове и отлично знал Рябушинских, имевших родственные серпуховской текстильные мануфактуры в Ржеве (льночесальная фабрика «Рало»), в Вышнем Волочке — по всей России.
Что-то подбрасывал сестрам при удобном случае и Михаил Павлович Рябушинский, директор лондонского отделения банкирского дома Рябушинских.
Материальная поддержка позволяла Алексеевым вести хотя бы дома тот образ жизни, к какому они привыкли.
Михаил Владимирович бывал с сестрами в английской миссии на приемах и на танцах.
Чарнок и английский консул Ходжсон бывали у Алексеевых на чае и блинах, заглядывали к ним и на партию в бридж.
У Михаила Владимировича и сестер Рябушинских совсем не было страха перед советской властью. В анкетах, заполнявшихся при задержании, и в следственных протоколах на вопросы о политических убеждениях они спокойно отвечали, не клянясь в преданности «новой жизни», но и не протестуя против режима: Михаил Владимирович указал: — «политических убеждений не имею»; Александра Павловна — «политические 396 убеждения лояльные»; Надежда Павловна — «соввласть восприняла как должное и работала в меру сил».
Когда объявили нэп, жить стало легче.
Зашевелились, активизировались и эмигрантские круги.
Бывшие российские текстильные фабриканты Рябушинские, Коноваловы, Кноппы, Третьяковы объединились в Париже в союз торгово-промышленных деятелей «Торгпром». Карповы, Прохоровы создали в Берлине «Союз по восстановлению хлопчатобумажной промышленности в России». Эти организации координировали усилия банкиров и бывших собственников по вложению капиталов в их фамильные предприятия; приносившие до революции солидные доходы. «Бывшие» не прочь были взять свои фабрики в аренду, если бы аренда была оформлена соответствующими законоположениями, и взять на длительный срок.
Эта справка составлена в аппарате НКВД якобы по донесениям советской разведки, так что данные об эмигрантских объединениях могут быть и сфабрикованными. Может быть, все эти эмигрантские организации придуманы аналитиками НКВД как раз для юридического обоснования затеянного властью показательного процесса над шпионами и диверсантами в текстильной промышленности, по которому проходили как шпионы М. В. и А. П. Алексеевы и Н. П. Рябушинская.
Впрочем, эмигранты не сомневались, что советская власть, не умеющая хозяйствовать, падет. И они вернутся.
Нэп в эмигрантских кругах был воспринят как первый шаг к возвращению. Всеми силами изгнанники из России, оказавшиеся в Европе, пытались уберечь свои фабрики, которые они оставили большевикам в идеальном состоянии, от окончательного развала. Пока «оттуда». Уже начались концессионные переговоры. Нэп разрешил концессии иностранцам. Интересовала «бывших» и возможность вхождения в банковское дело.
В число предприятий, подлежавших возрождению, под мушку НКВД попали текстильные мануфактуры Рябушинских, Коншиных и Третьяковых в Костроме, Коншиных в Серпухове, Рабенеков, родственников Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, в Подмосковье, Морозовская Богородско-Глуховская мануфактура, хлопкоочистительные заводы и шерстомойня Алексеевых в Харькове, бывшая Городищенская суконная фабрика Четвериковых.
Вкладывать деньги в русский бизнес зарубежные «бывшие», однако, не торопились. Но, готовя свое возвращение, собирали информацию о состоянии дел в производстве, о его перспективах в плановом социалистическом хозяйстве и о своих старых сотрудниках. С теми, кто сохранял верность прежним патронам, вступали в переписку и передавали 397 им средства на поддержание, а по существу на спасение интересовавших их промышленных объектов.
Так было до середины 1920-х. Может быть, и это — стряпня НКВД.
Посредничали в связях с советскими русскими иностранцы, работавшие в СССР.
Тут есть показания арестованных, ими собственноручно написанные.
Кроме Чарнока, к посредничеству был подключен чиновник германской миссии Хильгер. С ним Александра Павловна Рябушинская-Алексеева была знакома давно, когда тот был студентом, а она не была замужем.
Мелькали в Москве сотрудник Рябушинских в Берлине Рудольф Борисович Келлер, происходивший из клана Келлеров, владельцев химико-фармацевтических и парфюмерных фирм, и кто-то из Рабенеков.
Доверенными лицами Рябушинских в Москве были Флегонт Павлович Остроградский, заведовавший с 1904 года и до национализации отделом текущих счетов в московском байке Рябушинских, и Владимир Николаевич Булочкин, заведовавший с того же года в том же банке фондовым и переводным отделами. Они и распределяли приходившие из-за границы деньги. Свою долю регулярно получали от братьев через Остроградского и Булочкина и сестры Александра и Надежда Рябушинские. И тут же проживали их.
К концу 1920-х нэп захлебнулся. Начался откат к плановой социалистической экономике, и заработал механизм репрессий.
Сначала арестовали «спецов» — старых специалистов по текстилю, директоров, членов правления, инженерные кадры и технический персонал дореволюционных фабрик, тех, кто занял высокие посты в национализированных предприятиях, трестах, аппарате ВСНХ, Госплане, Оргтекстиле, Техноткани, Главхлопке, Льноторге, Текстильимпорте, Комитете лубяных волокон, Центросоюзе, Наркомторге, Наркомземе…
Весной 1930 года арестовали Остроградского и Булочкина.
А вслед за ними ордера на обыск и арест были предъявлены Алексеевым, Михаилу Владимировичу с Александрой Павловной, и Надежде Павловне Рябушинской. Ордера подписал Г. Г. Ягода, зампред ОГПУ.
Скорее всего, Михаила Владимировича взяли в придачу к сестрам.
Фамилия Рябушинских была у Советской власти костью в горле.
В Бутырке каждого поместили в одиночку и предписали строгий режим содержания: без передач, без прогулок, без библиотеки.
В Москве начался шумный процесс Промпартии, «контрреволюционной вредительской и шпионской организации в текстильной промышленности». По делу Промпартии проходило 165 человек. Дело супругов Алексеевых и Н. П. Рябушинской выделили в отдельную шпионскую 398 группу. Они шли как главари агентурной сети. Их квартира в Харитоньевском объявлялась резиденцией англичан.
Когда обвинительное заключение по делу Промпартии было напечатано в газетах, «накатывалось леденяще» — запомнил Солженицын: агентов французских интервентов и белоэмигрантов — к ответу, «железной метлой очистимся от предателей!»
В день открытия процесса по стране прокатилась мощная волна демонстраций, осуждавших английских шпионов и диверсантов. Трудящиеся требовали всех расстрелять.
В ноябре 1930 года к кампании поддержки ОГПУ — «верного, неустрашимого и боевого стража завоеваний пролетарской революции» — и к требованиям суровой кары вредителям, раскрытым и обезвреженным ОГПУ, подключились ведущие деятели театра и кино. 12 ноября 1930 года они собрались к 12 часам ночи в помещении Малого театра. Митинг, организованный ЦК союза Рабис — профсоюза работников искусств, — проходил под лозунгом «В ответ на измену и предательство еще теснее сплотимся вокруг ВКП (б)». От деятелей театра просьбу о предоставлении слова послали в президиум трое: товарищи Мейерхольд, Таиров и Качалов.
Мейерхольд призвал ОГПУ обратить внимание на «малых вредителей», на тех, кто искусно и очень осторожно скрывает подлинное лицо, кто зубоскалит и сеет «упадочническое настроение в наших рядах»303.
Таиров только что вернулся из восьмимесячной гастрольной поездки с Камерным театром по Европе и Америке. Выйдя на трибуну, он проводил параллели между «скотской» жизнью на Западе и «нашей, советской» — «человеческой в лучшем смысле слова». «У нас выбор […] один — раздумывать и колебаться нам нечего. Мы можем быть только в лагере пролетариата. И служить ему. А служа ему, мы служим самим себе», — присягал режиссер политике партии, политике решительного наступления на международную и внутреннюю буржуазию, которая в эпоху бурного подъема и развернутого строительства социализма в СССР ведет свою подрывную работу304.
Артист Художественного театра Качалов, получивший слово на митинге-собрании творческой интеллигенции в Малом театре, 1 июня 1911 года был шафером на парижской свадьбе Алексеевых, Михаила Владимировича и Александры Павловны, проходивших по делу Промпартии. Он хорошо знал осужденных. Председательствующий представил артиста, персонально премированного в начале ноября 1930 года полным собранием сочинений В. И. Ленина, как ударника труда, внедрившего в свою профессиональную деятельность новые формы борьбы с «аполитичностью и нейтрализмом» в искусстве. Почетное звание ударника труда Качалов получил за систематические выступления 399 во время обеденных перерывов на промышленных предприятиях. На тех же, которые разваливали «шпионы и диверсанты».
Поклявшийся в 1924-м со сцены Художественного театра перефразированным монологом чеховского Гаева служить идеалам «добра и справедливости», артист служил — идеалам коммунизма. Речь народного артиста Республики Качалова, проникнутая «глубокой верой в торжество дела социалистического строительства», захватила зал:
Мы строим нашу жизнь в напряженной и трудной обстановке.
Мы знаем какие трудности переживает страна и через какие препятствия приходится ей шагать, чтобы идти к манящему нас будущему.
Мы знаем, на какие лишения идут все трудящиеся, чтобы видеть нашу страну свободной и сильной, чтобы строить новое общество и новую жизнь.
Мы преодолеваем трудности и лишения ради великой оправдывающей идеи, звучащей и заключенной в слове — коммунизм. И этой идее, и этой стране, воплощающей эту идею, мы с радостью отдаем наше мастерство, наше творчество. Для нас ясно, что нет искусства вне страны, нет радости художника вне радости масс. И всякий удар, даже малейший, направленный против страны Советов, не может встретить в нас иного отношения; кроме безоговорочного отрицания и самого решительного осуждения. И когда этот удар, возрастающий до размеров предательства и вредительства, исходит из среды нашей интеллигенции, мы решительно и твердо говорим, что все шаги, направленные к разрушению или подрыву нашей социалистической стройки, мы с гневом, негодованием и презрением не только осудим, но и всеми силами будем стремиться ликвидировать305.
Обсудив в прениях обвинительное заключение по делу Промпартии и одобрив деятельность ОГПУ, собрание единогласно проголосовало за воззвание — ко всем работникам искусств, подготовленное президиумом ЦК союза Рабис:
… Пусть над предателями и изменниками совершится карающий пролетарский суд.
… В ответ на измену и предательство мы теснее сплотимся вокруг коммунистической партии.
Мы еще сильнее заострим оружие искусства против классового врага.
Мы еще крепче и бодрее выполним свою почетную миссию культурного шефа над Красной Армией.
Мы еще глубже окунемся в гущу социалистического строительства.
400 Мы добьемся превращения искусства в подлинное орудие перевоспитания масс, в величайший рычаг коммунистической пропаганды.
Мы проявим величайшую бдительность ко всем проискам классового врага на идеологическом фронте?
Долой вредителей-интервентов!
Да здравствует ЦК партии и ее вождь товарищ Сталин!
Да здравствует искусство, разящее старый мир и наших классовых врагов и строящее новое социалистическое общество!306
Станиславский не отличался политической зоркостью.
Но он твердо знал, что племянник и сестры Рябушинские невиновны. У него не было «колебаний», что делать. Пользуясь своими связями в верхах, он немедленно, получив страшное известие еще за границей, кинулся спасать брата, племянника и его семью.
В том же ноябре 1930 года — митинга и воззвания Рабиса — Станиславский обратился к Енукидзе. Среди вариантов письма к Енукидзе первых дней его пребывания в Москве есть такой:
Остается у меня угнетенное состояние, страх и беспокойство за моего родного племянника д-ра Михаила Владимировича и его жену. Я писал Вам о них из-за границы и теперь по приезде решился вновь беспокоить Вас, так как они до сих пор сидят в заключении. Племянник мой, я в том ручаюсь, а также его жена, — люди не антиправительственные, и меня не покидает тяжелая тревога за них, как за честных граждан, и за племянника, кроме того, как за тяжело больного человека с грудной жабой. Очень прошу Вас передать всем, от кого зависит, мою просьбу ускорить дело освобождения их под мое поручительство.
Так как я уже обращался к Вам по этому вопросу и, может быть, этим утруждаю Вас, то не найдете ли возможным передать эту мою просьбу Иосифу Виссарионовичу, с которым мне из-за моей болезни не представится близкого сличая увидеться и переговорить.
Если Вы найдете необходимым показать мое письмо И. В. или посоветуете мне написать ему отдельно, не откажите в любезности уведомить меня.
С искренней признательностью и глубоким почтением…, —
осталось в черновиках (I. 2. № 6482/2).
Может быть, Станиславский писал Сталину. Но президентский архив, в котором хранятся обращения к вождю, закрыт для граждан. А в отправленном Енукидзе письме упоминаний об Иосифе Виссарионовиче нет. Оно подшито к архивно-следственному делу Алексеевых и Н. П. Рябушинской. Значит, дошло до адресата:
401 Милый, добрый Авель Софронович!
Я только что отблагодарил Вас за Вашу ласку и заботы обо мне и снова мне приходится обратиться к Вам с большой, тяжелой просьбой.
Облегчите, если можете, ужасный гнет моей души. Он давит и не дает жить.
Мой племянник Михаил Владимирович и его жена Александра Павловна Алексеевы до сих пор сидят в заключении.
Я знаю их, как себя — самого; я знаю наверное, что они не могут быть виноватыми в преступлении. В их судьбу вкралось трагическое недоразумение. Если бы я не был в этом так уверен, я бы не посмел писать Вам эти строки. Спасите их, детей, всю семью больного, исстрадавшегося брата. Ведь арестованный Михаил Владимирович страдает такой же тяжелой болезнью сердца, как и я сам. У него грудная жаба.
Может быть, мне окажут доверие и выдадут их обоих — на поруки.
Не сердитесь на меня за этот вопль. Он вырвался из глубокого горя, в которое мы все погружены после момента ареста близких людей. Душевно преданный
К. Станиславский
1930-20-XI
Москва307.
Все, что могли делать родные для Михаила Владимировича и сестер Рябушинских, они делали.
Заявления с просьбой передать заключенным бельевые и пищевые передачи писали дочь Алексеевых Таня, Татьяна Михайловна, сотрудница Библиотеки имени Ленина, и тетка Михаила Владимировича Зинаида Сергеевна Соколова.
К их просьбам прилагались медицинские справки о состоянии здоровья Михаила Владимировича. Оно требовало перевода больного с тюремных нар в лазарет.
15 декабря 1930 года с просьбой разрешить передачу племяннику Михаилу Владимировичу обратился к «товарищу следователю» народный артист Республики К. Станиславский.
Но дело неуклонно продвигалось к трагической развязке. В конце декабря 1930 года МОУНИ (Управление недвижимым имуществом) выдало ордер на вселение в две комнаты Алексеевых в Харитоньевском, где жили дети арестованных, посторонних жильцов. Это означало, что готовится выселение Алексеевых и Рябушинской.
Станиславский не находил покоя. Он писал Г. Г. Ягоде, зампреду ОГПУ, оперуполномоченным, допрашивавшим обвиняемых, следователям. Он просил Ягоду «смягчить участь» Алексеевых, не разлучать мужа 402 с женой и если они будут высланы — позволить им ехать до места назначения за его счет:
Я, зная Ваше доброе ко мне отношение, глубоко уверен, что Вы сделаете, что зависит от Вас, — очень, очень прошу Вас простить меня за беспокойство и позволить мне надеяться, что Вы не оставите без последствий мою просьбу. Примите мое искреннее уважение и преданность… (I. 2. № 6644)
Усилия были напрасны. Над драматургией жизни, развивавшейся по законам античного рока, Станиславский был не властен. Она и в театре ему не удавалась.
Запись в дневнике Владимира Сергеевича от 24 января 1931 года:
Разговор с Костей. Его обошли, все погибло (I. 2. № 15825).
20 апреля 1931 года судебное заседание коллегии ОГПУ постановило: осужденных за шпионаж М. В. Алексеева, А. П. Алексееву и Н. П. Рябушинскую заключить в концлагерь сроком на десять лет, считая срок с 17 июня 1930 года, имущество конфисковать, а семью выслать.
И после вынесения приговора Станиславский обращался: к Ягоде; к прокурору Верховного суда СССР; к Генеральному прокурору СССР; стучался во все возможные правительственные инстанции и персонально к главам политических и судебных ведомств со своими личными «тяжелыми просьбами», с «воплями» и «гнетом» души. Пытался смягчить приговор, облегчить участь осужденных и их детей. Убитый горем, не опускал рук:
Я знаю, я уверен, что они не могут быть повинны в столь тяжких преступлениях. Для меня нет сомнений, что они больше оговорены, чем виновны, —
писал он Вышинскому, возглавлявшему отдел частных амнистий при ЦИК СССР, когда все уже было решено (I. 2. № 6590/1). Снова и снова умолял власти смягчить приговор «племяннику моему Михаилу Владимировичу Алексееву, врачу-прозектору Басманной больницы, и жене его Александре Павловне Рябушинской (по специальности естественнице)» (I. 2. № 6587).
В томе исполнительной переписки по делу Промпартии подшито письмо, помеченное 25 апреля 1931 года — Красикову, прокурору Верховного суда СССР:
403 Глубокоуважаемый Петр Ананьевич
Мой племянник, Михаил Владимирович Алексеев, врач-прозектор Басманной больницы, и жена его Александра Павловна Алексеева осуждены на десять лет в Концлагерь.
Ввиду болезни племянника (грудная жаба), — я подал ходатайство в отдел частных амнистий ЦИК’а СССР, об смягчении приговора.
К Вам я позволяю себе обратиться с своей усердной просьбой, заключающейся в следующем. В случае приведения приговора в исполнение, несмотря на поданное мною ходатайство, я прошу:
1) Отправить осужденных на место ссылки за счет родственников.
2) Не разлучать моего племянника с его женой (ввиду его тяжелой и мучительной болезни) во все время отбывания наказания.
3) Не назначать больного на тяжелые физические работы.
4) Не высылать из Москвы детей их — дочери Татьяны 19 лет, и сына Сергея 15 лет (который еще учится), находящихся намоем иждивении.
Простите за причиненное беспокойство, но меня заставляет обращаться к Вам большая тревога за участь больного, близкого человека. Облегчением участи обвиненных Вы бесконечно обяжете меня и дадите возможность более спокойно продолжать мою работу. С глубоким почтением
Народный Артист Республики
К. Станиславский
1931-25-IV308.
«В один лагерь можно послать» — разрешил великодушный Петр Ананьевич. И что-то неразборчивое пометил насчет детей.
29 апреля 1931 года дети Алексеевы — Татьяна Михайловна и Сергей Михайлович, проживающие по Малому Харитоньевскому переулку, получили повестку явиться 4 мая на площадь Дзержинского, д. 1, 2 этаж, окно 12 со справками о составе семьи и с места службы и учебы.
Оставить на жительство в Москве внучатых племянников, взятых на иждивение, — Татьяну Михайловну Алексееву и Сергея Михайловича, учащегося 42-й школы Бауманского отделения Народного образования, — «ввиду […] безвыходного материального положения, а также за неимением кого-либо из близких вне Москвы» — Станиславский молил Красикова вторично (I. 2. № 6651).
Все дальнейшее — в дневниковых записях Владимира Сергеевича:
404 3 мая
Тяжелый разговор с КСС7* […]
Завтра, вероятно, решается участь детей […]
4 мая
Утром был у Тусеньки8*. Она не служит. Был на Лубянке, там виделся с Сережей и Тусенькой. Вернулся домой. Весь день лежал и спал. Настроение скверное […]
5 мая
Узнал, что Шика и Александра Павловна уезжают 7 с/г. […]
6 мая
Был у Тусеньки. С Сережей пришел домой. У Тусеньки готовят в дорогу Мику, Александру Павловну и Надежду Павловну […]
7 мая
Утром в 9 1/4 поехал к Бутырке. Там Туся, Сережа — Шика болен. Домой с Сережей […]
Из-за болезни Михаила Владимирович отправку осужденных отложили. А 11 мая 1931 года он скончался в Центральной тюремной больнице якобы от воспаление легких. Тело со следами побоев было передано Владимиру Сергеевичу и Станиславскому.
11 мая
Вечером дежурил на «Царской невесте» […], была американка. Дома узнал […] о кончине Мики! Господи, упокой его душу!
12 мая
Утром приезжала Зина9*, говорили о похоронах Мики. Завтра кремация Мики […]
13 мая
День кремации Мики […]
19 мая
Ездили на отпевание Мики […]
20 мая 1931 года сестры Александра Павловна Алексеева и Надежда Павловна Рябушинская, высланные из Москвы, отбыли к месту ссылки.
2 июня
Говорили на дворе с КСС. От Александры Павловны получено известие […] (I. 2. № 15825)
405 В записной книжке Владимира Сергеевича появился адрес: «Карелия, почт. отд. Попов остров. К. П. П. 1-е отд. Р. У. О.».
25 мая был снят арест с вещей Михаила Владимировича. Их получила совершеннолетняя Т. М. Алексеева. Станиславскому удалось добиться отмены конфискации имущества А. П. Алексеевой. В томе исполнительной переписки по делу Промпартии подшита квитанция, датированная тем же числом: «Т. М. Алексеева написала заявление в ОГПУ. Часть вещей отца, выданных ей, она добровольно, по ее усмотрению, жертвует в Осовиахим». Имущество Н. П. Рябушинской было конфисковано.
10 сентября
Грустно, пусто на душе […]
12 сентября
Тяжелый разговор с КСС […] —
записывал Владимир Сергеевич в дневнике.
На этот раз братья говорили о поездке детей в Карелию. Они каждый год посещали мать и тетку.
Сестры в ссылке работали по специальности: Алексеева как бактериолог, Рябушинская как врач. Станиславский не оставлял попыток спасти ссыльных. О том, что они «работают безукоризненно», он писал Вышинскому в феврале 1936 года:
Обе они — и Алексеева и Рябушинская — всю свою сознательную жизнь занимались общественно полезным трудом (I. 2. № 6590/1).
Станиславский надеялся, что его характеристика людей, которых он знал «очень хорошо, очень близко», поможет ему в хлопотах о сестрах. Он снова и снова обращался в инстанции — в ЦИК, ОГПУ, прокуратуру. Твердил, что «до ареста и после они честно трудятся», просил принять во внимание, что они люди немолодые и нездоровые, одной сорок восемь, другой сорок девять лет, что «работа по месту заключения для них — сверх сил», что они «быстро истощаются» и тяжело переносят климат. Он уже не просил о пересмотре дела. Он просил ускорить их возвращение к детям, в Москву. Та же просьба «за моих близких родственников» — в письмах Станиславского к «уважаемым товарищам» — Г. Г. Ягоде и И. А. Акулову, с 1933 года — прокурору СССР:
Обеих я знаю очень хорошо: их жизнь, работу, их отношение к Советской власти. С полным убеждением могу сказать, что все, что с ними случилось, — их беда, а не их вина. Перед Советской властью за ними нет никакой вины. Только эта уверенность в них дает мне спокойную решимость обратиться с просьбой к одному из высших блюстителей 406 революционной законности в Советском Союзе, к т. Акулову (I. 2. № 6650).
Срок наказания тем временем перевалил за половину. Но в 1937-м на Александру Павловну Алексееву и Надежду Павловну Рябушинскую, отбывавших срок на принудительных работах, было заведено новое уголовное дело, по которому они схватили «вышку». Решением тройки НКВД Карельской АССР за антисоветскую агитацию и пропаганду среди ссыльных сестры были приговорены к ВМН — высшей мере наказания и в один день — 20 сентября 1937 года — расстреляны.
Такую справку дал отдел информации Министерства внутренних дел России.
Второе следственное дело А. П. Алексеевой и И. П. Рябушинской получить из Карелии не удалось.
… Станиславский трогательно опекал брата. Отправлял его — почти насильно — на лечение в академическую здравницу в Узком. Привозил ему из-за границы ноты и лекарства. Просил — требовал — пользоваться его автомобилем.
«Надо жить» — говорили чеховские герои.
И Владимир Сергеевич постепенно возвращался к жизни. Конечно, тоска подкатывала. Он кряхтел, но — только в дневничке, в коротеньких подневных однострочных, как прежде, репликах.
Он привык и умел много работать.
Работа спасала его.
Он заседал в репертуарной коллегии театра как ее член.
Присутствовал на всех прослушиваниях новых опер.
Разучивал с певцами оперные партии, поработав предварительно с братом над партитурой и мизансценами.
Занимался с актерами по вводам в старые спектакли.
Репетировал с хором и солистами.
Почти ежедневно дежурил на вечерних спектаклях.
И ежегодно выезжал с театром на утомительные для него гастроли по Союзу.
Станиславский заботливо опекал и несовершеннолетнего Микиного Сережу, взятого на иждивение.
Подросток-сирота был непокорен, нестандартен. Таких советская школа-казарма недолюбливала. То приходилось писать наркому просвещения РСФСР А. С. Бубнову с просьбой оказать содействие сыну умершего племянника в поступлении в Электротехникум МООНО им. Г. М. Кржижановского. То — начальнику ГУУЗа товарищу Петровскому о переводе Сергея Алексеева на дневное отделение Электрорабфака имени Ленина. То Станиславский хлопотал о поступлении юноши в Энергетический институт. Но Сережу везде проваливали по политграмоте. 407 Наконец осенью 1937 года его зачислили на первый курс краснознаменного Механико-машиностроительного института им. Н. Э. Баумана. Казалось, все наладилось.
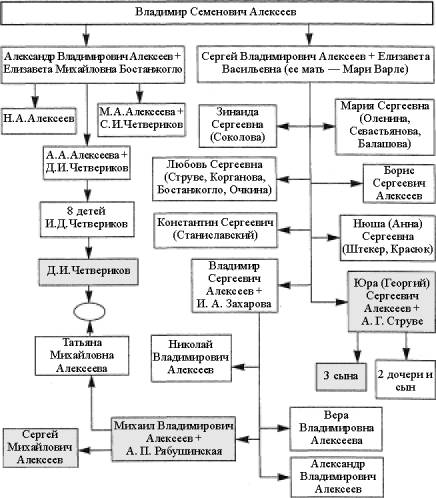
Династия Алексеевых — третье, четвертое и пятое колена
Но на том московская биография Сергея Михайловича Алексеева, праправнука Владимира Семеновича Алексеева, потомственного почетного 408 гражданина Москвы, основателя экспроприированной в 1917-м фабрики бывшей «Владимира Алексеева», закончилась.
Хлопоты великого деда за Таню и Сережу, внучатых племянников, Алексеевых пятого колена от Владимира Семеновича, были напрасны.
Дети были обречены разделить судьбу родителей, врагов народа.
Первым арестовали в доме Рябушинских в Малом Харитоньевском переулке и препроводили в Бутырскую тюрьму мужа Тани — Татьяны Михайловны — Дмитрия Ивановича Четверикова, двоюродного внучатого племянника Станиславского. Он только что получил диплом инженера-химика и поступил на службу в Химико-технологический институт.
Дмитрий Иванович Четвериков родился в 1908 году в Дрездене, в Германии. Он приходился внуком Александре Александровне, урожденной Алексеевой, и внучатым племянником Николаю Александровичу Алексееву. Его прабабкой была Елизавета Михайловна Бостанжогло, «нелиберальная старуха», антипод «либеральной старухи» Елизаветы Васильевны Алексеевой, прадедом — Александр Владимирович Алексеев, старший брат отца Станиславского Сергея Владимировича, а прапрадедами — Владимир Семенович Алексеев, основатель канительной фабрики «Владимир Алексеев» и Михаил Иванович Бостанжогло, основатель табачной фабрики «М. И. Бостанжогло и сыновья».
Сергей Иванович Четвериков, двоюродный дед Дмитрия Ивановича, бывший владелец Городищенской суконной мануфактуры, совладелец с Владимиром Сергеевичем Алексеевым Даниловской камвольной прядильни и с Алексеевыми — фабрики «Владимир Алексеев» (в 1893 году он занял на ней место Николая Александровича Алексеева), — после Октября 1917-го примкнул к антисоветской организации «Национальный центр». Он ратовал за демократическую Россию, которая должна была победить большевиков. Зимой 1918-го он попал в Богородскую тюрьму. В Богородске у него было имение. Потом несколько раз ВЧК препровождала его на Лубянку, пока его дочь, осевшая в Швейцарии, не добилась визы для престарелого отца. Из Швейцарии Сергей Иванович приветствовал нэп. Но дети его Сергей Сергеевич, выдающийся генетик, и Дмитрий Сергеевич, занимавшийся математической статистикой, оставались в СССР, и Сергей Иванович был осторожен в высказываниях.
Это уже ничего не решало.
Дмитрий Иванович Четвериков, муж Татьяны Михайловны Алексеевой, внучатой племянницы Станиславского, и сам двоюродный внучатый племянник Станиславского, — их браком Алексеевы и Бостанжогло переплелись еще раз, кажется последний, — обвинялся в том, что, будучи контрреволюционером и профашистски настроенным (родился в Дрездене), вел среди знакомых антисоветскую пропаганду, допуская 409 при этом клеветнические выпады против товарища Сталина и высказывая одобрение террористическим методам борьбы с советской властью. За все эти преступления против советской власти Особое совещание при НКВД отправило его на 5 лет в исправтрудлаг. С первым отходившим из Москвы эшелоном в феврале 1938 года он выехал в Котлас, в распоряжение Котласского отделения Ухтпечлага НКВД Горьковской железной дороги для дальнейшего следования в Воркуту309.
Свой срок Дмитрий Иванович окончил в Темниковском лагере МВД Мордовской АССР в поселке Явас и задержался там до 1947 года, работая вольнонаемным без права выезда.
Тут и встретился Дмитрий Иванович с Сережей Алексеевым, младшим братом его жены.
Сергея Михайловича Алексеева, двадцати одного года от роду, студента-первокурсника Механико-машиностроительного института им. Н. Э. Баумана, арестовали через полгода после ареста Дмитрия Ивановича, без санкции прокурора и без подписи на ордере. «Алексеева Сергея Михайловича за контрреволюционную агитацию заключить в исправтрудлагерь сроком на пять лет», — постановило Особое совещание при НКВД СССР.
Сережа работал на Беломорканале, на строительстве узкоколейки в Коноше-Котлас. Срок наказания его истек в Усть-Ижемском лагере, где он остался работать вольнонаемным. А потом, списавшись с Дмитрием Ивановичем, он переехал в Темниковский лагерь.
Родные, потомки почетных московских граждан сбивались в клан — далеко от Москвы.
Но тут подоспело распоряжение, запрещавшее бывшим заключенным работать в лагерях по вольному найму. И Сергей Михайлович уехал в Златоуст. Кто-то пообещал ему место на мебельной фабрике.
В 1949 году его ждал второй арест и еще 10 лет в Речлаге МВД в Воркуте. Его взяли в Златоусте и осудили в Москве. За ту же антисоветскую агитацию плюс статья о террористических наклонностях.
Из положенных 10 лет второго срока Сергей Михайлович отбыл семь лет и один месяц.
20 августа 1954 года он отправил на имя Генерального прокурора СССР запрос:
С первого дня моего ареста я пытался найти ответ — для чего, для пользы какому делу понадобилась моя жертва? И только после выявления в 1953 году гнусной банды Берия и прочих мне стала проясняться возможная причина […]
Поэтому теперь, спустя пять лет после моего ареста, когда резко изменился режим, я имею возможность писать с уверенностью, что моя жалоба дойдет до Вас и будет рассмотрена310.
410 Изложив суть своего второго дела, Сергей Михайлович просил пересмотреть его, «и если Вы найдете в чем-либо мою вину, то прошу не отказать разъяснить мне ее».
Конечно, вины не было никакой, но только 15 августа 1956 года, написав еще несколько запросов Генеральному и Главному прокурорам СССР, он добился освобождения и полной реабилитации. По обоим делам.
Ни в Златоуст, где он женился незадолго до ареста, ни в Москву Сергей Михайлович не вернулся. Остался в Воркуте и занимался изобретательством.
В Москве не было жилплощади.
И сил хлопотать о ней уже не было.
Да и с возрастом юношеская задиристость сменилась «какой-то вялостью» в характере. Как у деда Владимира Сергеевича.
В Воркуте платили северные. А он любил большие деньги, любил отдыхать в Крыму, любил рестораны, кахетинское вино, икру, осетрину, ананасы, шоколад… Будто он никогда не был советским зеком и не ел лагерной баланды. Алексеев-Рябушинский, праправнук потомственных почетных московских граждан, был рожден на свет совсем для другой жизни.
Иногда по дороге в Крым он заезжал в Москву. Но в Москве его никто не ждал. Дед Владимир Сергеевич, который пригрел бы его, умер в начале 1939-го, через полгода после смерти Константина Сергеевича.
Умер Сергей Михайлович Алексеев, сын Михаила Владимировича, которого Чехов знал шестнадцатилетним, в начале 70-х от инсульта в доме престарелых в городе Сыктывкаре, недалеко от тех мест, где были расстреляны его мать и тетка и где прошла большая часть его ни за что пропавшей жизни.
Вся она уложилась в два его следственных дела, пылящихся в архиве ФСБ.
* * *
Никто из внуков и правнуков Михаила Ивановича Бостанжогло, купца первой гильдии, потомственного почетного гражданина Москвы, основателя табачной фабрики «М. И. Бостанжогло и сыновья», доживших до 1920-х, не помышлял об отъезде, хотя со «старой жизнью», строившейся вокруг фабрики, фундамента их благосостояния и добрых дел, пришлось проститься. Никто из них не запятнал себя эмиграцией. «Безумств» и «храбрости» Амфитеатровых не было в их природе. Как и политического самосознания Александра Валентиновича. Все Бостанжогло — 411 и респектабельные, и беззаботные в «старой жизни» — приспосабливались к жизни «новой», вяло-покорно ложась под колеса истории, как писал Амфитеатров о Раневской и Гаеве в 1904-м.
В 1918-м фабрику «М. И. Бостанжогло и сыновья» национализировали, нарекли «Красной звездой», а Михаила Николаевича Бостанжогло, внука Михаила Ивановича, кузена Станиславского со стороны матери, бывшего с 1891-го директором-распорядителем дедовской фабрики, оставили при бухгалтерии — кассиром. Имевший на бостанжогловских предприятиях до революции 40 % паевого капитала, как и его брат Василий Николаевич, Михаил Николаевич с 1918-го выдавал на «Красной звезде» по табелю зарплату своим бывшим наемным рабочим.
В 1920-м, после расстрела «чрезвычайкой» Василия Николаевича, Михаила Николаевича «вычистили» из «Красной звезды». Но он получил место кассира в Первой студии Художественного театра. Помог В. В. Готовцев, состоявший в дирекции Первой студии, муж его племянницы Жени Смирновой.
Владимир Васильевич спасал «своих». Он и обнищавшую Наташу Смирнову, сестру своей жены, ту, что летом 1902-го рисовала портрет Чехова и навеяла ему образы Ани в «Вишневом саде» и Нади Шуминой в «Невесте», пристроил в театр. Наташа рисовала как художник по головным уборам шляпки для постановки в 1923 году шекспировской комедии «Укрощение строптивой».
В прошлом бонвиван, балетоман и знаменитый удачливый картежник, выигравший фантастически крупную сумму у купца Михаила Абрамовича Морозова, Михаил Николаевич Бостанжогло после национализации фабрики, но особенно после расстрела брата Василия Николаевича в июле 1920-го неузнаваемо переменился. Стал безропотным, болезненно тихим…
Но его трагедия была впереди, после нэпа.
Как и трагедия семьи Александры Николаевны Гальнбек, родной сестры братьев Василия и Михаила Николаевичей Бостанжогло.
Бывшая певица Мамонтовской оперы, Александра Николаевна задолго до революции сошла со сцены и жила в Загорске, бывшем Сергиевом Посаде, интересами детей — Валентины и Бориса Гальнбеков, правнуков Михаила Ивановича Бостанжогло. И подрабатывала редкими частными уроками английского, немецкого и французского, которые давала детям из семей таких же «бывших», как и она.
Этих же детей Борис Александрович Гальнбек частным образом учил музыке.
Не окончивший последнего курса смирновской гимназии, три года проучившийся в Филармоническом училище по классу фортепиано, Борис Александрович до революции вел праздную жизнь. В 1913-м он и его кузен Василий Васильевич Бостанжогло, сын Василия Николаевича, 412 женились на двух сестрах-еврейках, артистках варьете, перед свадьбой окрестив их. Александра Николаевна приняла невестку, Василий Николаевич выгнал Василия Васильевича из дома.
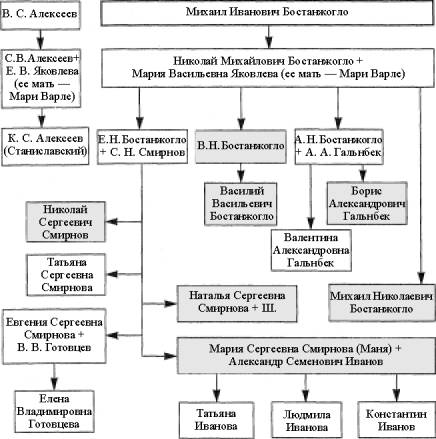
Династия Бостанжогло — третье, четвертое и пятое колена
Василий Васильевич Бостанжогло;
дети Александры Николаевны — Борис и Валентина Гальнбеки;
дети Елены Николаевны Бостанжогло-Смирновой — Николай Сергеевич Смирнов и «смирновские девицы», как называл их Чехов;
дети Владимира Сергеевича Алексеева и Анны Сергеевны Алексеевой-Штекер, дети Владимира Григорьевича и Елизаветы Васильевны 413 Сапожниковой — Алексеевы и Бостанжогло четвертого колена — вместе росли, как и их родители. Это была одна компания, которую наблюдал летом 1902 года Чехов. Все они тем летом увлекались балами: у Мики в Любимовке по случаю его шестнадцатилетия, у Смирновых в Тарасовке, у тети Нюши в Комаровке, на шестнадцатилетии Сони Штекер, у Сапожниковых в Финогеновке. Они успели родиться в XIX веке, во второй половине 1880-х – начале 1890-х. У них были счастливое детство и юность. И всем казалось, что «старая жизнь», отлаженная для правнуков прадедами, — навечно.
А она оборвалась в 1917-м.
После 1917-го Борис Александрович Гальнбек работал в штате Загорского кинотеатра тапером, кинопианистом, как указывал он в арестантских анкетах. Следователь, снимавший с него показания, записал «пионистом» — через «о». Борис Александрович иллюстрировал собственными музыкальными импровизациями сеансы немых кинолент. Как Шостакович в эти годы. А также подрабатывал по совместительству в качестве кружковода в клубе ВКП (б), в Политпросвете, за что на общественных началах вел кружок в средней школе.
Василий Васильевич — Вася Бостанжогло-младший, совладелец до революции и пайщик фамильной табачной фабрики, оставивший юридический факультет Московского университета и изгнанный из дома за жену-еврейку из варьете, — специализировался по первичной переработке табачного сырья и много времени проводил «в Черномории», как писал он в арестантской анкете, на юге России, в Турции и Болгарии, где Бостанжогло владели табачными плантациями311.
Арестантские анкеты — единственный способ что-то узнать о мальчиках из той беззаботной компании кузенов и кузин четвертого колена Алексеевых и Бостанжогло, которые «скучно жили», как казалось Чехову, жили, шатаясь с бала на бал. Большинство из них прошло через ГУЛАГ.
Во время первой мировой войны Василий Васильевич Бостанжогло служил в царской армии. Демобилизовавшись, развелся и вторично женился на русской — Надежде Дмитриевне Козыревой, провинциальной драматической актрисе (по сцене Борисевич). После революции они оба, он под сценической фамилией Гравич, играли в Красноармейском театре Сергиева Посада с заработком «в два пайка».
В 1920-м его арестовали вместе с отцом как соучастника финансовых спекуляций. Он подозревался также в шпионаже, но дела о шпионаже тогда не завели. Оно раскручивалось позднее, в 1929-м. В доносе, подшитом к его следственному делу 1920 года, говорилось о том, что В. В. Бостанжогло, сын бывшего совладельца табачной фирмы «М. И. Бостанжогло и сыновья», будучи хорошо осведомлен через бывших сотрудников фирмы о состоянии табачной промышленности в России, 414 связался с табачными фабрикантами в Германии и более трех лет снабжал их точными сведениями о табачном деле и рынках в России, за что получал от них через Внешторгбанк большие вознаграждения.
В первый свой арест Василий Васильевич Бостанжогло легко отделался. Приговоренный к году концентрационных лагерей, он попал под амнистию, вышел на волю раньше срока и устроился разъездным приказчиком в Мосторг, где и служил до 1929-го.
Кока Смирнов, Николай Сергеевич, младший из детей покойной Елены Николаевны Смирновой и пасынок Лили Глассби, своей гувернантки, готовился к карьере преемника Михаила Николаевича Бостанжогло, своего дяди. К 1917 году он окончил отцовскую гимназию, два курса Коммерческого института, курс юридического факультета в Московском университете и отлично проявил себя на низших ступеньках лестницы, ведущей к директорскому месту, как завтипографией и складом готовых изделий на прадедовской фабрике «М. И. Бостанжогло и сыновья». На него можно было положиться. Случись что с дядей Михаилом Николаевичем, Николай Сергеевич Смирнов взял бы дело в свои руки. Уже накануне революционных лет, лишенный художественных дарований — в отличие от кузенов, сыновей Василия Николаевича и Александры Николаевны, а потому крепко державший свой безмен, как говорил о настоящих купцах-фабрикантах Lolo-Мунштейн, Николай Сергеевич готов был исполнить свой фамильный долг наследника.
Не пришлось.
Ему выпала другая судьба.
После национализации фабрики в 1918-м до 1920-го Кока, Николай Сергеевич Смирнов, продолжал на ней служить. Как и дядя Михаил Николаевич Бостанжогло, бывший ее директор, получивший должность кассира. Поначалу революции нужны были специалисты. В 1920-м вместе с дядей «вычистили» и Коку. Он стал безработным. Перебивался грошовыми заработками счетовода в управлении Пушкинско-Щелковских фабрик, бывших Четвериковских; служил инкассатором в мануфактуре «Опросбыт», принадлежавшей в годы нэпа отцу его второй жены; занимался спекуляцией — скупкой и перепродажей ценностей и валюты на черной бирже. И тоже проходил, как и Василий Васильевич Бостанжогло, по делу дяди Василия Николаевича Бостанжогло. Но ареста избежал.
Нэп дал ему вздохнуть, и Николай Сергеевич сменил свою лояльность по отношению к Советской власти на сочувствие ей — как указал он в арестантской анкете. Он работал агентом на процентах в издательстве Камерного театра, потом — на киностудии Межрабпомфильм, потом — у владельца фибровой фабрики «Торгвос» — Всесоюзного общества слепых. С должности помощника заведующего этой фабрикой в 1925-м перешел в Гознак, где до своего ареста в 1935-м работал техником 415 отдела снабжения по импорту и переводил специальную литературу с французского, английского, которому его выучила Лили, и с немецкого для отдела информации Гознака.
И Ивановы, семья театралки Мани Смирновой, старшей из Кокиных сестер, приспосабливались к «новой жизни». Маня жила далеко от родных. Наверное, писала им. Могла ли она жить без писем?
Но их не найти.
Маня Смирнова-Иванова всюду следовала за мужем. И до революции, и после.
Куда только не забрасывала Александра Семеновича Иванова после революции его профессия инженера-путейца с многолетним дореволюционным стажем практической работы на железных дорогах России.
Революцию он встретил начальником службы пути Московско-Киевско-Воронежской железной дороги. Был в Курске, потом в Киеве, когда там началась чехарда во власти: немцев сменяли поляки, поляков гетманцы, гетманцев добровольцы, добровольцев — петлюровцы. Власть в Киеве переходила из рук в руки двенадцать раз, — вспоминал о тех днях Александр Семенович.
Октябрьскую революцию он принял как свершившийся факт. Она нисколько не повлияла на его добросовестность в деле. Он как до, так и после 1917 года следил за рельсовым хозяйством, обеспечивая безопасность движения пассажирских и грузовых составов. При власти белых войск и в гражданскую войну служил помощником начальника Левобережной железной дороги. Вступившая в 1919 году в Киев Советская власть сразу подключила его к восстановлению разрушенной транспортной сети и к организации Наркомата путей сообщения Украины. И в дальнейшем Советская власть использовала его, крупного дореволюционного спеца, на командных должностях. Пока не подвела в 1933 году черту под его «контрреволюционной вредительской деятельностью».
Его советская карьера складывалась благополучно.
В 1920-м он получил должность начальника пути всего Левобережья, потом — должность помощника начальника Юго-Западной железной дороги. В 1921-м его перевели в Москву, в НКПС — Наркомат путей сообщения СССР, назначив инспектором технического управления. Это был пик его карьеры «на почве Соввласти», как говорил беспартийный Александр Семенович. Находясь на руководящих должностях, он так и не вступил в партию большевиков. Что было почти невозможно.
В Москве он встретился с такими же, как и он, технически образованными специалистами: Н. А. Небесовым, старшим консультантом сектора капиталовложений ЦПТУ — Центрального планово-транспортного управления; В. В. Шуховым, помощником начальника этого управления 416 в НКПС. С Шуховым он был знаком с 1917 года: оба работали на Московско-Киевско-Воронежской дороге, Шухов — начальником службы движения, Александр Семенович — в аппарате службы пути.
То-то Маня наслаждалась Москвой!
Но очень коротко. К тому же в Художественном в тот год не играли ее любимых чеховских спектаклей и «Братьев Карамазовых» — не было Качалова, Ольги Леонардовны, Германовой, а осенью 1922 года укатили за границу и дядя Костя с тетей Марусей.
Из престижного Наркомата путей сообщения из-за развивавшегося туберкулеза Александр Семенович отпросился у Дзержинского, председателя ВЧК и наркома путей сообщения, на юг и получил высокие посты на железных дорогах Средней Азии, потом в Оренбурге, потом на других южных направлениях с центром в Харькове. Им везде были довольны. И наверху, и подчиненные. Он был необыкновенно приветлив ко всем, независимо от ранга. Как специалист имел огромный авторитет в коллективе. Начальник военного округа на Туркестанском фронте, координировавший военные перевозки в Ашхабад, в Ташкент, передавал самому Александру Семеновичу, что Л. Б. Каменев поднял вопрос о награждении его орденом Трудового Красного Знамени. Орден почему-то Александра Семеновича не нашел.
Когда Ивановы жили в Харькове и Александр Семенович был начальником всех южных дорог, с Маней случилась беда. На нее напали на улице трое бандитов. Александр Семенович тогда одного из них убил, другого тяжело ранил. С тех пор лицо и рука Мани были изуродованы пулевым ранением. Маня в Харькове чуть не сошла с ума, так ей было худо жить с другим лицом и неработоспособной рукой и так она боялась мести. Из-за нее Александр Семенович переехал в Воронеж, где получил место начальника Юго-восточных железных дорог — ЮВЖД.
В Воронеже, подчиняясь в Наркомате путей сообщения непосредственно старому другу В. В. Шухову, Александр Семенович работал дольше всего — с 1924 по 1930 год. Шухов курировал в НКПС Ростовский узел, сопряженный с Воронежским, и часто приезжал в Воронеж. А Александр Семенович часто ездил в Москву и Маню прихватывал с собой. Женщину с обожженным лицом, приходившую в гости к своей сестре Наталье Сергеевне Смирновой — Наташа жила тогда в коммунальной квартире в Кривоарбатском переулке, — вспомнил сын Наташиного соседа. Он стал актером, а потом — преподавателем по актерскому мастерству в Вахтанговском училище.
Александром Семеновичем и в Воронеже были довольны. Он получал благодарности, их заносили в его личное дело. Ежегодно его премировали месячными путевками в санатории Крыма и Кавказа. В сентябре 1928 года, когда он отдыхал с детьми в Крыму, он привел их в домик 417 Чехова в Ялте. Затесавшись в толпе туристов, рассматривавших дом и сад, посаженный руками Чехова, он наблюдал за Марией Павловной Чеховой. К ней подойти не решился, постеснялся напомнить о себе и Мане и представить ей детей. Только в 1929 году, к 25-летию со дня кончины Чехова, он написал сестре писателя письмецо. Мария Павловна сохранила его в своем архиве:
Уважаемая Мария Павловна!
В первой половине сентября месяца прошлого года, будучи в Крыму, я со своим семейством счел долгом посетить домик Антона Павловича. Увидев, с какой любовью (да иначе и быть не может) Вы храните память об Антоне Павловиче, по выходе из домика я присел на лавочку около парадного с тем, чтобы собрать впечатления, овеянные тихой грустью. Подошла шумливая толпа молодежи — очевидно экскурсантов. Один из пришедших молодых людей, не помню, или постучал, или позвонил в дверь. К вышедшей прислуге развязно был обращен вопрос, очевидно, вызванный надверной дощечкой: «Антон Павлович дома?» Прислуга под такой же развязный смех «шутке» остальных экскурсантов молча захлопнула дверь.
Через минуту вышли Вы и стоявшему перед дверью «шутнику» буквально ответили: «Антона Павловича нет дома — дома его сестра Мария Павловна». Моментально смех стих, лучшего ответа нельзя было ожидать, чтобы сконфузить человека, который, я уверен, по выходе из домика после осмотра сильно страдал за свой первый вопрос. Этот случай мне хочется напомнить Вам в день памяти об Антоне Павловиче, как сестре и хранительнице Музея, лучше которой никто бы не сумел сохранить дорогие черточки Чехова для любящих его.
Примите мое уважение к Вам,
А. Иванов (II. 1. К. 90. Ед. хр. 46).
В дом Чехова стучалась другая эпоха.
Александр Семенович Иванов был в новой жизни весь из прошлого.
И Немирович-Данченко, часто бывавший в Ялте и в Доме-музее Чехова, наблюдал паломничество экскурсантов к Чехову: «Героическими заботами сестры Антона Павловича дом благополучно пережил разруху гражданской войны. Ею же, Марией Павловной, в образцовом порядке содержится музей. Сотни туристов со всех концов Советского Союза, юных строителей новой жизни, наполняют его ежедневно и с жадным интересом вглядываются в каждый уголок, в каждый портрет» (III. 2 : 225).
Нет, не всем юным строителям новой жизни были дороги черточки Чехова. Кому-то из них, кто не родился у матери Марии Сергеевны Смирновой и отца Александра Семеновича, было совсем неинтересно 418 вглядываться в каждый уголок барского дома с огромным окном в сад и в каждый портрет незнакомца. Чехова, скорбевшего о гибели дворянских усадеб, не изучали в школах.
В конце 1920-х Александра Семеновича впервые посетили мысли, совершенно ему несвойственные: «Не обычные для меня жизнерадостные розовые мечты о лучшем будущем моем и моей семьи». Так, совсем по-чеховски, он сам написал в своих показаниях следователю НКВД, его допрашивавшему.
Оглядываясь назад, он пытался осмыслить, что же с ним произошло с конца 1920-х312.
В конце 1920-х он не мог прокормить семью из пяти человек на одну зарплату совслужащего на транспорте. На транспорте платили хуже, чем в промышленности. Подрабатывать было некогда, да и негде.
В конце 1920-х каждый недоучившийся инженер, рядовой диспетчер или даже начальник грузовой группы, рабски исполнявший безграмотные распоряжения комиссаров на дороге, метил на его место и еще выше, над ним, норовя его направлять и им командовать.
А из Москвы присылали столько бумаг, столько инструкций по реорганизации аппарата управления и административных органов, что работать стало невыносимо. В мозгах возникала путаница от противоречивых директив центра. Александр Семенович думал, что постарел, а ему еще не было пятидесяти. То следовало внедрять «обезличенную езду», и на комсостав дороги надевали форму. То отменяли ее. То вводили снова. То обязывали увеличивать вес и удлинять плечи перевозок. То предписывали добиваться невиданного размаха и разворота строек. То преследовали за раздувание капиталовложений в них.
Александр Семенович едва успевал соответствовать курсу. Начальник дороги ничего не решал, он только грамотно, как мог, выполнял предписания и распоряжения НКПС и местной партийной администрации, строго взыскивавшей с исполнителей.
Он жил далеко от Москвы, в ежедневном завале работой.
Московские приказы и личные московские контакты с коллегами из НКПС, его друзьями, выбивали из равновесия. И гасили присущую ему жизнерадостность.
Он видел, как рос в столице произвол репрессивных органов, критиковавших старых специалистов.
Он видел, как за пустячный иногда поступок «выбрасывался» работник, имевший за собой «солидные годы и опыт беспорочной службы».
Он видел, как выходили — вышибались из строя в Москве и исчезали лучшие, «идеальнейшие» люди. Инженер Шухов, например. Александр Семенович с недоумением читал в газетах, что в НКПС обезврежена контрреволюционная организация из числа старых инженеров, ставившая целью приведение железных дорог страны в такое состояние, 419 при котором ослаблялась ее экономическая мощь. На этой почве должны были начаться, как писали газеты, массовые выступления населения, особенно рабочих и служащих транспорта, против Советской власти. Органы безопасности, славные чекисты вовремя обезвредили контрреволюционеров. Самое удивительное состояло в том, что руководил ядром разгромленного заговора в НКПС и группой злоумышленников из ЮВЖД — Шухов, а арестованные в Воронеже люди, служившие под началом Александра Семеновича, признали себя виновными в невероятных преступлениях: в подрыве Советской власти и создании кризисных ситуаций на транспорте. Шухов, оказалось, занимался разрушением подвижного состава, тормозил рационализацию, срывал режим экономии, составлял раздутые перспективные планы, отягчавшие бюджет и вызывавшие непроизводительные расходы.
Александр Семенович по делу Шухова и Воронежскому делу не проходил и своих позиций на службе не утратил. Напротив, в 1929 году он избирался членом ЦИК СССР пятого созыва и членом союзного Совета ЦИК. Еще действовала инерция? А в 1930-м его перевели в Свердловск с предоставлением роскошной квартиры в центре города и назначили заместителем начальника крупнейшей в СССР Пермской железной дороги.
В 1931 году его избрали членом Свердловского горсовета депутатов трудящихся.
Маня Смирнова-Иванова была просто счастлива переезду. Она окунулась в свою стихию. В Свердловске, крупном в сравнении с Воронежем, культурном центре СССР, она снова жила, дышала музыкой и театром. Теперь она отдавала предпочтение опере перед драмой. В Свердловском театре оперы и балета она слушала все подряд: «Евгения Онегина», «Царскую невесту», «Фауста», «Русалку», и не по разу. Ходила сначала на спектакль, потом на певцов. О премьере «Фауста» написала тете Зине Соколовой и дяде Володе Алексееву, сестре и брату Станиславского, предлинное письмо. Так она прежде писала Ольге Леонардовне, Антону Павловичу и дяде Косте о той, счастливой «старой» жизни, полной музыки и театра. В Свердловске пели дяди-Костины ученики.
Ученики Алексеевых по Оперной студии Станиславского пели во многих театрах страны. В Свердловске партию Фауста пел воспитанник студии Н. Н. Белугин. Маня писала его учителям, и с подробностями, как она умела и любила: «Весь “Фауст” поставлен в гравюрных тонах — черный, белый, коричневый — и деревья, и дома, все такое. И балет и хор в белом с черным. Только Вальпургиева ночь — яркие краски, полуголые с черным черти и почти голый балет. Среди сцены большое возвышение, и сцена все время вертится. Очень красивая, бурная, красочная постановка» (I. 2. № 17239). Белугин в роли Фауста не просто Мане 420 понравился. Он ее очаровал — тонкостью, благородством, изяществом фигуры, нежным голосом. Она спешила сообщить московским учителям Белугина, что тот готовит партию князя в «Русалке» Даргомыжского. Зато актер, исполнявший партию Зибеля, ее огорчил. Она считала, что Зибеля не должен петь мужчина. Словом, Маня была в своем репертуаре. Как будто театр по-прежнему был всей ее жизнью. Ее всепоглощающим, как прежде, в ее девическую, чеховскую пору Художественного театра, высшим смыслом.
«Новая жизнь» ничуть не изменила ее.
И к тому, что ее лицо и рука изуродованы, она привыкла. Она чувствовала себя счастливой. Несмотря ни на что. Вопреки всему. Как Соня Войницкая после ночного разговора с Астровым. И восторженности в ней не поубавилось, как и любви к искусству, отраде ее души.
Пусть Москва и Басманная с большим старым домом Бостанжогло далеко.
Маня никогда не забывала его.
Разве можно забыть свое детство, если она вся — оттуда.
Она гордилась мужем, детьми, семьей.
«Живем мы в мире и согласии, чего же еще», — кажется, эта чеховская строка, отданная прекраснодушному Вафле в «Дяде Ване», стала выражением ее сути. Такой характер. Она гордилась сыном Костей — комсомольцем, активистом; дочерьми — Милочкой, созданной для дома; Таней. Таня училась на химика и играла в самодеятельности. Сначала у Тани были школьные драмкружки, Дома пионеров, в 1930-х — институтская театральная студия. Как-никак, а в ней тоже гены ее прапрабабки Мари Варле, француженки-актрисы, бабки Станиславского, от которой — его гений. Маня чувствовала эти гены в дочке и поощряла ее любовь к сцене.
Хотя связи с прошлым резко оборвались. Прошлое затаилось в душе. Здесь, в Свердловске, никто не знал, что она — из семьи московских табачных фабрикантов Бостанжогло и что покойный отец ее — бывший статский советник, личный дворянин. Воспоминаниями о детстве, о юности, о Европе, о любимых Италии и Швейцарии, куда ее в первый раз возил отец летом 1902 года, как раз перед Любимовкой с Чеховыми, а потом она с сестрами ездила до революции чуть ли не ежегодно, она ни с кем не делилась. Даже с детьми. Так было лучше.
Всех согревали ее домашние застолья. Гости — соседи и сослуживцы мужа каждый вечер набегали к Ивановым на пироги. Она пекла их по старым бостанжогловским турецко-греческим рецептам. И хотя год от года Ивановы нищали, проживая старые Манины вещи, стол Маня сервировала по всем правилам, которых никто, кроме нее, кажется, не помнил. Впрочем, настоящие, стопроцентные советские люди, те, что из пролетариев и трудового крестьянства, презирали этот грошовый уют и 421 домашние радости. Маня часто слышала за спиной; мещанка. Даже от своих московских родственников Готовцевых. А она благоговела перед Владимиром Васильевичем, артистом Художественного театра. Гордилась и им, и младшей сестрой Женей. Женя служила в Комакадемии, а потом в библиографическом отделе Ленинской — бывшей Румянцевской библиотеки!
И вдруг — только у Ивановых могло быть это «вдруг» — без всяких объяснений Александра Семеновича понизили в должности до консультанта при директоре-комиссаре и переселили из центра города в ведомственную многоквартирную развалюху. Теперь семья Ивановых — двое взрослых и трое детей — ютилась в одной коммунальной комнате. За стеной жил сосед инженер И. Е. Берляндт — заместитель начальника отдела эксплуатации дороги, холостяк. Им еще повезло: попался славный человек, еврей из Киева, 1900 года рождения. Не то, что ленинградской тезке Мани — Марии Сергеевне Алексеевой-Балашовой, ее младшей двоюродной тетке.
Изгнанный из руководящих кадров, персонально прикрепленных к распределителю продуктов № 5 Уралторга, Александр Семенович теперь вместе с Маней, его иждивенкой, часами простаивал в общих очередях за урезанным пайком, перехватывая взгляды шарахавшихся от него прилично одетых людей. Он стыдился своего старенького полушубка, купленного в 1913-м, до войны, и испытывал «безумную» вину перед своей обезображенной замухрышкой-женой, затесавшейся в ее не раз перелицованном, заплатанном и заштопанном пальто среди высокопоставленных шикарных дам в лисах, подъезжавших к распределителю.
Маня не совсем понимала, что происходит.
Вернее, совсем не понимала, совсем не разбиралась ни в Воронежском деле, задевшем подчиненных Александра Семеновича, ни в Шахтинском деле — оно проходило в Москве в мае — июле 1928 года: группа инженеров и техников обвинялась в создании контрреволюционной вредительской организации в разных районах Донбасса. Пятерых обвиняемых по Шахтинскому делу приговорили к расстрелу, остальных — к различным срокам заключения.
48 человек расстреляли в связи с делом «вредителей в снабжении продуктами питания». Этот приговор был оглашен в сентябре 1930-го.
Газеты пестрели «рабочими откликами». Пролетариат требовал: «Вредители должны быть стерты с лица земли!» «Известия» вышли с лозунгом на первой странице «Раздавить гадину!» и возглавили кампанию за награждение ОГПУ орденом Ленина. Враги народа разоблачались даже в вождях, делавших Октябрьскую революцию. В 1929 году был обвинен в антисоветской деятельности и выслан из СССР сам «Бог карающий», словами Станиславского, — Л. Д. Троцкий.
422 Все это никак не вмещалось в сознание Александра Семеновича Иванова. Он искренне казнил себя за свою политическую безграмотность: он не испытывал положенного в таких случаях торжества по поводу победы страны над внутренним противником, над предателями.
От того, что происходило с Маниными родными в Москве, Ивановых бросало в дрожь.
В 1929-м, когда Ивановы еще жили в Воронеже, арестовали Маниного кузена Васю — Василия Васильевича Бостанжогло и дядю, тишайшего Михаила Николаевича.
За Васей с 1920-го тянулся «шпионский» след — след связи с Бостанжогло-эмигрантами.
Михаила Николаевича арестовали исключительно за «богатую фамилию».
Бывшего потомственного почетного гражданина Москвы наказали — при полном отсутствии улик — лишением прав проживания в Москве, Ленинграде и областях этих городов, Киеве, Харькове и Одессе. ОГПУ потребовало от него прикрепления лишенца к определенному месту жительства за пределами означенных точек.
Выбрав Воронеж, Михаил Николаевич 2 декабря 1929 года выбыл из Москвы. В Воронеже «милого дядю» встречала Маня, Маня Смирнова-Иванова. Собственно, из-за племянницы он и остановился на Воронеже. Но Александра Семеновича скоро перевели в Свердловск. И Михаил Николаевич остался совсем один.
17 августа 1931 года он умер в психиатрической горбольнице ЦЧО — Центральной черноземной области. Не выдержал, видно, «новой жизни». И хоронить его было некому.
Василия Васильевича Бостанжогло, Васю-младшего обвинили в том, что он, бывший коммерческий агент Мосторга, уволенный из Мосторга по сокращению штатов, вступил в договоренность с табачными дельцами в Германии на предмет организации в Европе табачного производства под фирмою московских Бостанжогло, с тем чтобы конкурировать на внешнем рынке с табачными изделиями из России. В результате русский листовой табак был якобы продан германскому табачному тресту за бесценок.
В конце 1920-х дело Василия Васильевича, начатое в 1920-м, обросшее дополнительными подробностями о его контактах с греческими и германскими родственниками, завершилось постановлением Особого совещания при коллегии ОГПУ о высылке в Северный край сроком на три года. Обвиненный по делу о вредительстве и шпионаже, Василий Васильевич Бостанжогло в ноябре 1929-го, в соответствии с постановлением Особого совещания при коллегии ОГПУ, отбыл в Каргопольскую ссылку. Через восемь месяцев его перевели в Коношу, потом в Шалакушу, потом в Няндом. Его жена и теща ездили к нему в Каргополь. 423 Василий Васильевич занимался в ссылке литературой по животноводству и играл в драмкружках. А в его деле уже лежал следующий донос о том, что он имеет фотоаппарат и снимает моменты перевозки древесины, производимой административно высланными, и надписи на крестах умерших кулаков-переселенцев. Кроме преступного фотографирования, Бостанжогло якобы делал какие-то записи в блокнот.
Фотоаппарата у Василия Васильевича не было. Он был у другого ссыльного. Но это не важно.
В стране победившего социализма воцарялось безумие, абсурд как норма жизни.
Василию Васильевичу Бостанжогло предстояла долгая лагерная жизнь. Он умер 2 мая 1953 года, отбывая очередной десятилетний срок, к которому был приговорен в ноябре 1950 года Ярославским областным судом.
Кузена Василия Васильевича и Маниного кузена Бориса Александровича Гальнбека арестовали летом 1930 года в Загорске, бывшем Сергиевом Посаде. Его обвинили в контрреволюционных настроениях и антисоветской агитации среди местных граждан. Граждане свидетельствовали: Гальнбек происходит из семьи крупного купца Бостанжогло по материнской линии и представляет собой разложившегося интеллигента. Он вращается среди «бывших» — князей и лишенцев. В его разговорах только и слышны жалобы на плохую жизнь. Ко всем мероприятиям Советской власти он относится враждебно, насмешливо. Служит он Советской власти лишь по необходимости, не имея других средств к существованию. А по политической своей морали, наклонностям, складу характера и взглядам на жизнь он тунеядец: скорее предпочел бы ничем не заниматься.
Загорские граждане были единодушны в осуждении «бывшего». Кто-то из вызванных по делу свидетелей, защищая Бориса Александровича, убеждал следствие, что к активным выступлениям против Советской власти по своей трусости он не способен, хотя осуждать ее отдельных представителей втихомолку, ворчать и высмеивать их исподтишка — это в его духе.
После долгого «запирательства» Борис Гальнбек сознался, что на душе его есть грех: он отказался однажды играть на вечере антирелигиозного характера, но исключительно по причине физического недомогания в тот день. А по отношению к Советской власти он не совершил ни одного преднамеренно злостного поступка, и если и позволил рассказать анекдот, то это — он чистосердечно покаялся — от обывательщины, от своей мелкомещанской, буржуазной сути, которую он обязуется в будущем преодолеть313.
Решением тройки ОГПУ Московской области Борис Александрович Гальнбек был осужден к высылке в Сибирь сроком на 3 года. Свое 424 наказание он отбыл в Западно-Сибирском крае, в селе Вово-Ильинка (от Владимир Ильич?) Колпашевского района.
По окончании срока ему запрещалось правилом «минус два» проживать в Москве, Ленинграде и в областях этих городов.
Выйдя на свободу, Борис Александрович поселился в Ростове-Ярославском, преподавал фортепиано в музыкальном техникуме. Детей у него не было. В 1963-м в день столетнего юбилея Станиславского он неожиданно объявился: дал интервью корреспонденту ярославской газеты «Северный рабочий» о своем великом двоюродном дяде, кузене его матери Александры Николаевны Бостанжогло — Гальнбек.
В 1963-м Борису Александровичу — 73. Он высок, всегда подтянут, любит стихи и музыку, сам пишет стихи и сочиняет музыку, — говорили о нем соседи. Из семейных реликвий у него сохранился старинный материнский фотоальбом. Александра Николаевна вклеивала в него фотографии с дарственными. На обороте одного из групповых снимков надпись: «Саше Бостанжогло», под ней три автографа: Владимира Сергеевича Алексеева — он, как всегда, у рояля, Константина Сергеевича — он на переднем плане — и Ивана Николаевича Львова, репетитора мальчиков и режиссера первых спектаклей Алексеевского кружка. И дата: февраль 1882 года.
На другой фотографии — двадцатилетний Константин Сергеевич в роли Рамфиса в «Аиде». На обороте — его автограф и дата первого спектакля в красноворотском домашнем театре: 28 февраля 1883 года.
В альбоме Александры Николаевны — ее фото в жизни, в ролях, сыгранных в Алексеевском кружке, и в оперных партиях у Мамонтова, фото Алексеевых, Бостанжогло, Штекеров, Сапожниковых, Соколовых — семьи Зинаиды Сергеевны, Смирновых — семьи сестры Александры Николаевны Елены Николаевны, фото Марии Петровны Лилиной с детьми. И конечно, любимого кузена Александры Николаевны Кости Алексеева-Станиславского.
В своем интервью «Северному рабочему» Борис Александрович вспомнил и Любимовку, когда на даче Алексеевых близ его, бостанжогловской дачи в Тарасовке жил Чехов. В лето 1902-го ему двенадцать лет. Корреспондент ярославской газеты записала с его слов: «Чехов очень любил ловить рыбу, но питал отвращение к червякам и насаживать их на крючки брал Борю Гальнбека. Мальчик с охотой шел на рыбалку, т. к. Антон Павлович никогда не оставался в долгу, а дарил своему помощнику конфеты, яблоки».
Может быть, это Боря и подцепил на крючок чеховской удочки сапог или калошу вместо червяка?
А молва грешит на Мику — Михаила Владимировича Алексеева.
Умер Борис Александрович Гальнбек в Ростове Великом на следующий год после столетнего юбилея Станиславского.
425 В Ростове Великом арестовали в последний раз в 1950 году Василия Васильевича Бостанжогло. Может быть, кузены, выдворенные из Москвы, на склоне лет поселились вместе?
… Аресты в Москве, в Наркомате путей сообщения и на Пермской железной дороге начались в январе-феврале 1933 года.
Александра Семеновича Иванова арестовали последним, четырнадцатым, в конце апреля, когда следственными показаниями по делу «О контрреволюционной вредительской организации на Пермской железной дороге» Александр Семенович, как ее руководитель, «достаточно изобличался». Организация якобы ставила конечной целью своей деятельности свержение Советской власти путем создания экономической разрухи в стране.
Уже в день обыска и ареста на квартире его допросили. Он подписал каждую страницу, записанную оперуполномоченным с его слов. Все дальнейшие показания он писал собственноручно в тюремной камере ДТО — дорожно-транспортного отдела ОГПУ.
Вину свою он признал сразу.
Излагая с мельчайшими техническими подробностями все факты своего личного вредительства в проектировании схем крупнейших транспортных узлов в Воронеже и Свердловске и оценивая огромный ущерб, нанесенный государству, он думал, кажется, об одном: как оградить жену и детей от ответа за него.
Чистосердечно каюсь и прошу ради возможности выработать истинных работников Советской власти из моих детей дать мне возможность искупить мою вину усиленным трудом и пощадить меня.
Он навешивал на себя свои «противосоветские мысли».
Все, что строилось под его руководством с конца 1920-х, оказывалось в его показаниях пропитанным их ядом.
Он принял решение — всемерно помочь следствию и выстраивал версию следствия о контрреволюционном заговоре, им возглавляемом. Он делал это с такой степенью скрупулезности, что холодному сердцу его многостраничные технические записки с детальным обоснованием строительных проектов, накопившихся за жизнь в профессии, могли бы показаться бредом гоголевского сумасшедшего, если бы их кто-нибудь читал. Но их никто не читал. Предупреждая эти подозрения и отводя их, он спешил их опровергнуть:
Мое сознание является окончательно продуманным, от него я не откажусь ни при каких обстоятельствах, а, наоборот, дополню, уточню и заострю его в последующих показаниях.
426 Он бесконечно дополнял, заострял и уточнял сознание своей вины. И только просил у органов поставить его тотчас же в тягчайшие условия местности и жизни, чтобы он мог немедленно отдать свой труд и опыт на пользу и процветание советского строительства на транспорте и на рост могущества советской власти:
Прошу избавить моей работой от стыда за преступные поступки сбившегося с пути отца и мужа — моих детей и жену, вынужденную теперь с больною раненой рукой зарабатывать средства работою на пишущей машинке.
Это сквозная линия его сознания.
Коллегия ОГПУ своим обвинительным заключением от 7 декабря 1933 года великодушно заменила полагавшуюся инженеру А. С. Иванову по статьям 57-07 и 58-22 УК РСФСР высшую меру наказания — ВМН — на 10 лет ИТЛ — исправительно-трудовых лагерей. С тягчайшими условиями местности и жизни, о которых просил для себя осужденный, проблем не существовало.
Сосед Александра Семеновича по квартире инженер Берляндт, его подчиненный, не признавший своей вины, получил 8 лет ИТЛ. Но все равно его настиг расстрел, уже в Бамлаге, где он отбывал свой срок, — за принадлежность к контрреволюционной троцкистской шпионской вредительской организации, обезвреженной местными чекистами.
Александр Семенович Иванов умер в Ухтпечлаге 2 декабря 1936 года, не встретившись с кузеном своей жены Дмитрием Ивановичем Четвериковым. Тот прибыл в Ухтпечлаг в феврале 1938-го.
В середине 1930-х пришла очередь и Коки, Николая Сергеевича Смирнова, младшего из правнуков Михаила Ивановича Бостанжогло, основателя табачного дела, пополнить список репрессированных Бостанжогло, родившихся в Москве потомственными почетными гражданами. При аресте у Коки изъяли коллекции марок и 22 иностранных журнала. Это была серьезная улика против арестованного, подозреваемого в принадлежности к контрреволюционной фашистской организации.
С такой анкетой, как у него, арест был неизбежен. Нельзя было скрыть от следствия своего происхождения. Он чистосердечно признался и в том, что в 1920-м был расстрелян его дядя Василий Николаевич Бостанжогло. И в том, что другой его дядя, Михаил Николаевич Бостанжогло, был приговорен к ссылке в Воронеж. За что были арестованы и отбывали наказание его кузены Василий Васильевич Бостанжогло и Борис Александрович Гальнбек, Кока в самом деле не знал. И о том, что арестован Александр Семенович в Свердловске, Кока не знал тоже. Он указал в анкете в разделе о родственниках старый свердловский адрес Мани и Александра Семеновича в центре города.
427 За «нет за что», как говорила Лили Глассби, его гувернантка и впоследствии мачеха, Николай Сергеевич получил три года исправтрудлага. В мае 1935 года он был отправлен первым эшелоном в Мариинск, в распоряжение начальника управления Сиблага, и по окончании срока был освобожден. А потом, в соответствии с правилом «минус шесть», прописался в деревне Левино Медынского района Смоленской области. Здесь он был вторично арестован районным отделением НКВД за антисоветскую агитацию среди колхозников. Показаниями 14 свидетелей он изобличался еще и в том, что, имея тайный замысел покинуть страну, пристально следившую за ним, способствовал немецким властям на временно оккупированной территории в сборе продуктов и теплых вещей для фашистов среди местного населения.
Предъявленных обвинений он не признал, но был приговорен в июне 1942 года военным трибуналом 49-й армии к 10 годам исправтрудлага.
Умер он в одном из лагерей Сибири в 1943-м, а в мае 1989 года получил реабилитацию. Без всякого запроса и по обоим делам. Детей и у него не было. Просто пришел его черед в Генеральной прокуратуре РСФСР, пересматривавшей в плановом порядке сваленные в архивах НКВД — КГБ — ФСБ штабеля следственных дел.
Сюжет его жизни уложился во вполне «обыкновенную историю». Одну из многих историй «эпохи исчезновений».
… С арестом Александра Семеновича Маня, Мария Сергеевна Иванова, урожденная Смирнова, совсем оторвалась от Москвы. Боялась подать о себе знак. Боялась навредить родным. И неизвестно, узнала ли она о смерти мужа. Впрочем, ее преданность близким не имела границ. Вряд ли она упустила из виду своего Шурика.
Но она твердо знала, что Александр Семенович невиновен.
О смерти Станиславского 7 августа 1938 года она узнала по радио и из газет.
Радио — черная тарелка — и «Правда» или «Известия» были в каждом доме.
Смерть дяди Кости всколыхнула ее раненую душу. И Маня позволила себе открыть ее. Кажется, в последний раз.
Она написала Марии Петровне Лилиной.
Время, историческая катастрофа, прокатившаяся по стране и по ее семье, мало изменила ее. И дочь Таню она вырастила похожей на себя, поклонявшейся Ольге Леонардовне и спектаклям дяди Кости в Художественном. Таня Иванова присоединилась к Маниному соболезнованию Марии Петровне Лилиной, потерявшей великого мужа.
Маня Смирнова, Мария Сергеевна Иванова протянула женский чеховский характер от конца XIX века, из «старой жизни» в «новую» — 428 до начала 1940-х, из прошлого в будущее, совсем не такое счастливое, как мечталось чеховским Ане Раневской и Пете Трофимову.
И все же в этом будущем с его ГУЛАГ’ом на месте истребленных Вишневых садов много света. Душевного света Мани Смирновой и Тани Ивановой, двоюродных племянницы и внучатой племянницы Станиславского, скорбевших о его кончине. И миллионов таких же, как они: зрителей его спектаклей в Художественном или причастившихся к его «Жизни в искусстве». Спектакли и книга Константина Сергеевича разбудили в них «чувство правды», пусть частичной, усеченной, но, может быть, самой важной: правды личной — сердечной, человеческой. Вся правда была скрыта от них. Но и эта — нравственная правда, рыцарем которой остался дядя Костя до конца дней и в жизни, и в искусстве, — помогала и им в античеловечном мире оставаться людьми.
13 августа 1938 года Мария Сергеевна Иванова, урожденная Смирнова, по матери — Бостанжогло, вдова врага народа, скончавшегося в Ухтпечлаге при отбытии наказания, писала Марии Петровне Лилиной, вдове Станиславского, из далекого Свердловска:
Дорогая Мария Петровна,
7-го в 12 часов ночи услыхали по радио печальную весть о смерти дяди Кости. И первая мысль, после острой боли, пронзившей мое сердце, была о Вас, дорогая, любимая Мария Петровна! Как я бы хотела быть с Вами в родном Художественном театре у гроба горячо любимого незабвенного дяди Кости, поклониться ему до земли и поблагодарить его от всего сердца за все прекрасное, что он нам дал.
Все эти дни мои мысли и чувства летели к вам «в Москву, в Москву…» из далекого мрачного Свердловска. Но я так была подавлена величием и красотой смерти дорогого дяди Кости, что ни разу не плакала. Только сегодня, когда я увидала в «Известиях» фотографию дяди Кости в гробу и рядом Вашу гладенькую головку, и такое печальное личико Кириллы10*, все прошлое восстало передо мной, и я горько заплакала. Сколько большой грусти и любви в фигурах Ивана Михайловича и Василия Ивановича11*, которые, не отрываясь, смотрят на дядю Костю. И сколько, сколько чудесных воспоминаний связано у меня с дядей Костей, с Вами, с дорогим Художественным театром. Вся моя юность, даже детство. В первую же зиму я видела «Царя Федора Иоанновича» 5 раз. Но самое мое любимое, самое трогательное воспоминание это — ночь, все спят, и Соня с Астровым едят сыр, и как Вы его резали неумело из середины. И только после конца действия мы восклицали — да ведь это были дядя Костя 429 и Мария Петровна! А Вершинин — какой красавец, как я понимала Машу и какая со мной была истерика на первом спектакле, папочка насилу вывел меня из зала. А «Вишневый сад»… при виде его дорогой фигуры с анчоусами и словах — «Я ничего не ел. Сколько я выстрадал…» — я никогда не могла удержаться от слез.
Кулисы Художественного театра, в первый же антракт (на премьерах) лечу рассказывать впечатление и со всех сторон слышу: «Маня, ну как?», «Мария Сергеевна, зайдите к нам-то!» Но я прямо лечу к Вам и к Ольге Леонардовне, к своим любимицам. Потом стараюсь пробраться к дяде Косте. Это гораздо трудней. Василий Иванович, мягко улыбаясь, говорит: «Что же, попытайтесь!» Строже всех Василий Васильевич Лужский и Александров. Но иногда я пробивалась. И милый дядя Костя, слушая мои восторги с такой доброй, доброй, как у бабушки Елисаветы Васильевны, улыбкой, говорил: «Ну, уж ты всегда в восторге! Тебе все нравится». Сам отлично сознавая, что все в восторге.
Дорогая Мария Петровна, поцелуйте от меня крепко Киру и передайте ей мое сочувствие. А где Игорь? Все в Давосе? Передайте мой горячий привет Ольге Леонардовне, Ивану Михайловичу, Василию Ивановичу, Владимиру Ивановичу12* и ото всей души сочувствие их большому горю. А дорогой могилке дяди Кости низко поклонитесь и смесите букетик васильков.
Как трогательно Владимир Иванович поспел к похоронам и встретил своего соратника на его последнем пути.
Осиротел Художественный театр без дяди Кости!..
Черкните мне хоть открытку, чтобы я знала, что Вы получили это письмо: Свердловск, ул. Декабристов, д. 40, кв. 10.
Маня Иванова, урожденная Смирнова (I. 2. № 21182/1).
Маня видела чеховские спектакли дяди Кости так живо, так трепетно, как будто не прошло сорока лет со дня их премьеры в Художественном. И ни семейная трагедия, ни смерть дяди Кости не могли заслонить их. Взять хотя бы этот «сыр» — в ночной сцене Астрова и Сони из «Дяди Вани». Точно так же писала Чехову его приятельница, художница М. Т. Дроздова по свежим впечатлениям после третьего представления «Дяди Вани», а Чехов пометил на ее письмеце — «99, XII»: «Доктор разговаривает с Соней около буфета, он так естественно ест сыр и говорит, и все настроение ночью, любящая Соня, все такое нервное» (II. 10 : 600).
И ни слова Маня, урожденная Смирнова, по матери Бостанжогло, не сказала о себе.
430 В тот же конверт она вложила письмецо старшей дочери:
Дорогая Мария Петровна!
Простите, что я так бесцеремонно обращаюсь к Вам. Но мне хочется высказать Вам свое сочувствие в Вашем большом горе — это не только Ваше горе. Это горе всего русского народа, горе всех, кто любит и понимает искусство.
Мне почему-то кажется, что мы с Вами давно знакомы, и Вы представляетесь такой близкой, родной — таким был для меня и дядя Костя. Быть может потому, что мама его называет всегда «дядя Костя», а может и потому, что я очень люблю сцену. Мама вырастила меня такой же театралкой, как она сама. Вообще не понимаю, почему я не пошла на сцену, а стала химиком. И теперь вместо театра мой удел — лаборатория или завод. Но кроме того у меня уже десятилетний стаж работы в драмкружках. Где бы я ни была, куда бы я ни приезжала, я прежде всего вступала в драмкружок, а если его не было, организовывала сама и сама же вела его. И основное, что всегда руководило мной, — было «чувство правды», которому такое большое значение придавал Константин Сергеевич. Это чувство помогает мне не только на сцене, но и в жизни. Если я рассказываю какую-нибудь, подчас выдумавшую историю, я прежде всего верю в то, что говорю, верю сама, что это действительно произошло со мной. И слушатели мои мне верят. Иногда я настолько убеждаю себя в действительности происшествия, что потом, уже оставшись одна, начинаю вспоминать, когда же это было со мной? И не могу сообразить…
А как хорошо, легко чувствуешь себя на сцене, когда веришь себе!
Я много раз замечала: когда образ, создаваемый мной, мне понятен и близок, когда я верю в то, что окружает меня, а главное, верю в себя, в свои поступки и слова, — тогда и слова эти текут сами собой. Забыть роль в такую минуту невозможно. Тогда я чувствую, что и публика мне верит. Но лишь только проскользнет одна фальшивая нотка, лишь только на одно мгновение я пойму, что я — Таня Иванова, а не Лаутская, или Василиса, или Фетинья Мироновна, — все пропало. Я начинаю «играть» и трудно снова войти в колею, снова зажить ролью.
Вот этот театральный закон, понимание этого «чувства правды» открыл мне Константин Сергеевич, и, работая над каждой новой ролью, я с благодарностью думаю о нем, и он встает передо мной — такой величественный, такой мудрый и прекрасный. И теперь не хочется верить, что его уже нет. Это неправда! Он жив и вечно будет жить в горячих молодых сердцах своих бесчисленных поклонников и учеников! Поверьте этому и Вы, дорогая Мария Петровна, и Вам не будет так тяжело.
Целую крепко.
Таня Иванова (I. 2. № 21182/2).
431 Станиславский был для Мани последней духовной опорой. После его смерти она как-то поникла, потерялась. И однажды, в начале войны, отстояв продуктовую очередь в магазине, по дороге домой попала под машину.
Два дня пролежала в коридоре в больнице и умерла.
Смерти она не боялась.
Была боль. Страха не было. Она ждала, когда Бог призовет ее к себе на небеса. Ведь она знала, знала, всем существом своим знала: когда наступит ее час, она покорно умрет, Бог сжалится над нею, и она увидит жизнь светлую, прекрасную, изящную и на теперешние несчастья оглянется с умилением и с улыбкой. И не словами, а верой, горячей, страстной, как молитва, должно быть, уже откуда-то сверху накатывала на нее теплая волна: «Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все страдания наши потонут в милосердии…»
Смерть ее в коридоре жалкой переполненной свердловской горбольницы военного тыла была «величественной и прекрасной».
Как смерть Чехова. И как смерть Станиславского.
А следы Маниного сына Кости, 1915 года рождения, надо думать «истинного работника Соввласти», на что крепко надеялся милейший Александр Семенович, принимая на себя несовершенные преступления и наказание за них, теряются где-то в Сибири на золотых приисках. Разыскать его не представляется возможным. Ивановы — самая распространенная в России фамилия и самая распространенная судьба.
* * *
Из всей молодежи, крутившейся вокруг Чехова в Любимовке в 1902 году, писатель выделил двоих — пятнадцатилетнюю Наташу Смирнову и девятнадцатилетнего Дуняшиного Володю. Ни Маню, ни Мику, ни Соню Штекер, ни Борю Гальнбека, но из двадцати пяти молодых людей, что отмечали фейерверками Минино шестнадцатилетие, Чехов приметил две незаурядные личности: Наташу — художницу и Володю Сергеева — Владимира Сергеевича Сергеева, пра-Аню и пра-Петю Трофимова — по версии Станиславского. В недоучившемся девятнадцатилетнем гимназисте были отчетливо выражены задатки ученого-гуманитария.
Чехов словно бы чувствовал излучавшуюся ими энергию жизни. Из всех Алексеевых и Бостанжогло четвертого колена династий только эти двое сумели вписаться в советскую действительность. Они многого добились. Впрочем, трудно сказать, исполнили ли они предназначение, исчерпали ли свой творческий потенциал? Тот, что чувствовал в них 432 Чехов. Или революция, заставив их служить себе, подчинив их себе, просто использовала отпущенное им природой в собственных идеологических целях? А может быть, и искалечила? Но история не имеет ни сослагательного наклонения, ни обратного хода. Они прожили свои жизни так, как прожили их.
К 1917 году оба преуспели в профессии.
Владимир Сергеевич закончил все свои факультеты и успел изучить милую ему античность в университете, в Педагогическом институте имени П. Г. Шелапутина в Москве и на местах — в Греции и Риме.
С 1918 года он преподавал в Московском университете. В 1919-м, в связи с революционной перестройкой системы образования, здесь вместо историко-филологического факультета, который он окончил с выпускным рефератом у Р. Ю. Виппера по истории Древнего мира и средних веков, был создан факультет общественных наук с историческим отделением. ФОН просуществовал несколько лет. Филологический факультет в эти годы работал самостоятельно.
Концепции исторических дисциплин как разделов марксистско-ленинской теории общественного развития человечества от рабовладения до социализма определял М. Н. Покровский, штатный профессор истории ФОНа, он же с 1918 года и до конца жизни, до 1932-го, заместитель наркома просвещения РСФСР, а также руководитель Комакадемии, Института истории АН СССР и Института красной профессуры.
В. С. Сергеев начинал в ФОНе с внештатного преподавания истории.
Концепции Покровского были обязательны как в преподавании, так и в научных исследованиях любого периода мировой истории.
Владимир Сергеевич не принадлежал к числу марксистски подготовленных кадров. Воспитанный в условиях старой школы, ученик Виппера, он не мог стать оголтелым красным профессором, руководствующимся в науке партийными догматами. Хотя розовато-красноватый оттенок его юношеских взглядов был заметен даже Чехову. Но в изучении основ марксизма и в приятии его он заметно прогрессировал, преодолевая в своем мировоззрении, как писали о нем советские энциклопедии, пережитки буржуазного прошлого.
Не марксист, он с первых лет революции впитывал в себя марксистскую идеологию и уже в 1922 году опубликовал в первом выпуске сборника «Научные известия. Экономика. История. Право» исследование, написанное в 1917-м и скорректированное для печати под названием «Римский капитализм и сельское хозяйство».
Но в 1920-х ему крепко доставалось от ретивых марксистов за следование терминологии и методологическим положениям Виппера.
Настоящую карьеру Владимир Сергеевич сделал только после смерти Покровского и разоблачения в 1934 году его ошибок. В постановлениях Советского правительства о преподавании истории в школах 433 говорилось, что Покровский, подвергая резкой критике буржуазную науку, стоял на позициях экономического марксизма и допустил поэтому вульгаризацию и извращение ряда вопросов отечественной историографии. Марксистское крыло Покровского в 1934 году было разгромлено, а университетские профессора из старых спецов-историков, последователей Покровского, и новые, красные профессора, подготовленные за годы Советской власти, были в большинстве репрессированы.
Владимир Сергеевич невольно, в силу хорошо усвоенных университетских уроков Виппера и других дореволюционных профессоров отступавший от концепций школы Покровского, уцелел. И именно в 1934 году он получил в университете кафедру истории Древнего мира, которой заведовал до конца жизни, и совместительство в головном Институте истории АН СССР.
И Наташе Смирновой пришлось переучиваться, чтобы вписаться в «новую жизнь».
Вернее, она сама, добровольно, как и Аня Раневская, кинулась в нее.
Ей было тридцать, когда свершился «Великий Октябрь», и за тридцать, когда в 1918 году в Москве были созданы свободные Высшие художественные мастерские с живописным, скульптурным и архитектурным факультетами. Вместе со свидетельством об окончании с золотой медалью частной женской гимназии и курсов на звание домашней наставницы и учительницы русского языка Наталья Сергеевна подала заявление на имя Уполномоченного Народного комиссара по просвещению по делам государственных художественных курсов: «Настоящим заявляю, что я желаю заниматься по живописи». И указала: «Жительство имею: Старая Басманная 35, квартира 2»314. В 1918-м она жила еще в одной квартире в бывшем собственном доме Бостанжогло с отцом и мачехой — Лили Глассби, своей гувернанткой, пра-Шарлоттой Ивановной.
Но разве можно было заниматься чистой живописью в стране строившегося и победившего к концу 1920-х социализма, стиравшего всякую индивидуальность, художнице с таким врожденным чувством самостояния, проявлявшимся даже в казенном заявлении: «Я желаю…» Как когда-то, в 1902-м, в письме ее, пятнадцатилетней, к знаменитому писателю Чехову: «Желала бы я знать, как Ваше здоровье и что Вы поделываете» (II. 1. K. 59. Ед. хр. 21 : 2).
В Высших художественных мастерских (через два года они преобразовались во ВХУТЕМАС — Высшие художественно-технические мастерские), преподавали П. В. Кузнецов, В. Е. Татлин. Они объявляли программной целью — сближение художественного образования с задачами строительства советской культуры. Наташа не задумываясь пошла учиться у художников-авангардистов и конструктивистов новому языку линий, красок и новому мышлению в искусстве.
434 Она сильно преуспела в освоении и нового художественного языка, и нового мышления. А когда в 1924 году П. В. Кузнецов, К. С. Петров-Водкин, М. С. Сарьян, Н. П. Ульянов, другие бывшие члены «Мира искусства», «Голубой розы» и им подобных групп художников начала XX века, оставшиеся в Советской России, объединились с графиками, скульпторами и архитекторами — В. А. Фаворским, В. И. Мухиной, А. В. Щусевым, И. В. Жолтовским в общество «Четыре искусства», Наталья Сергеевна Смирнова на равных с этими мастерами вступила в него.
Как живописец она участвовала во всех выставках «Четырех искусств», сочетавших классические традиции и авангард с чертами «большого стиля», пока «Четыре искусства» не прекратили свое существование. Социалистический реализм, одержавший сокрушительную победу над всеми прочими творческими течениями и группами, уничтожил их как факт художественной жизни СССР и стал единственной художественной идеологией в СССР.
Жизнь, адаптация к ней сделали Наташу вполне советским художником.
Античная тематика осталась в ее дореволюционном творчестве. Как и европейские пейзажи и европейские города. Они в СССР, изолировавшемся от мира, никого не интересовали. Да и Наташа по памяти не писала. Она отзывалась живой жизни. А после 1917 года и она, как все, стала невыездной.
В 1930-х она участвовала во всех выставках МОССХа.
В живописи переключилась с пейзажей и натюрмортов на колхозно-совхозную тематику, где мог сказаться, пусть и преображенный социальным заказом и акцентом, ее лирический дар, ее чувство природы, русского села как сельской местности и славянских лиц с печатью на них социалистического образа жизни. Этот дар, отмеченный в ней Чеховыми, никуда не исчезал. Он оставался в ее полотнах, выполненных в «большом», соцреалистическом стиле.
Особенно плодотворным для карьеры советской художницы был у Наташи 1937 год. На нескольких выставках МОССХа в Крыму, Евпатории и Ялте она показала свой цикл «Днепропетровщина». Художественный фонд при Союзе художников командировал ее в сердце Украины, и она отработала командировку в больших живописных картинах: «Общий вид совхоза», «Мельница», «Молотьба», «Хата», «Удой на центральной ферме», в портретах сельскохозяйственных рабочих.
Она освоила и смежные прикладные искусства, имевшие в СССР больший спрос, чем чистая живопись. Макетирование, например. Работала для Толстовского музея в Ясной Поляне и для Лермонтовского в Тарханах. Для Горьковского музея в Нижнем Новгороде сделала макет «Усадьба Кашириных».
435 Благодаря успеху Днепропетровского цикла и заметным музейным макетам ее включили в состав бригады макетно-модельного цеха оформительской мастерской «Всекохудожника». Мастерская участвовала в подготовке к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Бригада работала над изготовлением диорам для трех павильонов: «Коневодство», «Муловодство», «Крупный рогатый скот».
Газета «Советское искусство» выделила из прочих ее диорамы для павильона «Сибирь»: «Каждой области или колхозу, удостоившимся быть представленными на выставке, посвящены щит и расположенная рядом ниша. На щите экспонированы диаграммы и фотографии, в нишах — диорамы и продукты высокого урожая — туго налитые золотые колосья, тяжелое сортовое зерно. Художники […] и Н. С. Смирнова с большим вкусом и очень тщательно сделали все 54 диорамы»315.
Пресса отметила экспериментальный характер ее участка работ по выставке. Наталья Сергеевна сочетала обычные материалы — дерево, крашеный бархат, целлюлозу и металл со «свежей и оригинальной натурой»: «Очень удачно вмонтировано слегка мореное дерево, ножевая фанера определенных пород […] Пашня на диорамах выполнена резьбой по дереву», — писала «Комсомольская правда»316.
А в награду ей доверили выполнить макет «Избы в Курейке» для музея в сибирской деревне, где отбывал свою дореволюционную ссылку товарищ Сталин.
Это был пик ее творческой карьеры.
А для себя и для друзей в свободное время, его было немного, она писала маленькие картины маслом и акварелью и раздаривала их: натюрморты с вазами из тонкого прозрачного стекла на столе у распахнутого окна, вазы — с букетами цветов, с сиренью; летние пейзажи Подмосковья с лугами и лесами у горизонта, как и до революции. Деревья склонялись к осенней воде. Березки с отлетевшими листками перекрывали вид на церковь. Наталья Сергеевна Смирнова писала предзимний воздух. Писала «тишину». Писала «общий вид» на часовенки и православные храмы на высоких холмах вдали от села, с непременной безлюдной песчаной проселочной дорогой к храму. Дорога поднималась в горку посреди скошенных трав, написанных в импрессионистской манере. Или посреди блеклых желто-зеленых, выгоревших на солнце пятен с темнеющими между ними коричневатыми земными прогалинами, написанных в красках и технике эпохи модерна. Храмы она прописывала подробно, любуясь особенностями и деталями их сложных архитектурных форм, взмывающих ввысь, но прочно стоящих на земле — сказывалась школа ВХУТЕМАСа и практика «Четырех искусств». А в Крыму, где она работала и отдыхала, писала море, мастерски передавая густотой растертых красок и интенсивностью их цвета глубину воды, высоту и свет небес: и голубых, со светло-розовым восходом, с воздушно-легкими 436 бегущими облачками, и серовато-фиолетовых, нависавших над темной водой. В душе ее не было мрака. Она светилась неярким, но ровным и мягким светом доброты, оставлявшим свет на ее картинах. Как до революции. И крохотная белая точка на линии горизонта — одинокий парус надежды, яркий в ясную погоду, — не исчезала из ее морских пейзажей.
Ей приходилось много работать для заработка. Она ни от чего не отказывалась. Напротив, заказы искала. С 1934 года на ее руках был четвертый муж, человек-развалина, ее погибель. Болезни сделали его стариком. Назовем его просто Ш. У него были дети от других браков, их дети и внуки еще живы.
Он появился в ее доме, когда она переехала после всех разводов и жилобменов в Кривоарбатский переулок. Дом стоял в одном типично московском дворике с собственным домом архитектора К. С. Мельникова, ее знакомого по ВХУТЕМАСу. Родившаяся и выросшая в прадедовском особняке Бостанжогло на Старой Басманной, она обосновалась в 1930-х в крохотной комнатушке в арбатской коммуналке. Свое последнее жилье Наташа оригинально оформила и освятила, вызвав знакомого попа. Вера дедов и отцов очень поддерживала ее. В квартире был всего один сосед, вполне симпатичный, преподаватель истории в средней школе, с женой, его бывшей домработницей, простой хорошей русской женщиной, и с мальчиком, будущим артистом Вахтанговского театра. Наташа его рисовала. Он с нежностью вспоминает ее. Соседа, его отца, он из «бывших», в 1938 году арестовали, в 1939 расстреляли как финского шпиона и в 1980-х реабилитировали.
Ш, будущий Наташин четвертый муж, в 1934 году досрочно освободился из лагеря и жил один, жалкий и беспомощный, в соседнем арбатском — Денежном переулке. Он увлек и околдовал Наташу, его обогревшую, своими рассказами, своим умением красиво говорить, как Петя Трофимов — Аню. Или как Саша — Надю Шумину из «Невесты».
Видно, такой спутник был написан Наташе на роду. А Чехов верно угадал в Ане и в Наде, с нее, может быть, списанных, ее женский тип. И женскую судьбу. Но, скончавшийся до срока, Чехов всего трагизма и извращенности подобного союза — святого сердца с болтуном, страдальцем и нравственным уродом в частной жизни, — предвидеть не мог.
Ш. говорил Наташе не о будущем, как Петя Трофимов — Ане.
Он не уставал с восторгом и неиссякаемым воодушевлением говорить о прошлом. Приукрашивая его. Это его собственное признание. Он хвастался своими подвигами, «вымышляя» их, лепя из себя в конце 1930-х — и громогласно — образ мужественного героя-антисоветчика.
Близкие подле него дрожали и им восхищались.
437 Нет, он не был ни борцом за веру, ни чеховским недотепой, чудаком. Он был, как это ни прискорбно, нравственным калекой, несмотря на аресты и лагеря, через которые прошел.
Наташа завороженно слушала его занимательные истории.
Об отце — дворянине, флигель-адъютанте великого князя Владимира Александровича. Отец умер в 1912-м, оставив семье имение в Смоленской губернии и приверженность монархизму.
О самом себе. У него была славная в его изложении биография офицера царской армии. В 1896-м он окончил кадетский корпус в Петербурге, в 1899-м — Павловское военное училище подпоручиком 1-го Финляндского стрелкового полка. Потом был лейб-гвардейский стрелковый полк, потом пехотный и чин штабс-капитана, потом штаб войск гвардии Петербургского военного округа и Царскосельский театр, куда он был прикомандирован и где царь Николай Романов презентовал ему за верность золотые часы. Ш. гордился ими.
В империалистическую он был назначен адъютантом командующего 4-й действующей армии и начальником штаба при начальнике гарнизона на передовой, у западных границ. В 1915-м его произвели в капитаны и назначили исполняющим обязанности штаб-офицера при военно-цензурном комитете. В сентябре 1917-го он был произведен в подполковники.
Дальше начиналась его советская биография. И тоже славная в его изложении. Он сумел убедить новую власть, что добровольный переход его, в прошлом царского офицера, на сторону красных его реабилитирует. И претензий к нему новая власть поначалу не имела.
Службу белым в Киеве ему простили и забыли.
С 1919 года, после занятия Киева красными, он получал хозяйственные должности в РВС и РККА, в 1924-м демобилизовался и осел в Москве.
Октябрьскую революцию и большевиков он ненавидел лютой ненавистью. Иначе, как сволочами и негодяями, их не называл. Конечно, он мечтал о реставрации старой жизни при царе и его генералах.
В первый раз за антисоветские настроения Ш. арестовали в 1927 году. И выслали в Сибирь сроком на три года. В 1928-м срок наказания ему был сокращен на четверть, и остаток срока с учетом амнистии он отбывал в Малоярославце Калужской области. Помогла справка, выданная ВКК Санупра Киренского района о его тяжелом инфекционном заболевании.
Из Сибири, из деревни Макарове Киренского района он получал страшные письма. Писала — сожительница, малограмотная крестьянка, мать троих детей. Она сообщала «много уважаемому» Ш., что после его неожиданного отъезда родила мертвого мальчика, что ОГПУ взяло Фирса Михайловича и расстреляло его. «За что я не знаю». Ей пришлось 438 продать свою хибару и переехать в соседнюю деревню в бараки. И т. д. и т. п. Старший мальчик пошел там в школу, а она не могла купить ему ни карандаша, ни тетради.
Я не знаю, как жить с тремя ребятишками. Насчет хлеба очень плохо. На четверых выдают два хлеба и как хочет так и живи выполняют хлеба заготовку. Насчет мануфактуры тоже очень плохо дают под заготовку хлеба, а у меня его нет сама получаю пайку317.
Так жила советская Сибирь.
Несчастная просила Ш. не оставлять без ответа ее «прозьбы», настойчиво звала вернуться к ней и сама готова была приехать к нему.
В отношениях с женщинами Ш. смолоду был неразборчив, а с чувством ответственности попросту незнаком.
Во второй раз его арестовали в 1932 году. Ордер на обыск и на арест подписал все тот же Г. Е. Ягода. Тут к статьям о контрреволюционной деятельности добавилась еще и статья о терроризме.
Первая жена Ш., дочь бывшего вице-губернатора Житомирской губернии (они поженились еще в Киеве), работала костюмершей в Оперном театре-студии К. С. Станиславского и гардеробщицей в Вахтанговском театре. Она рассказала мужу, как приезжал в театр товарищ Сталин и сколько у него было охраны. Тут-то Ш. и сболтнул на коммунальной кухне в Денежном, что хорошо было бы Сталина кокнуть, да не выйдет: у него охраны больше, чем у царя.
Достаточно изобличенный показаниями квартирных соседей, служивший до второго своего ареста секретарем научной библиотеки в Госпроекттрансе Наркомата путей сообщения, Ш. снова был сослан в Сиблаг сроком на 10 лет. Жену его тоже арестовали за недонесение на мужа и вместе со слепой и глухой матерью-старухой сослали в Северный край на три года. Оттуда в Москву они не вернулись.
И снова, по медицинским или еще по каким-то причинам, он был досрочно и скоро освобожден. Все обвинения с него были сняты. Такое удавалось немногим.
Он вернулся в Москву, где его и подобрала сердобольная Наталья Сергеевна Смирнова.
Больше никаким репрессиям Ш. не подвергался.
Брак с талантливой художницей, очаровательной, интеллигентной женщиной и двоюродной племянницей Станиславского льстил его самолюбию. Как и причастность к семье Готовцева, артиста Художественного театра.
Но ненависть к большевикам все крепла, особенно после второго ареста, и съедала его, как и прогрессировавшая на глазах болезнь. Он едва передвигался.
439 Наталье Сергеевна с ее христианским терпением, измученной безденежьем и уходом за тяжелобольным, было невмоготу в атмосфере ненависти. Конечно, она надорвалась. Стала много болеть. Сильно ослабела. В начале 1950-х легла в больницу. Лежала долго. Болезнь лечению не поддавалась. Когда пришла пора забирать ее домой, возвращаться было некуда. Ш. сошелся с дворничихой, та переехала с первого этажа к Ш. в Наташину светелку, оставив двум своим дочкам казенную дворницкую.
Наталью Сергеевну сдали в дом хроников. Там она и умерла на 65 году жизни.
В 1957 году Ш. продал ее маленький личный архив в рукописный отдел Третьяковской галереи. В нем — фотографии ее отца и матери — Сергея Николаевича Смирнова и Елены Николаевны, урожденной Бостанжогло, сделанные с овальных живописных портретов старых мастеров, украшавших стены дома Бостанжогло на Старой Басманной.
Есть в этом фонде, кроме документов об образовании, буклеты выставок и газетные вырезки с рецензиями на макетные работы. Есть цикл ее фотопортретов, еще старинных, молодых и постарше; фотопортреты с художником П. В. Кузнецовым, с ее приятельницей по Училищу живописи, ваяния и зодчества скульптором Н. В. Крандиевской, где они обе — молоденькие, красотки, в живописных шляпках, целеустремленные — в профиль. И россыпь казенных фото с белыми уголками для печати, накопившихся за жизнь, — свидетельства того, как она старела и тускнела. Это все, что осталось от художницы русского серебряного века, отмеченной благословением Чехова, от ее творческих исканий в 1920-х годах и затянувшегося расставания со «старой жизнью», в которой она была и талантлива, и счастлива.
То было ее время.
Большая часть ее картин осталась у дочек дворничихи.
Ее живопись еще предстоит открыть специалистам-искусствоведам как одну из незаслуженно забытых страниц русского изобразительного искусства.
Владимир Сергеевич Сергеев, Дуняшин Володя, в отличие от Наташи Смирновой, Натальи Сергеевны, умирал в почете и уважении, хотя и в тяжелую пору начала войны, умирал профессором Московского университета, заведующим кафедрой Древнего мира на его историческом факультете, автором учебника для университетов и педвузов страны «Очерки по истории Древнего Рима». Им и сегодня пользуются студенты, он не устарел. Посмертно он был удостоен Сталинской премии как участник коллективного труда «История дипломатии», в котором ему принадлежала глава «Дипломатия в средние века».
Он не стал настоящим ученым. Не мог стать в «новой жизни», на которую пришлась его зрелость.
440 Но в должности заведующего кафедрой в Московском университете он не стал членом партии.
И не стал сталинистом.
Но блестящим лектором и педагогом стал. Он, утверждают его студенты, понимал, что происходит в стране, и говорил это на лекциях. Иносказательно, разумеется, прячась за древнюю историю, курс которой читал. Он осмысливал двухтысячелетнюю европейскую историю как историю репрессивной государственной машины. Это было почти инакомыслием, правда внятным лишь избранным его ученикам. Да и они осмелились сказать об этом в другие, лучшие времена своей страны.
Стоя на университетской кафедре, крестник мамани Елизаветы Васильевны Алексеевой и воспитанник Станиславского и Лилиной выглядел римским сенатором эпохи упадка империи. Его лоб походил на цицероновский, а мешковатый пиджак от Москвошвея смотрелся, как свободная величественная тога. Так он вжился в эпоху, о которой читал свой курс.
Он ввел применительно к Древнему Риму термин «римская интеллигенция». И, рассказывая о божественном Августе, отце нации, любимце черни, как о надутом ничтожестве и идеологе фашистского режима, говорил о том, как погибали и как страдали во времена «золотой посредственности» люди интеллектуального труда. И неортодоксально мыслившие студенты, знавшие, сколько таких людей исчезло на истфаке, догадывались о том, что мучает профессора. «Он верил, что тиранов необходимо судить не только через тридцать, но и через две тысячи лет, и лекция его была таким судом, на котором он выступал и как обвинитель, и как защитник, и как судья», — вспоминает один из учеников Владимира Сергеевича318.
Владимир Сергеевич подарил ему свою фотографию, и тот утверждает, что учитель на ней застенчиво улыбается.
Как улыбалась маманя Елизавета Васильевна.
Как улыбался Чехов.
Как улыбаются в любую, самую бесчеловечную эпоху умные и порядочные люди.
441 ПРИЛОЖЕНИЯ
К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ
ТРЕТЬЯ РЕДАКЦИЯ «ВИШНЕВОГО САДА»
442 ПРИЛОЖЕНИЕ I
К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ И М. П. ЛИЛИНА. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РОМАН
Отказавшись от миссии садовника «Вишневого сада» на сцене Художественного театра, посаженного в 1904-м, Станиславский мечту молодых последней чеховской пьесы — «Мы насадим новый сад, прекраснее этого» — в искусстве не оставил. Последние годы, месяцы и дни он провел с предсмертной чеховской пьесой и со своей мечтой об идеальном ее исполнении.
Ему было за семьдесят. И со здоровьем плоховато. К концу 1930-х совсем плохо. После сердечного шока осенью 1928-го болезни не отпускали его. Бесконечные простуды с воспалениями легких приковывали к постели. Озноб, температура, камфора выключали из работы.
Ему оставалось три года жизни, чтобы «насадить новый сад», прекраснее прежнего.
Он понимал: не дойдет.
«Не дойду — другие дойдут», — верил он.
И работал для «других», на будущее.
Отстранившись или отстраненный от руководства театром и от практической режиссуры, он углубился в «пушкинскую работу». Она всегда предшествовала преодолению очередного творческого кризиса и приводила в конечном итоге к обновлению искусства сцены. Большую часть рабочего времени и сил, остававшихся для жизни без театра, им созданного, но для Театра как такового, он с середины 1930-х отдавал своим книгам о разработанной им системе школьного актерского образования и работе актера над ролью в процессе создания спектакля.
Леонидов, навещавший Учителя в конце 1930-х в правительственном санатории в Покровском-Стрешневе, куда тот попал после очередного сердечного приступа, запомнил: величественный, неописуемой красоты живописный старец сидел в глубоком вольтеровском кресле с ногами, укутанными пледом, с фанеркой на коленях, к которой были прилажены то тетрадка в коленкоровой обложке, то листки, прошитые веревкой, и писал. Писал — торопился. Боялся не успеть. Писал утром, днем, вечером до ночи. Процесс этот не прерывался ни при каких обстоятельствах. Заветный чемоданчик с секретными запорами, где хранились рукописи, следовал за ним повсюду — в Покровское-Стрешнево, Барвиху, Узкое — в подмосковные санатории, где он подолгу — месяцами — жил. Тетрадь и фанерка всегда дожидались его пробуждения в чемоданчике у постели. В конце 1930-х «старец» писал свой труд, «завещанный от Бога», свою последнюю книгу с точным, хотя и непереводимым 443 рабочим названием «Вхождение себя в роль и роли в себя» на примере чеховского «Вишневого сада».
Уже был издан вводный том к «системе» — на английском и на русском — исповедь «Моя жизнь в искусстве».
Уже вышел в английском переводе первый том «системы», посвященный приемам внутреннего перевоплощения актера в роль, приемам психотехники. Станиславский готовил его русское издание.
Второй том — «Работа актера над собой в творческом процессе воплощения» — существовал в черновых фрагментах и близился к завершению. В нем говорилось о физическом воспитании тела, о голосе, о движении, о ритме, о внешней характерности.
Над третьим томом — «Работа актера над ролью» — он размышлял ровно столько же, сколько о системе подготовки актера к творчеству на сцене: те же тридцать лет, с того момента, как стал осмысливать и обобщать свой актерский опыт. Без метода нет «системы», считал он. В его архиве сохранилось несколько рукописей о том, как готовить роли в «Горе от ума», «Селе Степанчикове», «Отелло» и «Ревизоре». Эти рукописи, впоследствии изданные учениками Станиславского, свидетельствуют о том, что методология работы над ролью и ролями в спектакле зависела от глубины его знаний о творческой природе человека в данный момент и от требований цензуры. Она менялась. К началу 1930-х третий том, посвященный практике перевоплощения актера в роль, задумывался под названием «Работа актера над ролью, творческое самочувствие и бессознание» и строился на материале шекспировского «Отелло».
С начала 1930-х он лихорадочно впитывал учение Маркса как обязательную для всех политграмоту. Вполне искренне, умственно искрение. Спасая свои книги от бесконечных обвинений в крамольных «дуализме» и «мистицизме», ввел категории материализма и диалектики в свое театрально-практическое и научно-теоретическое мышление: заменял слово «бессознание» на допускаемое марксистами — «подсознание»; заменял понятие «божественная природа человека», то есть творческое начало в актере, на дозволенное — «органическая природа», а «магическое если бы», с помощью которого актер переводил себя, по его «системе», в творческое состояние, — на творческое «если бы». Вместо заимствованных в йоге понятий «прана», «лучеиспускание», «лучевосприятие», «излучение» и «влучение», доставшихся его «системе» от давней работы над «Каином», пользовался выражениями: «мышечная энергия» или просто «энергия». Конечно, он преодолевал свои «дуализм» и «мистицизм», которыми его терзали цензоры, на уровне терминологии, не более того. Но марксисты прощали ему невольные идеологические ляпы. Правящей партии слишком нужен был его авторитет мировой знаменитости в их политике культа своих великих на всех общественных и иных уровнях.
444 Надо было закругляться, ставить точку, а он все еще находился в движении, в развитии. Не мог остановиться на том, что уже решено и признано профессионалами, коллегами, строгой женой и освоено учениками. Круг его педагогических идей непрерывно расширялся и сами идеи видоизменялись по мере того, как он на склоне лет углублялся в изучение психических и физических параметров человеческой органики, в их взаимосвязь, в изучение вопросов философии, психологии и физиологии творчества. Он читал труды западноевропейских теоретиков, поглощал монографии отечественных ученых. Ведь в молодости он не получил систематического образования. Едва успевал ознакомиться с книгами Сеченова, Павлова, Челпанова, рекомендованными Гуревич, редактором его последних литературных работ, как мадам отсылала его к Шпету или Лапшину, советовала встретиться, поговорить с ними, показать готовые фрагменты рукописи. Много энергии уходило на то, чтобы знания, почерпнутые у теоретиков смежных дисциплин, приложить к специфике сценического творчества, а закономерности процесса перевоплощения актера в роль, открытые им, привести к системе. Она уточнялась в отдельных элементах, периодах и как целое — до последнего дня, который стремительно приближался.
В середине 1930-х Станиславский открыл новые подходы к творчеству роли — метод психофизических действий. И бросил все, чем занимался до того, не сведя фрагменты второго тома «Работы актера над собой» в книгу и два тома, две части «системы» под одну обложку, как было намечено в плане русского издания.
Прежде он считал, что элементарная частица сценического творчества, его атом — это желание, хотение актера в роли, мобилизующие его творческую волю и определяющие жизнь тела. Прежде он думал, отделяя переживание от воплощения и разделяя книгу «Работа актера над собой» на две части, что первичное в сценическом бытии роли — чувство актера, одухотворяющее роль.
Теперь он понял: чувство, если оно живое, неуловимо и не поддается закреплению.
Атом сценического творчества, искусства зрелищного, — не психическая субстанция, а психофизическое действие.
Деление действия на внутреннее — и внешнее; на психическое, мысленное, воображаемое — и физическое; на осуществляемое с помощью влучения или мышечно — искусственно.
Все элементы «системы» — внимание, воображение, чувство правды и веры, аффективная память, общение и элементы сценической выразительности голоса и тела — речь, пластика и темпоритм — суть элементы психофизического действия. Внимание — переносится с объекта на объект, общение — это передача «видений внутреннего зрения» или мыслей от одного к другому.
445 Он попытался переделать и переструктурировать главы первого тома — в свете новых идей. Но и эту затею оставил. Сдал русский текст «Работы актера над собой в творческом процессе переживания» в производство и подписал книгу в печать в той концепции, в какой она была задумана и издана на английском. Книга вышла через месяц после кончины автора, осенью 1938-го. При переиздании ученики дополнили ее приложениями: теми главами, которые он успел переписать.
Второй том «Работы актера над собой в творческом процессе воплощения» также собрали и издали ученики.
Станиславский отбросил и прежние разработки по третьему тому. Он отказался от «Горя от ума», «Села Степанчикова», «Ревизора» и «Отелло» и обратился к «Вишневому саду» как к материалу, наиболее подходящему для изложения новых методологических идей работы актера над ролью в процессе работы над спектаклем. «Вишневый сад» «гениальная драматургия», «гениальная» «по логике и развитию драматического действия», — говорил он, сделав свой выбор. Оптимальный в условиях последнего срока.
Книгу «Работа актера над ролью» на материале «Вишневого сада» он не закончил. Трех лет не хватило.
Он успел изложить лишь общие идеи метода, наметил последовательность первых шагов вхождения актера в роль и проработал два акта чеховской пьесы из четырех.
Он не «дошел».
«Дошли» другие, ученики.
Методологические открытия, сделанные Станиславским в последние годы жизни, стали достоянием мировой театральной школы.
Ученики, однако, восприняли последние педагогические идеи Станиславского не из его тетрадок — непрезентабельной коленкоровой и самодельной, сшитой из листков, оказавшихся под рукой, когда он на закате дней взялся за книгу по методологии работы актера над ролями в процессе постановки чеховского «Вишневого сада». Дочь Станиславского и Лилиной Кира Константиновна Алексеева-Фальк с трудом расшифровала записи отца после его кончины. В них — печать предсмертной болезни «старца». Его мысль то взмывала, проникая в тайны творящей природы актера, то утекала в неконтролируемое бессознание больного, то обрывалась в наивный лепет, лишенная непосредственного чувства реальности, важной части театрального дара Станиславского. Черновые наброски к третьей книге цикла, посвященного методологическим проблемам актерского искусства на материале «Вишневого сада», ученики не читали. Они вообще нечитаемы. Идеи и практику метода психофизических действий последние ученики Станиславского воспринимали от самого Учителя, создавшего в 1935-м для апробации своих научно-педагогических идей театральную школу-студию, своего рода 446 лабораторию или мастерскую. Он понимал: без практики применения «система» и метод — мертвы.
Незавершенная черновая рукопись книги «Работа актера над ролью» на материале «Вишневого сада» — «Вхождение себя в роль и роли в себя» — неотделима от того, что происходило в Оперно-драматической студии имени Станиславского в Леонтьевском.
Студия существовала на правительственные дотации. Учащиеся получали от государства стипендии.
Власти, покровительствовавшие Станиславскому, возвели его школу в ранг образцовой для всех театральных училищ, как Художественный театр — во флагман российских драматических театров.
«“Система” Станиславского признана теперь — основной, обязательной для всех школ и театров. Поэтому наша школа получила особое значение и вызывает к себе особое внимание», — радовался Станиславский13*.
Два отделения студии — оперное и драматическое, по двадцать человек в каждом, — были составлены из учащихся, отобранных из трех с половиной тысяч экзаменовавшихся. Станиславский был доволен молодежью, прошедшей через творческий конкурс. Приемную комиссию возглавляла его сестра Зинаида Сергеевна Алексеева-Соколова. Она преподавала в студии словесное действие, сценическую речь и голосоведение.
Это — действительно новые люди. Молодежь прекрасная, желающая и умеющая работать. С ними приятно иметь дело. Чудесная молодежь. В нашем составе много простых рабочих, крестьян (колхозники), красноармейцы, есть и беспризорные; среди учеников сын и дочь Леонидова, дочь Вишневского, есть и инженеры, и интеллигенция. Когда они сходятся вместе, то я не отличаю колхозниц и мастеров от интеллигенции, —
писал Станиславский переводчице его книг американке Элизабет Хэпгуд14*. И неизвестно, так ли было на самом деле или приходилось учитывать, что вся заграничная переписка советских граждан находится под контролем соответствующих органов.
Впрочем, через четыре года и Лилина, когда студийцы демонстрировали Комитету по делам искусств, чему они научились в студии, говорила то же:
447 Ученики этой студии были выбраны из самых разнообразных слоев общества, приходили и пастухи, и сапожники, и рабочие с фабрик, и колхозники, и беспризорные, и сыновья и дочери артистов, профессоров, фармацевтов, врачей и т. д. (I. 1).
Один из принятых — Зиновьев, впоследствии получивший роль Пищика в «Вишневом саде», который репетировала в студии Лилина, — так свою профессию и не бросил. «Сапожники великолепно зарабатывают», — помечала Лилина в дневнике.
Молодежь, пришедшую учиться, Станиславский передоверил ассистентам, посвященным в его теоретические идеи, и старые, и новые: Леонидову, Кедрову, Орлову, Новицкой, Лилиной. В группе педагогов, последних учеников Станиславского, было одиннадцать человек. Отложив рукопись, но мысленно с ней не расставаясь, Станиславский или беседовал с ассистентами о новых положениях актерской психотехники, которую разрабатывал. Или, выйдя в Онегинский зал с белыми колоннами на сцене, примыкавший к кабинету, смотрел специально организованный для него прогон. Для этого из зала выносили стулья. Раз в два месяца педагоги официально предъявляли ему сделанное студийцами, устраивая контрольные уроки и зачеты. Он мог прийти на занятия и без приглашения и предложить одной из групп учащихся новый комплекс упражнений на освоение какого-нибудь из элементов «системы». И снова, либо удовлетворенный, либо недовольный — тогда, поблагодарив всех, молча удалялся, — возвращался к рукописи, к мукам «бездарного литератора», как говорил он о себе.
«У меня — мания писания, я одержимый; я болен своей книгой», — жаловался он (I. 9 : 301).
«Система» и метод складывались в процессе работы над ними.
Тяжело давался и собственно литературный труд.
Он излагал свои научно-практические педагогические идеи — том за томом — в беллетризованной форме, напоминающей классицистскую прозу. Эта форма не слишком удалась ему. Но в ситуации последнего срока Станиславский ее не пересматривал.
Задолго до революции, когда он начал писать заметки об актерском творчестве, он выдумал театральную школу, своего рода платоновскую академию или аристотелевский ликей, только не с философским, а с театральным уклоном. Свои размышления о законах творческой природы человека и о приемах психотехники актера он заключил в форму диалога учителей с учениками. Как было в античных штудиях.
Учителям выдуманной школы Станиславский отдал тезы «системы» и метода, ответы на вопросы и замечания.
Сомнения, возражения, вопросы и эмоциональные восклицания, стимулирующие и акцентирующие отдельную мысль, требующую разъяснения, 448 отошли к ученикам с говорящими фамилиями: к Говоркову, Вьюнцову (Юнцову), Шустову (Чувствову), Малолетковой, Названову, Умновых, Веселовскому, Веньяминовой, ученице на роли премьерш.
В выдуманной школе Станиславского преподавали двое, вроде пары Станиславский — Немирович-Данченко. Вступая в диалог с учениками, они не выходили за пределы ролевых функций, отпущенных каждому: творца и психоаналитика при нем. Первоначально Торцов и Рахманов звались Творцовым и Рассудовым.
Один, alter ego Станиславского, — Аркадий Николаевич Торцов — озвучивал тезы Станиславского. Этот отличался «необыкновенной простотой». Станиславский стремился сделать «систему» понятной Мало-летковым, а книги свои — общедоступными, учебниками для реального начального театрального училища.
Второй преподаватель в учительской паре, ее рациональное, рассудочное начало, — Иван Платонович Рахманов — ассистировал Торцову: растолковывал его тезы и проводил практические занятия с учениками. Этого — «высокого, стройного и подвижного», «не очень приятного, но с чудесной и доброй улыбкой», Станиславский уводил от сходства с Немировичем-Данченко. Тот, как известно, был мал ростом и неуклюж.
С 1904-го, как раз с «Вишневого сада» в Художественном, они фактически не работали вместе, как прежде. Но Станиславский сохранил привычку мысленно соотносить свои «вымыслы воображения» с «дражайшей половиной». В книгах Станиславского по «системе» и творческой методологии — в пространстве идеального — они воссоединялись.
Эта форма — переложение внутреннего монолога Станиславского на голоса посредников, учителей и учеников — скрепляла отдельные уроки в единый научно-практический цикл.
Беседы, проводимые Торцовым, и упражнения, задаваемые Рахмановым, с последующим их анализом — урок за уроком — стенографически точно записывал ученик по фамилии Названов. «Дневник ученика» — с таким подзаголовком выходили книги Станиславского, его бесконечный — из тома в том — беллетризованный классицистский «Педагогический роман». Каждый очередной школьный урок Названов выделял традиционным условным знаком: «… 19…» — без различия лет и десятилетий века. Свои «систему» и метод Станиславский не сопрягал с конкретным временем, полагая их справедливыми на все времена.
В рукописи о вхождении актеров в роли «Вишневого сада» по новому методу все то же, что и в книге «Работа актера над собой»: тип диалогов, Торцов, Рахманов, Названов, их ролевые функции, говорящие фамилии учеников. Станиславский свыкся с ними в себе. Изо дня в день Торцов и Рахманов в процессе работы над «Вишневым садом» давали уроки по новому методу. Вьюнцов прерывал их длинные речевые периоды въедливыми вопросами и одобрительными восклицаниями: 449 «… Во!..» и «Тютелька в тютельку!» Названов традиционно фиксировал учебный процесс.
Пожалуй, только роль Рахманова в последней рукописи уменьшилась. Плотный контакт Торцова с ним в работе над «Вишневым садом» почти отсутствует. Торцов редко отдавал учеников помощнику. Все брал на себя еще и потому, что Станиславский не успевал расписывать свой текст на две роли. Беллетризация требовала дополнительных усилий и временных затрат. И потому еще, что рядом — за стенкой, в Онегинском зале, в Оперно-драматической студии, созданной по образу и подобию школы Торцова, — работали по методу Станиславского его реальные ассистенты, поверяя и подпитывая теоретическую мысль. Их замечания студийцам на уроках и репетициях входили в текст Торцова без ссылки на источники. Новых лиц Станиславский в третий том не вводил; вымышленный Рахманов, утративший связь с Немировичем-Данченко, становился лишним.
Каждый из педагогов студии, ассистентов Станиславского, работал по его методикам над своей постановкой.
Кедров, самый основательный из последних учеников Станиславского, выбрал «Трех сестер». Студийцы жаловались, что с ним скучно. Он впоследствии и донес идеи Учителя до театральных педагогов и режиссеров, приверженных эстетике Художественного театра. Но в его собственной режиссерской практике в Художественном театре 1940 – 1960-х годов метод был скомпрометирован.
Леонидов остановился на «Плодах просвещения», но вел занятия слишком шумно и весело и сразу требовал темперамента, а это было не по «системе». Станиславский считал, что Леонидов ленится, избегая трудоемкости процесса.
Орлов репетировал «Детей Ванюшина», но тоже отступал от требований «системы». Станиславский огорчался.
А настоящая «дражайшая половина» Станиславского — Мария Петровна Лилина — с двумя составами студийцев готовила «Вишневый сад». Каждую роль у нее репетировали двое-трое, по очереди, кто был свободен. Составы она не смешивала. Для каждого из учеников искала свою трактовку роли — в зависимости от индивидуальности, от склонности исполнителя. Методика Станиславского это позволяла.
Жену, а не Кедрова Станиславский признавал лучшей из своих учеников.
Лилина пользовалась отдельными положениями «системы» еще тогда, когда они существовали в голове Станиславского несистематизированными. Пользовалась, готовя, к примеру, роль Вари в «Вишневом саде».
Варю, которую Чехов писал для нее, она получила только в 1911 году.
450 Вчера играла Варю в «Вишневом саде» с четырех репетиций, — писала Мария Петровна мужу. Он долечивался за границей, в Европе после перенесенного тифа. — Пустила в ход все, что поняла из твоей теории, и главным образом мне помогли две вещи: круг внимания (публика не существовала для меня) и второе — всячески цеплялась за объект общения, что помогло мне быть жизненной (I. 1).
И через десять дней, снова сыграв Варю, подтверждала: «система» очень помогает ей. У нее были проблемы с нервами, с творческим самочувствием в публичных выступлениях:
Варю играла в большом кругу и не только ни одной секунды не волновалась, не думала о публике, но даже не вспомнила, что играла Аню, и ни одной реплики не спутала. А хуже всего сыграла те места, в которых была уверена и которые невольно подавала публике (I. 1).
Все свои роли — и те, в которые вводилась, и те, которые репетировала под руководством Станиславского и Немировича-Данченко, и все свои репертуарные роли вплоть до последних — Коробочки в «Мертвых душах» по Гоголю и Вронской в «Анне Карениной» по Толстому — она играла по «системе», радостно как актриса доверяясь мужу.
Она «по-настоящему» чувствует «систему» и новый метод, — считал Станиславский. Ей, «лучшей ученице», «любимой артистке и неизменно преданной помощнице» во всех его театральных исканиях, он посвятил свою книгу «Работа актера над собой».
Меня радует, что мама заинтересовалась педагогией […] из нее выйдет прекрасный преподаватель, —
писал Станиславский сыну в декабре 1935 года, когда Лилина приступила к режиссерско-педагогической работе над «Вишневым садом» на драматическом отделении студии (I. 9 : 422).
Игорь Константинович жил за границей, лечился в швейцарском санатории от туберкулеза. Это единственное, что он унаследовал от предков. «Папа» расплачивался за лечение сына валютой, полученной за издание его книг за рубежом. Невероятно, но советское правительство и это ему разрешало.
Одно смущало Станиславского в жене:
Она совершенно не понимает современности (I. 9 : 295).
Радостно изучавшая его труды по актерскому творчеству, она не желала постигать азы марксистско-ленинской теории и учения о классовой 451 борьбе, — сокрушался Станиславский. Ему казалось, что он, овладевший «диаматом», ближе к современности, чем жена. Законопослушный гражданин, он перед законом «диамата» покорно склонял голову, почитая его для себя «верховным». Это его определение.
Овладевший диаматом, «верховным» законом «новой жизни», Станиславский, однако, реального опыта советской жизни фактически не имел. Как и его политически безграмотная жена. Они мало отличались друг от друга. В начале 1930-х Станиславский признавался Гуревич, редактору его книг по системе школьного обучения актера:
Я отстал от современной жизни. Иначе и не могло быть, я не выходил из репетиций или из постели в течение пяти лет. А жизнь шла вперед галопом! (I. 9 : 271).
А в конце 1930-х — самых тяжелых, репрессивных лет — это отставание умножилось: он принадлежал к редкой, редчайшей, считавшейся в советской России единицами породе культовых фигур. Такие выпадали из однородной, сплоченной общности сограждан Станиславского. Он жил не как все. Заточенный болезнью в застенках Леонтьевского, он жил, подчиняясь исключительно закону нравственному — праотцов, потомственных почетных московских граждан. Этот закон не стыковался с законами тоталитарного общества. Станиславский и Лилина многое понимали, проявляя в экстремальных ситуациях лучшие черты дореволюционной российской интеллигенции, к которой принадлежали, и не понимали ничего.
И все же в Оперно-драматической студии Станиславский выделял Лилину из группы ассистентов, изучивших его методологические подходы к пьесе и ролям и лучше Лилиной знавших современность, вписавшихся в нее. Чаще, чем к другим, приходил на ее занятия. Когда Онегинский зал был занят, пускал к себе в кабинет. Иногда, тосковавший по сцене, не выдержав, подыгрывал ее ученикам в роли Гаева. После контрольных уроков подолгу беседовал с ними. С кем-то — по ее просьбе — занимался индивидуально.
Лилина приписывала Станиславскому все хорошее, чего удавалось добиться. Будто ее заслуг не было вовсе. Она чувствовала себя тенью мужа. «Константин Сергеевич Человек с большой буквы, а я с маленькой, я это всегда понимала», — писала она Гуревич (V. 13 : 267), когда похоронила Станиславского и продолжала репетировать без него по его заветам свой «Вишневый сад» — до начала Отечественной войны. И учеников своих она воспитывала в молитвенном служении заповедям Станиславского, а не постулатам «диамата»: «Чтобы не начинать день с очереди, обязательно читайте с утра какую-нибудь книгу Станиславского. Получите художественный заряд на весь день» (I. 1).
452 Когда я работаю с учениками, я чувствую такой плотный контакт с Папой, что у меня создается полная уверенность, что он мне подсказывает, что говорить, — писала Лилина сыну. — И ничего мудреного в этом нет: за пятьдесят лет совместной работы с Константином Сергеевичем у меня образовались в мозгу зазубрины, как на граммофонной пластинке; я и не подозревала об их существовании, а когда начала их шевелить во время режиссерской работы, то они стали постепенно оживать, а так как у нас все нервы в тесном контакте друг с другом, то эти мозговые клеточки оживают помимо моей воли и раньше, чем я успеваю думать о той или другой проработке с учениками. У меня такое впечатление, что кто-то бежит впереди меня и освещает мне путь; освещение это идет, конечно, от всего сказанного Папой за пятьдесят лет на репетициях и мне лично, и в двух его книгах (V. 13 : 267).
Работа с Лилиной-педагогом над «Вишневым садом» в Оперно-драматической студии, поначалу эпизодическая, консультативная, затянула и захватила Станиславского. По-видимому, и выбор чеховской пьесы как материала для одновременных теоретических обобщений и практического применения метода был Станиславским и Лилиной согласован.
Сидя в кабинете в Леонтьевском в глубоком кресле, с ногами, укутанными пледом, и приладив на коленях фанерку с тетрадью, Станиславский колдовал с воображаемой группой Торцова, вводя рожденных в его голове Веньяминову, Говоркова, Шустова, Малолеткову и других в роли Раневской, Гаева, Лопахина, Ани. И сочинял по ходу учительских наставлений Торцова и этюдных проб ролей в «Вишневом саде» дневник Названова — «Дневник ученика».
Лилина в это же время давала в Онегинском зале свои уроки реальным ученикам — Орловой, Пятницкой, Юрию Леонидову, сыну Леонида Мироновича, Балакину, Мартьянову, Рево, Мищенко, Зверевой, Заходе, другим студийцам, получившим роли в ее «Вишневом саде». И ежедневно, с конца 1935-го до июня 1941-го, вела дневник занятий с ними, «Дневник учителя». Каждодневные записи — уроков, репетиций, своих замечаний ученикам, диалогов с ними и «резюме» — она предваряла «Костиными директивами», сформулированными накануне после бесед с мужем, и выписками из его книг, когда Станиславского не стало. Нерасшифрованных тетрадей, составивших дневник Лилиной, работавшей с двумя группами студийцев над «Вишневым садом», несчитано в домашнем архиве внучки Станиславского и Лилиной К. Р. Барановской-Фальк.
Местами рукопись Станиславского «Вхождение себя в роль и роли в себя» на примере «Вишневого сада» с подзаголовком «Дневник ученика» — вымышленного ученика вымышленной школы Торцова — и 453 дневник реального педагога реальной Оперно-драматической студии имени К. С. Станиславского — Лилиной — совпадают текстуально. Лилина внимала Станиславскому, изучая и применяя метод психофизических действий по мере рождения его теоретических положений и практических приемов в театральной школе Станиславского — Торцова. «Дневник учителя», который вела Лилина, вводя студийцев в чеховские роли «Вишневого сада», суть продолжение «Дневника ученика» Станиславского, его научно-практической рукописи по работе актера над ролью в той же чеховской пьесе.
А Станиславский испытывал несомненное влияние практической педагогики Лилиной. Она тоньше чувствовала ученика и в приемах педагогики, существенной части метода, была изощреннее мужа. Он «хорошо выдумывал», а Лилину, как и других педагогов студии, «лучше понимали», — говорил он (I. 2. № 16907 : 2), Больше того, живая практика Лилиной обогащала метод психофизических действий Станиславского собственно педагогикой, которой в вымышленной школе Торцова не существовало. В школе Торцова Станиславский работал с гомункулусами, рожденными из его головы, как Венера из головы Зевса. Веньяминова, Говорков, Шустов, Малолеткова и другие, получившие роли в «Вишневом саде» Торцова, не имели собственного внутреннего мира, отдельного от мира их создателя. Там — в диалогах с ними Торцова — зияла пустота. Разговаривая с учениками, Станиславский — Торцов разговаривал сам с собой, наполняя эту пустоту его марионеток собственным миром, отрезанным от реального — за стенами особняка. Педагогика тут была лишней.
Но в подходах к творчеству ролей в «Вишневом саде» Чехова Станиславский, автор нового метода погружения актера в роль, и Лилина, виртуозно овладевшая им, — люди одной театральной веры.
Раньше, когда Станиславский считал первичным психическую субстанцию, он начинал работу с актером с анализа пьесы, с погружения исполнителя мыслью в авторский материал.
Если бы Торцов репетировал «Вишневый сад» с учениками своей школы тогда, когда Станиславский писал книгу «Работа актера над собой», еще не владея методом психофизических действий, этим «ключом» к «системе», он начал бы с бесед Ивана Платоновича Рассудова-Рахманова «о прошлом, об упадке дворянства», о «постепенном переходе их богатств и имений» к Лопахиным, с бесед о «зарождении первых зерен будущего социализма». Иван Платонович помог бы исполнителям понять «прошлую жизнь помещиков и деловых людей». Рассказал бы, откуда «это обожание Вишневого сада, который не дает никаких вишен», что такое — «сорок комнат, в которых никто не живет. Зачем держат при себе бездельников Яшу, Епиходова, почему не принимают практический совет Лопахина» (I. 7 : 425).
454 В доме Гаевых — сорок комнат, а не двадцать шесть, как в доме чеховских Войницких. Проговоры Станиславского в рукописи по «Вишневому саду» — «сорок комнат», «Вишневый сад» — название усадьбы Гаевых («Действие происходит в старинном доме дворянского имения, названного “Вишневый сад”») и дальше, в работе Торцова с отдельными исполнителями ролей, — бесценны, как и чеховские, когда он жил в Любимовке, обдумывал новую пьесу, еще не написанный «Вишневый сад», и всех за обедом смешил.
Метод психофизических действий отверг прежний, чисто умозрительный, с точки зрения Станиславского, литературный подход к роли. Он отменил застольный период изучения пьесы, с которого раньше начиналась работа над ролью в спектакле. «Объяснения, идущие от холодного разума, не заманят, не обманут, не разогреют чувства, которое одно может оживить мертвое действие», — говорил Торцов ученикам (I. 2. № 21659. Ч. 2 : 90).
В декабре 1935-го Станиславский сообщал сыну о своем «новом приеме, подходе к новой роли», обходясь без посредничества Торцова. Тут его мысль прозрачна:
Он заключается в том, что сегодня прочтена пьеса, а завтра она уже репетируется на сцене. Что же можно играть? Многое. Действующее лицо вошло, поздоровалось, село, объявило о случившемся событии, высказало ряд мыслей. Это каждый может сыграть от своего лица, руководствуясь житейским опытом. Пусть и играют. И так — всю пьесу по эпизодам, разбитым на физические действия. Когда это сделано точно, правильно, так, что почувствована правда и вызвана вера к тому, что на сцене, — тогда можно сказать, что линия жизни человеческого тела создана. Это не пустяки, а половина роли. Может ли существовать физическая линия без душевной? Нет. Значит, намечена уже и внутренняя линия переживаний. Вот приблизительный смысл новых исканий (I. 9 : 421 – 422).
Названов, получивший роль Пети Трофимова, записывал в дневник все, что говорил Учитель, не переводя репетиционный, разговорный, так называемый птичий язык на литературный. Рукопись Станиславского — не литературное произведение, а учебное пособие для студийцев, приступающих к освоению ролей в новой постановке.
Приготовление учеников к первому и сразу практическому уроку сводилось к краткому вступительному слову Торцова. И не в классной комнате, как прежде, за столом, на вводной традиционной беседе Рахманова о пьесе, выбранной к постановке, а в репетиционном зале. Разворачивая Веньяминову, Говоркова, Вьюнцова, Шустова и остальных учеников, прошедших с ним через работу над ролями в «Горе от ума», в 455 «Отелло», в «Селе Степанчиково» и в «Ревизоре», в сторону нового механизма вхождения в роль, Станиславский — Торцов опирался на уже усвоенное ими деление действия на внешнее и внутреннее.
— Вы поняли, с первых же шагов подхода к роли мы ищем доступных для творящего внутренних путей в жизнь пьесы и в душу роли. Таковыми путями мы признаем линию внешних, органических физических действий.
— Как же..!? Во?! — заволновался Вьюнцов.
— Вас смущает, что внутренние пути в душу роли познаются через линию внешних физических действий? Но кажущееся противоречие объясняется тем, что главная суть не в самих физических действиях, а в логике и последовательности их развития.
Логика и последовательность шаг за шагом, точно по ступеням лестницы, подводят артиста через всю пьесу и роль к конечным результатам, положенным в основу пьесы, то есть к сверхзадаче. Они не во внешних физических действиях, а в оправдывающих и вызывающих их внутренних идеях и чувствованиях автора и его пьесы.
В данном случае мы пользуемся неразрывной связью тела — с душой, внешних действий — с внутренними мыслями, эти действия вызывающими и оправдывающими.
Мы идем от внешнего, более нам доступного, — к внутреннему, более неустойчивому и трудно уловимому для того, чтоб после вызвать, направить нормальный человеческий путь — от внутреннего к внешнему, от чувства и мысли — к действию, от переживания — к воплощению (I. 2. № 21659. Л. 2 : 2), —
свой первый урок Торцов вел по жесткой схеме: рассказывал ученикам содержание «Вишневого сада», будто его никто не читал, дробил его на куски — эпизоды, задерживался на фрагментах из жизни ролей, предшествовавших первой и каждой следующей чеховской сцене, и переводил их на последовательность простейших физических действий:
После любовной катастрофы и отчаянных писем Раневской было решено ее вернуть из-за границы в «Вишневый сад». С этой целью за ней послали Аню с Шарлоттой. Сегодня поздно ночью они возвращаются. Все домашние поехали их встречать (перечислить кто). Горничная Дуняша осталась дома и с нетерпением готовится к этой встрече, приводит все в порядок. Бездельника Епиходова, конечно, оставили дома, где он болтается и всем мешает. Специально приехавший для встречи Раневской Лопахин проспал и опоздал к встрече.
Все эти лица ожидают приезда, коротают время и приблизительно говорят друг другу такие-то мысли (привести не текст слов роли, а лишь содержание разговоров) (I. 2. № 21659. Ч. 2 : 122).
456 Далее, в самых общих чертах, без подробностей Торцов знакомил учеников с действующими лицами.
Раневская — помещица, «женщина средних лет, дворянка, воспитанная в условиях своей среды: милая, добрая, легкомысленная, избалованная жизнью, потерявшая любимого семилетнего сына (утонул). У нее любовник в Париже, куда она с отчаяния поехала после катастрофы и т. д.» (I. 2. № 21659. 4. 2 : 121), — намечал Торцов основные параметры роли, назначенной Веньяминовой, «по ее социальному положению, быту, в главных, характерных чертах».
Стройному, солидному молодому человеку Говоркову Торцов представил Гаева как помещика, брата Раневской.
«Аня — дочь Раневской» — все, что сказал он, назначив на роль чеховской барышни Малолеткову, «необыкновенно обаятельную, почти девочку».
Паше Шустову досталась роль Лопахина — «крепкого кулака», «сильного, талантливого, ворочающего громадными делами».
Большому, толстому, добродушному, с густым басом и здоровым цветом лица Пущину — роль Пищика, соседа Гаевых. Перед глазами Станиславского стоял Грибунин, первый исполнитель роли Пищика.
Невысокий, подвижный, шумливый юноша Вьюнцов получил роль Епиходова.
Дымкова — высокая, бледная, с нездоровым, сероватым цветом лица — назначалась на роль Вари.
Веселовский, элегантный и ловкий молодой человек, — на роль Яши, «слуги Раневской».
Умновых — «с татарскими глазами», бывшему чертежнику-землемеру, приехавшему в школу Торцова издалека, — следовало тянуть в роли старого лакея Фирса глубокое, в генах, «от татаро-монгольского ига» — «рабство».
Вот они, блестки подорванного болезнями и подрубленного идеологией таланта Станиславского, вкрапленные в черновик. Сверкнули и тут же исчезли, скрылись за повседневными учебными разговорами с Малолетковыми — «крестьянами (колхозниками)», «рабочими (мастерами)», «красноармейцами» и «беспризорниками» — на их уровне и на птичьем репетиционном наречии.
Объявив распределение ролей — без вручения авторского текста, Торцов еще раз и строго запретил всем читать пьесу, дабы избежать механического ее заучивания — укладывания чеховских слов «на мускулы языка».
Лилина от правил нового метода — не читать пьесу и не брать для этюдов чеховскую сцену — отступала. В некоторых случаях предпочитала, как и другие ассистенты Станиславского, одновременную работу с психофизическим действием и авторским словом. Впоследствии, отказавшись 457 и от практики этюдов, основного репетиционного приема вхождения актера в роль у Станиславского, к этому пришло большинство педагогов, исповедующих метод психофизических действий.
Нет Раневской, нет Гаева, нет Шарлотты, Ани, Пети, Лопахина, Фирса, нет персонажей пьесы Чехова, — продолжал Торцов, раздав роли.
Есть Веньяминова, Говорков, Шустов, Вьюнцов, Названов, Умновых.
Действующие лица, они — вы сами, но поставленные в обстоятельства роли.
На первом этапе роль входит в исполнителя своими предлагаемыми обстоятельствами, а исполнитель должен отдать ей свои чувства, — переводил Аркадий Николаевич общие методологические установки в учебно-практический план. И пересказывал по эпизодам — «кускам» и в лицах учеников своей школы фабулу первого чеховского акта до конца:
Приезд ожидаемых; встреча, осмотр дома — не Раневской, а Веньяминовой; не Аня, а Малолеткова валится от усталости на диван и наслаждается, точно в раю, после заграничного ада. Приходит Дымкова с багажом; расспрашивает Малолеткову, что было за границей, и рассказывает, что «Вишневый сад» будет продаваться с молотка.
Все возвращаются, пьют кофе, болтают (всякие глупости), старинный слуга Умновых прислуживает.
Наконец Шустов объясняет проект спасения «Вишневого сада» от молотка разделением его на участки и распродажей их.
Возмущение владельцев, спор, доказательства. Шустов торопится по делам и уезжает. Пущин — тоже. Постепенно расходятся спать. Неожиданно приходит студент Названов, бывший учитель маленького сына Веньяминовой — Гриши, утонувшего в реке шесть лет назад. Встреча — слезы. Уходят (I. 2. № 21659. Ч. 2 : 115 – 117).
После этого, отменив все разговоры, Станиславский отправлял учеников Торцова на сцену играть этюды по эпизодам из жизни роли, не вошедшим в пьесу, искать в них логику и последовательность простейших физических действий с последующим их оправданием «внутренними мыслями» и складывать из них психофизическую линию роли.
Роль, как и пьеса, — это «экстракт человеческой жизни, где все лишнее, случайное, побочное, засорявшее жизнь, исключено», — пояснял ученикам Торцов (I. 2. № 21659. Ч. 2 : 82).
Он видел за ролью, втиснутой автором в узловые сцены и в литературный текст, за драматургическим «экстрактом» человека — его всего, существующего и вне чеховских сцен, помимо них. Эти сцены — до, после и между драматургически узловых, отброшенные Чеховым, — Станиславский и Лилина вслед за ним, сочиняя этюды, восстанавливали, 458 заставляя учеников кинуться в них «всей своей психофизикой», без предварительного анализа. В сущности, именно так, переводя драму в повествование, Станиславский и прежде подходил к пьесе, приступая к ее постановке. Только теперь он шел по этому пути, дедраматизируя и роль, дописывая ее закадровыми, внесценическими — «закулисными» фрагментами, превращая роль драматическую — в «роман роли».
Метод психофизических действий и внутренних импульсов, их оправдывающих, не противоречил его режиссерской методологии. Той, что сделала его Станиславским, а Художественный с первого сезона — театром Чехова, несмотря на все разногласия с автором. Только теперь она обогащалась включением актера, его психофизики, в творческий процесс создания спектакля.
Это был серьезный прорыв в репетиционной методологии. Станиславский делал в ней первые шаги. С разведки пьесы и роли «телом» начинался и процесс самопознания актера, параллельный вхождению в роль и роли в него, процесс превращения его не просто в исполнителя, действующего на сцене бессознательно, но в творческую личность — «я есмь» — без насилия над своей природной психофизической органикой.
Сегодня фантазии Станиславского, первооткрывателя нового качества в актерской профессии как профессии творческой, кажутся наивными. Современные последователи Станиславского, оснащенные новейшими знаниями о человеке, значительно отошли от позиций метода психофизических действий, в просторечии — метода физических действий, от намеченных в тетрадках по «Вишневому саду» этапов погружения актера в роль. Но отошли, идя дальше и глубже по пути, проложенному Станиславским.
Простейшие действия, аналогичные действиям роли, и чувства, их оправдывающие, — это то немногое, что должно на первых порах связать исполнителя с ролью, приблизить роль к актеру, а актера — к ней, — напутствовал Торцов учеников, отправляя их на сцену:
Мы сами — действующие лица. Мы себе близко и хорошо знакомы. Мы чувствуем реальную правду, которой нельзя не верить, это большая опора на сцене, за которую мы должны держаться, чтобы не впасть в туманное, плохо оформляемое творчество «вообще» (I. 2. № 21659. Ч. 2 : 26).
В этой подмене персонажа — человеком в актере с его житейскими привычками — на первоначальном этапе вхождения актера в роль — и была суть метода психофизических действий. Станиславский полагал его универсальным: он базировался на общности, общечеловечности жизненно-житейского опыта актера и персонажа. Аркадий Николаевич Торцов озвучивал Станиславского: опыт простейших физических действий, 459 тех, что именуются привычкой, у человечества огромен; житейский опыт — хороший путеводитель и в реальной жизни, и в творчестве. Выпуская учеников на этюды, предварявшие первые сцены первого акта «Вишневого сада», Торцов заставлял их действовать в обстоятельствах, очерченных фабулой каждого эпизода, — «на свой страх и совесть», руководствуясь исключительно личным житейским опытом.
Выбрав игровые площадки в воображаемом репетиционном зале, похожем на Онегинский в Леонтьевском, Торцов делил всех участников первой сцены первого акта «Вишневого сада» на три группы — по их простейшим действиям: «приезжающих», «встречающих» и «оставшихся дома, коротающих время».
Группа «приезжающих»: Веньяминова — Раневская, Малолеткова — Аня, Дарьина — Шарлотта и Веселовский — Яша — занимала стулья в первых рядах, у сцены. Туда по рельсовому пути подкатывал ожидаемый поезд. «Путешественникам» Торцов велел распределять стулья — купе, упаковывать багаж перед прибытием поезда, одеваться, прихорашиваться. Дарьина, гувернантка-француженка, — фантазировал Станиславский, — везла контрабандой модные платья и демонстрировала их попутчицам. Дарьина — француженка, а не немка, как у Чехова, — подчеркивал Торцов, уводя ее от чеховской Шарлотты. Чеховские реалии, как и сцены, Торцов не брал, чтобы не закреплять действие мышечно.
Дарьина выполняла этюд на обыск багажа в приграничной таможне. Этот обыск должен вгонять ее «в дрожь», — подсказывал Торцов. Это был собственный опыт Станиславского. Проходя через таможню, он еще в дореволюционные времена испытывал страх перед хамством русских чиновников.
На подмостках репетиционного зала — с другой стороны железнодорожного полотна — располагалась группа «встречающих»: Говорков — Гаев, Дымкова — Варя, Пущин — Пищик и Умновых — Фирс. Им задавались этюды — «Встреча на станции, на перроне» в разных погодных и временных обстоятельствах. Торцов варьировал их, заставляя учеников импровизировать. Встреча могла произойти днем и ночью, в мирное время и военное, в страшный ливень и грозу, в душную знойную погоду и в трескучий мороз, только не ранней весной на рассвете, когда еще подмораживало, как у Чехова.
Шустова на перроне среди «встречающих» нет. Он — среди «оставшихся дома, коротающих время» до приезда путешественниц.
Лилина, приступая к занятиям со студийцами, действовала в точности «по Торцову», то есть по Станиславскому.
Назначив исполнителей ролей, знакомила учеников с кратким содержанием первого акта «Вишневого сада» и с обстоятельствами, предлагаемыми Чеховым.
Всех выходивших на этюды делила, как и Торцов, на три группы.
460 «Приезжающие» делали этюды — «В вагоне, в купе».
«Встречающие» — «На станции, на перроне».
Студийцам Кругляку и Балакину, получившим роль Лопахина, «оставшегося дома», задавала этюд на простейшие физические действия — тот же, что в тетрадке мужа. Наверное, вечером супруги обсуждали утренний лилинский урок в Онегинском зале в Леонтьевском:
Читая книгу, заснул, проснулся от гудка локомотива; опоздал встречать, обозлился на книгу, швырнул ее, придрался к Дуняше, ищет, как исправить положение. На встречу не поспеет. Как понежнее встретить Раневскую? Оправляется, прихорашивается, прислушивается, не едут ли, открывает окно: не слышно; опять закрывает, так как холодно, мороз три градуса. Опять взялся за книгу (I. 1).
С простейшими действиями Шустова, не Лопахина, а Шустова, подчеркивал Станиславский в рукописи, — «заснул, проснулся, вбегает, колеблется» — Торцов ученика замучил. Будто тот в самом деле был живой, а не болванка. Торцов велел Шустову выстроить в воображении все предлагаемые обстоятельства первой сцены первого акта «Вишневого сада» и определиться в пространстве, в его топографии: дом — вокзал. Он должен был четко представить, увидеть: «Это имение, где будет происходить наша жизнь на сцене. Все комнаты дома, станцию, перрон, где будет происходить встреча, поезд, который привезет приезжающих» (I. 2. № 21659. Ч. 2 : 26).
Проснувшись от гудка локомотива, просигналившего где-то далеко, на станции, и осознав, что все уехали встречать Раневскую, а он проспал, Шустов, будущий Лопахин, должен был увидеть «внутренним зрением»: как догнать экипаж, уехавший на станцию встречать приезжающих Веньяминову, Малолеткову и Дарьину; как догнать встречающих — Говоркова, Дымкову и Умновых, его опередивших, его не разбудивших. Догнать в весенние заморозки, в дождь, в солнечную погоду. Пешком или на лошадях? «Бежать за уехавшими? Вижу, как мы встречаемся посредине дороги. Экипажи переполнены. Садиться некуда, разве только кому-нибудь на козлы» (I. 2. № 21659. Ч. 2 : 45).
Этот вариант — догонять пешком — не годился.
Тогда прокручивался следующий. Шустов бежит в конюшню, в кучерскую, в сараи на хоздворе. Прикидывает: «Закладывать оставшуюся таратайку? Но, вероятно, лошади и люди — в разгоне», — рассуждал Торцов за Шустова, останавливаясь на его «колебаниях». И этот вариант отбрасывался. Этюд на «колебания Шустова» в обстоятельствах места и времени действия роли Лопахина, предписанных Чеховым в первой сцене первого акта «Вишневого сада», следовало закончить принятием 461 решения — остаться дома: «В последнем проекте все проходит складнее».
Торцов на первом этапе слияния актера с ролью больше внимания уделял предлагаемым обстоятельствам, которые должны войти в актера. Лилина отдавала приоритет исполнителю, входившему в обстоятельства роли. «Каждый человек неповторим»; линия физических действий может быть одна, а чувства, их оправдывающие, разные, — говорила Лилина и к каждому искала свой подход, предлагая студийцам из разных составов одинаковые этюды из закулисной жизни роли.
«Двойников» в ее спектакле не должно было быть.
Заставляя действовать в этюдных пробах роли от своего лица — Кругляка, Балакина, Орловой, Пятницкой, других студийцев, занятых в ее «Вишневом саде», со вниманием относясь к каждому, она добивалась от каждого его собственной, «щепетильной», последней правды в исполнении простейшего, элементарного действия, оправданного собой, своим. Это называлось — добраться в репетиционном эпизоде в себе — до «бисеринки»: «дом, комната, шкап, ящики, бисеринка».
В результате в одинаковых обстоятельствах роли одна пра-Раневская, приближаясь к дому, впадала в умиление. Другая томилась в купе железнодорожного вагона, подходившего к перрону, не могла усидеть на месте. Так сильно ее тянуло домой.
Приехав на станцию встречать парижских гостей и узнав, что поезд опоздал и предстоит долгое, скучное ожидание, студийные пра-Гаевы — Леонидов и Мартьянов — отправлялись каждый со своим пра-Пищиком — Меньшиковым и Зиновьевым — в вокзальный буфет. Мужчины согревались чаем и красным вином, — подсказывала им Лилина, опираясь на свой опыт подобных встреч. Выполняя задание, один исполнитель роли Гаева, более легкомысленный, чем второй, радовался, что вырвался из скучных буден. Его настроение поднималось. Он вспоминал Париж, его уголки, предвкушая разговор об этом дивном городе с сестрой, с которой вот-вот встретится. Второй Гаев, более лиричный, чем первый, переполнялся нежностью к Раневской, думал о том, как хорошо им снова будет вместе.
И Яши, и Фирсы получались разные.
С первых этюдов Яши предавались своим парижским видениям. «Всему мерка — Париж», — записывала Лилина, задавая этюд. Яша то закуривал заморскую папироску, то сосал парижские карамельки, закуривал и сосал сладострастно, смакуя остатки привезенных заграничных лакомств. Но один Яша радовался возвращению в «Вишневый сад» — в Париже ему не с кем было поговорить. Другой, обожавший Раневскую, был веселее, бодрее, энергичнее, услужливее первого. Ему, побывавшему в Европе, не с кем было поговорить не во Франции, а в России — Азиопе, как шутят в постсоветское время. Во время Станиславского — 462 сталинское время — не отважились бы на такие шутки. Второй Яша охотно возвращался в Париж.
22 марта 1938 года Лилина сделала в дневнике такую запись:
В кабинете Константина Сергеевича пробовали этюд на линию физических действий Яши — как собрать ряд мелких действий в одно и дать ему название. Яша смотрит в окно вагона. Все не нравится, раздражает вагонная грязь, мужики бедно и некрасиво одеты. Все эти действия можно назвать одним словом: критикует. В это время вошли Костя с Мейерхольдом, и мы перешли в студию (I. 1).
С весны 1938-го Мейерхольд, бывшее первое лицо советского театрального мира, после закрытия своего театра приступил к работе в Оперном театре Станиславского и Немировича-Данченко. Станиславский, сохранявший свое положение театрального вождя до конца дней, протянул руку помощи опальному режиссеру, впавшему в немилость у власти. Станиславский умер — Мейерхольд погиб.
Приход Мейерхольда в особняк в Леонтьевском был редким явлением «того света» в чертогах закрытого учебного заведения — мира стерильно-студийного, не замутненного посторонним, отгороженного от реального толщей старинных стен. «Тот свет» не давал здесь ни кругов, ни волны: вошел Мейерхольд — перешли в студию. Закончили с Яшей — занялись Фирсами.
Старый Фирс — в лилинской группе «встречавших» хозяйку — на станции хлопотал, суетился, проверял, все ли захватили для встречи. Он один знал порядки, весь ритуал. Фирса у Лилиной репетировали студийцы Абрамов и Носов.
Глаза одного слезились: так он хотел увидеть свою дорогую барыню и сообщить ей обо всех беспорядках в доме, что произошли в ее отсутствие. Другой — забывал свою старость и болезни, хотел быть прежним, выездным лакеем, хотел сменить Яшу подле барыни. Он представлял, как, войдя в вагон, остановившийся у перрона, подхватит ее на руки, вынесет с высокой подножки, усадит в коляску экипажа, как укутает ее и Аню прихваченным из дома пледом.
На втором этапе вхождения актера в роль и роли в актера по методу психофизических действий, более осмысленном, чем первый, полагалось — по Торцову — искать «внутренние позывы», оправдывающие физические действия.
У Лилиной не было с этим никаких проблем. Она работала с реальными людьми, которых знала, любила, с которыми возилась. Пробиваясь к «я есмь» ученика, она без труда попадала на линию его жизни, как бы мала и коротка она ни была. Все же она была ближе к реальности, чем «политически грамотный» муж, уличавший жену в незнании азов 463 марксизма-ленинизма — главного закона современности. Автор «Дневника ученика» — дневника Названова, ученика Торцова, — будущей книги по методу психофизических действий, написанной в диалогах учителя с учениками, — совсем не понимал молодых 1930-х, иных, чем молодые его молодости — молодые 1880-х и молодые начала века — сверстники Пети Трофимова и Ани Раневской. Для Станиславского ученики Торцова — племя незнакомое. Он имел о них такое же смутное представление, как и они — о чеховском человеке начала века, с которым им предстояло слиться. В этом, несмотря на политическую наивность, Станиславский отдавал себе отчет и дистанцию между чеховским персонажем — из начала века и актером, молодым в 1930-х, закладывал в методологию. Ее и следовало пройти исполнителю, поэтапно сближаясь с ролью, чтобы перевоплотиться в нее.
Выйдя на этюд, заданный Торцовым, «оставшиеся дома» Шустов и Вьюнцов, репетировавший конторщика Епиходова, не знали, что им делать, с чего начать. Они, как и следовало, забрасывали Торцова вопросами, требуя от него ответов отнюдь не методологического свойства.
Станиславский сочинял вопросы, чтобы потом сочинить ответы, в которых будут импульсы, способные задеть «аффективную память» — «эмоциональные струны» учеников Торцова.
Шустов жаловался, что он совсем не представляет эти сорок комнат помещичьего дома, в которых никто не живет. Он признался Торцову, что не имеет ни малейшего представления и о деловой жизни Лопахина, из которой тот вырвался, чтобы встретить Раневскую, и не знает, откуда ему брать материал «для мечтаний» о роли.
Подвижный Вьюнцов не смог показать прелюдии к разговору Епиходова с Лопахиным в первой сцене первого акта «Вишневого сада», пока Дуняша побежала за вазой для цветов, и нервничал. «Неужели вам никогда не приходилось разговаривать с купцами?» — удивлялся Аркадий Николаевич, готовя ситуацию, в которую попали «оставшиеся дома» Шустов и Вьюнцов, чтобы выпустить Торцова на беседу о втором этапе вхождения актера в роль и роли в актера по методу психофизических действий.
То же, что с Шустовым и Вьюнцовым, случилось и с другими учениками Торцова. Они не находили в своем житейском опыте общности с назначенными им персонажами.
Шустов и Фролова — будущая Дуняша — никогда не слышали звука подъезжающего к дому экипажа, к которому должны были прислушиваться в радостном ожидании «приезжающих». Им привычнее был звук воронка, тормознувшего под окном, заставлявший вздрагивать родителей.
Когда «приезжающие» Малолеткова, Веньяминова и Дарьина познакомились с действенным скелетом, с фабулой первого акта «Вишневого 464 сада», и без предварительного изучения своих ролей кинулись в исполнение простейших физических действий, как в омут, всей своей психофизикой, как требовал Торцов, и стали вспоминать, как каждый из них действовал и что чувствовал в обстоятельствах, мысленно приближенных к тем, что предложил автор — роли, оказалось, что и их «аффективная память» молчит.
«Домовладельцы» Веньяминова и Малолеткова и встречавший их на перроне Говорков, искавшие связей со своими ролями, чтобы одушевить действия — собою, своими чувствами, не находили этих связей. Они никогда не имели ни дома, ни усадьбы, ни сада, ни конюшен, ни экипажей, ни слуг, их повсюду сопровождавших, им подававших и их одевавших. «Крестьяне (колхозники)», «рабочие (мастера)», «красноармейцы», «беспризорники» и «интеллигенция — дети актеров» не знали, что такое — частная собственность, и житейских привычек, общих с Раневской, Гаевым и Аней — барыней, барином и барышней — не имели.
«Француженка» Дарьина никогда не была во Франции, поэтому платья контрабандой через таможню не провозила и «дрожать» при обыске не могла. Шустов никогда не встречал приезжающих из-за границы. «Приезжавшие» из-за границы Веньяминова и Малолеткова никогда не покидали пределов СССР.
«Разогревая» чувства «приезжающих», «встречающих» и «коротающих время дома», чтобы они оживили простейшие физические действия учеников Торцова, Станиславский сочинял своим гомункулусам биографии, обращая их к наблюдениям, к живым контактам, якобы случавшимся в их жизни, и к книгам, расширявшим их познания о предлагаемых обстоятельствах — о доме, об усадьбе, о роде занятий и образе жизни чеховских персонажей.
У Вьюнцова появлялся отец-купец, и тот на провокативный вопрос Торцова: «Неужели вам никогда не приходилось разговаривать с купцами?» — отвечал, вступая в диалог с учителем:
— Каждый день с отцом разговариваю […] А если я играю служащего в домовой конторе… Во!..
— Разве вы не изучали этих людей в конторе вашего отца? — спросил Торцов.
— Знаю! Вот здорово знаю! Тютелька в тютельку.
— Значит, у вас для вашей работы найдутся соответствующее мысли для оправдания словесного действия […]
— А если бы я играл роль революционера? Откуда мне взять мысли? Я ни одного не видел и не знаю… Во?! — не унимался Вьюнцов.
— Вам пришлось бы завести с ним знакомство, поговорить, поспорить, поучиться. Это создаст вам соответствующий взгляд и мысли, 465 многие из которых вы перенесете в роль и используете в словесном действии (I. 2. № 21659. Ч. 2 : 21, 22), —
отвечал ученику Торцов, ничуть не усомнившись в том, что у молодого человека в конце 1930-х — отец-купец с действующей конторой и что он, примериваясь к роли «революционера» Трофимова и ища привычки, общие у него с ролью, не видел в конце 1930-х «ни одного» революционера. Помнивший о классовом учении Маркса — Ленина в работе над книгами — во спасение их, в работе с молодыми Станиславский обнаруживал полнейшее отсутствие реального опыта советской жизни. И, сочиняя биографии своим гомункулусам, сам выглядывал из-за их спин.
Рядом с купцом — отцом Вьюнцова — появлялся в рукописи Станиславского дядя Паши Шустова, будущего Лопахина, — знаменитый актер, владелец загородного имения с принадлежавшей ему библиотекой, очень похожий на Станиславского, владельца подмосковной Любимовки. Паша Шустов, прибывший в имение дяди и выполнявший этюд на «колебания Шустова», и другие ученики школы Торцова из группы «оставшихся дома», поджидавшие возвращения экипажей со встречающими и приезжающими, — Названов и Вьюнцов, будущие Петя Трофимов и Епиходов, — с упоением рылись в домашней библиотеке дяди Шустова, рассматривая «иллюстрированные издания прошлого», «помещичьей жизни», и коллекции фотографий, вклеенных в дядины семейные альбомы, чтобы четко представить, увидеть «внутренним зрением»: «Это имение, где будет происходить наша жизнь на сцене. Все комнаты дома, станцию, перрон, где будет происходить встреча, поезд, который привезет приезжающих» и дорогу от железнодорожной платформы до усадьбы.
Шустов с партнерами по своей первой сцене листал, изучая предлагаемые обстоятельства роли Лопахина, конечно же, любимовские альбомы Алексеевых. Сколько их накопилось с середины 1880-х, когда братья и сестры Станиславского были совсем молоденькими! Каких только фотографий там нет — «из помещичьей жизни»! И комнат алексеевского флигеля пустых: спален, столовой, детской, няниной; и углов этих комнат — крупным планом; отдельно — шкафов: платяных, сервантов и книжных, «многоуважаемых», о трех растворах, — в библиотеке; столов со скатертью и салфетками под люстрой в гостиной, столов сервированных; тех же комнат — с домочадцами и гостями. Ученики могли отыскать в этих альбомах фотографии и дороги к усадьбе Любимовка, и конюшен, и лошадей, и экипажей на резинках, и кучеров, и перрона на платформе Тарасовка, и вокзального буфета в Пушкине, где встречающие согревались чаем и красным вином, и фотографии пейзажей по пути на станцию, и крестьян со снопами в поле у дороги, и компании молодых людей, устраивавших пикники у стогов, не говоря уже о фотографиях 466 старых хозяев Любимовки — Сергея Владимировича и Елизаветы Васильевны, их детей, братьев и сестер Станиславского, приживалов, соседей, репетиторов, гувернеров и гувернанток…
… Видения, живые картины, сменявшие одна другую, одолевали Станиславского. Возбуждая эмоциональный, внутренний мир учеников Торцова, входивших в предлагаемые обстоятельства чеховских ролей, Станиславский не замечал, что, строя воздушные мосты, арки, пытаясь соединить эпохи, ворошил свою память, путая себя, молодого, с молодыми 1930-х. Приближая учеников к чеховским ролям, он приближал их к себе, как к чеховскому материалу дореволюционной давности, отдаляя их от современности, и, не замечая подмены, путал, кто с кем разговаривает: Торцов с Шустовым или он сам со своим прошлым, не соединившимся с настоящим, с нынешними молодыми. Или прошлое вопрошает настоящее, наивно полагая в нем свое продолжение, будто не было 1917-го и «окаянных дней» после него, разорвавших связь времен, и не было у «новой жизни», начавшейся с нуля, новых точек отсчета.
В рукописи Станиславского по методу психофизических действий на материале чеховского «Вишневого сада» неожиданно, спустя тридцатилетие после создания пьесы, всплывает — в видениях, в полубреде больного, уходящего из жизни Станиславского — ее алексеевский контекст. И если «проползти» вслед за Торцовым сквозь обрывки воспоминаний Станиславского, вкрапленных в хаос исследования механизмов творчества роли, можно «взять след» прообразов «Вишневого сада», усадьбы Гаевых, и персонажей чеховской пьесы — в версии Станиславского, связанных с алексеевской усадьбой «Любимовка» и ее обитателями — Алексеевыми, их соседями и прислугой.
Этот аспект рукописи Станиславского «Вхождение себя в роль и роли в себя» на примере «Вишневого сада» еще не попал в поле зрения исследователей. Он наиболее отчетлив во фрагментах, относящихся к работе Торцова с Пашей Шустовым, репетировавшим роль Лопахина.
… Познакомившись с семейными альбомами дяди, знаменитого актера, Паша Шустов, выйдя на этюд с «оставшимися дома», сказал Торцову, что не представляет этого «крепкого кулака», «сильного, талантливого, ворочающего громадными делами», каким характеризовал его Торцов, раздавая роли. Тогда, «обратившись к Паше, Аркадий Николаевич стал его расспрашивать», а Названов записал в «Дневнике ученика» такой диалог Шустова с Торцовым:
— Какая фабрика, какие завод, магазин или сельское хозяйство кажутся вам наиболее сложными?
— У меня кружится голова, когда я попадаю в универсальные магазины, — вспоминал Паша, — потом мне показалась очень сложной работа 467 в одном большом имении, где я проживал несколько месяцев. А из фабричных работ на меня произвел страшное впечатление кабельный завод, в котором рабочие стоят в центре петли прокатывающейся раскаленной полосы металлической проволоки.
— Так вот знайте, — перебил Аркадий Николаевич, — вы, Шустов в качестве Лопахина, состоите директором в универсальном магазине, имении и прокатном заводе. Углубитесь в положение такого дельца, приблизительно распределите свои обязанности и найдите двое суток для встречи вашей прежней благодетельницы Веньяминовой в качестве Раневской (I. 7 : 424).
И Торцов отправлял Пашу Шустова в «большое имение», похожее на Любимовку, в магазины, какими располагало торгово-промышленное товарищество «Владимир Алексеев», и на кабельный завод, похожий на бывшую канительную фабрику «Владимир Алексеев», в которой молодой Станиславский, член ее дирекции и председатель правления, впервые в России использовал гальванический способ покрытия проволоки благородными металлами и ввел в эксплуатацию новейшие образцы волочильных машин. «Поговорите с фабрикантами, с помещиками, с директорами больших магазинов. Они вам расскажут, из каких забот слагается их жизнь и как распределяется их день, а нередко и часть ночи» (I. 2. № 21659. Ч. 2 : 77), — советовал Торцов Паше Шустову.
Чеховский Лопахин в «Вишневом саде», каким представлял его Торцов — Шустову, конечно же, сам Станиславский, молодой, в роли Лопахина, так и не сыгранной, переоснастивший золотоканительное производство в кабельное. Станиславский проваливался в воспоминания. Сколько он тогда успевал!.. Какую громаду дел сворачивал за день!.. Помимо дел в Художественном. Не то, что теперь… Чехов, когда прислал ему рукопись «Вишневого сада», очень хотел, чтобы он взял Лопахина… Он тогда не видел его в себе… А Чехов видел…
Роль Лопахина рождалась у Паши Шустова из хождения Станиславского по лабиринтам его собственной «аффективной памяти».
Вынырнув из воспоминаний, войдя в свою роль — Торцова и призвав Названова, фиксировавшего репетиционный процесс, Станиславский перекладывал поиски «внутренних позывов», оправдывающих физические действия «крупного дельца», предшествовавшие первой сцене первого чеховского акта «Вишневого сада», на «Дневник ученика». В рассказе Паши Шустова, записанном Названовым, о «командировке» на лопахинские объекты — на кабельный завод, в кабинет директора универсального магазина, принимающего «толпу народа», банкиров и хорошеньких барышень, и в контору богатого помещика, — проговоры Станиславского трогательно-саморазоблачительны:
468 Сначала он толкался и наблюдал работу в разных отделах, дивясь тому, как люди разбираются во всей этой груде товаров, как они находят разные мелкие безделушки, которые требует капризник-покупатель. Потом он пошел и сел около двери кабинета директора, около которого ждала очереди толпа народа служащих и покупателей. Там было человек десять увольняющихся или уволенных, которых после долгого ожидания потребовали в кабинет. По этому делу посылали за какими-то служащими разных отделов, они чуть ли не прибегали, запыхавшись, и уходили, утирая пот с лица.
Был какой-то очень возмущенный покупатель, который скандалил, потому что его заставляли долго ждать.
Было много важных дельцов с толстыми портфелями, которые говорили о каких-то банковских делах, была хорошенькая барышня с плачущей мамашей, барышня кокетничала, а мамаша слезно молила, чтоб их принял директор.
Все эти сцены, наблюдаемые Пашей, жизни большого магазина, произвели на него огромное впечатление, и у него разболелась голова.
И так каждый день в течение жизни, и нет возможности остановить деловой поток. Как же выбраться из этого ада на целые двое суток, чтобы, подобно Лопахину, встретить свою заступницу Раневскую?
Если прибавить к этой работе, — думал про себя Паша, — то, что я видел в свое время в конторе богатого помещика с толпой объездчиков-управляющих, конюхов, рабочих, прислуги и пр. и пр., то жизнь Лопахина представится еще невыносимее, а его жертва Раневской еще более трогательной.
После всех этих впечатлений и мыслей Паша очень ясно почувствовал досаду Лопахина по поводу его неудачной встречи, которую он проспал.
Чтобы бросить дела, которые потом придется наверстывать, и ехать на два дня, нужна большая любовь (I. 2. № 21659. Ч. 2 : 78 – 80).
Любовь — к благодетельнице Веньяминовой в качестве Раневской — Паше Шустову следовало оправдать и грудой дел, которые пришлось отложить, чтобы встретить Веньяминову и изложить ей план спасения «Вишневого сада» «от молотка», и воспоминаниями из его собственного детства, связанными с Веньяминовой. И Станиславский бессознательно окунал ученика — в свое детство маленького барчука:
Когда мне было лет десять, — рассказывал Торцов Шустову, — на елке у знакомых меня дети обделили подарками. Я рыдал в страшном горе. Но за меня заступилась какая-то добрая тетя. Она восстановила справедливость и даже на следующий день привезла мне на дом еще две лишние куклы, которые впоследствии стали моими любимыми. После 469 этого у нас установились нежные отношения с доброй тетей. Разве после этого счастливый мальчик не мог бы приходить в эту комнату своей заступницы? (I. 7 : 423)
Станиславский был убежден, что этот рассказ скорее приблизит Шустова к Лопахину, чем рассказ чеховского Лопахина об эпизоде из его детства с раскровавленным носом и заступничестве Раневской в тексте чеховского «Вишневого сада».
Елка могла быть не у знакомых, а в сельской школе, где Веньяминова была попечительницей, — варьировал Торцов предлагаемые обстоятельства роли, помогая Шустову выбрать те, что вернее растрогают его, задев за живое. Вариант с сельской школой и Раневской, ее попечительницей, конкретнее, ближе к молодому человеку, — думал Станиславский, совершенно уверенный в том, что прошлое, детские впечатления одинаковы и у Шустовых, и у детей Алексеевых — Сергеевичей и что детство есть детство, независимо от того, на какое время оно выпало. Кажется, время для него остановилось…
И этот пример, и другие, подобные этому, он выводил в положения метода психофизических действий, заканчивая ими урок:
Таким образом вы можете свои собственные воспоминания вливать в жизнь роли, и эти воспоминания будут живые, пережитые, хорошо знакомые, родные. Если вы выдумаете их от ума, а не пойдете от живого чувства, то ваши предлагаемые обстоятельства прошлого неизбежно будут формальными, холодными, мертвыми (I. 2. № 21659. Ч. 2 : 73 – 74).
И в анализе второго акта «Вишневого сада» Станиславский, автор рукописи по методу вхождения актера в роль и роли в актера, совершенно оторванный от советской современности, опрокидывал пьесу Чехова в собственную дореволюционную молодость. Прачеховские персонажи и во втором чеховском действии возвращали его к себе — в Любимовке, и пьеса Чехова прокручивалась в его сознании, как на киноленте, фантасмагорически перемешивая прошлое с чеховскими сценами и с его нынешними бедами и проблемами. Эпизод за эпизодом и кадр за кадром.
Наметив логику и последовательность психофизических действий первого акта, Торцов с учениками добирался до скамейки у проселочной дороги в имение Гаевых. Похожая стояла у церковки Покрова Святой Богородицы. От нее начиналась дорога из Любимовки к железнодорожной платформе в Тарасовке и в город: в Пушкино, где жила семья Архиповых — приятелей Сергея Владимировича и Елизаветы Васильевны, родителей Станиславского.
470 У скамейки рядом с церковкой собирались большой компанией, чтобы ехать верхом на лошадях. Или идти пешком к Архиповым. Или в ресторан. Или к кому-нибудь в гости — к Штекерам, к Сапожниковым, к Смирновым: на чай, на кофе, на шоколад, на обед, на именины, на домашнюю вечеринку и просто так. У скамейки начинались поля. Во время сенокоса крестьяне косили, складывали снопы в копну, копны в стога, у стогов господа из соседних с Любимовкой имений устраивали пикники, а после шалили, ныряя в мягкую, свежескошенную траву, еще не высохшую в солому. «Будущий директор банка разбежался и сел в копну», — намечал Станиславский мизансцену для Гаева в режиссерском экземпляре «Вишневого сада» 1903 года. В сене возились дамы, смеясь и щекоча друг дружку. Сеном чистил сапоги Епиходов, сметая с них дорожную пыль. На сено усаживался Лопахин, когда наступала его очередь произнести свой монолог о том, что в стране, которой Господь дал такие громадные поля, раскинувшиеся до горизонта, должны жить настоящие великаны, а живут бесчестные и непорядочные люди, которые крутятся вокруг денег, своих и чужих. Лопахин, уставившись в даль, кусал сухие стебли…
Бывало, веселую компанию заставала в поле гроза, и все со смехом разбегались. Благо, все тут рядом — Любимовка, Комаровка, Максимково, Куракино, Тарасовка, Мамонтовка, Листвяны, Звягино.
Картина видений, связанных с этой скамейкой у дороги, проносилась в сознании Станиславского, впадавшего в забытье. Сидя в глубоком кресле и закрыв глаза — болели правая рука, ноги, ныло сердце, — Станиславский снова проваливался в прошлое. Слабеющие пальцы не держали перо, любимую серебряную «вечную ручку». Она падала на пол, тетрадка съезжала с фанерки, фанерка — с колеи. Он спал и не спал. Явь сливалась с прошлым и с театральными фантазиями на темы чеховского «Вишневого сада». «Голова работает самостоятельно, не могу остановиться», — жаловался он сиделке15*.
На этом иррациональном уровне исчезали и закон диамата, требовавший подчинения себе, и категории времени — тогда или теперь, реальное не отличалось от театрального, все происходило одновременно, сценки из беспечной любимовской юности перемешивались с чеховскими и с премьерным спектаклем 1904 года.
На скамейку подсаживались влюбленные Петя и Аня — Володя Сергеев с кем-то из барышень или Качалов с Марусей — Марией Петровной Лилиной — в ролях Пети и Ани…
471 Возле них хлопотала то ли Нюша, то ли молодая Ольга Леонардовна, махая крупными руками и подолом парижского платья, то ли Ольга Леонардовна в роли Раневской…
Александров в роли Яши копировал, кривляясь, Вовосины манеры, когда тот распевал оперные арии или шансонетки, а Халютина в роли Дуняши пудрилась совсем как Ольга Леонардовна… Как Чехов сердился на Халютину за это!
Станиславский удивлялся, рассматривая в своем воображении живые картинки из прошлого, как похож молодой Качалов, когда надевал студенческий мундир Пети Трофимова, на Володю Сергеева, а Вовося — Владимир Сергеевич Алексеев — на него самого в костюме Гаева, и тихонько — про себя, во сне, в полудреме — посмеивался над этой занятной путаницей.
Он бредил, вознесясь над реальностью сиюминутной и витая в воображении, в сферах идеального…
Но вдруг чьей-то невидимой властью, как по приказу свыше, это бесконтрольно — вне законов — растекавшееся перед глазами движущееся кинополотно, полное света и воздуха, напоенного сеном, озвученное беспричинным смехом и глупостями, без тени тревоги и предчувствий, застопоривалось на зловещем кинокадре: «Явление Пролетария беззаботным дворянам». Крупным планом.
И идиллические видения исчезали. Неизвестно откуда взявшийся Пролетарий ставил насильственную точку в непрерывно длившемся в «старой жизни» безмятежном пикнике.
В памяти всплывала фигура покойного актера Знаменского в роли Прохожего. Тот, играя Прохожего, играл его Стенькой Разиным, вождем разгулявшейся бедноты, которого репетировал в 1918-м у Таирова в пьесе Каменского «Стенька Разин». Спектакль готовили к первой годовщине Октября…
Станиславский вздрагивал, стряхивал дремоту и оцепенение, поднимал с полу перо, прилаживал фанерку на коленях, к фанерке — коленкоровую тетрадь и возвращался к рукописи, прерванной на полуслове. И, безропотно подчиняясь вступавшему в силу грозному закону классовой борьбы, наводившему порядок в бессистемно мелькавших кадрах, записывал:
Встреча изнеженных дворян с бродягой. Это хороший контраст, острый, пикантный. Бродяга говорит пугающими намеками.
Потом писал следующую фразу:
Эта встреча должна сильно пугать мирных дворян и придать смелости и нахальства бродяге —
472 и вычеркивал ее, сочтя, видимо, фразу грубоватой. И, сохраняя лояльность к Пролетарию, хозяину жизни, осуществлявшему свою диктатуру и в его видениях, смягчал:
Дворяне ищут предлога поскорее уйти от неприятного собеседника. Они не выдерживают и уходят на именины (I. 2. № 21659. 4. 2 : 6).
Из ресторана — на именины. Дальше этого фантазия не срабатывала.
Станиславский постепенно овладевал собой, справлялся с наваждениями, поправлял пенсне, подвешенное на шнурке, как когда-то у Чехова, призывал на помощь верного Торцова и его учеников и двигался по второму акту дальше, привязывая его к скамейке у дороги из Любимовки к Архиповым в Пушкино. Двигался к роли и ролям — от себя, — он и сам, автор рукописи по методу психофизических действий, не отходил от этого основополагающего принципа.
— В этом этюде, который я вам предложу, встречаются и разговаривают люди разных классов: пролетарий, революционер, купец, помещик, дворянин, прислуга, им услужающая, —
начинал свой урок Аркадий Николаевич Торцов, вводя эпизодического прежде Пролетария на равных правах в общий разговор.
— Пусть представители этих классов сходятся порознь или вместе, затевают спор или мирный разговор; пусть выясняются их взгляды на жизнь, их идеалы и мировоззрение […]
Пусть декорация изображает дорогу в имение Пущина.
Пущин — это исполнитель роли Пищика, соседа Гаевых у Чехова.
— По этой дороге проходят гости к нему на именины, а также и разные случайные прохожие. Все они присаживаются на скамейку, чтобы отдохнуть, и тут мы знакомимся с их словесными действиями.
— А слова и мысли? — волновался Вьюнцов.
— Придумывайте их сами, берите из ваших жизненных воспоминаний, наблюдений, практики.
— Нипочем не придумаешь! — отчаивался Вьюнцов.
— Я вам помогу, заброшу несколько мыслей, — успокаивал его Торцов.
Вот идут к Пущину на именины представители дворянства — Гаев и Веньяминова.
Станиславский сам запутался, хотел написать: Говорков и Веньяминова. Ведь надо играть от своего лица, а не от лица роли. Он все еще 473 находился в плену преследовавших его видений и кошмара, спутавшего мысли.
— О чем могут рассуждать легкомысленные баре? —
спрашивал Торцов, уже отвлекаясь от всего постороннего, мешавшего ему, педагогу советской театральной школы, овладевшему постулатами диамата. И отвечал:
— Закрывая глаза на темное будущее, они живут остатками счастливого настоящего и воспоминаниями о еще более счастливом прошлом. Они ищут случая повеселиться и идут к соседу в гости на именины, идут ли они к Пущину на обед или на чай, или они могут возвращаться из города после хорошего обеда, острят, хохочут, придираясь для этого ко всякому случаю. А если кто заговорит о тревожном настоящем, они сердятся или увиливают от неприятного разговора.
Когда помещики Говорков и Веньяминова, встретившиеся по дороге к Пущину с бродягой, вышедшим из леса, увильнули от него, на скамейку присели Шустов и Названов, —
фантазировал Торцов.
[…] Тоже два крайних полюса: революционер и купец. Первый — убежденно и взволнованно говорит о планах своей партии, а второй, посмеиваясь, возражает ему всеми известными капиталистическими доводами. В конце концов купец махнул рукой и ушел на именины вслед за другими помещиками (I. 2. № 21659. Л. 2 : 6).
Торцов включал в этюд на предлагаемые обстоятельства второго чеховского акта всех учеников, получивших роли в «Вишневом саде», и разбивал их на дуэты и на трио, последовательно сменявшие друг друга возле скамейки у дороги из имения Веньяминовой и Говоркова в имение Пущина.
«Ярый революционер» Названов, «знающий жертвы, лишения, холод, голод, тюрьму — ради идеи», в дуэте с Малолетковой, спешившей на именины к Пущину, должен был, кидаясь в этюд всей своей психофизикой, как и все, видеть свои мысли и видения «внутренним зрением»:
— Разве вы не видите своих мыслей? Мыслей о гуманизме, обличении варварства, проповедь свободы и пр., разве эти мысли не возбуждают в вас соответствующих образов, картин, видений? —
474 спрашивал-подсказывал, энергично направляя процесс видений ученика, Торцов (I. 2. № 21659. Ч. 2 : 23). Увидев свои мысли, Названов должен был передать их Малолетковой, чтобы «распропагандировать» ее. А девочке следовало «с увлечением» воспринимать «его увлекательную проповедь», то есть поддаться его пропаганде, «распропагандироваться».
Что видел Названов, идеологически обрабатывая Малолеткову, можно догадаться: то, что видел Станиславский. Словом «распропагандировать», во всяком случае, он пользовался в 1927 году, когда репетировал сцену «На колокольне» в спектакле по пьесе Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69». Васька Окорок, вожак восставших сибирских крестьян, в выцветшей алой рубахе, развевавшейся на ветру, пытался убедить — «распропагандировать» — взятого в плен канадского солдата. Он внушал ему, что молодая советская республика и русский народ ведут справедливую борьбу за свое освобождение и за мир на всей земле. Образом этой идеи был Ленин. Васька Окорок произносил всего одно слово «Ленин», но «наполнял его огромной сердечной любовью». Так учил десять лет назад Станиславский молодого актера Баталова. Баталов должен был вложить в слово и образ, стоявший за словом, свое видение Ленина, обличающего варварство, проповедующего гуманизм и свободу, чтобы растрогать иностранца и зрителей до слез.
Это был единственный успешный революционный опыт Станиславского. За следующие десять лет его не прибавилось. Сам Луначарский, растрогавшийся на премьере от сцены «распропагандирования», пел тогда Станиславскому дифирамбы — впервые с 1917 года. И в 1933-м, поздравляя Станиславского с 70-летием, вспоминал спектакль, подаренный МХАТ-1 десятилетию Октября: «Театр Станиславского может заставит зазвучать идеи и чувства революции так громко и тонко, так патетически и задушевно, как, может быть, никто другой»16*.
После сценки Названова и Малолетковой вдали показывалась Дымкова, будущая Варя, — продолжал Торцов репетицию этюда к эпизодам второго акта «Вишневого сада». И молодые люди: агитатор и пропагандист революционер Названов, передавший Малолетковой свое видение образа Ленина, и распропагандированная Малолеткова с образом Ленина, растревожившего ее воображение, разбегались от Дымковой в разные стороны.
А у скамейки встречались Дымкова и Шустов, то есть Варя и Лопахин. Шустов уже возвращался с именин у Пущина, «ему рано вставать».
475 — Происходит любовная сцена, состоящая из неясных намеков его и неопределенных ответов Дымковой. Сцена кончается не очень ловкой остротой или шуткой Шустова, после чего он уходит, а она сидит и плачет (I. 2. № 21659. Ч. 2 : 7).
Этюд подхватывал лакей Умновых, тот, что «с татарскими глазами» и приехал учиться в школе Торцова издалека, — будущий Фирс. Умновых тоже шел по направлению к Пущину с пальто для барина Говоркова. Приплетясь сюда, садился на скамейку — передохнуть. Сидя, бормотал «какие-то непонятные слова о прошлом», вспоминал «цветущее состояние своих господ, былые годы». Дымкова доверяла ему «тайные свои мечты о богомолье, о монастыре и о спокойной мирной жизни, жизни без суетни и трепотни, которые ее утомили» (I. 2. № 21659. Ч. 2 : 8).
Отдохнув, Умновых и Дымкова уходили «с теплыми вещами для своих господ». Появлялась Дарьина — пра-Шарлотта. Она присаживалась на скамейку и тоже вспоминала «о своем хорошем прошлом, которое привело ее к печальному настоящему».
Во всех сценках, сочиненных Торцовым-Станиславским для этюдных проб ролей во втором акте, ученики тосковали о лучшей жизни, о той, что ушла. Только троим — Фроловой, Веселовскому и Вьюнцову — горничной, молодому слуге и конторщику — в настоящем хорошо.
— Вдали слышится бренчание мандолины или гитары и ужасное пение Вьюнцова, Веселовского и Фроловой. Компания устраивается на скамейке рядом с Дарьиной, которая молча наблюдает за происходящим флиртом двух мужчин за одной горничной. Тут и кокетство, и ревность, и хвастовство, и угрозы — всю эту болтовню терпеливо переносит Дарьина, но когда они запели вновь, то не вытерпела и бежала по направлению к соседям с кофточкой Ани для вечера. Этюд кончается общим ужасным пением флиртующей компании (I. 7 : 419).
Станиславского становилось дурно то ли от горланившей прислуги, вырвавшейся на волю, то ли еще от чего-то. Он выпускал перо из рук, тетрадка снова съезжала с фанерки, фанерка с колен, голова работала самостоятельно, он спал и не спал…
Ведь он болен, совсем, совсем болен…
Он ничего не сказал — не успел — о третьем и четвертом актах своего «Вишневого сада» конца 1930-х, «Вишневого сада» Торцова, ни о всей пьесе в целом, ни о сверхзадаче постановки, сопрягающей спектакль со зрителем. Впрочем, цели учительские, методологические — открытие новой технологии в сфере сценического творчества актера — были самодостаточны.
476 Он ничего не сказал и о следующем этапе вхождения актера в роль, когда в работу включались текст и сцены пьесы Чехова. Он считал, что если верно построены логика и последовательность психофизических действий актера по всей линии роли, то слова сами собой войдут в исполнителя. Но не успел дойти до этого этапа, оставив режиссерам-ассистентам — Кедрову, Орлову, Лилиной — простор для развития этой методологии.
Работа Лилиной с двумя составами исполнителей по методу психофизических действий Станиславского и после кончины мужа была такой кропотливой, а процесс этюдного вживания каждого из студийцев в роль таким длительным, что, начав репетировать осенью 1935-го, к лету 1939 года она могла показать представителям Комитета по делам искусств, как было положено в конце учебного сезона в государственном учебном заведении, только два акта спектакля, да и то без мизансцен. Студийцы демонстрировали комиссии умение действовать по системе Станиславского. Они сидели неподвижно, обхватив руками ножки стульев, и вели диалог. Лишь иногда, когда нельзя было усидеть, им разрешалось двигаться.
Лилина осталась довольна учениками. Она находила, что словесное действие (со словами автора) подкрепило и одухотворило физические действия, которые с собственными словами студийцев были мало убедительными. Репетируя со своими словами, они каждую репетицию слова меняли, не зная, какое слово важнейшее, интонации вырывались случайные и путали их. Когда же стали говорить слова автора и строить фразу по автору, подстраиваясь под найденные на репетициях физические действия, находили и нужное — авторское слово, от этого фраза получала живую интонацию.
Много занимался с учениками Лилиной Владимир Сергеевич Алексеев. С обоими Яшами он разучивал французские песенки. Но он следил лишь за настроением, за ритмом, за парижским ароматом звучания, не вникая в суть роли. Лилиной приходилось после вокальных уроков с Владимиром Сергеевичем ужесточать линию Яши. Актеры чисто и выразительно пели, но «детонировали» по психофизическим действиям, разрушая пением найденный в ролях подтекст. «Яша — хам, даже злой хам. Добродушия и равнодушия у него не может быть» (V. 13 : 276).
Лилина просила Владимира Сергеевича позаниматься и с Епиходовыми русскими романсами из их молодости: «Тигренок» и «Я хочу вам рассказать».
Многие из тех, кто помнил первые, лучшие годы Художественного театра, говорили, что сыгранные в Оперно-драматической студии имени Станиславского летом 1939 года два акта «Вишневого сада» дали впечатления Пушкина 1898 года — так самобытно, так свежо звучала в них чеховская нотка. «Пушкинская работа» Лилиной была высоко 477 оценена коллегами. Те, кто хорошо знал Станиславского, были уверены, что он порадовался бы достигнутому, Лилина, избравшая такую форму показательного урока, гордилась: «Получились очень естественные “выходы” и “входы” и сократилась ненужная ходьба актера по сцене и свойственное им трепыхание без оправдания» (V. 13 : 260). Потерявшая Станиславского, она продолжала работать по замечаниям Станиславского — Торцова, убиравшего у Веньяминовой и у Шустова смех — без веселости, поцелуи — без чувства и платок у глаз — без слез, убирала наигрыши, «плюсики» у своих студийцев. А в Ялту Марии Павловне Чеховой летело сообщение: «Кое-кто сказал даже, что лучше, чем сейчас в Художественном театре, так как там пьеса очень засорена трючками, а тут — наивно, молодо и очень просто; весело без всяких фортелей. Конечно, полноценной Раневской у нас нет, но зато у нас есть настоящий “Вишневый сад”» (V. 13 : 259).
«Трючки» — этот термин Лилина также подхватила у Станиславского последних лет. Это все то, что «загрязняло» перспективу роли, отклоняло ее от сквозного действия. Чем гениальнее трючок, тем больше черное пятно, дыра в живой ткани спектакля, — говорила она.
Много времени отняло у Лилиной мизансценирование. Оно тоже должно было идти от актера, от внутренней и внешней линии его роли.
Подходы к мизансценам Лилина искала интуитивно, опираясь на разработки Станиславского, а также на спектакль в Художественном театре и на импульсы, которые шли от исполнителей.
Вот пример: я беру первый акт «Вишневого сада» и, разобравши его, называю общим словом «Ожидание»; глагол я жду, мы ждем: это сквозное действие акта; затем делю акт на куски, смотря по предлагаемым обстоятельствам, данным автором. Каждому куску даю опять свое название, в зависимости от общего сквозного действия, но это название я нахожу вместе с учениками. Вот этим кускам я даю mise en scène, опять-таки по договоренности с учениками, а уж mise en scène внутри каждого куска должны находить сами актеры (V. 13 : 260 – 261).
К весне 1940 года обе группы подготовили для Госкомиссии третий акт. Его играли в кабинете Станиславского. Лилина нашла оригинальный по тому времени способ показа, почти авангардный, если сравнивать его с эстетикой монументального спектакля Художественного театра. Она соорудила камерный, комнатный театр. Из кабинета Константина Сергеевича выкроила три плана: передний — для дуэтных сцен, задний — для сцен бала и выгородила площадь со стульями для публики — всего 28 мест. В публике было много студийцев из другого состава «Вишневого сада» и из групп других педагогов студии. Гости, приглашенные Лилиной на спектакль, входили в импровизированный зал в 478 разгар домашней вечеринки в доме Гаевых. Приглашенные Лилиной рассаживались на свои места, а в задней комнате танцевали — в соответствии с намеченной для каждого внутренней линией его действия — гости, приглашенные Раневской и Гаевым. Они танцевали кадрили, польки, вальсы, галопы, grand rond и между двумя фигурами танца отдыхали; мужчины флиртовали с дамами, дамы смеялись на шутки мужчин.
Кедров, Кнебель, Карев, ученики Станиславского, изучавшие метод физических действий под его непосредственным руководством, остались довольны просмотром и отметили верность заветам Константина Сергеевича.
К новому, 1941 году Лилина рассчитывала показать четвертый акт. Но не успела. Застряла на его репетициях. Для нее, как и для Станиславского последних лет, важнее, чем спектакль, был процесс органического рождения актером роли.
Премьеру перенесла на конец сезона. В июне 1941 года плотно репетировала на сцене театра имени Ленинского комсомола, в бывшем Купеческом клубе. Когда-то братья Алексеевы — Владимировичи, Алексеевы — Сергеевичи и Бостанжогло — Николаевичи проводили здесь собрания и досуг. Купеческий клуб Лилина называла театром Ленина. Последняя репетиция «Вишневого сада» прошла 19 июня 1941 года. И снова выпуск спектакля не состоялся. Дату премьеры отодвинули к январю 1942-го.
22 июня 1941 года началась война.
Пять с лишним лет работы Лилиной со Станиславским и без него с двумя составами студийцев над «Вишневым садом» по методу физических действий не дали реального результата — спектакля Оперно-драматической студии имени К. С. Станиславского по пьесе Чехова «Вишневый сад».
Но остался дневник Лилиной, журнал почти ежедневных ее записей о работе над «Вишневым садом» Чехова, ее монолог — протяженностью в пять с лишним последних творческих лет. Неотделимые от рукописи Станиславского по «Вишневому саду», тетрадки Лилиной — это чистый источник для постижения практики метода психофизических действий Станиславского в процессе его становления, не замутненный последующими догмами.
«Чехов лучше всех доказал, что сценическое действие надо понимать во внутреннем смысле» — Лилина, как и Станиславский, была убеждена в том, что чеховские пьесы — идеальный материал для применения нового метода работы с актером при постановке спектакля в эстетике Художественного театра. Дневник Лилиной, быть может, больше, чем сам спектакль, будь он осуществлен, сохранил невидимую, не вышедшую на зрителя, внутреннюю жизнь ролей в спектакле по чеховскому 479 «Вишневому саду», как понимали их Станиславский и Лилина в конце 1930-х.
И остались мемуарные странички черновой рукописи Станиславского «Вхождение себя в роль и роли в себя» на материале чеховской пьесы, не отредактированные внутренним цензором, вспомогательные в изложении основ метода психофизических действий, с помощью которого актер должен был ввести себя в творческое состояние и перевоплотиться в чеховскую роль. Рукой театрального педагога водила по этим страничкам «аффективная память» Станиславского, вместившая и все роли чеховской пьесы, и тех Алексеевых и Бостанжогло, кто был причастен к ее рождению. «Я помню все, все, все, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь» — мог бы повторить вслед за чеховской Мировой душой автор черновых набросков о работе актера над ролью в процессе работы над «Вишневым садом», так и не ставших третьим томом системы Станиславского — книгой «Работа актера над ролью» в процессе работы над спектаклем.
480 ПРИЛОЖЕНИЕ II
ОПЕРНО-ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ ИМЕНИ К. С. СТАНИСЛАВСКОГО
А. П. ЧЕХОВ. «ВИШНЕВЫЙ САД»
НЕОСУЩЕСТВЛЕННАЯ ПОСТАНОВКА17*
ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ
(По дневнику и письмам М. П. Лилиной)18*
ПЕРВЫЙ АКТ
… Помогала Зина. Костя предлагал прийти, но я отклонила. Во-первых, потому, что он очень утомлен. А во-вторых, он внесет невольно новое и всех спутает.
Начали с собак и с освещения. Долго налаживали. Хорошо выходит темнота при одной свечке.
Свет надо давать только тогда, когда Дуняша приподнимет занавеску и скажет: «Уже светло».
… Хотели оставить ковер и мебель от показа «Детей Ванюшина», но я категорически отказалась: ни ковер, ни мягкая мебель, ни уют не подходят к комнате, в которой происходит первое действие «Вишневого сада». Здесь должно быть все случайно и нелепо.
… Перед занятиями легла отдохнуть в спальне Константина Сергеевича и в полудреме мне представилась очень ясно картина цветущего «Вишневого сада», который затопил весь барский дом: «Весь, весь белый». Белая масса цветов, голубое небо. Нужен балкон, на который отворяется большая балконная дверь. Тогда Сад войдет в комнату. Это даст мизансцену, удобную для монолога Раневской.
481 Очень трудно сделать комнату с тремя дверями.
Хочется сохранить лежанку. Нарисовала ассистентам план квартиры, в которой жила 70 лет назад. Помню ее, как сейчас. Дом этот на углу Дмитровки и Салтыковского переулка стоит и по сие время нетронутым. Хорошо бы в него заглянуть.
… Сквозное действие первого акта: «Вишневый сад» дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой сад растет и цветет для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс экономического развития страны требует этого19*.
… Ритм акта радостный — не похоронный. Его поэзию завершает звук рожка, который сперва приближается, потом удаляется, и пение птиц, которые дошли до дерзости и чирикают тут же, на балконе.
Ожидание
Как только уехали на станцию встречать Раневскую и Аню, Дуняша от усталости заснула на первом попавшемся кресле. Проснулась — уже светает. Бросилась в комнату, которую готовит для приема гостей. Тихо, никого нет. Но уже брезжит рассвет. Потушила свечку.
Влетает Лопахин. Он слышит гудок поезда: «Пришел поезд, слава богу». Дуняша старается понять, говорит он правду или шутит. В это время второй гудок. Лопахин: «Который час?» Дуняша проверяет по своим часикам: «Скоро два»20*.
Уже светло, а у Дуняши ничего не готово. Засуетилась, бросилась приготовлять все порученное ей Варварой Михайловной. Дел много, времени мало, поэтому надо очень внимательно делать одно за другим. Можно даже не очень вникать в то, что рассказывает Лопахин.
482 У Лопахина две задачи. Выявить свою досаду: хочу себя обругать, как болвана, неотесанного мужика, хотя хожу в белом жилете. Взял, дурак, книгу, чтобы не заснуть, и заснул над ней. Вторая задача — найти в кармане план раздела земли под дачи, прикинуть, как он покажет его Раневской; осмотреть свой туалет и поправить все, что перекривилось во время сна, особенно воротник и галстук, снять пиджак, стряхнуть его в коридоре и опять надеть. Все время прислушивается к колокольчикам и бросается к окну. Когда покажутся экипажи — лететь сломя голову, чтобы встретить Раневскую у самых ворот, вскочить на подножку и подкатить вместе с ней к крыльцу — ухарски. Или встретить у ворот земным поклоном — тоже эффектно.
(Лопахину — Балакину.) Я бы советовала […] записать последовательно с самого начала первого акта одно физическое действие за другим так, как они сложились у него в памяти, не прибегая к печатному тексту […] Может, начать с того момента, как он жил в простой избе, был простой босоногий Ермолай, и все его пинали, били, считали никчемным и ни на что не способным; какую роль сыграло в его жизни влияние Раневской; как она вытащила его из-под ударов палки и зажгла в нем вкус к красивому, изящному и модному. Помните, Лопахин говорит в первом акте: «Но вы, собственно, сделали для меня когда-то так много, что я забыл все и люблю вас, как родную… больше, чем родную». И вот в этой любви он дошел до того, что отнял у любимого человека его родное гнездо. Он должен ясно пройти внутренне этот путь, чтобы исходной его точкой была благодарная любовь к Раневской.
Опоздание поезда беспокоит его. Ему надо в 5 утра уезжать в Харьков, времени совсем не остается, чтобы познакомить Раневскую с планом раздела земли на дачные участки, что у него в кармане. Не изменилась ли она? Он помнит ее пять лет назад простой, милой, легкой, а вдруг она стала важной или изломанной, а вдруг забыла его?
Он с детства влюблен в «Вишневый сад» и не может допустить его продажи.
Он проспал приезд Раневской. Почему? Не разбудили, пренебрегают им, он не нужен при родственной встрече. Он сердит на Варю, дуется на нее. Это натягивает их отношения в первом действии.
Дуняша. Приход Епиходова и букет льстят ее самолюбию. Но страшно досадно, что букет предназначен не ей, а в столовую. Принимаю удар букетом по лбу Епиходову или какое-нибудь другое действие досады.
Забежала в комнату Ани. Там навела порядок: взбила подушки; гремит умывальной посудой; собрала какие-то бумажки. После ухода Епиходова, когда все более или менее готово, занимается собой, подкалывает фартук. Занялась прической, которую заготовила для парада: заплела для пышности в мелкие косички накануне. Каждый звук Дуняша 483 принимает за приближение приезжающих. Нервит. Высматривает из окна на дорогу. Глядит далеко-далеко. Ловит слухом звук колокольчика, лай собак. Каждый шорох вводит ее в заблуждение. Рассказ Любови Андреевны: «Детская моя, прекрасная комната… Я тут спала, когда была маленькой…» — Дуняша слушает с жадностью. Она не знала Раневскую, ребенком она бегала по задворкам, а теперь служит у барыни. А Раневская Дуняшу узнала.
Все эти действия требуют педантичного внимания, быстрого, четкого ритма, который выливается в ощущение большой усталости, до головокружения; надо непрерывно проверять: все ли сделано, так ли, как велела Варвара Михайловна.
Настоящий приезд, лай, колокольчики, вид пролетки из окна все разогнал. Одно только действие: проверить себя в зеркале и лететь со всех ног, чтобы Варвара Михайловна не отругала. Все время помнит о ней, Дуняша ищет ее повелевающего или одобряющего взгляда21*.
Епиходов. Мне нравится, что Епиходов вышел праздничным, элегантным, женихом. Он тоже опоздал, проспал. Букет был дан садовником в десять, а теперь два с четвертью ночи. Торопится и поэтому спотыкается об кочергу, чуть не падает, какая-то чертовщина, роняет букет, конфузится, ищет глазами Дуняшу: смеется она над ним или нет. А Дуняша закрылась фартуком, повеселела, побежала за квасом. Епиходов обезумел от любви. Поднимает кочергу, мешает печь, греет руки. Он верит в свое счастье, даже о «климáте» говорит весело. Наплевать на «климáт», если я любим любимой девушкой. Одна забота: сапоги скрипят. Он купил их к свадьбе.
Кусок с Лопахиным Епиходов ведет на шепоте: навязывается Лопахину в интимные друзья, подлизывается. Лопахин — жених Варвары Михайловны, его покровительство Епиходову необходимо, надо расположить его к себе. Резкий ответ Лопахина — «Отстань, надоел» — его опечалил, но он улыбается, он стоик, у него есть утешение: его любовь взаимна. Он мечтает, как к свадьбе поднесет Дуняше такой же букет, какой заготовил для Раневской садовник.
484 А вообще-то разговор с Лопахиным — все это приспособления, чтобы дождаться Дуняши.
Надо помнить, что это единственная сцена, где Епиходов в полной мере верит своему счастью. Он улыбается, хотя фортуна посылает ему несчастья каждый день. Он влюблен безумно, на этом строятся все его действия, взгляды, интонации. Епиходов — мечтатель, лирик, поэт; смирный, чувствительный, много читает. Все это надо вложить в роль, а то получится роль на тончике, это большой недостаток всех начинающих артистов.
Уходя, Епиходов уронил стул, потому что Дуняша вернулась с квасом, причесанная, в коридоре не забыла взглянуть на себя в зеркало, она такая хорошенькая, что он не может оторвать от нее глаз. От того, что уронил стул и треснула ножка, — по-настоящему огорчен. Щупает ножку, выносит кресло из комнаты.
Дуняша наводит последние штрихи. Меняет деревенские шерстяные чулки или тапочки на каблучки. По Чехову, горничную надо играть под барышню и не надо изображать озорницу. Это не то!
«Едут, едут» — Дуняша перекрестилась…
Приезд надо наладить отдельно, я этого делать не люблю. Знаю, что тут важно: лай собак, крик петуха, лошади встряхивают бубенцы, кучер кричит «Тпру, тпру», хлопает входная дверь, вбегают и сбегают с лестниц люди, оживленные голоса, визг Дуняши и Ани и т. д.
Реплика: «Пойдемте здесь» — у самой двери22*.
Возвращение блудного сына
Раневская вернулась домой, как виноватая собака. Вспомните такую собаку, как она ластится к хозяину, лижет руки, виляет хвостом, распластывается, прижимается к ногам. Вот что должна делать Раневская в этой сцене, когда целует брата, Варю, потом опять брата. Так у Чехова. Потом Дуняшу. «И теперь я как маленькая» — трогательно, по-детски.
У Лопахина — настоящая бурная радость, так он счастлив приезду барыни.
485 Свой план он должен раскрыть как можно нежнее и любовнее. Это необходимо. Ольга Леонардовна Книппер-Чехова мне жаловалась, что ей страшно трудно вести первый акт с Добронравовым, так как он не проявляет к ней любви. Без этого она не попадает на свое действие. А она растрогана, умилена до последней степени, чувствует дома тепло, любовь, уют.
Второй выход Раневской
Чтобы выход Раневской и Гаева был более жизненным, придумала им прелюдию.
Мужчины играют на биллиарде. Раневская переоделась, привела себя в порядок после дороги, идет за ними. Проходит в первый раз по анфиладе своих комнат. Что значит проходить в первый раз? Даже если летишь быстро, все равно ощущаешь их. Точно так же — в первый раз — я должна ощущать все происходящее в эту ночь. Чаепитие с близкими — семейная сцена. «Может, я сплю?»; «Я не переживу этой радости». Пять лет не садилась Раневская за накрытый домашний стол. Деревенская крынка с густыми сливками, деревянная ложка, кругом чистота, кресло со знакомой подушечкой, Фирс нарядный, сияющий, помолодевший, даже сгибается легко, забыв свои восемьдесят семь.
Проходя через биллиардную, Раневская произвела на мужчин эффект своими туалетами. Раза два ударила по шарам. Тащит всех в детскую, где ждут Аня и Варя. Гаев увлекся биллиардом. Чтобы увести его, хватает из его рук кий и убегает с ним вперед. Гаев неохотно плетется за ней, за Гаевым — Пищик и Лопахин.
Гаев не докончил какого-то удара, руки чешутся, у какого-то предмета остановился, ударил мнимый шар. Раневская хочет вспомнить один из его знаменитых ударов: «Желтого в угол! Дуплетом в середину!» Гаев подхватывает: «Режу в угол». От таких физических действий появляется контакт. Сближение между Раневской и Гаевым мне необходимо, их солидарность надо пронести через первый акт и через всю пьесу.
Второй выход Раневской бодрее, возбужденнее, хочет говорить, вспоминать, всем сказать приятное, очень тронута приемом. На реплику Пищика «… похорошела… Одета по-парижскому… пропадай моя телега» — надо сыграть кусок прежних кутежей. Пищик, муж, любовник — они были их участниками. Можно поддержать его реплику — подпеть ее. Это напомнит им, как они вместе кутили.
Пусть Зиновьев не забывает, что Пищик из тех типов, которые цепляются за каждую юбку.
(Гаеву — Мартьянову.) Роль чудесная, богатая характерностью, то есть мелкими, неуловимыми чертами. Чем больше Мартьянов найдет 486 таких черт, выраженных действиями, тем успешнее он сыграет свою роль. Пусть возьмет с собой экземпляр «Вишневого сада» на лето, вчитается в текст и ремарки автора и по ним строит свой подтекст.
Подтекст роли очень значительный. Главным образом, чтобы играл барина-эстета с хорошими манерами. Он хорошо одет, изящен, как сестра, только «она порочна. Это чувствуется в малейшем ее движении»; а у него — выдержанность, корректность; рядом с этим много юмора. Эта игра с кием — юмор. «Поезд опоздал на два часа… Каково? Каковы порядки?» — это юмор. «Не реви», — это юмор. «Петрушка косой от меня ушел и теперь в городе у пристава живет» — это юмор! И т. д.
Очень выдают его крепостнические замашки. «Ты уходи, Фирс. Я уж, так и быть, сам разденусь»; «Помолчи, Фирс»; «Дашь мне, Фирс, переодеться»; «Надоел ты, брат» и т. д.
Любовь к сестре — большая, искренняя. Он страдает, что она порочна, и, говоря о ее порочности, тоном страшно смягчает свой приговор: «Когда-то мы с тобой, сестра, спали вот в этой самой комнате…» Целый ряд трогательных нежных воспоминаний.
Любовь к «Вишневому саду» у него глубже, чем у Раневской. Сад продадут за долги — как это странно. Но выражено весьма сдержанно.
У Юры Леонидова «барин» и «юмор» в роли получаются хорошо. Только не надо вносить неприязнь и презрение к сестре.
У Мартьянова Гаев более активен, распорядительно-суетлив. Но нельзя забывать, что он обожает сестру, он на одиннадцать лет старше ее, он носил ее на руках, он любуется ею, он наливает ей сливки в кофе, глядит на нее и не налюбуется. Сел к ней ближе.
Проект Лопахина
Лопахин общается с Раневской и Гаевым, как с людьми бессознательными, неделовыми, упрямыми и беспомощными. То, что предлагает им Лопахин, оскорбляет их природное понятие о благородном и порядочном, оскорбляет их предков, соседи примут их за мелочных спекулянтов, выжимающих из родительского имения гроши. «Это так пошло», — говорит Раневская. Она надеется, что Лопахин придумает что-то другое, такое, что они смогут принять, и спасет их.
И в этой сцене брат и сестра солидарны («Чепуха», «И в энциклопедическом словаре упоминается про этот сад»). Они верят в непоколебимые достоинства их имения. Как к бреду относятся к предложению Лопахина. Даже не сердятся, а подшучивают над его проектом — «услужливый дурак».
(Лопахину — Балакину.) Я не знаю крестьянского быта и мало могу помочь. Если бы подсказать характерность мужика, роль сразу встала 487 бы на место, он бы знал, как говорить по-мужицки. А то он и не барин, и не крестьянин, и не купец. Константин Сергеевич в одну репетицию бы дал нужные штрихи к роли. Хорошо, что Зинаида Сергеевна может показать приемы, манеры и привычки, свойственные крестьянам23*.
Лопахин у Болтина как-то бесполезно трепыхается в этой сцене. Но у Чехова он не беспомощен. Он в досаде, он злится на себя, но от своего намерения — показать план Раневской и успокоить ее — не отказывается. Он понял, что провалился, и отходит к балконной двери, чтобы сосредоточиться и найти новые аргументы в защиту дачников.
Произносит их веско, но с улыбкой, с юмором.
Домашние оттирают его от Раневской, ему ничего не остается, как спешить на пятичасовой поезд.
Варя вручает Раневской телеграммы.
Телеграммы — всегда событие волнующее, в деревне особенно. Все присутствующие должны отыграть эти телеграммы, и каждый по-своему. Гаев и Варя ими взволнованы, они советовались, когда лучше отдать их Раневской. Но отдать необходимо.
Раневская, не читая, рвет телеграммы. Может быть сильно расстроенной, может вести сцену на улыбке, может с радостью и облегчением сказать, что с Парижем все кончено. Кому какая Раневская будет ближе.
Как бы Раневская ни приняла их, Гаев должен реагировать на слова «С Парижем кончено…» и затем уже оправдать свой монолог перед шкафом по своей физической линии.
В монологе должна быть какая-то глупость: или народничество, или пафос.
Анин мир
В этом акте все радостно, дружно, семейно, ни ссор, ни раздражения, только время от времени мерцают маленькие вспышки будущей, то есть разорения «Вишневого сада».
Дуняша подсела к Ане на диван запанибрата, говорит ей по секрету на ухо, что Петя приехал. Аня встрепенулась. Посекретничала с Варей, Варя выговаривает Дуняше за безделье, торопит подать мамочке кофе. Сцена Ани и Вари покойная, интимная, они понимают друг дружку с полуслова. Когда они вместе, они храбрее. Аня заставляет Варю проникнуться серьезностью той миссии, которая была на нее возложена. 488 Особенно трудно было на обратном пути, когда они ехали почти без денег.
Главное в этом акте: наконец они все вместе. Этого не было пять лет. Аня была брошенной сиротой.
Дурачится с дядей, который укладывает ее спать. Она к нему привыкла больше, чем к матери.
(Ане — Мищенко.) Неправильно рассуждать, что если Аня во втором действии уступает учению Пети, то в первом она серьезнее, меньше ребенок. В роли надо всегда искать контрасты. Константин Сергеевич говорил, что когда играешь злого, ищи, где он добрый. Чем больше контрастов в роли, тем она многограннее и ярче.
Поставила Мищенко на вид, что Чехов, с которым я обговаривала роль Ани, которую играла во втором составе, рисовал Аню совсем девочкой: «Она же ломает спички, коробку, рвет бумажки». Стало быть, в первом действии Аня девочка, избалованная вниманием всех окружающих, простором полей, лесов, красотой сада. Все мое, все для меня, о мировых вопросах не думает. Любит горячо тех, кто около нее. Но умная, милая, решительная, умеет выразить свой протест. Петя ее оценил, понял, что она та почва, на которой будет хороший всход, полюбил ее и хочет обратить в свою веру.
(Ане — Карп.) Когда жила вместе с мамой за границей, в ней пробудилось сознание своей взрослости. Она почувствовала свое право на самостоятельность. На ней лежит обязанность — смягчить приезд матери в разоренное имение, смягчить ее горе от смерти братика Гриши. Она, Аня, должна все предусмотреть. Ее очень беспокоит и состояние имения, и состояние матери. Если «Вишневый сад» придется продавать, куда денутся мать, дядя? Эти мысли несколько омрачают ее возвращение в родной дом.
Варин мир. Выход Яши, Фирса, Шарлотты
Варя. Роль замечательная, гастрольная. После Раневской — лучшая в пьесе женская роль, но почему-то актрисы не увлекаются ею, ею пренебрегают. Должна сознаться, что и я, в свое время, недооценивала ее.
Варя — образ прекрасной русской девушки, преданной, самоотверженной, любящей; любит добро и ненавидит зло во всех его проявлениях. Очень, очень наивная и очень эмоциональная; легко переходит от слез к смеху и от смеха к слезам. Вот, может быть, почему Чехов и назвал ее глупенькой и плаксой. Она необразованная, из простых, как говорит Раневская, но не глупая, а в своем хозяйском деле она знаток и работает прекрасно.
489 У Мазур Варя получается суховатая; этого не должно быть. Она предельно сердечная, но чувства свои сдерживает из скромности. Варя любит всех: и дядечку, и мамочку, и Аню обожает, и Фирса. Но у них свои интересы, и в их интересах она — последняя; она только приемная дочь. Варе надо уметь себя стушевывать, то есть прятать свое личное «я», и только в третьем акте, в сцене с Раневской она может выдать себя целиком. У Мазур получается умная и жесткая девушка, а Варя наоборот, наивная и очень мягкая. Лопахина любит беспредельно, но это скрывает от всех, кроме Ани, изо всех сил и только в третьем акте не выдерживает, высказывается, точно плотину прорвало. Эта сцена самая главная во всей роли Вари. Я на этом настаиваю. Проходно ее нельзя играть. Надо подойти к ней во всеоружии!!
Это значит, что Мазур должна подготовить все, чем Варя жила и страдала с того дня, как день торгов был назначен бесповоротно. Ведь Варя, танцуя, уже плачет, в этот день все ей особенно больно и чувствительно.
К роли Вари надо подходить сердцем, а не головой и действовать так, как подскажет любящая душа.
(Варе — Новицкой.) Есть новое в роли, чего не было у нас в Художественном. Появилась новая черточка: тупая, глупая бережливость. Многое мне понравилось. По надо смягчить жестокость. Новицкая проводит роль слишком решительно, а Варин недостаток — нерешительность и пугливость перед решением, робость в житейских вопросах.
Варя у Новицкой — горячая, энергичная, деловая, настоящая защитница Вишневого сада. Сторожевая собака, зубами охраняет дом. Пусть так.
Главное в линии Вари у Мазур — любовь к Лопахину. Придется согласиться, что «монастырь» у нее — это не поэтическое одиночество. Ее «монастырь» — от отчаяния.
Но всем важно помнить: в роли нужна бесконечная, до самых мелочей, забота о Раневской и об Ане, бесконечная благодарность Раневской, благодарность и преданность.
Варя — постоянно в хлопотах по дому.
Учила Варю ходить без каблуков — походкой человека, который всегда торопится. Получается какая-то характерность.
Встретила Раневскую — разрядка.
Лопахинское «Мэ-э-э» отвлекло девушек, прервало их разговор. Варя возмущена тем, что Лопахин расстроил мамочку. Отошла от Ани, собирает поднос для кофе. Варя каждую минуту должна что-то делать. Аня прониклась печалью Вари, старается ее приласкать, развеселить, отсюда: «А в Париже я на воздушном шаре летала». Этот кусок легче, 490 чтобы прослоить им два драматичных момента: встречу с матерью в Париже и «Шесть лет назад утонул Гриша».
Проход Дуняши с кофейником и выход Яши с чемоданом, в пальто, шарфе и кепи. Он боязливо отворяет маленькую дверь, видит Дуняшу. Знакомство Яши и Дуняши — полный простор для актеров, пусть делают, как хотят.
Сцена кончается посреди комнаты, чтобы черепки были видны публике. Яша перепуган. Он трус.
Дуняша собирает черепки, Варя разбирает сундук.
Торжественный выход Фирса: старик, главный камердинер, светлый праздник — барыня приехала. При ней и умереть легко. Он ведет свою сцену, как богослужение, проверяет сервировку стола.
Монолог о вишне — это защита сада, который хотят рубить. Становится на защиту Раневской — против Лопахина. Лопахин — грубый выскочка, вишневый сад доходный, может принести много денег.
Надо искать физическую усталость на внутренней бодрости.
(Фирсу — Носову.) Хорошо нафантазировал. Началась настоящая, правильная жизнь в «Вишневом саде», когда приехала барыня. Все встало на свои места. Теперь ему все ясно, все понятно, радостно, он теперь будет всех учить, а его не будут туркать с места на место.
(Фирсу — Абрамову.) Ни в чем не нашел старика. Фирс получается слишком слащавым.
Правильно, что Фирс — представитель крепостного времени в хорошем смысле слова. Он безукоризненный слуга, уважает и высоко ценит господ. Он видит их недостатки и не стесняется их высказать. Но все же он признает за ними культуру и знание прежних обычаев, а теперь «все враздробь». Не принимает современную молодежь, ни к чему не способную, недотеп.
Он — Савонарола — обличитель суровый, а не сентиментально-слащавый беспомощный старик.
Уход Лопахина сплетается с выходом Шарлотты.
(Шарлотте — Зверевой.) Она себя не нашла в том одиночестве, которое составляет драму ее жизни. Она не нашла то самочувствие Шарлотты, которая знает, что на всем белом свете она ни к кому не привязалась и к ней никто не привязался. Надо найти действия, которые выявляют эту сторону ее характера. Например, в первом акте. Она пришла к людям, чтобы побыть с ними, попить с ними чай по-родственному, поговорить о путешествии. А ее встречают, как шутиху, как клоуна. Она может обидеться и серьезно ответить: «Не надо. Я спать желаю».
491 Ведь у Чехова никакого фокуса она не показывает, может быть, это правильнее. Она пришла попить чаю с дороги, а ее заставляют показывать фокус — обидно, очень обидно. Она молча, с обидой уходит.
Она гувернантка, а не ровня собравшимся за чайным столом. Зверевой надо посмотреть всю роль и создать такие предлагаемые обстоятельства, где на нее не смотрят, как на близкого человека.
Раневская собирает свои манатки, просыпанные папиросы, поджигает спичками кусочки разорванных телеграмм и тушит огонь; поправляет и натягивает сброшенный мех, душит платок и натирает им виски, ноздри, шею — освежилась. Хочет идти спать. Варя, чтобы проветрить комнату, бесшумно отворяет окна.
Весна
Все должны действовать так, чтобы почувствовать весну и красоту вишневого сада.
Раневская не успела отойти от стола и кресла, облокачивается на спинку и смотрит в сад. Гаев подходит к балконной двери, смотрит через стекла в сад на длинную аллею, говорит свои слова, отходит немного в сторону к колонне, как бы приглашая Раневскую посмотреть на всю эту красоту. Раневская, как зачарованная, не может оторваться от окна, не двигается с места, облокотив голову на руки, а руки на спинку кресла, и, не шевелясь, начинает свой монолог. Вся жизнь ее связана с садом. Перебирает видения своего детства, старается увидеть его таким, каким она видела его маленькой девочкой. Кается перед садом, хочет быть достойной этого рая. «Весь, весь белый…»
Гаев, видя ее экстаз и разделяя его, хочет еще больше поразить ее. Отпирает ключом балконную дверь, настежь распахивает ее и сам выходит на балкон вдохнуть утренний воздух. Ветки почти влезают в комнату. Раневская вскрикивает: «О, сад мой!» Настроение ее меняется от возбужденного до мягко-лирического. Гаев решается произнести вслух, громко то, что всех мучает: сад продадут за долги, эту красоту, эту роскошь мы должны потерять. Это сидит в голове у всех, меньше всех — в голове у Раневской. Она опьянена уютом и теплом близких, и мрачные мысли отскакивают от нее. Однако то, что сад продадут, ее огорчило, она притихла, но тут же что-то привлекло ее внимание. Она пристально всматривается вдаль: «Посмотрите, посмотрите, покойная мама идет по саду…» Она двигается за своим видением до края балкона, свешивается за балюстраду и, радостно смеясь, как у Чехова, повторяет: «Это она, она». Затем быстро возвращается в комнату. Проходит мимо Гаева. Гаев: «Где?» — мимо Вари. Варя: «Что с вами, мамочка?» Села на подоконник 492 около Вари, перегибается, чтобы увидеть мать, но тут же откидывается разочарованно: «Никого нет, мне показалось…»
Гаев не отрывает взгляда от аллеи.
«Какой изумительный сад».
На этом месте входит Петя.
Гохман мало и примитивно надумал прошлое роли. Не учел трагической смерти Гриши и отъезда Раневской. Невнятно отношение к ней. Встреча — это его свидание с Раневской. Какая радость видеть ее! Его привлекает ее молодость. Простота. Безыскусственность. Чует в ней хорошего человека. Нужна чуткость, смелость, восторженность. Ему с ней приятно и легко говорить. Она внимательно к нему прислушивается и старается его понять.
Рево мило и хорошо фантазирует прошлое Пети, когда он был учителем Гриши, но плохо фантазирует настоящее. Приходится подсказывать ему его действия. Все же добилась, что он стал действовать и двигаться, уже не сидит в бане, а всячески старается быть в курсе того, что делается в доме. Не забывая наказа Вари — не показываться раньше времени, — ловко подвел к тому, что не утерпел, вошел в дом, подкрался к комнате и, услыхав знакомые и любимые голоса, неслышно вошел с мыслью: авось сойдет, обойдется.
У Пети в первом акте мало слов и как будто и роли нет. Между тем вся его чеховская сущность, весь чеховский аромат — здесь, в подтексте: был мальчиком — стал стариком.
ВТОРОЙ АКТ
Начали с того, что восстановили последовательность прихода на эту местность. У Чехова это не сказано, сцена вылилась у него интуитивно, но для актера очень важно знать, почему он сюда попал.
Первым пришел Яша, чтобы вдали от всех помечтать о веселой жизни в Париже и выкурить привезенную оттуда сигару.
Второй пришла Дуняша, так как Епиходов назначил ей здесь свидание. Она, конечно, очень рада встрече с Яшей, он избавит ее от объяснения с Епиходовым. Епиходов ей теперь неприятен, даже страшен, он все ходит с револьвером и намекает, что застрелится.
Клуб самодеятельности
Первую сцену второго акта мы с самого начала назвали «Клуб самодеятельности». Я дала общую мизансцену: все сидят у подножия большого стога сена. Шарлотта поблизости, на пне, чистит свое ружье после охоты и напевает модную шансонетку тех годов: «Et hop, et hop, 493 Pénélope». Епиходов настраивает гитару и ждет момента начать свою серенаду: «Что мне до шумного света, что мне друзья и враги…» и т. п., которая должна выразить его любовь и ревность к Дуняше. Яша развалился, нагло курит сигару, дымит ею всем в нос, а Дуняша, как на углях, боится рассердить Епиходова и ищет момента хотя бы взглядом выразить свою влюбленность Яше. Это общая мизансцена куска, данная мною, а все подробности сцены должны найти сами участники.
Яша тут шикарный нахал, любитель женщин.
Шарлотта. Ей доверяют, считаются с ней, как с надежным человеком. Ее послали за границу с Аней. Дали ей денег — она купила собачку. Когда она вернулась, про нее забыли. Она никому не нужна. Аня от нее убегает — гуляет со студентом. Варя придирается, даже попрекает, что она ест господский хлеб, а свои дела забыла: за Аней не наблюдает, а та связалась с бедняком, с нищим.
(Шарлотте — Зверевой.) Одна часть роли совсем готова. Она в ней чувствует себя как дома, фантазирует и уже виртуозничает. Это ее актерская суть, то, что осталось у нее от представлений на ярмарках. «Мне все кажется, что я молоденькая» — это у нее совсем хорошо.
Ни родственников, ни друзей у нее нет. Она ищет контактов и рада прислониться к людям, чтобы забыться, старается найти в них сочувствие, интерес к себе.
В «Клубе» все должны ее чуждаться. Когда она их забавляет, они ее принимают. Этот кусок должен пройти, как фейерверк. Но как только она заговорила о печальной стороне своей жизни, они ее не слушают. Пусть они оправдают ее реплику: «Не с кем поговорить… Все одна, одна…»
(Шарлотте — Завадской.) Хочу всех растормошить, хочу быть центром внимания. Делает всякие фокусы, кувыркается, и все с большими черными глазами. Она может играть сентиментальную добрейшую немку, на все готовую, особенно на любовь, и ничего не порицающую.
Епиходов. Весь комизм роли в серьезности. Епиходов верит во все то, что говорит, верит в глубину своей любви, в свой ум, в свою одаренность. В то, что невидимые силы преследуют его. Очевидно, он читал мифологию. Если комиковать и уродничать в этой роли, то получится не смешной урод, а плохой безвкусный театр.
Лиричного Епиходова не может быть. Действие — сосредоточить внимание Дуняши на себе, оторвать ее целиком от Яши, которого он ненавидит всей душой, подозревая в нем опасного соперника. Яша шикарно одет, у него элегантные манеры, он привораживает женщин способами, неизвестными Епиходову. Отсюда: желание преувеличить свои козыри — начитанность, интеллигентность, оригинальный склад мышления. То, что его ни за что ни про что преследует рок, — тоже плюс. Это должно нравиться женщинам, должно вызывать в них сочувствие. 494 Шарлотта со своими непрошеными шутками, дурачествами страшно ему мешает.
(Епиходову — Скотникову.) И талантлив — и неприятен. С фантазией — но назойлив. Действует не ради действия, а чтобы оправдать образ. Скотников дает нездоровый, неврастенический оттенок — и не пользуется тем, что дает автор. Паук, таракан, револьвер, мандолина, сломанный стул. Актеру легче дать Епиходова неврастеником и слезливым романтиком. Но это к роли не подходит. Это не чеховский тип. Убеждаю его.
(Епиходову — Лифанову.) Лифанов роль только нащупывает, а уже надел шляпу и хочет смешить, а не идти по настоящей линии роли, то есть ревновать. Человеку, который ревнует, — не до смеха. Он страдает. А смешон он потому, что приспособления его смешны. Каждый предмет, принесенный на сцену, должен быть обыгран, иначе он лишний, мешает и путает зрителя. Пока от показа остается впечатление недоношенного выкидыша, замаринованного в спирту.
Дуняша по-настоящему любит Яшу. Не отталкивает Епиходова из страха, верит, что он фатальный, и боится револьвера.
Интересная линия намечается у Давиденко: Дуняша развивается около Яши, как Аня около Пети. Может быть, Дуняша даже берет с Ани пример: барышня с кавалером, и я тоже (оправдание интимности). Переняла от Яши много французских премудростей, стала, может быть, грациознее, воспитаннее, изящнее. Может говорить глазами без слов.
Захода немного затягивает ритм после ухода Епиходова за тальмочкой. Ведь ясно, что до его возвращения она должна успеть с Яшей договориться о любви, убедить его, что любит его одного и навсегда, что это страстная любовь, которой она раньше не испытывала. В конце сцены Яша отталкивает Дуняшу потому, что слышны голоса вернувшихся из города.
Захода великолепно ведет свою линию деревенской Кармен.
Строю сцену «Клуба» на элементах общения.
Повторяли «Клуб». Не годится, а почему? Скучно, непонятно, непоследовательно. Действия подобраны так, что предлагаемые обстоятельства не сливаются с учениками.
Захода влюблена в Епиходова. Стало быть, ему не к кому ревновать.
Яша никак себя не проявляет, ему очень скучно, в таком состоянии соперник не опасен.
Зверева прыгает и хорошо веселится, но для моциона, а не для того, чтобы привлечь внимание компании, к которой она примкнула. Ее песенка должна напоминать что-то приятное Яше. Ловкие ее танцы изумляют Дуняшу. А рассказы о родителях, которые не венчались и 495 умерли, и вовсе растрогали сентиментального Епиходова. В утешение ей он начинает петь: «Что нам до шумного света, что нам друзья…» — а слово «враги» направляет на Яшу взглядом. «Жаром взаимной любви» — адресует Дуняше. А после ее слов — «Это гитара, а не мандолина» — пожимает ее пальчик, которым она прикасалась к струне. После этого Епиходов снова повторяет куплет без слов, остальные ушли в приятные воспоминания, подпевают и фальшивят. Шарлотта возмущенно поворачивается к ним спиной и ест огурец или яблоко. Дуняша заигрывает с Яшей, пикировка между Яшей и Епиходовым, инцидент с револьвером. Дуняша искренне и без утрировки испугалась и откинулась на Яшу. Яша со словом «пардон» поддерживает ее. Епиходов свирепеет и, может быть, пошутил бы грубо, но Шарлотта, бросая огурец и еще дожевывая что-то и шамкая ртом, становится между соперниками и успокаивает Епиходова, всерьез уговаривая его, что он умный и его должны любить женщины. Епиходову это приятно, но он старается разглядеть, что делают Яша и Дуняша за плечами Шарлотты. Тут со словом «Бррр» — Шарлотта быстро шершавит ему волосы так, чтобы у него получилось глупое, смешное лицо, и отходит. Дуняша от неожиданности этого комичного лица расхохоталась и оторвалась от объятий Яши. Яша отвернулся спиной ко всей компании, ворча свое любимое слово — «невежество».
Начинается сцена уныния Шарлотты, во время которой Яша отходит к часовне, не спеша закуривает сигару и, чтобы не наделать лесного пожара, бросает спичку на каменные ступеньки и тушит ее ногой. Все это легко, без наигрыша, для себя, а не для публики.
Как только ушла Шарлотта, грустно напевая — «Что нам до шумного света», — Епиходов подсаживается на скамейку и, закидывая руки за спинку, как Яша, старается разжалобить Дуняшу рассказами о своей фортуне. К эпизоду о пауке Яша с сигарой подходит к скамейке сзади, и начинается инцидент.
Тут уж пускай каждый действует, как хочет. Яша доходит до какой-то фамильярности. Епиходов уводит Дуняшу. Если те мизансцены, которые ученики просили у меня и которые я им не показывала, чтобы они их не заштамповали, им не нравятся, пусть делают свое, я ничего не имею против, но требую соблюсти ремарку Чехова, а именно: все это проделывают, сидя на скамейке, а не на сене. С сигарой сидеть на сене нельзя.
Возвращение из ресторана
Автор вынес действие на природу. Почему? Ответ всех — потому что на природе легче выразить бездействие и лень. Даже прострацию. 496 Я добавила свое мнение, что еще и потому, что Чехов — большой поэт и поэзия вкрапливается у него всегда во все.
Надо искать действие в бездействии.
Кто кого пригласил в ресторан? Гаев — Лопахина или Лопахин Раневскую и Гаева?
Раневскую я веду от двух телеграмм, которые она получила утром.
Любимый человек, безжалостно бросивший ее, ее зовет, умоляет вернуться. Она молчит, а он ищет, добивается ее, это для нее торжество. Возвращение его к ней — лестно. Она любит, любит его. Сильно потянуло к нему, в Париж.
Она весь день находится под впечатлением этих телеграмм, думает: ответить на них или отказаться от этого человека, потерять его навсегда?
На все, на предстоящие торги, на предложение Лопахина — он приехал с утра или накануне и все долбит о продаже «Вишневого сада» — она реагирует не так остро. Телеграммы на первом плане. Это главный, скрытый объект Раневской. Он, любимый, зовет, умоляет, он болен. У нее масса причин, чтобы поддаться его мольбам. Сегодня и продажа «Вишневого сада» не так страшна.
Раневская. Простая, легкая, пленительная. Без настоящей женственности, мягкости, обаятельности нельзя играть Раневскую. По всей линии. Характер у нее переменчивый: то грустная, то веселая. В общем — грациозная. Доброта — это хорошо. Временами капризна и деспотична. Тоже хорошо. Может быть и нервной, беспокойной.
В сегодняшнем состоянии ей трудно усидеть дома. Куда скрыться? Придумала ехать в город завтракать в ресторан.
В городе на Раневскую посматривали. И в ресторане посматривали. И мужчины и женщины. Женщины с завистью. Мужчины с каким-то испытующим вниманием. Их взгляды говорили: можно или не можно? Это ей льстит. Она это любит. Опять стала женщиной, проснулась жизнь телесная. И телеграммы говорят о том же. Благодаря телеграммам перестала быть пассивной.
В ресторане Раневской надоело первой. Лопахин назойливо приставал с продажей земли под дачи. Она потащила всех обратно.
Приехали из города. С вокзала домой не захотелось. Повела всех на любимую прогулку к реке у старой часовни.
В ресторане много пили, ели, отяжелели, говорить о делах не хочется. Лопахин, наоборот, от вина возбужден, хочет довести дело до конца, аукцион на носу. А Раневской хочется навести разговор с братом о Париже. Ей приятно сегодня вспоминать о Париже. Может быть, ей надо посекретничать с братом, посоветоваться с ним о телеграммах. Что он скажет, как ей поступить? Лопахин страшно надоел, мешает. Но от 497 него не отделаться. Поэтому она к нему придирается, дразнит, раздражает его.
Кто с кем выходит? Правда и логика за кулисами очень важны.
Гаев чуть-чуть навеселе идет впереди. Раневская устала от жары, от города, от ресторана, но с живыми глазами, идет не спеша, поддерживаемая Лопахиным. Он тоже выпил лишнее. Это придает ему энергию и смелость. Да чуть закружилась голова от манкости Раневской, ему хочется, чтобы ее изумительные глаза смотрели на него, как прежде. Гаев и Раневская рассаживаются поодаль друг от друга, чтобы помешать Лопахину пилить их. Гаев доволен, напевает «Три богини» из «Прекрасной Елены». В какой-то момент брат и сестра замкнулись друг на друга и совсем забыли Лопахина.
Раневскую не поймешь. То игрива, то капризна, то совсем отключается, уходя в свое, то кокетничает с Лопахиным — в отсутствие других мужчин.
Книппер в свое время прекрасно передавала эту роль.
Атака
Лопахин выходит из себя, не зная, как заставить себя слушать и дать понять этим людям, что они гибнут и надо спасаться.
Хищный зверь — а перед ним две овцы дрожат, но упорствуют. Не понимают, что вот-вот их слопает Дериганов. Лопахин их спасает. Колотит по башке.
У него три приема убеждения, три градации атаки: предупреждает в последний раз; умоляет, угрожает; дошел до точки, ставит вопрос ребром: да или нет? Выругался. Градации не на крике, а на приспособлении. Все это необыкновенно злит. Да еще вино, пришел в раж, не может сдерживаться. Отсюда: «Баба!» И удрал.
Балакин играет фата, франта в белой жилетке и в желтых башмаках, а должен играть свиное рыло в калашном ряду. Здесь так же, как и в монологе третьего акта, сказался мужик, сильный, потерявший власть над собой. Он не произносит вслух ругательных слов, но про себя ругает обоих непотребными словами, которые выливаются в одно слово: «Баба!»
Линия Лопахина — Кругляка. Он спасает тонущих людей, тащит их за волосы, они уже на поверхности воды, могут спастись, но им неприятно, что их тащат за волосы и могут выдрать часть волос. Они предпочитают, чтобы их отпустили, но не тащили. А в гибель они не верят. Чем их убедить? Убеждать не в характере Кругляка, убеждение требует терпения, а он порывистый, надо найти другое действие, другой глагол. Может быть, Кругляку будет легче увлечь Раневскую и Гаева? Способы увлечения разные: можно заманивать, облегчать задачу, запугать, 498 вызвать соревнование, подействовать на самолюбие, увлечь ценностью, богатством того, чем они обладают. «Как же вам не жалко упустить это из рук?» — таков смысл монолога Лопахина «Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля».
Но тупое, глупое упрямство барской щепетильности вывело его из терпения, и он выругал Гаева, выругал со смаком, не боязливо, и ушел. Страх, что эти безвольные люди проиграют имение, шевелит в нем непонятное ему самому и невыраженное желание спасти имение во что бы то ни стало. Не купить ли ему? Не провести ли план для себя?
Тогда, если второй акт — мостик к третьему, то Лопахин мысленно купил сад во втором акте. Отсюда тогда и его отчаяние, что Гаев и Раневская не хотят его слушать. Как бы они сами толкают его на этот поступок.
Это положение в роли надумал сам Кругляк. Мне это не нравится, хотя и это допустимо. Но Лопахин — не кулак, он талантливый делец. Нечестного поступка он не допустит. Его неясные мысли его пугают. Он хочет спасти Раневскую.
Раневская размякла, не слушает, мыслями где-то далеко. Стала казнить себя за прошлое. Но и радость возвращения домой в чем-то неполная. Или: подчинившись деревенскому режиму, задыхается, тоскует по безалаберной жизни в Париже и бичует себя за это, и кается.
У Гаева и у Раневской один и тот же страх перед торгами. Раневская облегчает свою тревогу исповедью, Гаев скрывает свой страх за шутками.
Гаев по-своему сделал большое дело: поехал в жару в город. Много говорил, много ел, много пил, измучился от жары в вагоне, устал, имеет право отдохнуть. Почему не остался дома? Замучает Лопахин, но рад всякому пустяку, который отвлечет его от главного вопроса: уплаты процентов.
Еще одна черта Гаева: он поэтично чувствует природу, любит ее, но, говоря о ней, впадает в сентиментальность, которая делает его комичным, немного даже карикатурным.
Раневская пришла в себя, когда Лопахин убежал. Побежала за ним, притащила его, как провинившийся ребенок. Начинает сознавать, что Лопахин прав, что надвигается страшная гроза, выхода нет. Она надеется своим искренним раскаянием отвратить грозовую тучу. Отсюда монолог: «Прости, прости меня, Господи».
(Гаеву — Мартьянову.) Как может Гаев — эстет, барии до конца ногтей, изящный, мягкий, со вкусом — ходить в пошляческой вышитой рубашке? В то время в вышитых рубашках ходили лавочники, полотеры, мелкое купечество, захудалые чиновники, а барин мог надеть в жару толстовку или чесучовую обыкновенную рубашку с мягким воротником 499 и галстуком. А ехать на торги в город в русской рубашке — это верх моветона.
Еще раз напоминаю Мартьянову, что у него роль пойдет, если он размягчится, будет любить сестру, Аню, природу, и что Гаев не выносит хамства, пошлости. Но возмущается он глубоко внутренне, а внешне сдержанно. А Мартьянов каждый раз кричит: «Или я, или он». Гаев, воспитанный человек, кричать на прислугу не будет. И не позволит лакею так разговаривать с барином.
Прохожий. Роль в шесть фраз — то же самое, что и роль в четыре действия.
Откуда он идет, куда?
Конечно, он безработный, скиталец, пьяница, принужден выпрашивать деньги. Его сквозное действие — забота о деньгах. Конфликт сцены: страдающий брат, чей стон раздается над великою русской рекой, — и буржуи. Пьянство, бродяжничество, ненависть к сытому сословию, нахальство, паясничество. Очень легко впасть в театральность, в представление.
(Прохожему — Усину.) Пение, уходя, продолжить дольше.
(Пете — Гохману.) Очень всматривается в Прохожего: наш или не наш?
Первое сватовство Вари и Лопахина
У нас с Зинаидой Сергеевной были разногласия на счет подтекста фразы: «Офелия, иди в монастырь».
По-моему, Лопахин по-мужски обижен, что Варя сразу не поддалась сватовству, она опять испортила налаженное.
Зина считает, что сдержанность Вари нравится Лопахину. Эту фразу произносит мягко, шутя, чтобы ее успокоить.
Перерождение Ани
Константин Сергеевич категорически и настойчиво отвергает чтение по тексту, разрешает только рассказывать в самом сокращенном виде фабулу. Например, в сцене Ани и Пети я должна сказать, что делают двое детей, убежавших от гувернантки, чтобы поиграть и поговорить на свободе.
Подход Ани. Издалека не видит Петю и, вспоминая Прохожего, совсем робко подходит к стогу. Петя выползает на четвереньках, пугает Аню. Аня вскрикивает, потом хохочет, бросает в Петю сеном, гоняется за ним. Петя спасается от нее, влезая на стог. Аня тоже хочет влезть, но не может, сваливается, смех!!! Петя дает ей руку, Аня влезает 500 со словами: «Спасибо Прохожему, напугал Варю» — усаживается на сено поудобнее, смотрит на Петю в упор и говорит: «Теперь мы одни».
Петя как-то сконфузился от этого взгляда: «Варя боится, а вдруг мы полюбим друг друга. Она со своей узкой головой не может понять, что мы выше любви». Эти слова произносит неуверенно, ворчливо, потом говорит с увлечением. Аня успокоилась от страха, заметила Петин конфуз, довольна, решила наслаждаться всем: чудным вечером, завоеванной свободой, Петиной дружбой, доверием и новыми идеями.
Петя заражается ее настроением и делается красноречив. После слов Ани: «Я уйду, даю вам слово» — он от восторга летит вниз с копны, любуется Аней, как будущей героиней, и кричит: «Если у вас есть ключи от хозяйства, то бросьте их в колодец и уходите». Аня в полном восторге. Петя подходит к копне, прислоняется к ней: «Верьте мне, Аня, верьте…» — произносит серьезно и тихо. Аня мечтами уносится за ним, но не может не отметить красоты луны. Пауза. «Да, восходит луна». Пауза. «Вот оно, счастье…» — Петя говорит самому себе.
(Ане — Мищенко.) Перед словами «Восходит луна» — свалилась с копны и тронула Петю рукой, чтобы он тоже смотрел на красивое зрелище. Но сделать это так, чтобы Петя почувствовал трепет этой ручки и ответил на этот трепет легким пожатием руки. Это маленькое физическое действие даст очень тонкую окраску следующему финальному куску монолога: «Вот оно счастье, вот оно подходит…»
(Пете — Гохману.) После слов «Его увидят другие» — искать взгляд Ани и стараться понять, приняла ли она его мысли, и после уже не задерживать зов Вари: «Аня, Анечка!»
Сцена досады на Варю.
Петя питает Аню духовно.
К реке бегут, как два гнома через полосы луны, избегая Варю. Красота природы, заход солнца, сумерки, упавшая бадья, таинственный Прохожий, убежденные монологи Пети, восход луны — все это сильно волнует Аню. Она возбуждена, вибрирует, близко слезы.
(Ане — Карп.) У Рево настоящая энергия и желание убедить, настоящий подъем. Карп тоже начинает понимать мысли Рево, с бодростью верит в их необходимость, в их большое значение. Но не дошла еще до восторга.
(Ане — Мищенко.) Она пойдет туда, куда ее увлекает Петя. Пойдет непременно. Но ей жалко расстаться с «Вишневым садом», со своими воспоминаниями о нем, жаль маму, которой это будет невыносимо тяжело, и дядю жаль. Куда им деться?
Петя не груб и не развязен.
(Пете — Рево.) Рево читает монолог грамотно, но недостаточно убедительно.
501 (Пете — Гохману.) Не старается увлечь Анго, а вколачивает в нее гвозди.
Сцена Ани и Пети готова. Ее надо разворачивать, довести до свободного дурачества. Все смешит, радует. Вера в хорошее, необыкновенное будущее, которое все примут, — и мама, и дядя, а Варя, глупая, не примет, будет все плакать и причитать.
Конец сцены растянут беготней, шалостями. Убегать к реке, взявшись за руки.
(Пете — Гохману, Ане — Мирсковой.) У Гохмана новый объект. Он иначе ведет сцену.
Мирсковой поставила на вид, что чем больше она будет любить «Вишневый сад» в первом действии, тем интереснее будет ее преображение и отрыв от «Вишневого сада».
Миртова заплакала на сене. Слезы явились не от рассказа Пети и не от жалости к маме, которой предстоит такой удар — продажа «Вишневого сада». Слезы — от неопределенности чувства, от предчувствия бесповоротного в ее жизни. В ее жизни произошел перелом, в котором она еще сама не отдает себе отчета. Звук упавшей бадьи, как музыкальный аккорд роли, зародил в ней чувство перелома, которое давно назрело в этой сцене.
Аня ушла вместе со всеми, но отстала, прибежала к часовне, заинтриговала Петю, пошутила, нашли друг друга. Объяснила ему свой приход тем, что Прохожий напугал Варю так, что она перестала следить за ней.
Гохман проводит сцену общения с Аней на природе, далеко от дома, как первое — без свидетелей — их свидание.
Мирскова — его мелодия. Это чудесно. Смогут ли они это повторить?
ТРЕТИЙ АКТ
Третий акт, по желанию Чехова, должен быть роскошным. Надо списать замечания Константина Сергеевича к декорациям «Вишневого сада» в «Моей жизни в искусстве».
Настроение званого вечера — чужой, новый элемент, не присущий атмосфере «Вишневого сада».
Третий акт в макете студийца Носова показался всем и мне тоже слишком парадным. А теперь я думаю, что это то, что нужно. Только необходимо дать сильную обветшалость: сырость углов, трещин в нише, разбитая ваза, потертый до основания ковер, люстра — сломаны все стеклышки. Мебель почти рухлядь, вся в чехлах. У рояля сломаны ножки, 502 он стоит на бревне. У переднего кресла под чехлом сломана спинка. Пищик прислонился — спинка хрустнула и отвалилась. Местами на стене, на дверях, на потолке отколуплена краска, из-под нее вылезает другая. И многое другое, что придумается.
Задание ассистентам
Начать репетировать «Народные сцены» по тому же принципу, по линии физических действий — жизни тела не роли, а самого исполнителя. Что приносит с собой человек на вечеринку, если он собирается веселиться? Пусть каждое действующее лицо веселится по складу своего характера.
На второй репетиции надо найти действия смотря по характеру роли: один задумчивый (немец), другой буйный, веселый (гимназист), третий, четвертый — Дон Жуан, почтовый чиновник и пр. Пусть они проделают тут же ряд этюдов, то есть ряд игр, фокусов, танцев, пусть шумят, стихают по указанию режиссера, но оправдывают шум и тишину.
Третий урок: те же этюды с более определенными задачами, подходящими к предлагаемым обстоятельствам пьесы. Но сюжет пьесы не раскрывать. Это надо будет сделать в последние две-три репетиции с особенным подходом, который бы сильно на них действовал и пронизал бы сквозным действием все отдельные куски.
На двух уроках, кроме первого, должны одновременно проходить танцы: кадриль, grand rond, разные забавные фигуры.
Сначала — режиссерские занятия, потом — танцевальные.
Установить ритмы и какие вальсы в каких местах. Вся музыка другая, чем была в нашем МХАТе, кроме последнего вальса, который так замечательно подобран, что никаким другим заменить не могу.
Чтобы сблизить весь состав, заставила их сразу танцевать вальс. Оказалось, что почти никто не умеет вальс в два па. Пришлось встать и покрутиться.
А кадриль многие танцуют умело. В наше время, то есть в конце XIX столетия, кадриль уже не танцевали, выделывая па, а ритмично ходили более или менее грациозно. Мужчины ходили очень небрежно и этим гордились. В grand rond’е нельзя прыгать козлом, прыгать можно в галопе, а в вальсе и в grand rond’е надо придумать что-то другое.
Не пойму, как заставить танцевать современную молодежь? Может быть, с оттенком характерности?
Лучше всех должна танцевать гувернантка, она главная заводила на этой вечеринке.
Задумала третий акт так: на фоне хмельной, шумной, разношерстной вечеринки — большая трагедия: разорение, разгром гаевской семьи.
503 Кедров считает, что вечеринка намеренно созвана в день торгов. Гаев поехал с полной надеждой, что он благодаря деньгам, присланным ярославской бабушкой, выкупит имение. Вечеринке он очень сочувствует. Так они отпразднуют благополучный выкуп имения.
Вероятно, до начала торгов они зашли в гастрономию и купили закуски к вечеру, так как у Вари только деревенские продукты. Из экономии они закусок не держат дома.
Значит, вечеринка не случайная. Всем она желанна, кроме Вари, которая видит в ней большой и ненужный расход, и Фирса, который презирает приглашенных: почтового чиновника, начальника станции, мелких помещиков. Ему нездоровится, он слабеет, а тут надо всех ублажать, всем подавать. Шарлотта, Аня, Петя, Пищик, особенно Дуняша, Епиходов надеются, каждый по-своему и в разной степени, что вечеринка отвлечет Раневскую, снимет напряженность ожидания.
Яша оскорблен своим положением на вечеринке, он в стороне. Настроение у него скверное, он злится, посмеивается над всем и над всеми. Первый выпад его — с кием: и Епиходова выдать, и Варю разозлить, и показаться Раневской деловым. На выход в гостиную: «Что, дедушка?» — он уже знает о продаже «Вишневого сада». Под эту реплику можно подложить значительный подтекст. Например: «Скоро конец твоему упорству». Или: «Что же это, по-твоему, бал, достойный твоих господ?» Или, потирая руки, бодрым тоном: «Наше время пришло!»
Яша доволен, что вернется в Париж. Здесь он скучал, не с кем было поговорить. Он обожает Раневскую, служит ей хорошо, он очень услужлив, аккуратен, веселый, бодрый, энергичный. Его действие — преданность Раневской и радость возвращения в Париж. Совсем не мрачный. Он должен был особенно реагировать на слова Раневской: «С Парижем все покончено». Яша убежден, что он приехал сюда временно, и с деревней и с серой жадностью он порвет. Жизнь вне Парижа он не мыслит. Он европеец, отсюда его апломб, его нахальство.
(Яше — Кузнецову.) Очень взволнован. Знает хорошо Раневскую. Она ежедневно получает телеграммы, может сразу укатить в Париж, в особенности если продастся «Вишневый сад». Неужели она его, Яшу, не возьмет и он останется в этой деревне, в этой глуши, где все не по нему?
Теперь уже можно отобрать целесообразные действия Яши — по отношению его к Раневской. Сквозная задача роли — во что бы то ни стало ехать в Париж: «Париж, Париж, Париж». Поэтому в первом акте Кузнецов верно нашел: предчувствуя истерику и нервное состояние Раневской, Яша начеку, исполняет при ней роль сестры милосердия, подает воду, валерьянку, нашатырь, готов подложить подушку. Во втором акте он говорит по-французски. Это его большой плюс. Варя, Дуняша, Епиходов этим талантом не обладают. В третьем акте Яша старается быть на виду: смотрите, какой молодой, складный, яркий, расторопный, 504 хорошо одет, везде проберусь, меня не стыдно показать, зная язык, могу всего добиться. Унижает Фирса, которого Раневская ласкает. Ведь Фирс из ума выжил. Что он несет! Ведь это лепет выжившего из ума старика! Все время даю понять, что мы с Раневской солидарны, что невозможно сравнить парижскую полнокровную жизнь с вялой, серой, деревенской, где томишься от скуки, где отвратительно едят и занимаются безнравственным флиртом. Стараюсь отвлечь Раневскую от нервных недугов: даю ей освежиться яблоком, несу ножик, салфеточку, подаю культурно, не то, что другие. Оттирает Фирса — слегка, плечом, а потом и словесно, подавая барыне капли и воду.
А уж дорвался до разговора с Раневской, обхаживает ее, плутует, подлизывается, примазывается, показывает себя во всем блеске своей западной культуры. Его судьба зависит от нее.
Дуняша искренно влюблена в Яшу, но есть в ней и желание нравиться мужчинам, возбуждать их и в них страсть и ревность. Не хочет упустить и Епиходова. Хочет увлечь почтового чиновника. Дуняша кружится на вечеринке, как бабочка. Поддается ухаживанию то одного, то другого. Сравнялась с приглашенными дамами. Большой успех вскружил ей голову, упивается им, даже равнодушие Яши не зацепило ее. От Епиходова держится подальше — боится его.
А шансы Епиходова прибавились. Яша сегодня совсем не опасен, он и внимания не обращает на Дуняшу. Дуняша сегодня обворожительна: «Вы меня привели в состояние духа…» — чувствует себя равным с начальником станции, про почтового чиновника еще не знает. Он мог бы тоже потанцевать с Дуняшей, но сапоги скрипят. Куда ни шло — попробую, а она не хочет. «Но вы мне дали слово…»
Сцена Дуняши и Епиходова в комнате была хороша, всех пленила. На сцене получилась банальной, грубой, скучной. Захода играет современную домработницу, а не горничную того времени. Лифанов комикует без внутренней линии.
Раневская в тяжелом состоянии от одиночества у себя в комнате. Спустилась вниз к гостям — от потребности общения.
От шума, музыки и танцев скоро устала. Эти два желания: быть на людях и уйти от них — сменяются весь акт. Особенно раздражает больная голова. Не очень благозвучная музыка дерет уши. Как заставить ее замолчать хоть на время? Придумала: «Дуняша, предложи музыкантам чаю». И тут же шепнула ей: «А мне принеси кофе покрепче». Дуняша болтала с почтовым чиновником.
Раневская вышла в маленькую гостиную, думала побыть одной, а тут Пищик с Петей. Их она не стесняется: свои люди. Обращается к ним с вопросом. Может, они вернее узнают, что делается в городе? Проходя мимо часов, испытующе поглядела на них. Увидела, что уже десять часов. Все сроки для четырехчасового поезда уже прошли. Не спрашивает, 505 а пристает к Пете и к Пищику: «Почему нет Леонида, что он там делает в городе?» Петя думает, что торги не состоялись. От этого ответа волнение не утихло. Вечеринка утомляет, раздражает, но гонор заставляет взять себя в руки и не показывать беспокойство: «Ну, да ничего…»
Входит Шарлотта с фокусами. Это помогает не расплакаться. Какой-то фокус привлек ее внимание, одобряет его, смеется, хлопает в ладошки. Польщенный приглашением гимназист подходит и целует ей руку. Ей нечего ему сказать, мысли далеко, неловкая пауза, все смеются, разбредаются.
(Шарлотте — Зверевой.) Расстроена возможностью продажи «Вишневого сада». Она привыкла к окружающим, она привязчива, она жалеет Раневскую и взяла на себя хлопоты по вечеринке, а потом, любя пофигурять, разошлась.
Посылаю Звереву смотреть Халютину как образец мастерства.
(Шарлотте — Завадской) Вечеринка разбудила затаенный в ней детский сценический талант. В иные разы ее удаляли, от нее отделывались. Здесь она нужна. Она имеет полную власть над гостями. Она жалеет Раневскую и надеется и ее развлечь, вывести ее из тяжелого состояния. Не будет имения — будет жизнь в городе, и куда интереснее. С Пищиком азартно кокетничает.
После выхода Вари из-под пледа все убегают за Пищиком и Шарлоттой, но солидные люди — управляющий, станционный смотритель — сгруппировались в танцзале и о чем-то беседуют.
Жестикуляции поменьше.
Сцена Вари и Раневской
Варя. Вышла из-под пледа и приютилась, как израненная птица, к Раневской. Душа Вари дрожит, она не допускает мысли о катастрофе и хочет передать свою уверенность мамочке: «Ведь деньги есть, и Господь поможет». Раневская свое денежное положение понимает и растолковывает Варе: денег фактически нет, не может хватить, поэтому она волнуется, и уже нет надежды. Она знает, что сегодня, вот сейчас, в эти минуты решается судьба или уже решена (разговор с часами), а Леонид томит отсутствием.
Петя улавливает нервозность Раневской и, чтобы отвлечь ее от дум, дразнит Варю. Раневская машинально ласкает и успокаивает ее. Варя, взорванная нечуткостью Пети и тем, что Раневская не одергивает его, вдруг изливает свое глубокое чувство к Лопахину. Эта сцена у артистки, играющей Варю, должна быть самой сильной в роли. Она скромная, скрытная, под влиянием общей тревоги и страха за всех не удержалась и призналась мамочке во всем, забыв, что Петя тут и все слышит. 506 Каково же было ей услышать от Пети его: «Благолепие». Он ничего не понял, бессердечный, грубый, а может быть, просто глупый.
Раневскую, наоборот, глубоко задел возглас Вари: «Если бы хоть сто рублей, в монастырь бы ушла» — и там в молитве нашла бы успокоение. Ведь это та же Лиза в тургеневском «Дворянском гнезде». Пусть Лиза и Варя женщины разного калибра, но сила любви у них одинаковая.
Но у Раневской нет и ста рублей. Чем же утешить Варю? Ей нечем ее утешить. Ее удел — беспрерывная деятельность, может быть даже машинальная, физическая, но задурманивающая.
Сцена Вари и Раневской шла в нашем театре под вальс из «Сказок Гофмана», сыгранный под сурдинку. В то время был такой модный вальс. Музыка дает настроение и поможет обеим объясниться искренне, душевно и совсем просто. Безо всякого нарочитого драматизма. Их душевное состояние передается музыкой.
Вваливается Яша со сломанным кием, и сцена принимает другой характер. Все уходят. От Вариной стычки с Епиходовым даже музыканты затихли. Все гости наслаждаются скандалом. Вальс прекращается после слов Вари: «Не понимаю я этих людей». Ринулась выгонять Епиходова. Танцующие за ней.
Аскет и грешница
Когда визг улегся, Раневская начинает: «Не дразните ее, Петя». Петя извиняется.
Слово «благолепие» больно резануло Раневскую. Она переключилась с мыслей о Варе на Петю. Рассердилась на него. Петя разозлился на Варю и нечаянно произнес фразу «Мы выше любви» — в свое оправдание. Это равносильно спичке у порохового склада, таившемуся в сердце Раневской. Она приняла эти слова как упрек себе, падшей женщине, погрязшей в преступной любви. Парирует удар, больно задетая Петей. Долго не может успокоиться. После слов — «А я, должно быть, ниже любви» — ходит по комнате, закуривает, пьет свой кофе залпом и опять возвращается к часам, которые много убежали вперед. «А Леонида все нет».
Тут она с своей тревогой обращается не к Пете, который ее оскорбил, а, стоя перед часами, говорит сама с собой. Мысли скачут, нагромождают страшные события: «Даже как-то не знаю, что думать, теряюсь». Она уже не в силах скрывать свое волнение и бросается к Пете за помощью: «Я могу крикнуть, сделать глупость… Помогите мне, Петя…»
507 Этого момента Петя ждал. Выступает ученый-аскет. На все случаи у него есть теория, есть выход — простой, ясный, волноваться нечего, все предусмотрено, Этим вызывает страшный протест Раневской, у которой — никаких теорий, а все — случай.
Петя пытается ей помочь, что-то говорит, но он не понимает ее взбудораженности, начинает проповедовать простейшие истины и призывает взглянуть правде в глаза. Слово «правда» Раневской непонятно, она долго смотрит на Петю и с вызовом спрашивает его: «Какой правде?» Петя не отвечает. Тогда она отвечает на свой вопрос сама. Ее взгляды на жизнь построены на собственном печальном опыте, а не на книжных философских теориях, как у Пети. Но сильнее всего — ее любовь к «Вишневому саду», она его любит, она с ним соединена, без него не представляет своей жизни вообще: «Если уж необходимо по каким-то законам продавать “Вишневый сад”, то продавайте меня вместе с ним!» Она говорит это с мольбою, потому что расстаться с ним не может: «Мой сын утонул здесь». Плачет.
Раневская подсаживается к Пете: «Пожалейте меня, хороший, добрый человек». Тут очень важно оправдать ремарку Чехова: «Обнимает Трофимова, целует его в лоб». В этой ремарке есть какая-то размягченность и примиренность с Петей, с которым она перед этим поссорилась. Она — Раневская — настолько смягчилась, что готова перед ним раскрыться: «У меня сегодня тяжело на душе, вы не можете себе представить». Но остановилась, удержалась, лучше не говорить, переходит на то, что «здесь, сегодня, сейчас», на то, что ее волнует сию минуту, волнует и раздражает. И одной плохо, и на людях не легче. «Я нервная, дерганая… Не осуждайте меня, Петя…» Хочет добиться его сочувствия через материнскую любовь к нему. Она добрая, она всех любит, кто мало-мальски с душой, она призывает его любить Аню: «Будьте моим зятем, все будет хорошо, но надо понять практичность жизни, надо что-то делать с бородой, надо всегда быть аккуратным внешне, причесываться, умываться и т. д.» Эти наставления взрослому молодому человеку ее саму насмешили, и она немного успокоилась. Петя тоже смеется и рад, что ее настроение улучшилось. Раневская отходит, вытаскивает из лифа носовой платок, оттуда падает телеграмма. Она перехватила Петин взгляд, что-то недоброе в его лице. И открыла ему свои чувства, которые за несколько минут до того собиралась высказать, но не решилась.
С напускным спокойствием передает смысл телеграммы. Но по мере того, как Петя делается сумрачнее, в нее вселяется дух противоречия. Она не признается, а зловеще выплевывает этому чистюльке признание о своей любви, может быть преступной, но сильной до самоотвержения: «Это камень на моей шее, я иду с ним на дно, но я люблю этот камень». Ей понятна любовь к недостойному человеку, дурной его поступок не отвращает ее от него. Любовь — ее вера, ее культ, она ее не стыдится. 508 Она хотела отравиться — говорит она во втором акте. Может быть, тогда Яша спас ее, поэтому она его и держит. Любовь для нее — великое чувство, она готова ради нее жертвовать собой. Петя со слезами хочет урезонить ее, но Раневская не дает ему говорить и даже затыкает ему рот ладонями. Дальше все очень ясно: оба упрямятся и отстаивают каждый свою этику любви: Раневская — как жрица любви, Петя — как идеалист, который ставит выше всего мировую любовь к человечеству.
Поругались по-настоящему, а не шуточно, и Петя, оскорбленный в лучших своих чувствах, удрал. Раневская тоже оскорблена и не скоро пришла бы в себя, если бы не отчаянный шум и падение живого тела.
Она ничего не понимает. Но факт — упал живой человек — ее поразил. Она остолбенела. Ждет, полуживая, замерла, слышно, как начинает дышать. Это успокаивает ее, идет трусливо смотреть, в чем дело. «Петя упал с лестницы!» Нервный, гомерический хохот. Резкий переход от страха к успокоению очень необходим в этом акте. Раневская смеется так, что почти не может говорить, поэтому в несколько приемов пытается извиниться перед Петей. Когда Петя очухался и сдался, тащит его танцевать. Но после всех этих сильных, нервных сцен организм ее подорван, от вальса закружилась голова, дурнота, ноги ослабли. Цепляясь за Петю, тащит его обратно в маленькую гостиную. Ей так скверно, что она может сидеть с закрытыми глазами. На кресло опустилась, как подкошенная, и вообще вся как-то опустилась, нет энергии ни спорить, ни защищаться, ни волноваться. Словами «Mersi, я посижу. Устала» — дает понять, чтобы оставили ее одну. Устала не от танцев, но от всего сегодняшнего дня, устала от неизвестности, устала от пропасти, которая впереди. Видит перед собой эту пропасть, но не может с ней бороться. Ничего не может. Какая-то окаменелая, бесчувственная. Это реакция после бури с Петей.
На этой тупости застает ее Аня.
Думаю, что сцена Пети и Раневской должна идти без танцев, чтобы не отвлекать зрителей. Какая-нибудь нешумная игра, и все.
Гохман оправдал падение Пети с лестницы тем, что, когда очень торопишься спускаться, ноги путаются и заплетаются. Правильно. Но почему Петя заторопился? Ведь Раневская не буйная, не сумасшедшая. Актер, играющий Петю, должен видеть место, где он спасется от Раневской, сад или баню, где он запрется, или вокзал, но не лестницу, по которой он бежит. Поэтому он падает.
(Пете — Гохману.) Разбирали подтекст его сцены в третьем акте. Навожу его на то, что его миссия здесь, в имении кончена. Он Аню обратил в свою веру. Он все лето подпольно работал, подготавливая ее к разорению ее гнезда. Сам он разорению рад. Он и с Раневской, и с Гаевым, и с Варей, и с Яшей, и с Епиходовым работал. Но поддалась только Аня. Других все равно не сдвинешь. Делать тут больше нечего, конец 509 сезона, надо в Москву, там его ждет подпольная работа и заработок, то есть уроки, переводы и переписка.
Сегодняшний день его не волнует. Все течет правильно. Только бы старики не сбрендили, особенно Любовь Андреевна. Если она будет в большом горе, она взбудоражит Аню, та может от жалости к матери поколебаться. Зинаида Сергеевна Соколова подсказывает Гохману жалость и заботу о самой Раневской. Конечно, Петя жалеет Раневскую, как отзывчивую женщину. Чтобы смягчить удар, готов ее урезонить. Утешать он ее не будет, а образумить, убедить — да, это он может. Ужасно напирает на свои отношения с Аней: «Мы выше любви». Но ведь это не означает, что любви нет. Любовь какая-то другая.
Актер должен ориентироваться на то, что его больше греет. Кажется, Гохман понял и принял раздвоенное внимание Пети: мыслями и планами он в Москве, а внимание, настороженность здесь. А третье внимание — на каком-нибудь физическом действии: давит грецкие орехи, вылущивает их и ест, не спеша.
(Пете — Рево.) Неверно видеть в Пете черствого обличителя, а не добродушного поэта-идеалиста. Сегодня вел сцену с Раневской мягче, даже где-то с юмором. А у Пети юмор — очень яркая черта.
Он давно готов помочь Раневской и искал такого случая. Он просто не знал, как к ней подступиться при ее возбуждении. Но раз она просит сама помочь ей, то он с радостью и сыплет ей свои штампованные нравоучения, которые называет сочувствием. При ее особенной чуткости к человеческому сердцу ей возмутительны эти холодные, от мозгов, проповеди.
Рево упорно тянет из себя практического господина, а он весь — выше любви, то есть любви обыкновенной, плотской. Он ищет любви идеальной, любви мировой, так почему же в этой «мировой любви» нет места Раневской, милой доброй женщине и матери Ани? У них должны быть сходные черты, он посвятил Ане целое лето, каждый день говорил ей о своих мечтах, привлекая ее к ним, заражал ее и уже победил в ней массу предрассудков.
Нет, Рево стоит на песчаном холме, на котором устоять нельзя.
Грянул гром
Эта сцена является переломом акта. Надвигается ураган. Раздался первый удар: «А сейчас на кухне какой-то человек говорил…»
Весть о старике с кухни принес Яша. Она быстро распространилась среди гостей. Настроение вечеринки меняется. Их пригласили Раневская и Гаев, а к концу вечеринки хозяин, может быть, будет другой. Гости собираются группами, серьезно и вполголоса разговаривают, 510 старательно поглядывают в гостиную, внимательно следят за живущими в доме.
Раневская насторожилась, недоверчиво относится к каждому: от нее что-то скрывают. Но делает над собой усилие, идет танцевать, чтобы выяснить подробности, но, ничего не добившись, измученная, уходит к себе в комнату с Варей.
С этого момента каждый торопится спастись, найти себе убежище и каждый — Аня, Петя, Фирс, Яша и, конечно, Пищик — должны ввести этот слух в свою линию физических действий.
Яша торжествует.
Петя упал с лестницы.
Варя бросила ключи.
«Я купил!»
Не знаю, как подойти к Кругляку, чтобы он разошелся вовсю, как расходятся люди в пьяном виде. Нельзя же его подпаивать. Но пьяным можно быть не только от вина, но и от любви.
Надо перевести радость покупки «Вишневого сада» на радость обладания той женщиной, на любовь которой даже не рассчитывал.
А может быть, ввиду современной практичности, возбудить в Кругляке радость от получения ордера на великолепную площадь, о которой он и не мечтал и которая даст ему возможность жениться на любимой женщине и иметь детей. Я знаю, Кругляк очень любит детей.
Кругляк сказал, что возвращается с торгов в «Вишневый сад» с ощущением большой радости. Но конфузится, что радуется, поэтому сдерживается. И рядом с этим — ухарство, так как в городе выпил, да и потому, что спас имение от Дериганова.
Удар палкой — хорошая примета, предвестник благополучия. И больно — потирает голову, далее хмель на время слетел, — и смешно. Ударила Варвара Михайловна. «Я — хозяин “Вишневого сада”», она ударила — значит, быть ей хозяйкой. Смеется и ласково смотрит на Варю. Вот такой он ее любит.
Варя в первый раз ловит такой радостный, сверкающий, добрый, ласковый взгляд. Приписывает его себе. Думает, что это взгляд счастливого человека. Значит, все хорошо, имение спасено, а ласка к ней — значит, любит. Счастлива до оцепенения, до тихих, радостных слез.
Пищик долго искал Лопахина по комнатам, увидел его — бросился обнимать и целовать. И расчухал, что от Лопахина разит коньяком. Значит, все благополучно, бодро вторит ему. Появилась надежда на деньги.
Гаев входит очень медленно. Раневская, бледная как смерть, совершенно перепуганная, не видит его. Леня медленно, устало поднимается по лестнице с пакетами. Раневская успокоилась: он жив. Выпытывает 511 глазами, твердо и в упор: что с ним? «Как я устал» — Гаев стремится уйти как можно скорее. Биллиард — предлог, чтобы уйти. От Пищика отмахивается платком. Уходит с Фирсом и Аней, за ними кое-кто из гостей. Любопытствующие выходят в коридор и там остаются.
Гаев должен взять сквозное действие: старая гвардия умирает, но не сдается. Он бодрится, он должен пройти мимо гостей твердо, с достоинством.
(Гаеву — Мартьянову.) Главная ошибка Мартьянова в том, что он всячески хочет выявить драму своей души, а он, Гаев, должен ее старательно прятать, ведь рядом гости, да какие гости! Ряд хамов, которых он презирает. Только в четвертом акте может заплакать, оставшись вдвоем с сестрой, и тогда эти слезы будут особенно трогательны.
(Гаеву — Леонидову.) Юра, голубчик, ты же нашел изюминку роли. Не суетись, не делай ничего лишнего. Отдай спокойно Варе анчоусы и керченские сельди, ты ведь устал? Раневская выходит наперерез ему — сядь, возьми ее за руку, смотри, с каким нетерпением она ждала тебя, посмотри на нее своими детскими голубыми глазами и скажи: «Сколько я выстрадал!» Тогда сердце в ней дрогнет от боли за него и от жалости, и она невольно обхватит твою голову руками.
Лопахин тоже уклоняется от ответа. Он растерян. Прикрывается своим пьяным состоянием. Ему вроде как неудобно, что от него несет коньяком. Ему надо очухаться — и он отходит. Не может сказать Раневской, что он купил «Вишневый сад».
У Чехова ремарка: «Раневская упала бы, если бы не стол и кресло». Рухнула на кресло, как труп. «Говори же правду, и скорее, иначе умру» — ее подтекст.
(Пятницкой — Раневской.) Единственное, во что она не должна впадать, — это в сентиментальность.
Варя, ошеломленная, не понимает, что ей надо делать. Первая реакция — оскорбить обидчика. Со злобой и отчаянием швыряет ключи в Лопахина и с воплем убегает. Она живет не своим горем, а горем мамочки, дядечки, гибелью «Вишневого сада».
После первой части монолога, когда Лопахин хотел сказать Варе что-то хорошее, он идет к ключам, поднимает их и начинает ими размахивать или ими звенеть. Его прежние намерения разлетаются, и вся картина торгов, волнений и огромные события накатываются на него снова. И так до конца акта. Волна небывалого, невообразимого счастья обрушилась на него, он просто захлебывается, и, чтобы говорить толково, он должен делать огромные усилия над собой, сдерживаться, вспоминать видения, которые от вина и подъемности потеряли логичную последовательность. Он кричит вслед Варе, кричит неистово, как раненый зверь. «Я купил!» — это: «Я спас!», а не «Я разрушил “Вишневый сад!”» И испугался собственного голоса. Немного отрезвев, отходит в 512 сторону, чтобы собраться с мыслями. Понял, что не только пьян, но и что озверел.
Придя в себя, в ритме, в котором шли торги, рассказывает, как все было. Рассказывает правильно, последовательно. Он спасал имение от Дериганова. И только! И вдруг оказалось, что имение — за ним!
Он сам не знает, не верит этому, он пьян, он спит, ему мерещится. Он незаметно купил имение, прекраснее которого нет ничего на свете.
Как только Лопахин зазвенел ключами, тихонько зазвучал оркестр — первым аккордом настройки. После слов «наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь» — Лопахин пошел через всю сцену трепаком. Видит Раневскую. Останавливается около нее. От бурного веселья переход к озарению: «Я убил человека!» Последние слова Лопахин кричит в глубину сцены. Кричит, чтобы перебить, заглушить свое горе. «Музыка, играй отчетливо!» — он хочет другой, бодрящей его музыки.
Когда Лопахин стоит на коленях около Раневской: «Бедная моя, хорошая моя» — пусть поцелует край ее одежды.
«Музыка, играй отчетливо!» — это приказ. «Все, как я желаю!», «Все мое!» — обводит комнату взглядом ее владельца.
Раневская потеряла себя. Под ней обвалился пол. Она ничего не понимает и не соображает. Это больной, сильно изнервленный человек. Раны открыты, из них сочится кровь. Каждое прикосновение очень болезненно. Надо скорее оказать ей помощь, перевязать раны, успокоить, усыпить нервы.
(Ане — Мирсковой.) Аня превращается в сестру милосердия, совершенно забывает себя, думает только о страдающей. Мать плачет горькими, жгучими слезами. Надо заставить ее плакать от умиления.
Аня у Мирсковой получается простой, деревенской, здоровой, сердечной и решительной. Конечно, Петя сильно изменил ее взгляды, но индивидуальности своей она не потеряла. Вечеринка ее развлекает, а продажа «Вишневого сада» захватывает, как огромное событие, которое распахнет ворота в новую, полную интереса, трепетную, деятельную жизнь.
Финал третьего акта
22 августа, осень на дворе, весна забыта, но Аня для Пети всегда будет весной. С ней чувства будут обновляться, смягчаться, очищаться и расцветать, возвышаться.
Подход Пети к Ане молчаливый. Это целая сцена большого внутреннего напряжения. Если хотите — идеологическая.
Первый дебют Петиной ученицы.
Не он, а она просвещает и призывает мать к новой идеальной жизни.
513 Она боится, она совсем в себя не верит, она не умеет и не время сейчас, надо маму утешать, надо ее ласкать, нежить — так думает Аня, потрясенная продажей «Вишневого сада».
Нет, — говорит Петя, — маме надо дать тот свет, тот огонек, к которому она пойдет из-под своих обломков.
Раневская ничего не видит, ничего не понимает, все рухнуло, крушением ее придавило. «Аня! Ты», — в первый раз за все лето сказал ей Петя и сконфузился. «Ты» ей скажешь, что у нее осталась жизнь впереди и ее чистая, хорошая душа. Вот с чем выходят Петя и Аня на сцену.
Аня идет медленно, Петя деликатно ее подталкивает к матери. Та съежилась в комочек. Петя бросает Аню и быстро, не оборачиваясь, уходит. Аня, брошенная в волны морские, выкарабкивается. Перед горем матери можно только стать на колени. «Мама», — говорит она. И забыла все, чем начинил ее Петя.
Когда Аня скажет матери свои слова, чтобы вызволить ее из ее сокрушенности, она кладет голову ей на колени затылком к зрителю, с тем чтобы мать обняла ее и баюкала так, как тогда, когда она была маленькая. Они сидят, замерев, до занавеса. У Пети должна воскреснуть со всей силой та любовь, с которой он сказал в первом действии: «Солнышко мое, Весна моя!»
Пауза. Играет музыка.
ЧЕТВЕРТЫЙ АКТ
Кедров на последней беседе замечал, что первый акт — подъемный, радостный в сравнении с четвертым действием, которое должно быть печальным, так как все расстаются, разъезжаются в разные стороны. После же беседы с учениками оказалось, что четвертое действие необыкновенно активное, бодрое, подъемное, все стремятся к деятельности. Даже Епиходов оказался годным к употреблению. Весь переродился, неузнаваем, энергия из него брызжет. Даже Гаев и Раневская чувствуют прилив бодрости и понимают, что им надо делать. Яша чуть ли не танцует. Лопахин видит всю картину своих красивых дач. Петя поправился, отъелся на десять кило, он рвется в работу и т. д.
Перспектива есть у всех. Если бы их перспектива была: гибель всех надежд, всех радостей, ужас перед ночевкой на мостовой, голодовка, нужда побираться по знакомым, Шарлотта ответила бы, что ее берет страх или ужас, а Варя сказала бы, что она торопится к Рагулиным, чтобы приняться за дело и в деле утопить свое горе. Конечно, здесь была хозяйкой, будет — экономкой. И Шарлотту, и Варю ждет жизнь без радостей, полная трудностей, может быть, унижений, но — не безнадежность.
Четвертый акт насыщен сильными переживаниями.
514 Одни оплакивают «старую жизнь», да как! Рыдают.
Другие рвутся в «новую жизнь» — «Здравствуй, новая жизнь!»
Яша выбрал «парижскую жизнь», какую знают только он и Раневская.
Сквозное действие: прощай, старая жизнь, здравствуй, новая. Надо соблюсти, чтобы уныние и бодрость чередовались. Параллельно идут два ритма: бодрый, активный — и пониженный, сдерживающий активность. Никак нельзя делать общей суматохи отъезда.
У каждого лица свой доминирующий ритм.
Самые активные в этом акте — Лопахин и Яша. У них большая стремительность. Лопахин — организатор подъема в недрах жизни старых хозяев. Яша менее явно, но всячески ему помогает. Они торопятся.
У Раневской и Гаева какой-то ретардент, что-то их задерживает, хотя они сами не знают что. Дуняша медлит.
Варя не подходит ни под ту, ни под другую категорию. Она потеряла свои устои, свой порядок, делает все машинально, по привычке, ходит как рыба без воды, все плачет.
Петя и Аня сглаживают эти два противоречивых направления, то есть торопятся деликатно, торопливость умеряют.
Сцена Лопахина и Трофимова
В их диалоге много мыслей Антона Павловича, любимых и дельных. Диалог интересный.
Лопахин нежно выгоняет старых хозяев. Они должны пройти тихо, скромно, но с достоинством по сцене после прощания с музыкантами.
Трофимов старательно ищет свои калоши.
Обоим хочется сократить проводы и скорее уехать.
Оба мыслями далеко отсюда. Один — в своих делах в Харькове, другой — в Москве, в университете, радуется предстоящим лекциям, профессорам — живому центру, где бьется родник живой воды. Будь они одни в доме, они ушли бы на станцию пешком и дорóгой бы философствовали. А тут проводы старых хозяев, ожидание, слезы, истерики. Надо выждать (это действие), быть тактичным (другое действие). Все время надо быть начеку. Обоим эта проволочка досадна. И хотя оба настроены очень бодро, разговор их не захватывает. Обмениваются фактами (действие), немного задирают друг друга (действие), балансируют на грани раздражения. Но Петя устал искать калоши. Как правило, мужчины вообще не умеют искать вещи и еще хуже умеют укладываться в дорогу. Это-то их и раздражает. Трофимову хочется передохнуть, но удержался.
Чтобы успокоиться, читает нравоучение Лопахину (действие с подкладкой идеологии). Как будто хочет ему сказать: не туда направляешь свою работоспособность, не туда смотришь, не то дело делаешь — 515 размахиваешь руками. Дачи строить — это тоже размахивать руками. Чтобы смягчить осуждение Лопахина (действие), в первый раз выражает ему симпатию. Так как в первый раз, то немного преувеличенно (действие). Лопахин не ожидал такого придыхания от Пети и выражает ему свою благодарность растроганно, по-мужицки, с объятиями (действие). До этого не знал, что тонкие пальцы означают тонкую душу (действие).
Оба стремятся к новой жизни, но понимают ее очень разно. Петя ушел далеко вперед. То, к чему стремится Лопахин, кажется ему совсем ненужным. Но он не стал переубеждать Лопахина. Лопахин упрям, тратить на него время не стоит. Кроме того, у Лопахина есть плюсы: он добрый и у него много денег. Самому Пете деньги не нужны, но для дела могут пригодиться. Вот и вся сцена.
Кто-то бежит по коридору, разговор прекращается.
Лопахин вспоминает последнюю новость: Гаев принял место в банке за 6000 рублей в год, но Гаев ленив и не усидит на этом месте, — говорит он Пете вполголоса, чтобы входящие не услыхали.
Вбегает Аня. Она запыхалась и немного расстроена. Каждый удар топора по вишневому саду отзывается на маме физической болью.
Упрек Ани устыдил и Петю, и Лопахина. Петя упрекает, Лопахин ужален, убегает. Петя уходит.
Сцена суматохи из-за Фирса должна быть очень легкой.
Сцена Дуняши и Яши
Яша стремится к веселой жизни Парижа, его берет Раневская. Он едет и счастлив. Но как бы что-нибудь не помешало. Боится Дуняши. Она может не сдержаться и выдать в последнюю минуту их роман, пускай даже невинный, но все же роман. А Дуняша, наоборот, надеется, что прощание с Яшей даст ей право что-то от него потребовать.
Яша избегает Дуняшу. Дуняша его ищет. Вот поймала его, он один. Яша: только бы никто не узнал об их близости; только бы не услыхали, только бы не застали. Кузнецов очень хорошо выразил это какой-то гримасой и маханием рук. Остальное дано автором. Сцена вертится около шампанского, это канва, а актер пускай фантазирует на тему.
Однако угощать Дуняшу шампанским, чокаться с ней и пить за ее здоровье залпом целый бокал; гладить по голове и даже целовать по-отечески в голову, давая ей надежду, что их отношения продлятся в письмах; пить шампанское, сидя в кресле, и пьянеть — по-моему, это грубо, не по Чехову. Он хоть и вылакал всю бутылку, но понемногу.
У Дуняши слезы, мольбы, объятия — все наготове. Яша это чует и от страха перед ее шумными и бурными излияниями смягчает свои действия по отношению к ней.
516 Дуняша хнычет. Может быть, это хныканье — досада, что Яша неприступен, уезжает, а у нее никакого утешения, кроме глупого и даже противного Епиходова. Эти мысли должны обострять сцену. Ритм повышенный. Каждая минута дорога. Они в проходной комнате, рядом комната Варвары Михайловны, в любой момент может кто-то пройти. А чего-то даже неопределенного Дуняша хочет добиться. Хнычет скачками, то громко, то тихо. Яша всячески заглушает хныканье, может даже громко хохотать, он навеселе.
Чужие… Неприкаянные… Лишние…
Как ни называй сцену, суть одна: все вошедшие — Гаев, Раневская, Аня и Шарлотта — отлично понимают, что им тут больше делать нечего, надо уезжать. Но уезжать — значит отдаться неизвестности, а это всегда страшно.
Одна Аня по рассказам Пети верит, что эта неизвестность — новая жизнь — прекрасна. И Аня рвется к ней.
Лопахин озабочен проводами. Хочет, чтобы все было честь честью. Он не понимает, что именно эти его заботы страшно обидны бывшим хозяевам. Какой-то хам тут царит. В собственном доме они не хозяева, а подчиненные. Отсюда энергичный протест Гаева и Раневской.
Выход Шарлотты как будто незначительный. Две фразы, фокусный номер. Но если не будет серьезного подтекста, который исходит из сути образа, если не будет чувства одиночества, болезненного чувства, которое она скрывает шутовством и смехом сквозь слезы, — образ ее, очень яркий и глубокий, не будет выявлен. Вся трогательность образа пропадет, если Зверева будет прибегать к раздражению и злобе. Надо искать другие приспособления. Например, поискать растерянность. Она не знает, где будет ночевать. Упрек — во взгляде, в тоне, радостно благодарна Лопахину: от него она меньше всего ждала участия. На упрек Гаева — «Все нас бросают… мы стали вдруг не нужны» — отвечает бравурным фокусом. Паясничает. Когда кончила фокус, смахнула рукой слезу со щеки. И фокус-то делала, чтобы не расплакаться. Хорошо, что Зверева начинает фокус нежно, с большой любовью к ребенку. Это по ее сквозному действию. Ребенок бы скрасил ее одиночество. Но ребенок — капризен, потом он неугомонный, и она срывает на нем свое прежде скрытое раздражение. Это создает характерность роли.
Гаеву адресована ее последняя реплика: они все равно не могли бы ее содержать, да и Ане она больше не нужна.
В дверь вваливается потный, с одышкой, Пищик. Лопахин выдал ему: «Чудо природы». Шарлотта должна прислушаться к себе. Равнодушно отнестись к Пищику не может. Пищик не беден, у него широкий круг знакомств, да и приударял он за ней.
517 Сцену Пищика Зиновьев нашел хорошо. Но то же самое надо найти в старике — с подагрой, с больным сердцем, со склонностью к удару. Очень трудно прививать старость к молодым. Они не могут верить в наши старческие немощи. Константин Сергеевич рекомендовал находить старость в большой усталости. Пройти сорок верст и проверить, что ты можешь после этого сделать.
Сватовство Вари
Разговор Раневской с Лопахиным идет на расстоянии. Расстояние передает их натянутые отношения. Раневская даже после его согласия поговорить с Варей не очень верит в то, что он доведет дело до конца, и слова — «Я ее сейчас позову» — говорит с интонацией: не подведите меня.
Все остальные приготовления Раневской ведут к тому, чтобы Варе и Лопахину не помешали объясниться. Она всех выпроваживает, а перед этим велит Яше запереть дверь в переднюю: «Ферме ла порт». У Чехова этого нет. Это ввели Константин Сергеевич и Ольга Леонардовна. Книппер всегда говорила эту фразу. Затем она осторожно и настоятельно вызывает Варю, а когда убедилась, что Варя идет, потихоньку удаляется, приказав Яше выйти: «Яша алле». Сама же Раневская, вероятно, все время стоит за закрытой дверью в коридор и выходит после того, как замолкли голоса Лопахина и Вари.
Варю из своей комнаты Аня выпихивает с уговорами, лаской и смехом. Затем тщательно закрывает дверь. Лопахин остается в комнате с Варей вдвоем, как на необитаемом острове.
Тут есть еще целая сцена Яши, который, по-моему, и подговорил Епиходова вызвать Лопахина и не дал ему сделать предложения. У Яши одна цель и одна забота: не опоздать на поезд. После того как Яша запер дверь в переднюю, он, проходя мимо Лопахина, показывает ему на свои часы. Лопахин проверяет по ним свои и говорит: «Да».
Яша отходит и ждет приказа Раневской на выход.
Обряд прощания
Все, что я наметила для трех последних сцен акта, взято из анализа роли каждого ученика. Ничего от себя не прибавила, кроме сцены сидения всей семьи на диване перед окончательным отъездом. Старинный обряд перед отъездом — молчаливое и сосредоточенное сидение отъезжающих и провожающих, затем поцелуи и прощальные слова.
Эта сцена кончается словами Гаева: «Дуплетом желтого в середину» (уныло). Эти слова и двойной стук биллиардных шаров, который слышится в гаевском «Молчу», ставят точку в этой сцене.
518 Пять минут до отъезда
Пять минут до отъезда, а то пропустят поезд. Вся ватага отъезжающих и провожающих врывается на сцену, в дверях наскочили друг на друга, все друг друга торопят. Лопахин тоже торопит, он больше всех заинтересован в отъезде. Ему надо в Харьков. Дела. Но торопит он косвенно, конфузливо, уж очень он провинился перед Раневской, не сделав предложения Варе. Он сам чувствует, что провинился. Вот где руки у него особенно беспомощно болтаются. Эта сцена должна идти без крика, без шума, но в бешеном внутреннем ритме. Каждый особенно внимателен к своему личному действию, старается его сделать как можно скорее и этим заставляет остальных торопиться.
У Раневской и Гаева желание, чтобы все поскорее ушли, чтобы им остаться без свидетелей последними, обнять друг друга и дать волю тому, что их душит, что они усиленно сдерживали, не показывали и что они могут открыть только друг другу, а не посторонним.
Если ученики меня спросят, что это? Я скажу: «Не знаю».
У Раневской может быть свое, у Гаева свое. Их прощание и есть проявление своего. У Гаева — только в двух словах: «Сестра моя, сестра моя…» У Раневской — «О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!..»
В сцене прощания Гаева с сестрой ясно выражена любовь брата и сестры. Это чувство надо пронести через всю пьесу. В этих отношениях брата и сестры есть большой аромат, свойственный самому Антону Павловичу Чехову. Он бесконечно нежно относился к единственной своей сестре Марии Павловне, а она по сие время преклоняется перед памятью брата, она хранительница его музея в Ялте.
Последнюю страницу пьесы не могу читать без слез. Указала Мартьянову на диапазон роли: от почти буффонады до глубокой драмы. В роли соединяется крайнее добродушие и большое изящество аристократа. Барин до конца ногтей, эстет, брезглив и физически и морально. Есть странности: страсть к биллиарду, любовь к сладкому, снисходительность в отношении к прислуге.
Жизнь идет вперед, а человек остался в старой жизни, одинокий, никому не нужный.
Призыв новой, молодой жизни заставляет их очнуться. Больше медлить нельзя. Кто хочет жить, должен идти за новой жизнью и оторваться от старой. Гаев и Раневская большим волевым усилием сдерживают свои слезы, застывают в молчании. Еще один призыв молодой жизни — Раневская твердо отвечает: «Идем» — и протягивает руку помощи брату. Не знаю, как хочет реагировать Мартьянов на переход в новую жизнь, что ему там мерещится. Не хочу его насиловать и жду, чтобы 519 он решил, хотя большинство исполнителей торопилось на первомайский концерт, и мы так ни о чем и не договорились.
Выход Трофимова с плохо завязанными книгами, которые сыплются, когда он подходит к дивану;
Аня, подбирающая книги;
Лопахин, вызывающий всех из пустых комнат, и
отвечающая издалека Шарлотта;
Аня, отворяющая настежь дверь на балкон, и прощание со старой жизнью.
Аня с Петей вылетают, как птицы из клетки.
Ляля Мирскова пусть читает летом все три акта и строит по ним свой образ простой деревенской, здоровой девушки с твердым желанием не быть кисейной барышней, которую можно увлечь замужеством и семейной жизнью. Ее роль кончается в третьем акте, в четвертом она нашла «путевку в жизнь» и легко, весело идет по ней.
(Пете — Гохману.) Он говорит хорошо, продуманно, логично, по линии роли, охватывая ее целиком, с хорошей перспективой. Но говорит с такой дряблой мускулатурой рта, что плохо запоминается, не попадает мне в жизненные ощущения. А я запоминаю не памятью, а линией жизни. К Ане с огромным уважением. Она на высоте и в практической жизни его переплюнула. Аня бодрит всех и его. Молодец!
Истовый поклон Вари до земли Раневской и Гаеву.
Загадочные слова Лопахина: «До весны!»
Одна на весь дом
Когда ассистент читала последнюю сцену акта, студийцы болтали, а Лилина чуть не заплакала. «Может быть, тут все дело в годах, а им конец жизни непонятен?»
«А Носова даже Носовым не могу назвать, так он вжился в Фирса, так хорошо нашел его органическую старость. Все небось с меня берет, злодей», — язвила Лилина, иронизируя над собой, последним хранителем святынь Станиславского и Художественного театра, последней живой ниточкой, стягивающей трещину, что расколола прошлое и настоящее.
Она не собиралась сдаваться. «Пусть он присмотрится ко мне хорошенько, — записывала она в дневнике репетиций “Вишневого сада”. — Я сижу сгорбленная, в тулупе и в валенках и от глухоты прошу повторить сказанное, но все же я выпрямляюсь, я краснею, я сбрасываю — и быстро — тулуп, я дразню, я задираю актеров, я общаюсь шепотом с Зиной, не упуская из поля зрения учеников, даю директивы ассистентам. Фирс может и должен быть больше своей старости, особенно сегодня: на балу он один на весь дом. Запомните.
520 То, что “Вишневый сад” будет продан, до него не доходит, хотя его ожидания, что с приездом барыни все пойдет по-старому, не сбылись. Это его угнетает. Его старания тщетны, он слабеет, ему нездоровится, один он с трудом справляется — “один на весь дом”, помощников нет. Но он старается устроить вечеринку так, чтобы все было, как прежде…»
Лилина была, как и ее Фирс, «больше своей старости».
Кажется, все круги замкнулись. И в сценической истории «Вишневого сада» Станиславского, Немировича-Данченко, Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой и Лилиной, принявших пьесу из рук автора, и всех их партнеров, помощников и учеников можно поставить точку.
* * *
В эвакуацию вместе с Художественным театром Лилина не уехала. Продолжала репетировать свой «Вишневый сад» с теми, кто оставался в замаскированной, затемнённой Москве. «Я работаю с учениками студии исключительно для того, чтобы поддержать их дух и не дать вывихнуться с надлежащего пути», — писала она Ф. Н. Михальскому, администратору Художественного театра, в Саратов, куда эвакуировалась труппа (V. 13 : 292). «Ах, как мне нужно, как необходимо заниматься с вами, сколько творческих мыслей волнует меня», — говорила Мария Петровна студийцам, с которыми проработала над одним спектаклем пять с лишним лет (V. 13 : 153).
«Дорогуша-Книпперуша, давайте бодро жить, раз судьба нас балует и жизнь дарует. Главное, не ворчать, а терпеть». Это — 5 июля 1942 года (V. 13 : 296). 4 июля она отметила свое семидесятишестилетие.
22 августа 1942 года, в день памяти Тургенева и торгов чеховского «Вишневого сада», приуроченного к этому дню, — поистине дольше полувека длится день, — она съездила на Новодевичье кладбище и на все дорогие могилы возложила цветы — «от Константина Сергеевича». «Такая в этот день была тишина на кладбище, что, казалось, и война замерла из уважения к Константину Сергеевичу. Никому не хотелось уходить и многие оставались до тех пор, пока не раздался сторожевой звонок; тогда все медленно, как-то нехотя поплелись домой» (V. 13 : 298). Лилина чувствовала, что скоро, очень скоро и она переселится сюда.
Ей оставался последний, страшный год, за который она потеряла ногу, а потом в Кремлевке ей ампутировали и руку.
25 августа 1943 года она скончалась. Ее похоронили в «Вишневом саду», как называется уголок Художественного театра в Новодевичьем, за монастырской стеной, там, где ей, человеку с маленькой буквы, как она думала о себе, было радостнее и уютнее рядом с дорогими ей людьми с большой буквы из «старой» жизни, не переродившимися в «новой», чем в «новой» — без них.
521 Еще одна жизнь, подарившая себя «Вишневому саду» Чехова, свершив печальный круг, угасла.
Вернувшись к «Вишневому саду» на закате дней, Лилина еще раз прошла земной путь Чехова, отданный его последней пьесе, всем ее жизням — от Ани до Фирса, и в ее рукописи проступили черты романа-эпопеи на сюжет «Вишневого сада», написанного Чеховым в форме драмы. Еще раз, на закате жизни, она отважилась влезть в старые чеховские одежды, давно сброшенные обществом, и завершила последний труд мужа — «моего руководителя через всю мою жизнь», говорила она внучке, — труд, им не завершенный.
Прожита земная жизнь, перевернута последняя страница затрапезных коленкоровых тетрадок и таких же затрапезных блок-книжек со звездой и серпом и молотом на серых картонных обложках, вынутых из архивной свалки. И вдруг из «Дневника учителя» выпорхнула страничка со стихами, как из пастернаковского «Доктора Живаго».
Не будем слишком строги к прощальным строфам актрисы. Их коснулась ее душа.
Вся обслезилась росою скамья,
Где вы дремали и хмурилась я…
Крупные капли дробятся с дерев,
Солнце печалит осенний напев…
Уж не скользит по изгибам ладья.
Холодом, сыростью дышит вода…
Темны дубы и голы тополя.
К зимнему сну подкатила земля…
Страшной змеей леденеет река.
Тихи пески, камыши, берега…
Снег запушил, забелил зеленя.
Жутко чернея, застыли поля…
Нет, не играет природа лучом
Солнца осеннего — жаркого днем…
Нет, не согреет природу струя
Яркого солнца счастливого дня…
Нет, не согреет нас больше лучом
Солнца осеннего — жаркого днем…
522 ПРИМЕЧАНИЯ24*
АРХИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И КНИГИ
I. СТАНИСЛАВСКИЙ К. С. И О НЕМ
1. Архив К. Р. Барановской-Фальк: 28 43 55 57 129 207 211 225 230 346 363 366 372 447 450 451 460 462.
2. Музей Московского Художественного академического театра. Фонд 3 К. С. Станиславского: 4 16 19 28 36 40 41 52 54 59 83 217 231 232 233 254 255 256 265 293 294 302 304 310 330 376 386 387 389 390 391 392 393 400 – 405 419 429 430 453 – 458 460 465 467 468 469 472 473 475.
3. Российский государственный архив литературы и искусства. Фонд 870 К. С. Станиславского: 4 20 24 29 34 36 37 50 54 264.
4. Собр. соч.: В 9 т. М.: Искусство. Т. 1: Моя жизнь в искусстве, 1988: 7 10 22 31 59 61 105 131 136 138 150 165 220 221 273 342 348 363 481.
5. То же. Т. 5: В 2 кн. Кн. 1: Статьи. Речи. Воспоминания. Художественные записи, 1994: 5 252.
6. То же. Кн. 2: Дневники. Записные книжки. Заметки, 1994: 38 216 220 353.
7. То же. Т. 6: Статьи. Речи. Отклики. Воспоминания. Интервью. Беседы, 1994: 5 22 28 47 55 59 64 84 105 375 425 453 467 469 475.
8. То же. Т. 7: Письма, 1995: 11 – 19 21 22 52 54 57 64 94 113 142 145 151 164 165 166 167 169 171 – 176 205 206 207 208 209.
9. Собр. соч.: В 8 т. М.: Искусство. Т. 8: Письма, 1961: 325 333 355 357 391 447 450 451 454.
10. Режиссерские экземпляры: В 6 т. М.: Искусство. Т. 1: Пьесы А. К. Толстого, 1980.
11. То же. Т. 2: «Чайка» А. П. Чехова, «Михаэль Крамер» Г. Гауптмана, 1981.
523 12. То же. Т. 3: Пьесы А. П. Чехова «Три сестры», «Вишневый сад», 1983: 110 111 121 122 138 149 156 157.
13. Из записных книжек: В 2 т. М.: ВТО, 1986. Т. 1.
14. То же. Т. 2: 22 31 55 59 125.
15. Бурышкин П. Л. Москва купеческая. М.: Столица, 1990.
16. Виноградская И. И. Жизнь и творчество К. С. Станиславского. Летопись: В 4 т. М.: ВТО. Т. 1, 1971: 14 77 94 187 217.
17. То же. Т. 2, 1971: 253 258.
18. То же. Т. 3, 1973: 255 273.
II. ЧЕХОВ А. П. И О НЕМ
1. Российская государственная библиотека, отдел рукописей. Фонд 331 А. П. Чехова: 5 6 19 22 24 25 26 30 34 48 51 55 56 66 68 70 86 114 115 118 123 125 133 142 149 154 166 168 169 170 172 173 182 198 206 211 228 233 234 235 262 263 264 274 276 281 282 284 308 314 368 387 417 433.
2. Собр. соч.: В 18 т. М.: Наука. Т. 12, 1986.
3. То же. Т. 13, 1986: 10 23 24 25 50 58 63 64 74 91 109 121 167 205 350.
5. Собр. писем: В 12 т. М.: Наука. Т. 3., 1976: 72 84.
6. То же. Т. 4, 1976.
9. То же. Т. 7, 1979: 73 177 276.
10. То же. Т. 8, 1980: 196 429.
12. То же. Т. 10, 1981: 6 11 13 85.
13. Тоже. Т. 11, 1982: 5 7 8 28 29 33 47 49 52 56 59 60 61 62 63 66 69 73 86 107 113 114 117 124 125 131 135 141 144 145 156 166.
14. То же. Т. 12, 1983: 10 90 91 107 108 109 112 126 142 147 151 158 172 177 197 198.
15. Литературное наследство. Т. 68: Чехов А. П. М.: Академия наук СССР, 1960.
16. М. Горький и А. Чехов. Сборник материалов. Переписка. Статьи. Высказывания. М.: ГИХЛ, 1951: 57 77 122 181.
17. Гитович Н. И. Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. М.: ГИХЛ, 1955: 7.
18. Юбилейный чеховский сборник. М.: Заря, 1910: 19 62 59.
19. Измайлов А. А. Чехов 1860 – 1904. Биографический набросок. М., 1916.
20. Эфрос Н. Е. «Вишневый сад». Пьеса А. П. Чехова в постановке Московского Художественного театра: Светозар, 1919: 106.
21. Чехов в воспоминаниях современников. М.: ГИХЛ, 1952: 9 32 87 93 143 147 196 386.
22. Чехова М. П. Письма к брату А. П. Чехову. М.: ГИХЛ, 1954.
23. Бунин И. А. Собр. соч.: В 5 т. М.: Правда, 1956. Т. 5: 48 61 204.
24. Чехов М. П. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления: Московский рабочий, 1960.
25. Чеховские чтения в Ялте. М.: Книга, 1976.
26. Полоцкая Э. А. А. П. Чехов. Движение художественной мысли. М.: Советский писатель, 1979.
27. Ремез О. Я. Голоса Любимовки. М.: Искусство, 1980.
524 28. Линков В. Я. Художественный мир прозы А. П. Чехова. М.: МГУ, 1982.
29. Чудаков А. П. Антон Павлович Чехов. М.: Просвещение, 1987.
30. Зингерман Б. И. Театр Чехова и его мировое значение. М.: Наука, 1988.
31. Катаев В. Б. Литературные связи Чехова. М.: МГУ, 1989.
32. Чеховиана. Статьи, публикации, эссе. М.: Наука, 1990: 63 516.
III. НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО ВЛ. И.
1. Музей Московского Художественного театра. Фонд 4 Вл. И. Немировича-Данченко: 109 161 257 325.
2. Из прошлого. М.: Academia, 1936: 85 139 153 417.
3. Театральное наследие: В 2 т. М.: Искусство. Т. 1: Статьи. Речи. Беседы. Письма, 1952: 100 117 124 148 343.
4. То же. Т. 2: Избранные письма, 1954.
5. Избранные письма: В 2 т. М.: Искусство, 1979. Т. 1: 5 68 99 110 111 113 122 124 154 187 208 360.
7. Рецензии. Очерки. Статьи. Интервью. Заметки. М.: ВТО, 1980: 100.
IV. КНИППЕР-ЧЕХОВА О. Л. И О НЕЙ
1. Музей Московского Художественного театра. Фонд 48 О. Л. Книппер-Чеховой: 30 50 96 154 155 159 173 174 204 205 212 – 214 226 228 247.
2. Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер-Чеховой: В 2 т. Т. 1. М.: Мир, 1936: 7 151 156 159.
3. То же. Т. 2: ГИХЛ, 1936.
4. Книппер-Чехова Ольга Леонардовна: В 2 т. М.: Искусство, 1972. Т. 1: Воспоминания и статьи. Переписка с А. П. Чеховым (1902 – 1904): 33 62 112 123 124 131 132 140 158 167 169 170 172 175 177 178 179 180 188 372 374.
5. То же. Т. 2: Переписка (1896 – 1959). Воспоминания об О. Л. Книппер-Чеховой: 33 45 56 78 250 251 328 348 356 358 377.
6. Туровская М. И. Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. М.: Искусство, 1959: 371.
V. АКТЕРЫ И ДЕЯТЕЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА.
МОНОГРАФИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ, ПИСЬМА, МЕМУАРЫ.
СТАТЬИ О НИХ И О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕАТРЕ
1. Андреева М. Ф. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. Воспоминания о М. Ф. Андреевой. М.: Искусство, 1961: 129 151 156.
2. Бассехес А. И. Художники на сцене МХАТ. М.: ВТО, 1960.
3. Веригина В. П. Воспоминания. Л.: Искусство, 1974: 64.
4. Вульф В. Я. А. И. Степанова — актриса Художественного театра. М.: Искусство, 1985.
5. Гзовская О. В. Пути и перепутья. Портреты. Статьи и воспоминания об О. В. Гзовской. М.: ВТО, 1976.
6. Гиацинтова С. В. С памятью наедине. М.: Искусство, 1985.
7. Гремиславский И. Я. Композиция сценического пространства в творчестве В. А. Симова. М.: Искусство, 1953.
8. Гремиславский И. Я. Сборник статей и материалов. М.: Искусство, 1976.
525 9. Добронравов Б. Г. Статьи. Воспоминания. Документы. М., Искусство: 1983: 316.
10. Ежегодник Московского Художественного театра. 1944. Т. 1: Музей МХАТ и МХАТ СССР им. М. Горького, 1946: 9 62 130 133 175 208 275 315.
11. Качалов В. И. Сборник статей, воспоминаний, писем. М.: Искусство, 1954.
12. Леонидов Л. М. Воспоминания, статьи, беседы, переписка, записные книжки. Статьи и воспоминания о Л. М. Леонидове. М.: Искусство, 1960: 99 116 125 138.
13. Лилина М. П. М.: ВТО, 1960: 127 129 130 357 451 452 476 477 520.
14. Литературно-художественный альманах. Кн. 23. СПб.: Шиповник, 1914.
15. Лобанов Л. М. Документы, статьи, воспоминания. М.: Искусство, 1980: 359 360.
16. Мейерхольд В. Э. Переписка. М.: Искусство, 1976: 44 126 146.
17. Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 т. М.: Искусство, 1968. Т. 1: 95 146 223.
18. Михаловская Н. Н. Глазами и сердцем актрисы. М.: Искусство, 1986: 345.
19. Московский Художественный театр. М.: Рампа и жизнь, 1913. Т. 1: 1898 – 1905.
20. Нехорошей Ю. И. Художник В. А. Симов. М.: Советский художник, 1984.
21. Полякова Е. И. Москвин. М.: Искусство, 1995.
22. Пыжова О. И. Призвание. М.: Искусство, 1974: 317.
23. Тарасова А. К. Документы и воспоминания. М.: Искусство, 1978: 353.
24. Ульянов П. П. Мои встречи. М.: Академия художеств СССР, 1952.
25. Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М.: Искусство, 1986. Т. 1.
26. То же. Т. 2.
27. Шверубович В. В. О старом Художественном театре. М.: Искусство, 1990: 257.
КОНЦЕВЫЕ СНОСКИ
1 О Станиславском. Сборник воспоминаний. М.: ВТО, 1948. С. 19.
2 Цит. по: Соболев Ю. В. В. И. Немирович-Данченко. Пг.: Солнце России, 1918. С. 78.
3 Философов Д. В. Старое и новое. Сборник статьей по вопросам искусства и литературы. М., 1912. С. 218 – 224.
4 Там же. С. 220.
5 Там же. С. 233.
6 ГЦТМ (Государственный центральный театральный музей им, Л. Л. Бахрушина). Ф. 216. Ед. хр. 515. Л. 20.
7 Эту и вторую записку Лили Глассби к Чехову впервые опубликовал в своей статье «Лили Глассби — прототип Шарлотты» английский славист Харви Питчер (II. 32 : 158 – 166).
8 Harvej Pitcher. Lilj: an Anglo-Russian Romance. Cromer, Norfolk, Swallow House Books, 1987.
9 Вишневский А. Л. Клочки воспоминаний. Л.: Academia, 1928. С. 98.
10 П. К. [Кичеев П. И.]. Художественный театр. «Вишневый сад» // Курьер. 1904. 19 января.
11 Пилявская С. С. Подолгу памяти. М.: ГИТИС, 1994. С. 53.
12 Дорошевич В. М. Антон Павлович Чехов // Русское слово. 1904. 3 июля.
13 526 Карпов Е. П. Из прошлого. Из встреч с Антоном Павловичем Чеховым // Театральная газета. 1917. 14 ноября.
14 Цит. по: К правде. Литературно-публицистический сборник. М.: Книжное дело, 1904. С. 196.
15 Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. М.: Искусство. Т. 8: Письма, 1998. С. 348.
16 А. В. Амф[итеатро]в. Театральный альбом. III. «Вишневый сад». Статья первая // Русь. СПб. 1904. 3 апреля.
17 Там же.
18 ЦИА г. Москвы (Центральный исторический архив г. Москвы). Ф. 418 Московский государственный университет. Оп. 319. Д. 1216. Историко-филологическая испытательная комиссия о Сергееве Владимире.
19 РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства). Ф. 680 Училища живописи, ваяния и зодчества. Оп. 2. Ед. хр. 1103.
20 Дорошевич В. М. Чеховский вечер // Русское слово. 1904. 19 января.
21 К десятилетию со дня смерти А. П. Чехова. А. П. Чехов в воспоминаниях современников // Биржевые ведомости. СПб. 1914. 1 июля. № 14231. С. 5 – 6.
22 Тройнов В. Московские встречи // Литературная газета. 1938. 30 марта.
23 РГАЛИ. Ф. 681 ВХУТЕМАС. Оп. 1. Ед. хр. 2324. Личное дело студентки факультета живописи Смирновой Н. С. С. 2.
24 ГТГ (Государственная Третьяковская галерея, рукописный отдел). Ф. 61 Смирновой Н. С. Ед. хр. 3.
25 ЦИА г. Москвы. Ф. 441. Оп. 1. Д. 202 канцелярии Педагогического института им. П. Г. Шелапутина. Л. 15.
26 Там же. Л. 9.
27 Там же. Л. 26.
28 Там же. Л. 18.
29 Кугель А. Р. Чехов теперь. К 20-летию со дня кончины А. П. Чехова // Жизнь искусства. 1924. 15 июля. № 29.
30 Там же.
31 Амфитеатров А. В. Собр. соч. СПб., 1912. Т. XXXV. С. 193.
32 Петербургская газета. 1910. 17 января.
33 Чехов А. П. Собр. писем: в 12 т. М.: Наука. Т. 1, 1974. С. 184. В дальнейшем — Чехов А. П. Письма. Том, год издания. Цитируемая страница.
34 Галковский Д. Е. Бесконечный тупик. Фрагменты книги // Новый мир. 1992. № 11. С. 238.
35 Петербургская газета. 1910. 17 января.
36 РГАЛИ. Ф. 998 Мейерхольда В. Э. Оп. 1. Ед. хр. 386. Л. 1.
37 Литературное наследство. Т. 85: Валерий Брюсов. М.: Наука, 1976. С. 190 – 194.
38 А. Крайний [Гиппиус З. Н.]. Что и как // Новый путь. СПб. 1904. № 5.
39 Смоленский [Измайлов А. А.]. «Вишневый сад», пьеса А. П. Чехова // Биржевые ведомости. СПб. 1904. 3 апреля.
40 Новое время. СПб. 1904. 22 января. № 10016.
41 Новости дня. М. 1904. 20 января.
42 А. В. Амф[итеатро]в. Театральный альбом. IV. «Вишневый сад». Статья вторая // Русь. СПб. 1904. 4 апреля.
43 527 Любимов Н. Былое лето. Из воспоминаний зрителя. М.: Искусство, 1982, С. 54.
44 Цит. по кн.: Рогачевский М. Л. Трагедия трагика, М.: Искусство, 1998. С. 143.
45 Книппер-Чехова О. Л. Чехов и Горький в Художественном театре // Учительская газета. 1938. 27 октября.
46 Музей МХАТ. Фонд 228 Леонидова Л. М. Ед. хр. 7.
47 Московские ведомости. 1904. 7 февраля.
48 Новости дня. 1904. 23 января.
49 Русское слово. 1904. 19 января.
50 Русское слово, 1904. 3 июля.
51 Беседа с народным артистом республики И. М. Москвиным // Таганрогская правда. 1935. 30 мая.
52 Раннее утро. М., 1914. 21 января.
53 Книппер-Чехова О. Л. Чеховские роли // Октябрь. 1959. № 8. С. 218.
54 Минувшее. Выпуск 17. М.; СПб.: Atheneum — Феникс, 1994. С. 244.
55 Щепкина-Куперник Т. Л. Портрет актрисы // Советское искусство. 1938. 20 октября.
56 РГАЛИ. Ф. 549 Чехова А. П. Оп. 1. Ед. хр. 310. Л. 4.
57 Там же.
58 Брендер В. А. Наш Антон // Утро России. М. 1914. 17 января.
59 Артисты Художественного театра за рубежом. С. 28.
60 Там же. С. 25.
61 Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. С. 156.
62 Сулержицкий Л. А. М.: Искусство, 1970. С. 435.
63 Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. М.: Искусство. Т. 7, 1960. С. 429.
64 Кугель А. Р. Театральные заметки // Театр и искусство. 1905. № 40. С. 645.
65 Карпов Е. П. Из прошлого. Из встреч с А. П. Чеховым // Театральная газета. 1917. 4 ноября.
66 Мацкин А. П. Портреты и наблюдения. М.: Искусство, 1973. С. 65.
67 Соболев Ю. В. В. И. Немирович-Данченко. С. 139.
68 РГАЛИ. Ф. 549. Оп. 1. Ед. хр. 310. Л. 4 об.
69 Там же.
70 Дорошевич В. М. А. П. Чехов // Русское слово. 1904. 3 июля.
71 Дорошевич В. М. Десять лет // Русское слово. 1914. 17 января.
72 Литературное наследство: Валерий Брюсов. С. 196.
73 Книппер-Чехова О. Л. О Чехове и о театре // Театр и драматургия. 1935. № 2. С. 15.
74 Дорошевич В. М. А. П. Чехов // Русское слово. 1904. 3 июля.
75 Сила чеховских образов (беседа с О. Л. Книппер-Чеховой) // Комсомолец Донбасса. Сталина 1939. 28 мая.
76 Nobody. Станиславский и свобода творчества // Театральная Россия. 1905. № 18. С. 310.
77 Беляев Ю. Д. Театр и музыка. Спектакли Московского Художественного театра. II. «Вишневый сад» // Новое время. 1904. 3 апреля. № 10087.
78 Маленькая хроника // Театр и искусство. 1914. 29 июня. № 26. С. 572.
79 Артисты Московского Художественного театра за рубежом. Прага: Наша речь, 1922. С. 26 – 27.
80 Соболев Ю. В. В. И. Немирович-Данченко. С. 101.
81 ГЦТМ. Ф. 216. Ед. хр. 515. Л. 20.
82 Ниротморцев М. Десятилетие «Вишневого сада» // Театр. 1914. 17 января. № 1435. С. 7.
83 Безобразов И. В. Памяти А. П. Чехова // Санкт-петербургские ведомости. 1910. 16 января.
84 528 В. Б. [Брендер В. А.]. Именины Чехова // Утро России. М. 1914. 17 января.
85 Дорошевич В. М. Десять лет // Русское слово. 1914. 17 января.
86 Гнедич П. П. Два антипода // Театр и искусство. 1914. 13 июля. С. 603.
87 Артисты Московского Художественного театра за рубежом. С. 31.
88 Театр и искусство. 1904. № 12. С. 245.
89 Россовский Н. А. Театральный курьер // Петербургский листок. 1904, 30 марта. № 87.
90 Петербургский обозреватель [Розенберг И. С.]. Эскизы и крошки // Петербургская газета. 1904. 1 апреля. № 89. С. 4.
91 Беляев Ю. Д. Театр и музыка. Спектакли Московского Художественного театра. I. «Юлий Цезарь» // Новое время. СПб. 1904. 31 марта. № 10084. С. 4.
92 Кугель А. Р. Заметки о Художественном театре // Театр и искусство. 1904. 4 апреля. № 14. С. 295.
93 Лейкин Н. А. Летучие заметки. «Юлий Цезарь» // Петербургская газета. 1904. 2 апреля. № 90. С. 5.
94 См.: Рогачевский М. Л. Трагедия трагика. С. 137.
95 Лейкин Н. А. Летучие заметки. «Чайка» // Петербургская газета. 1896. 19 октября.
96 Николаев Н. И. У художественников // Театр и искусство. 1904. 29 февраля. № 9. С. 196.
97 РГАЛИ. Ф. 998 Мейерхольда В. Э. Оп. 2. Ед. хр. 385. Л. 4.
98 Зигфрид [Старк Э. А.]. Эскизы. Московский Художественный театр // Санкт-Петербургские ведомости. 1904. 27 марта.
99 Буренин В. П. Критические очерки // Новое время. 1904. 26 марта. № 10079. С. 4.
100 Чацкий [Философов Д. В.]. «Вишневый сад» А. П. Чехова. Первое представление 1 апреля 1904 года // Петербургская газета. 1904, 2 апреля. № 90, С. 5.
101 Чехов А. П. Собр. соч.: в 18 т. М.: Наука. Т. 17, 1987. С. 403. В дальнейшем: Чехов А. П. Соч. Том, год издания. Цитируемая страница.
102 Петербургский листок. 1904. 2 апреля.
103 Биржевые ведомости. СПб. 1904. 2 апреля.
104 Там же. 3 апреля.
105 Беляев Ю. Д. Театр и музыка. Спектакли Московского Художественного театра. II. «Вишневый сад» // Новое время. 1904. 3 апреля. № 10087. С. 4.
106 Там же.
107 Петербургская газета. 1904. 2 апреля. № 90. С. 5.
108 Чацкий [Философов Д. В.]. «Вишневый сад» А. П. Чехова. Первое представление 17 января 1904 года // Петербургская газета. 1904. 20 января. № 19. С. 4.
109 Петербургская газета. 1904. 2 апреля. № 90. С. 5.
110 Там же.
111 Театр и искусство. 1904. 28 марта. № 13. С. 264.
112 А. В. Амф[итеатро]в. Театральный альбом. III. «Вишневый сад». Статья первая // Русь. 1904. 3 апреля.
113 А. В. Амф[итеатро]в. Театральный альбом. IV. «Вишневый сад». Статья вторая // Русь. 1904. 4 апреля.
114 Театр и искусство. 1904. 28 марта. № 13. С. 264.
115 529 Волжский [Глинка А. С]. Литературные отголоски. «Вишневый сад» Чехова в Художественном театре // Журнал для всех. 1904. Май. № 5. С. 298; 302.
116 Там же.
117 Новое время. 1904. 3 апреля. № 10087. С. 4.
118 Петербургская газета. 1904. 2 апреля. № 90. С. 5.
119 Гуревич Л. Я. Возрождение театра // Образование. 1904. Апрель. № 4. С. 89; 96.
120 Там же.
121 Петербургский листок. 1904. 2 апреля.
122 Театр и искусство. 1904. 4 апреля. № 14. С. 297.
123 Там же. 11 апреля. № 15. С. 304.
124 Петербургский листок. 1904. 2 апреля.
125 Биржевые ведомости. 1904. 3 апреля.
126 Новое время. 1904. 3 апреля.
127 Петербургская газета. 1904. 2 апреля.
128 Театр и искусство. 1904. 11 апреля. № 15. С. 305.
129 Гуревич Л. Я. Возрождение театра. С. 92.
130 Театр и искусство. 1904. 28 марта. № 13. С. 264.
131 Театр и искусство. 1904. 11 апреля. № 15. С. 305; 263; 304.
132 Там же.
133 Там же.
134 Образование. 1904. № 4. С. 92.
135 Проблемы идеализма, Сборник статей. М.: Психологическое общество, [1902]. С. 22, 23.
136 Там же. С. 31.
137 Русь. 1904. 4 апреля.
138 Там же.
139 Журнал для всех. 1904. Май. № 5. С. 304; 303.
140 Там же.
141 Архив Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и области. Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Следственное дело о контрреволюционном заговоре Амфитеатровых. 1921 год. Петроград.
142 Суворин А. С. Театр и музыка // Новое время. 1896. 18 октября.
143 Суворин А. С. Маленькие письма // Новое время. 1904. 29 апреля. № 10113. С. 2.
144 Измайлов А. А. Похороны Чехова // Биржевые ведомости. 1904. 12 июля. № 189. С. 1.
145 Лица. Биографический альманах. Выпуск 4. СПб.: Феникс, 1994. С. 438.
146 М. Горький. Собр. соч.: В 30 т. М.: ГИХЛ. Т. 28, 1954. С. 310.
147 [Эфрос Н. Е.]. Спектакль Метерлинка // Новости дня. М. 1904. 3 октября. № 7633. С. 2.
148 Эфрос Н. Е. Из Москвы // Театр и искусство. 1904. 24 октября. № 43. С. 766 – 767.
149 [Брюсов В. Я]. Метерлинк на сцене Художественного театра // Весы. М. 1904. № 10. С. 80 – 81.
150 Воронежский краеведческий музей. Фонд Соколовой З. С.
151 Кугель А. Р. Театральные заметки // Театр и искусство. 1905. № 40. С. 643.
152 Там же. С. 645.
153 Чествование Чехова // Русские ведомости. 1910. 19 января.
154 530 Эфрос Н. «Вишневый сад». К сегодняшнему спектаклю Художественного театра // Одесские новости. 1913. 18 мая.
155 Перцов П. П. Литературные письма // Новое время. 1910. 17 января.
156 Перцов П. П. Десятилетие смерти Чехова // Новое время. 1914. 2 (15 июля).
157 Розанов В. В. Литературные беседы // Колокол. Петроград. 1916. 19 мая.
158 Цит. по: Булгаков С. П. Чехов как мыслитель. М.: Литературный кружок им. А. П. Чехова, 1910. С. 8.
159 Гуревич Л. Я. Гастроли Московского Художественного театра. «Вишневый сад» А. П. Чехова // Слово. СПб. 1908. 20 апреля.
160 Оптимист [Чюмина О. Н.]. Прощание с «Вишневым садом» // Слово. 1908. 16 апреля.
161 П. Сурожский [Шатилов П. Н.]. Петербургские силуэты. X. «Вишневый сад» на сцене Художественного театра // Приазовский край. Ростов-на-Дону. 1908. 11 мая.
162 Николаев Н. И. Эфемериды. Киев: Общество искусства и литературы, 1912. С. 141.
163 Чествование Чехова // Русские ведомости. 1910. 19 января.
164 Николаев Н. И. Эфемериды. С. 139.
165 Музей МХАТ. Библиотека.
166 Соболев Ю. В. День Чехова. Юбилейный спектакль // Театр. 1914. 17 января. № 1435. С. 4.
167 Книппер-Чехова О. Л. Наша слава // Литература и искусство. 1942. 7 ноября.
168 Театральная правда. Сборник статей. Тбилиси: Театральное общество Грузии, 1981. С. 166.
169 Эфрос Н. Е. Обновленный «Вишневый сад» // Рампа и жизнь. 1911. № 40. С. 16.
170 Николаев Н. И. Эфемериды. С. 138 – 147.
171 Нечто о Чехове. Беседа с О. Л. Книппер // Театр. 1916. 20 февраля. № 1820. С. 5.
172 Чеховские торжества // Утро России. 1910. 19 января. № 8451. С. 3.
173 Боборыкин П. Д. Чеховские дни // Биржевые ведомости. СПб. 1910. 21 января.
174 Там же.
175 РГАЛИ. Ф. 34 Амфитеатрова А. В. Оп. 1. Ед. хр. 165.
176 ГЦТМ. Ф. 82. Ед. хр. 245.
177 Там же.
178 РГАЛИ. Ф. 34. Оп. 1. Ед. хр. 168.
179 Там же.
180 Архив Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Следственное дело о контрреволюционном заговоре Амфитеатровых.
181 РГАЛИ. Ф. 34. Оп. 2. Ед. хр. 40.
182 М. Горький. Несвоевременные мысли. М.: Современник, 1991. С. 35.
183 Там же. С. 11.
184 Литовский О. Театр — сегодня // Известия. 1922. 20 сентября.
185 Музей МХАТ. Фонд 1 МХАТ. 1897 – 1987. Сезон 1918/19.
186 Беседа с Ольгой Леонардовной // Социалистический Донбасс. Сталине 1939. 26 мая.
187 Руль. Берлин. 1921. 29 ноября. № 314.
188 Литовцев С. Московский Художественный театр // Голос России. Берлин. 1921. 1 декабря.
189 Музей МХАТ. Библиотека.
190 Голос России. 1921. 6 января.
191 Н. Р. [Рахманов Н.]. Художественный театр // Воля России. Прага. 1921. 3 мая.
192 Там же.
193 Офросимов Ю. Московские художники // Руль. Берлин. 1921. 24 декабря.
194 531 Артисты Московского Художественного театра за рубежом. С. 29.
195 Там же.
196 Музей МХАТ. Фонд 1. Сезон 1919/20.
197 Литовцев С. Московский Художественный театр // Голос России. Берлин, 1921. 1 декабря. № 828.
198 Литовцев С. Московский Художественный театр. «Вишневый сад» // Голос России. Берлин. 1921. 6 января.
199 Артисты Московского Художественного театра за рубежом. С. 42.
200 Леонидов О. На пути к романтизму // Театральный курьер. 1918. 3 октября. № 14. С. 4.
201 Гайдаров В. в театре и в кино. Л.; М.: Искусство, 1966. С. 34.
202 Станиславский репетирует. Записи. Стенограммы репетиций. М.: СТД РСФСР, 1987. С. 258.
203 Там же. С. 231.
204 Музей МХАТ. Фонд 1. «Каин».
205 Станиславский репетирует. С. 244.
206 Там же. С. 266.
207 Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 2, 1989. С. 189.
208 Музей МХАТ. Фонд 1. «Каин».
209 Там же.
210 Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 т. М., Искусство. Т. 2, 1968. С. 27 – 28.
211 Там же.
212 Вестник театра. М. 1921. 5 апреля. № 87 – 88. С. 12.
213 М. Горький. Несвоевременные мысли. С. 84.
214 Цит. по: Бродская Г. Ю. Горький и Станиславский // Театр. М. 1991. № 10. С. 107.
215 Архив Управления ФСБ по Москве и Московской области. Следственное дело Н. И. Константиновой.
216 ЦГА (Центральный государственный архив Российской Федерации). Ф. А-2306. Оп. 2. Ед. хр. 796. Ч. П. Л. 263, 263 об.
217 Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 153.
218 68. [без подписи]. Чехов и Горький в Художественном театре // Накануне. Берлин. 1922. 4 октября.
219 Там же.
220 М. Я. Р. Московский Художественный театр. «Вишневый сад» // Голос России, Берлин. 1922. 10 октября.
221 Офросимов Ю. Художественный театр. «Три сестры» // Руль, Берлин. 1922. 7 октября.
222 Голос России. Берлин. 1922. 10 октября.
223 Офросимов Ю. Московские художники // Руль. Берлин. 1921. 24 декабря.
224 Бальмонт К. Д. К. С. Станиславскому. Париж, 1923. 29 октября // Звено. Париж. 1923. 5 ноября.
225 Последние новости. Париж. 1923. 27 октября.
226 Музей МХАТ. Фонд 1. Сезон 1923/24.
227 Там же.
228 Зрелища. 1923. № 59. С. 8 – 9.
229 Икар [Ардов В. Е.]. Страшная ночь в МХТ // Зрелища. 1923. № 59. С. 15.
230 Бескин Э. М. Пожар «Вишневого сада». К постановке «Лизистраты» // Зрелища. 1923. № 42. С. 4 – 5.
231 81. Немирович-Данченко В. И. о том, почему и как поставлена «Лизистрата» // Зрелища. 1923. № 54. С. 7.
232 532 Беседа с Немировичем-Данченко. «Лизистрата» — к открытию сезона // Правда. 1923. 15 сентября.
233 ЦГА. Ф. 298 Государственный ученый совет. Оп. 1. Ед. хр. 124. Л. 11.
234 Там же. Л. 12.
235 Бескин Э. М. Земля осталась // Зрелища. 1923. № 59. С. 6.
236 Горчаков П. М. Режиссерские уроки К. С. Станиславского. М.: Искусство. 1952. С. 50.
237 Соболев Ю. В. Новые формы нужны. К двадцатилетию со дня смерти А. П. Чехова // Новая рампа. 192115 – 20 июля. № 5. С. 5.
238 Луначарский А. В. Станиславский, театр и революция // Известия. 1933. 18 января.
239 Потапенко И. Н. Двадцатая годовщина // Новая рампа. 1924. 15 – 20 июля. № 5. С. 3.
240 Бескин Э. М. «Женитьба Фигаро» в Художественном театре // Вечерняя Москва. 1927. 10 мая.
241 Блюм В. И. О чеховской драматургии // Книга и революция. 1929. № 15 – 16, С. 14.
242 Марголин С. А. Молодняк МХАТ-1 // Новый зритель. 1927. № 13.
243 Луначарский А. В. «Бронепоезд 14-69» в МХАТе // Вечерняя Москва. 1927. 26 февраля.
244 Луначарский А. В. Театр. Репертуарный голод // Красная газета. 1928. 14 марта.
245 Наши писатели о Чехове // Иллюстрированная жизнь. Париж. 1923. 12 июля. № 18. С. 2.
246 Кугель А. Р. Чехов теперь. К двадцатилетию со дня кончины А. П. Чехова // Жизнь искусства. 1924. 15 июля. № 29.
247 Соболев Ю. В. Новые формы нужны // Новая рампа. 1924. 15 – 20 июля. № 5. С. 5.
248 Жизнь искусства. 1924. 15 июля. № 29.
249 Соболев Ю. В. Из материалов о Чехове-драматурге // Художник и зритель. 1924. № 2 – 3. С. 10.
250 Кизеветтер А. А. На рубеже столетий. Воспоминания. 1881 – 1914. М.: Искусство, 1997. С. 39.
251 Ганжулович Г. А. П. Чехов. К 20-летию со дня смерти // Коммунист, Харьков. 1924. 13 июля.
252 Там же.
253 Диспут о «Днях Турбиных» и «Любови Яровой» // Правда. 1926. 10 февраля.
254 Тальников Д. Л. Лебединая песнь. «Вишневый сад» в Художественном театре // Прожектор. 1928. 17 июня. № 25.
255 Хромов С. О театре Чехова. «Вишневый сад» в МХАТ // Читатель и писатели. 1928. 2 июня.
256 Б. Открытие гастролей Художественного театра. «Вишневый сад» // Смена. Ленинград. 1928. 22 июня.
257 Пиотровский Адр. «Вишневый сад» // Красная газета. 1928. 21 июня. Вечерний выпуск.
258 Павлов В. А. У своей колокольни // Новый зритель. 1928. № 29/30.
259 Илунин А. Спор о «Вишневом саде». По поводу возобновления пьесы Чехова и статьи С. Хромова в «Читателе и писателе» // Читатель и писатель. 1928. 16 июня.
260 533 Хромой С. О театре Чехова. «Вишневый сад» в МХАТ // Читатель и писатель. 1928. 2 июня.
261 Книппер-Чехова О. Л. Из воспоминаний о Чехове и Художественном театре // Красная газета. 1928. 27 мая. Вечерний выпуск.
262 Н. Крэн [Кружков Н. П.]. Парад величайшего мастерства // Рабочая Москва. 1928. 2 ноября.
263 Звездич Ив. После юбилея. Юбилей МХАТ перед судом марксистского театроведения // Новый зритель. 1928. 25 ноября. № 48.
264 Советское искусство. 1935. 30 сентября.
265 Вдохновенная пьеса. Беседа с народным артистом РСФСР орденоносцем В. Л. Ершовым // Комсомолец Донбасса. 1939. 28 мая.
266 Орлов В. А. Бриллиантовый дар оптимизма // Театр. М. 1969. № 12, С. 69.
267 Там же.
268 Кнебель М. О. Образы, созданные актерами // Работа над образом. Труд актера. Выпуск 32. М.: Советская Россия, 1985. С. 8.
269 Бейер М. «Вишневый сад» // Говорит СССР. 1935. № 8. С. 30.
270 Патрикеев Б. Величайшее актерское мастерство // Кировец. Ленинград. 1938. 14 июня.
271 Иллюстрированная жизнь. Париж. 1934. 12 июля. № 18. С. 3.
272 Книппер-Чехова О. Л. Наша слава // Литература и искусство. 1942. 7 ноября.
273 Горьковец. М. 1937. 20 февраля. С. 2.
274 Советское искусство 1936. 6 декабря.
275 Сила чеховских образов. Беседа с О. Л. Книппер-Чеховой // Комсомолец Донбасса. Сталине. 1939. 28 мая.
276 Еланская К. Н. Памяти О. Л. Книппер-Чеховой // Литература и жизнь. 1959. 7 марта.
277 Комсомолец Донбасса. 1939. 28 мая.
278 Книппер-Чехова О. Л. Самый дорогой человек // Советское искусство. 1953. 10 марта.
279 Виленкин В. Я. Ольга Леонардовна // Советская культура. 1981. 29 декабря.
280 Горьковец. 1940. 1 октября. № 17.
281 Книппер-Чехова О. Без ролей. Неутоленная жажда // Советское искусство. 1937. 23 сентября.
282 Там же.
283 Там же.
284 Книппер-Чехова О. Л. Хочу создать образ советской женщины // Красное знамя. Харьков. 1938. 2 августа.
285 Там же.
286 Социалистический Донбасс. Сталине. 1939. 22 мая.
287 Советское искусство. 1937. 23 сентября.
288 Советский театр. 1935. № 10, С. 15.
289 Советское искусство. 1937. 23 сентября.
290 Марков П. А. История моего современника // Театр. 1970. № 11. С. 140.
291 Театр. 1969. № 12. С. 69.
292 Советская культура. 1981. 29 декабря.
293 Чаговец Всеволод. О. Л. Книппер-Чехова // Советская Украина. Киев. 1939. 24 июня.
294 Театр. 1969. № 12. С. 69.
295 Советская Украина. Киев. 1939. 24 июня.
296 Тальников Д. Л. О чувстве жанра // Советское искусство. 1939. 24 ноября.
297 534 Образование. СПб. 1904. Апрель. № 4. С. 95.
298 Новое время. 1904. 29 апреля. № 10113. С. 2.
299 Прожектор. 1928. 17 июня. № 25.
300 Чехов А. П. Соч. Т. 10, 1986. С. 175.
301 РГАЛИ. Ф. 2784 Севастьяновых. Оп. 1. Ед. хр. 30. Л. 24; 5 об.
302 Там же.
303 Рабис. 1930. 20 ноября. № 44. С. 2.
304 Там же.
305 Там же.
306 Там же.
307 Центральный архив ФСБ РФ. Следственное дело Промпартии. Т. 84. Л. 143 об.
308 Центральный архив ФСБ РФ. Следственное дело Д. И. Четверикова.
309 Там же.
310 Центральный архив ФСБ РФ. Следственные дела С. М. Алексеева.
311 Центральный архив ФСБ РФ. Следственное дело В. В. Бостанжогло.
312 Архив Управления ФСБ РФ по Свердловской области. Следственное дело А. С. Иванова.
313 Архив Управления ФСБ по Москве и Московской области. Следственное дело Б. А. Гальнбека.
314 РГАЛИ. Ф. 681 ВХУТЕМАС. Оп. 1. Ед. хр. 2324. Л. 1, 2.
315 Сибирь и Поволжье // Советское искусство, 1939. № 56 (636).
316 Георгиева Ел. Две бригады. На строительстве Всесоюзной сельскохозяйственной выставки // Комсомольская правда. 1939. 3 июля. № 55.
317 Центральный архив ФСБ РФ. Следственные дела III.
318 Немировский А. И. Размышление об учителе. В. С. Сергеев. 1883 – 1941 // Ученики об учителях. М.: МГУ. Совет ветеранов войны и труда, 1990. С. 154.
535 СВОДНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ I И II ТОМОВ
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
АБРАМОВ Иван Николаевич (р. 1908) — ученик Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Фирс II: 462 490
АБРАМОВА (наст. фам. Гейнрих) Мария Морицевна (1865 – 1892) — московский антрепренер I: 123
А. В. — тифлисский журналист II: 286
АВГУСТ (63 до н. э. – 14 н. э.) — римский император II: 440
«АИДА», опера Дж. Верди I: 79; II: 424
«АДРИЕННА ЛЕКУВРЕР», драма Э. Скриба и Э. Легуве I: 121
АДУРСКАЯ (наст. фам. Дурасевич) Антонина Федоровна (1870 – 1948) — актриса Художественного театра. В «Вишневом саде» Дуняша II: 142 170 171
АЗАГАРОВА Анна Яковлевна (ум. 1935) — драматическая актриса II: 5
АКИМОВА (наст. фам. Ребристова) Софья Павловна (1824 – 1889) — актриса Малого театра I: 109 125 142
АКУЛИНА Гавриловна — горничная Алексеевых I: 185
АКУЛОВ Иван Алексеевич (1888 – 1938) — прокурор СССР II: 405
АЛДАНОВ (наст. фам. Ландау) Марк Александрович (1886 – 1957) — писатель II: 324
АЛЕКСАНДР II (1818 – 1881) — российский император с 1855 по 1881 г. I: 33 61 64 65 68 173; II: 17 201
АЛЕКСАНДР III (1845 – 1894) — российский император с 1881 по 1894 г. I: 61 63 64 65 67 71 72 83 133 148 151 158 168 234 264; II: 198 200
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ — см.: Иванов А. С.
АЛЕКСАНДРОВ — московский антрепренер I: 123
АЛЕКСАНДРОВ Николай Александрович (ум. 1885) — актер Малого театра I: 129
АЛЕКСАНДРОВ Николай Григорьевич (1870 – 1930) — актер Художественного театра. В «Вишневом саде» Яша II: 116 142 143 155 170 171 245 429 471
АЛЕКСЕЕВ Александр Владимирович (1821 – 1882) — дядя Станиславского I: 13 – 16 18 19 21 22 24 25 26 28 32 33 37 – 43 45 49 51 56 76 77 80 146 274; II: 53 407 408
АЛЕКСЕЕВ Александр (Шура) Владимирович (1883 – 1932) — племянник Станиславского I: 186; II: 35 53 54 184 233 235 407
АЛЕКСЕЕВ Борис Сергеевич (1871 – 1906) — брат Станиславского I: 42 94 183 186; II: 25 407
АЛЕКСЕЕВ Владимир Семенович (1795 – 1862) — дед Станиславского I: 13 – 16 19 – 24 26 29 32 37 43 44 51 78 81 82 94 95; II: 386 394 406 407 408 467
АЛЕКСЕЕВ Владимир Сергеевич (1861 – 1939) — брат Станиславского I: 4 6 13 14 16 25 35 38 42 43 – 47 50 – 52 56 57 75 78 536 79 81 82 84 90 92 93 95 – 97 146 186 271 273 274 276; II: 11 12 15 16 20 21 25 26 28 35 36 38 41 44 52 53 54 67 81 93 95 110 126 137 233 235 236 264 265 330 386 – 395 400 402 – 408 410 412 419 424 471 476
АЛЕКСЕЕВ Георгий (Юрий) Сергеевич (1869 – 1920) — брат Станиславского I: 24 42 183; II: 21 309 310 313 325 386 407
АЛЕКСЕЕВ Игорь Константинович (1894 – 1974) — сын Станиславского I: 186 240; II: 15 28 58 80 83 84 134 230 325 439 450 452
АЛЕКСЕЕВ Михаил (Мика) Владимирович (1886 – 1931) — племянник Станиславского I: 184 186; II: 35 38 52 53 54 55 62 93 233 235 236 391 – 395 397 400 – 404 406 407 410 412 424 431
АЛЕКСЕЕВ Николай Александрович (1852 – 1893) — кузен Станиславского I: 13 16 17 22 24 26 28 – 32 34 36 38 42 44 48 52 54 – 69 71 – 79 81 82 84 89 – 91 94 96 142 146 149 152 – 154 157 – 160 184 – 187 194 211 224 233 – 236 238 239; II: 16 57 110 275 391 408
АЛЕКСЕЕВ Николай Владимирович (1884 – 1926) — племянник Станиславского I: 184 186; II: 35 53 54 407
АЛЕКСЕЕВ Павел Сергеевич (1875 – 1888) — младший из братьев Станиславского I: 42; II: 57
АЛЕКСЕЕВ Семен Владимирович (1827 – 1873) — дядя Станиславского I: 13 15 16 19 20 22 23 25 32 37 48 50 86 92
АЛЕКСЕЕВ Семен Петрович — кузен Алексеевых — Владимировичей I: 13
АЛЕКСЕЕВ Сергей Владимирович (1836 – 1893) — отец Станиславского I: 6 13 – 16 18 19 21 22 24 25 26 28 32 33 37 38 39 – 43 45 48 – 51 56 57 76 77 92 146 274; II: 15 21 25 36 204 407 408 412 466 469
АЛЕКСЕЕВ Сергей Михайлович (1916 – 1970-е) — внучатый племянник Станиславского II: 236 401 403 406 409 410
АЛЕКСЕЕВА (Четверикова) Александра Александровна (1863 – 1912) — кузина Станиславского I: 18 26 29 42 75; II: 57 407 408
АЛЕКСЕЕВА (урожд. Коншина) Александра Владимировна (1852 – 1903) — жена Алексеева Н. А. I: 26 28 29 36 42 48 57 – 59 76 – 78
АЛЕКСЕЕВА (урожд. Струве) Александра Густавовна — жена Алексеева Г. С. I: 42; II: 309 407
АЛЕКСЕЕВА (урожд. Рябушинская) Александра Павловна (1887 – 1937) — жена Алексеева М. В. II: 235 236 391 393 394 395 397 399 400 401 402 405
АЛЕКСЕЕВА (урожд. Кисловская) Анна Владимировна (1831 – 1891) — тетка Станиславского I: 13 14
АЛЕКСЕЕВА (Штекер; Красюк; по сцене Алеева) Анна Сергеевна (1866 – 1936) — сестра Станиславского I: 4 6 38 40 42 77 185 245 273 276; II: 12 14 24 – 28 36 – 45 53 62 93 95 119 120 122 211 224 233 236 386 – 388 391 407 412 413 471
537 АЛЕКСЕЕВА (Конюхова) Валентина Георгиевна (1893 – 1952) — племянница Станиславского II: 309
АЛЕКСЕЕВА (Сапожникова) Вера Владимировна (1823 – 1877) — тетка Станиславского I: 13 14 21 22 25 26 37 41 42; II: 18 53
АЛЕКСЕЕВА Вера (Вева) Владимировна (1889 – 1954) — племянница Станиславского I: 184; II: 35 53 388 407
АЛЕКСЕЕВА (Якунчикова) Екатерина Владимировна (1825 – 1858) — тетка Станиславского I: 13 14
АЛЕКСЕЕВА (Руперти) Елизавета Александровна (1869 – 1937) — кузина Станиславского I: 18 42
АЛЕКСЕЕВА (урожд. Яковлева) Елизавета (Адель) Васильевна (1841 – 1904) — мать Станиславского I: 6 13 16 18 – 21 25 35 37 – 45 48 50 56 82 86 87 92 185 232 274; II: 11 – 15 17 21 25 – 30 36 38 42 43 45 54 – 57 60 62 81 93 109 122 163 205 – 207 225 407 408 412 440 466 469
АЛЕКСЕЕВА (урожд. Бостанжогло) Елизавета Михайловна (1830 – 1908) — жена Алексеева А. В., мать Алексеева Н. А. I: 13 14 18 19 25 26 31 36 – 40 42 44 57 59 75 79 184; II: 408
АЛЕКСЕЕВА (Соколова) Зинаида Сергеевна (1865 – 1950) — сестра Станиславского I: 33 38 39 42 217 244 245; II: 25 226 386 – 388 401 404 407 419 424 446 480 487 499 509 519
АЛЕКСЕЕВА (Фальк) Кира Константиновна (1891 – 1977) — дочь Станиславского I: 240; II: 15 28 230 387 428 445
АЛЕКСЕЕВА (Струве; Бостанжогло; Коргапова; Очкина) Любовь Сергеевна (1871 – 1941) — сестра Станиславского I: 42; II: 25 26 35 37 38 42 386 407
АЛЕКСЕЕВА (Четверикова) Мария Александровна (1855 – 1935) — кузина Станиславского I: 18 26 29 42 54 75 78; II: 407
АЛЕКСЕЕВА (Оленина; Севастьянова; Балашова) Мария Сергеевна (1878 – 1942) — младшая из сестер Станиславского I: 42 87; II: 26 27 38 42 55 57 207 264 265 389 392 407 421
АЛЕКСЕЕВА (Беклемишева) Надежда Владимировна (1825 – 1865) — тетка Станиславского I: 13 14
АЛЕКСЕЕВА (урожд. Полянская) Ольга Павловна (1875 – 1966) — жена Алексеева Б. С. I: 42; II: 25
АЛЕКСЕЕВА (урожд. Захарова) Прасковья Алексеевна (1862 – 1922) — жена Алексеева В. С. I: 42 51 52 81 – 83 94 95 184; II: 16 25 26 35 36 52 54 236 264 407
АЛЕКСЕЕВА (Костомарова) Татьяна Владимировна (1839 – 1892) — тетка Станиславского I: 13 14
АЛЕКСЕЕВА (Четверикова) Татьяна Михайловна (1912 – 1940) — внучатая племянница Станиславского II: 236 401 403 404 406 408
АЛЕКСЕЕВЫ — династия текстильных фабрикантов I: 4 – 10 12 – 22 24 25 26 28 29 30 32 34 – 46 48 50 – 59 75 – 78 84 87 88 90 92 94 95 96 135 146 153 156 538 184 185 186 210 234 235 238 271 277; II: 7 11 15 18 19 20 22 27 28 29 31 34 36 42 45 46 50 51 52 54 57 61 62 81 82 119 145 154 166 187 203 204 229 234 236 238 262 264 275 276 308 309 317 386 388 391 393 395 396 400 401 408 411 413 419 424 431 466 469 478 479
АЛПЕРС Борис Владимирович (1894 – 1974) — театральный критик II: 331
АЛФЕРАКИ Ахиллес Николаевич — таганрогский купец I: 107 119
АЛЬТМАН Натан Исаевич (1889 – 1970) — художник II: 297
АЛЬТШУЛЛЕР Исаак Наумович (187 – 1943) — ялтинский врач Чехова II: 262
АМФИТЕАТРОВ Александр Валентинович (1862 – 1938) — писатель, публицист I: 101 116 119 133 – 136 143 144 147 148 151 162 163 166 – 173 178 203 220; II: 39 60 65 86 97 103 165 166 167 172 176 178 179 182 – 185 191 – 198 201 244 258 – 263 266 – 272 346 380 381 382 385 386 410
«Восьмидесятники» I: 116 133 169 171 172; II: 197
АМФИТЕАТРОВ Валентин Николаевич — протоиерей, настоятель Архангельского собора в Московском Кремле, отец Амфитеатрова А. В. I: 76 101
АМФИТЕАТРОВ Даниил Александрович (р. 1902) — сын Амфитеатрова А. В. II: 260 267 268
АМФИТЕАТРОВА (Пассек) Александра Валентиновна — сестра Амфитеатрова А. В. I: 169
АМФИТЕАТРОВА (урожд. Соколова) Иллария (Евлалия) Владимировна (р. 1870) — жена Амфитеатрова А. В., актриса II: 166 178 260 266 – 269
АМФИТЕАТРОВА Сабина Александровна (р. 1911) — дочь Амфитеатрова А. В. II: 260
АМФИТЕАТРОВЫ — семья Амфитеатрова А. В. II: 260 262 263 266 268 269 277 410
АНГЕЛИНА Прасковья Никитична (р. 1912) — бригадир тракторной бригады II: 148
АНДРЕЕВ Леонид Николаевич (1871 – 1919) — писатель II: 153 209 223 271 288 289
АНДРЕЕВ Николай Андреевич (1873 – 1932) — скульптор, театральный художник II: 291 292 293 296 297 298 300 301
АНДРЕЕВ-БУРЛАК Василий Николаевич (1843 – 1888) — актер провинции и московских частных театров I: 117 127 232
АНДРЕЕВА (урожд. Юрковская; Желябужская) Мария Федоровна (1868 – 1953) — актриса Художественного театра. В «Вишневом саде» Варя II: 5 8 9 116 128 150 156 167 168 169 170 176 208 229
АНДРЕЕВСКИЙ Сергей Аркадьевич (1847 – 1919) — адвокат, литературный критик II: 65
АНДРЕЙ ГЕРМАНОВИЧ — см.: Штекер А. Г.
АНДРОВСКАЯ (наст. фам. Шульц) Ольга Николаевна (1898 – 1975) — актриса Художественного театра В «Вишневом саде» Дуняша, Раневская II: 343 344 354
АННА СЕРГЕЕВНА — см.: Алексеева А. С.
АННЕНКОВ Юрий Павлович (1889 – 1974) — художник II: 271
«АНТИГОНА», пьеса Софокла, спектакль Художественно-общедоступного театра I: 2 71
539 АНТРОПОВ Лука Николаевич (1843 – 1881) драматург I: 108
АРАБАЖИН Константин Иванович (1866 – 1929) — журналист II: 176 179 186 364
АРДОВ (наст. фам. Зильберман) Виктор Ефимович (1900 – 1976) — журналист II: 326
АРНОЛЬД Елена Юрьевна — издательница московского журнала «Будильник» I: 144 148
АРТЕМ (наст. фам. Артемьев) Александр Родионович (1842 – 1914) — актер театра Общества искусства и литературы и Художественного театра. В «Вишневом саде» Фирс I: 225 271; II: 5 107 117 126 127 131 170 183 354
АРХИПОВЫ — семья Архипова Н. П., присяжного поверенного, друга семьи Алексеевых I: 51; II: 469 470 472
АСТЫРЕВ Николай Михайлович (1857 – 1894) — публицист I: 167 168
АФИНОГЕНОВ Александр Николаевич (1904 – 1941) — драматург II: 370
«Страх» II: 370
«АФРИКАНКА», опера Мейербера Дж. I: 85
БАЙРОН Джордж Ноэл Гордон (1788 – 1824) — английский поэт и драматург II: 67 85 288 289 291 295 299 305
«Каин» II: 287 – 290 291 293 294 296 – 302 304 – 307 313 443
«Манфред» II: 67
БАКСТ (наст. фам. Розенберг) Лев Самойлович (1866 – 1924) — художник II: 79
БАЛАКИН Борис Иванович (1913 – 1964) — ученик Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Лопахин II: 452 460 461 482 486 487 497
БАЛАШОВ Степан Васильевич (1883 – 1966) — оперный певец, муж Алексеевой М. С. II: 38
БАЛАШОВ Степан Степанович (р. 1912) — племянник Станиславского, сотрудник Дома-музея К. С. Станиславского I: 2; II: 2
БАЛЬМОНТ Константин Дмитриевич (1867 – 1942) — поэт II: 169 214 215 217 218 220 222 322 324
БАРАНОВСКАЯ-ФАЛЬК Кирилла Романовна (р. 1921) — внучка Станиславского I: 2; II: 2 387 428 452
БАТАЛОВ Николай Петрович (1899 – 1937) — актер Художественного театра. В «Вишневом саде» Лопахин, Прохожий II: 471
БАУМАН Николай Эрнестович (1873 – 1905) — революционер II: 406 409
БАХ Иоганн Себастьян (1685 – 1750) — немецкий композитор II: 204
БЕЗОБРАЗОВ Павел Владимирович (1859 – 1918) — литератор, мемуарист II: 136 153 258
«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО», спектакль Художественного театра — см.: Бомарше
БЕКЛЕМИШЕВЫ — родственники Алексеевых II: 229
«БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» — см.: Булгаков М. А.
540 БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич (1811 – 1848) — литературный и театральный критик-публицист I: 154
БЕЛУГИН Николай Николаевич (1903 – 1973) — певец Свердловского театра оперы и балета II: 419
БЕЛЫЙ Андрей (наст. фам., имя и отчество: Бугаев Борис Николаевич) (1880 – 1934) — поэт, критик II: 96
БЕЛЯЕВ Юрий Дмитриевич (1876 – 1917) — театральный критик II: 162 171 175 176 177 180 187 189 199 241
БЕНАР Люсьен (р. 1872) — французский журналист, драматург I: 215 221
БЕНУА Александр Николаевич (1870 – 1960) — художник II: 79 80
БЕРБЕРОВА Нина Николаевна (1901 – 1993) — писатель I: 58
БЕРДНИКОВ Георгий Петрович (р. 1915) — чеховед II: 9 7
БЕРДЯЕВ Николай Александрович (1874 – 1948) — философ II: 194
БЕРИЯ Лаврентий Павлович (1899 – 1953) — один из организаторов сталинских массовых репрессий II: 409
БЕРЛЯНДТ Иосиф Евсеевич (1900 – 1938) — сосед Ивановых М. С. и А. С. по свердловской квартире II: 421 426
БЕРНАР Сара (1844 – 1923) — французская актриса I: 118 121 122 123
БЕСКИН Эммануил Мартынович (1877 – 1940) — театральный критик II: 326 327 335 336 351
БЁМ Елизавета Меркуловна (1843 – 1914) — художница II: 69 226
БИЗЕ Жорж (1838 – 1875) — французский композитор II: 334
«КАРМЕН», опера II: 334
«КАРМЕНСИТА И СОЛДАТ», спектакль Музыкальной студии Художественного театра II: 334
БИЛИБИН Виктор Викторович (1859 – 1908) — литератор, секретарь журнала «Осколки» II: 88
БЛОК Александр Александрович (1880 – 1921) — поэт II: 96 223 247 271
«Двенадцать» II: 271
«Песня судьбы» II: 223
«Роза и крест» II: 271 283 288
БЛЮМ (псевд. Садко) Владимир Иванович (1877 – 1941) — театральный критик, руководитель Главреперткома II: 326 336 351
БОБОРЫКИН Петр Дмитриевич (1836 – 1921) — писатель I: 33 53 199 212 233 236 253 258 266 268 272 273; II: 258 259
БОВЕ Осип Иванович (1784 – 1834) — русский архитектор I: 70
БОГДАНОВ Алексей Николаевич (1830 – 1907) — балетмейстер I: 84 88
«БОГЕМА» — см.: Пуччини
БОДРИ Виктор (р. 1844) — француз по национальности, вел в Москве торговлю хрусталем и фарфором I: 210
БОКЛЬ Генри Томас (1821 – 1862) — английский социолог II: 103
541 БОКШАНСКАЯ Ольга Сергеевна (1891 – 1948) — секретарь Немировича-Данченко Вл. И. II: 331
БОМАРШЕ Пьер Огюстен (1732 – 1799) — французский драматург II: 335 337
«Безумный день, или Женитьба Фигаро» II: 335
«БОРИС ГОДУНОВ», спектакль Художественного театра (1907) — см.: Пушкин А. С.
БОРИСОВ-МУСАТОВ Виктор Эльпидифорович (1870 – 1905) — художник II: 79 80
БОРОДАЙ Михаил Матвеевич (1853 – 1929) — антрепренер II: 238
БОСТАНЖОГЛО — династия табачных фабрикантов I: 8 12 13 14 16 – 22 25 26 30 32 34 41 42 50 51 55 – 57 60 77 134 135 146 156; II: 27 28 30 32 43 51 60 80 160 173 203 204 229 231 234 237 238 262 311 386 408 410 411 413 414 420 422 – 424 426 431 433 436 439 478 479
БОСТАНЖОГЛО (Яковлева) Александра Михайловна — мачеха Алексеевой Е. В., матери Станиславского I: 13 14 17 18 44; II: 38
БОСТАНЖОГЛО (Гальнбек) Александра Николаевна (1858 – 1942) — кузина Станиславского I: 23 45 79 88 245 274 275 – 277; II: 25 28 173 411 412 414 423 424
БОСТАНЖОГЛО Анна Михайловна — дочь Бостанжогло М. И. I: 13
БОСТАНЖОГЛО Василий Васильевич (1886 – 1953) — внучатый племянник Станиславского I: 23; II: 238 411 – 414 421 – 424 426
БОСТАНЖОГЛО Василий Михайлович (1823 – 1876) — соучредитель с отцом табачной фабрики «М. И. Бостанжогло и сыновья» I: 13 14 18 20 23 30 31 44 55 57 79; II: 43
БОСТАНЖОГЛО Василий Николаевич (1860 – 1920) — кузен Станиславского I: 23 29 52 53 56 57 88 274; II: 38 234 308 309 313 325 411 412 414 422 426 474
БОСТАНЖОГЛО (Смирнова) Елена Николаевна (1861 – 1911) — кузина Станиславского I: 23 27 42 88 185 245 274 – 276; II: 24 25 28 – 30 48 78 154 158 173 206 234 237 310 411 412 424 439
БОСТАНЖОГЛО Елизавета Михайловна — см.: Алексеева Е. М.
БОСТАНЖОГЛО (урожд, Яковлева) Мария Васильевна (1838 – 1864) — тетка Станиславского I: 13 18 19 21 37 44 274 275; II: 17 412
БОСТАНЖОГЛО Мария Михайловна — дочь Бостанжогло М. И. I: 13
БОСТАНЖОГЛО Михаил Иванович (1789 – 1863) — основатель табачной фабрики «М. И. Бостанжогло и сыновья» I: 12 – 15 18 19 22 23 30 56 59 262 274 276; II: 78 237 309 311 386 408 410 – 414 426
БОСТАНЖОГЛО Михаил Николаевич (1862 – 1931) — директор-распорядитель фабрики «М. И. Бостанжогло и сыновья», кузен Станиславского I: 15 22 29 52 53 56 88 224 235 274; II: 234 309 410 – 412 414 422 426 474
БОСТАНЖОГЛО Николай Михайлович (1826 – 1891) — соучредитель с отцом табачной фабрики «М. И. Бостанжогло и сыновья», муж Бостанжогло (Яковлевой) М. В., тетки Станиславского I: 13 14 18 19 20 – 23 30 31 44 50 55 57 79 274; II: 25 38 412
БОТТИЧЕЛЛИ Сандро (1445 – 1510) — итальянский художник II: 79
БРАЗ Осип (Иосиф) Эммануилович (1872 – 1936) — художник II: 67
542 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ», спектакль Художественного театра — см.: Достоевский Ф. М.
БРЕНКО (урожд. Челищева, по мужу Левенсон) Анна Алексеевна (1848 – 1934) — актриса и московский антрепренер I: 110 117 118 120 123 127 162 165 198 232 238 260
БРОДСКИЙ Иосиф Александрович (1940 – 1996) — поэт I: 132
БРОКАР Генрих Афанасьевич — владелец парфюмерной фабрики в Москве I: 210
«БРОНЕПОЕЗД 14-69», спектакль Художественного театра — см.: Иванов Вс. В.
БРЮСОВ Валерий Яковлевич (1873 – 1924) — поэт, теоретик символизма II: 64 95 96 145 154 165 222 223 243 247 270
«Земля», пьеса II: 64
БУБНОВ Андрей Сергеевич (1883 – 1940) — государственный и партийный деятель II: 388 406
БУЛГАКОВ Михаил Афанасьевич (1891 – 1940) — драматург II: 333 336 344 345 347 354
«Дни Турбиных» (по роману «Белая гвардия») II: 333 336 337 344 – 349 354
БУЛГАКОВ Сергей Николаевич (1871 – 1944) — философ II: 179 194 195 196 201 244
БУЛОЧКИН Владимир Николаевич (р. 1874) — заведующий в московском банке Рябушинских фондовым и переводным отделами II: 397
БУНИН Иван Алексеевич (1870 – 1953) — писатель I: 131 202 203 242 255 263; II: 48 60 61 132 169 197 204 241 259 262 263 271 288 324 385 386
БУНИНЫ — Иван Алексеевич и Вера Николаевна, урожд. Муромцева (1881 – 1961) II: 324
БУРЕНИН Виктор Петрович (1841 – 1926) — литературный критик, публицист II: 175 177 180 199
БУРЫШКИН Павел Афанасьевич (1887 – 1953) — историк московского купечества I: 236
БУТОВА Надежда Сергеевна (1878 – 1921) — актриса Художественного театра II: 231
БУХГЕЙМ Эдуард Карлович (ум. 1903) — член правления и дирекции фабрики «Владимир Алексеев» I: 82 83 93
В. — гражданка, дававшая показания против Амфитеатровых II: 268 269
ВАГНЕР Рихард (1813 – 1883) — немецкий композитор I: 35
«ВАКАНТНОЕ МЕСТО», пьеса Потехина А. А., спектакль Малого театра I: 118
ВАЛУЕВЫ — соседи Алексеевых по даче в Покровском-Стрешневе I: 20
ВАРЛЕ (Лаптева) Мари (Мария Ивановна) (1800 – 1885) — бабка Станиславского со стороны матери I: 13 18 23; II: 407 412 420
ВАСИЛЕВСКИЙ Ромуальд Викторович (1853 – 1919) — режиссер оперы Большого театра I: 85
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ — см.: Немирович-Данченко Вас. И.
543 ВАСНЕЦОВ Аполлинарий Михайлович (1856 – 1933) — художник II: 80
ВАСНЕЦОВ Виктор Михайлович (1848 – 1926) — художник II: 80 27 5
ВАТТО Антуан (1684 – 1721) — французский живописец I: 210
ВАХТАНГОВ Евгений Багратионович (1883 – 1922) — режиссер II: 270 289 290 291 296 316
ВЕРИГИНА Валентина Петровна (1882 – 1974) — ученица школы Художественного театра, актриса Театра-студии на Поварской и мемуаристка II: 64 130 151
ВЕРЛЕН Поль (1844 – 1896) — французский поэт II: 215
ВИЗЛЕР Евгения Николаевна — владелица частных женских музыкальных курсов в Москве I: 275; II: 155
ВИЛЕНКИН Виталий Яковлевич (1911 – 1997) — заместитель заведующего литературной частью Художественного театра, писатель II: 364 373
ВИЛЬБОРГ В. И. — учитель музыки Алексеева В. С. I: 35
ВИЛЬГЕЛЬМ II Гогенцоллерн (1859 – 1941) — германский император II: 230
ВИЛЬДЕ (паст. фам. фон Вильденау) Николай (наст. имя Карл) Евстафьевич (Густавович) (1832 – 1896) — актер Малого театра I: 109 129
ВИНОГРАДОВ Павел Гаврилович (1854 – 1925) — ученый-историк II: 81
ВИППЕР Роберт Юрьевич (1859 – 1954) — историк, профессор Московского университета, академик II: 81 432
ВИППЕР Юрий Францевич (1824 – 1891) — преподаватель математики I: 43
ВИТТЕ Сергей Юльевич (1849 – 1915) — министр финансов I: 74 93 94 185 186; II: 382
ВИШНЕВСКИЙ (наст. фам. Вишневецкий) Александр Леонидович (1861 – 1943) — актер Художественного театра I: 259 260 264 277 278; II: 4 5 610 16 18 19 20 23 – 27 29 30 33 34 35 36 37 42 44 45 47 – 51 54 55 62 67 94 107 113 114 115 118 128 129 142 148 153 154 163 167 168 169 170 171 172 353 446
ВИШНЯКОВ Петр Иванович — совладелец с Алексеевыми объединенных фабрик «Владимир Алексеев» и «П. Вишняков и А. Шамшин» I: 94 95
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1847 – 1909) — великий князь, главнокомандующий Петербургского военного округа II: 436
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ — см.: Немирович-Данченко Вл. И.
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ — см.: Алексеев В. С.
ВОЛКОВ Николай Дмитриевич (1894 – 1965) — театральный критик II: 350
ВОЛОДЯ — см.: Алексеев В. С.
ВОЛЬТЕР (наст. имя Мари Франсуа Аруэ) (1694 – 1778) — французский писатель I: 23 135 142 149
ВОЛЬФ — владелец московского книжного магазина I: 210
ВОЛЫНСКИЙ (наст. фам. ФЛЕКСЕР) Аким Львович (1865 – 1926) — литературовед, искусствовед, журналист II: 92 118
ВРУБЕЛЬ Михаил Александрович (1856 – 1910) — художник II: 220
ВЫШИНСКИЙ Андрей Януарьевич (1883 – 1954) — генеральный прокурор в годы сталинских репрессий II: 402 405
544 ГАЙДАРОВ Владимир Георгиевич (1893 – 1976) — актер Художественного театра II: 279 291 293
ГАЛКОВСКИЙ Дмитрий Евгеньевич (р. 1960) — литературовед II: 89
ГАЛЬНБЕК Александр Александрович (ум. 1898) — потомственный почетный гражданин Москвы, служащий страховой компании I: 42 274; II: 412
ГАЛЬНБЕК (Бостанжогло) Александра Николаевна — см.: Бостанжогло А. Н.
ГАЛЬНБЕК Борис Александрович (1890 – 1964) — двоюродный племянник Станиславского I: 23 274; II: 173 233 238 274 411 412 423 424 426 431
ГАЛЬНБЕК Валентина Александровна (1888 – 1932) — двоюродная племянница Станиславского I: 274; II: 17 32 33 238 274 412
ГАЛЬНБЕКИ — семья Бостанжогло (Гальнбек) А. Н. II: 28 42 51 173 204 238 411
ГАМСУН (наст. фам. Педерсен) Кнут (1859 – 1952) — норвежский драматург II: 223 301
ГАНЖУЛОВИЧ Г. — харьковский журналист II: 340 341
ГАРИБАЛЬДИ Джузеппе (1807 – 1882) — народный герой Италии, революционер I: 135 142 157
ГАУПТМАН Герхарт (1862 – 1946) — немецкий драматург I: 97 232 249 274; II: 40 155 159 215 229 250 274
«Возчик Геншель» II: 40
«Ганнеле» I: 232
«Одинокие» II: 141 154 155 159 174 250
«Потонувший колокол» I: 97 232 249
ГЕДЕОНОВ Степан Александрович (1816 – 1878) — директор императорских театров и драматург I: 123
«Смерть Ляпунова» I: 123
ГЕЙНЕ Генрих (1797 – 1856) — немецкий поэт I: 69
ГЕЙТЕН Лидия Николаевна (1857 – 1920) — балерина Большого театра I: 38 88
ГЕЛЬЦЕР Екатерина Васильевна (1876 – 1962) — балерина Большого театра II: 173
ГЕЛЬЦЕР (Москвина) Любовь Васильевна (1878 – 1955) — актриса Художественного театра II: 228
ГЕРАСИМОВ Александр Михайлович (1881 – 1963) — художник II: 80
ГЕРАСИМОВ Сергей Васильевич (1885 – 1964) — художник II: 79 80
ГЕРВИНУС Георг Готфрид (1805 – 1871) — немецкий историк литературы I: 221
ГЕРМАНОВА — см.: Красовская М. Н.
ГЕРЦЕН Александр Иванович (1812 – 1870) — писатель, публицист I: 135 142 157; II: 266 292
ГЕТЕ Иоганн Вольфганг (1749 – 1832) — немецкий писатель I: 110
ГЕТЬЕ Федор Александрович (1863 – 1938) — врач II: 43
ГЗОВСКАЯ Ольга Владимировна (1889 – 1962) — актриса Художественного театра II: 232
ГИАЦИНТОВА Софья Владимировна (1895 – 1982) — актриса Художественного театра II: 367
545 ГИЛЛИН Арнольд Любимович (1848 – 1901) — писатель, драматург I: 46
ГИЛЯРОВСКИЙ Владимир Алексеевич (1853 – 1935) — писатель, журналист I: 136 145
ГИНЦБУРГ — владелец дома на Тверском бульваре I: 144 198 200 – 204 208 232 238
ГИННЕ — владелец Московского цирка I: 123
ГИППИУС (псевд. Антон Крайний) Зинаида Николаевна (1869 – 1945) — писатель, критик, драматург I: 242; II: 95 96 271 283
«Зеленое кольцо» II: 283
ГЛАГОЛЬ (наст. фам. Голоушев) Сергей Сергеевич (1855 – 1920) — театральный критик I: 267
ГЛАМА-МЕЩЕРСКАЯ (урожд. Барышева) Александра Яковлевна (1856 – 1942) — драматическая актриса I: 118
ГЛАССБИ (по мужу Смирнова) Лили (Елена Романовна) Эвелин Мод (1876 – 1950-е) — гувернантка в семье Смирновых Е. Н. и С. Н. II: 30 – 33 44 50 62 65 66 69 78 95 123 124 125 135 143 204 206 229 234 237 310 – 313 381 414 426 433
ГЛИНКА-ВОЛЖСКИЙ Александр Сергеевич (1878 – 1940) — литературный критик II: 192
ГНЕДИЧ Петр Петрович (1855 – 1925) — беллетрист, драматург, театральный деятель I: 217 218 219 239 260 268; II: 87 93 156 243 258
«Горящие письма» I: 217 218 219 268 269; II: 87
ГОЕР — соседи Алексеевых по даче в Покровском-Стрешневе I: 19
ГОГОЛЬ Николай Васильевич (1809 – 1852) I: 110 125 126 128 188 232; II: 96 375 425 450
«Мертвые души», спектакль Художественного театра — II: 258 450
«Ревизор» I: 232; II: 443 445 455
ГОЛОВИН Александр Яковлевич (1863 – 1930) — театральный художник II: 79
ГОЛУБКИНА Анна Семеновна (1864 – 1927) — скульптор II: 79 234
ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР Александр Борисович (1875 – 1961) — композитор, педагог II: 53
ГОЛЬСТ Лидия Егоровна — приживалка Алексеевой Е. В. II: 35 206
ГОЛЬСТ (ГОЛЬЦ) Федор Георгиевич — художник II: 211
ГОЛЬЦЕВ Виктор Александрович (1850 – 1906) — критик, публицист, журналист I: 134 163 167 168 172 177; II: 158 210 227
ГОНЕЦКАЯ (урожд. Фирсанова) Вера Ивановна (р. 1863) — московская домовладелица II: 9 78
ГОНЧАРОВ Иван Александрович (1812 – 1891) — писатель I: 128
ГОРБУНОВ Иван Федорович (1831 – 1896) — актер Александринского театра II: 190
ГОРБУНОВ Николай Петрович (1892 – 1938) — управделами Совнаркома РСФСР II: 309
ГОРЕВА Елизавета Николаевна (1859 – 1917) — московский антрепренер I: 123
ГОРЬКИЙ Максим (наст. фам., имя и отчество: Пешков Алексей Максимович) (1868 – 1936) I: 4 138 200 254 269; II: 33 47 48 51 52 57 61 72 76 77 88 99 106 114 546 119 122 128 135 136 153 154 159 162 167 168 177 181 195 196 197 201 208 209 211 219 221 222 229 230 243 259 261 262 266 271 272 274 275 288 289 307 308 333 347 362 368 380 381 382 383 384 408 434
«Дачники» II: 106 167 208 382 383
«На дне» II: 4 61 114 119 135 159 259 314 380
ГОТОВЦЕВ Владимир Васильевич (1885 – 1976) — актер Художественного театра и Первой студии Художественного театра, муж Смирновой Е. С. В «Вишневом саде» Начальник станции, Яша, Симеонов-Пищик II: 232 233 238 411 420 438
ГОТОВЦЕВА Евгения Сергеевна — см.: Смирнова Е. С.
ГОТОВЦЕВА Елена Владимировна (р. 1921) — двоюродная внучатая племянница Станиславского, врач I: 2; II: 2 238 412
ГОТЬЕ — владелец книжного магазина в Москве I: 210
ГОТЬЕ Юрий Владимирович (1873 – 1943) — ученый-историк II: 81
ГОФМАНСТАЛЬ Гуго фон (1874 – 1929) — австрийский драматург II: 247
ГОХМАН Лев Яковлевич — ученик Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Петя Трофимов II: 492 499 500 501 508 509 519
ГРАБАРЬ Игорь Эммануилович (1871 – 1960) — художник II: 80
ГРЕКОВ Иван Николаевич (1849 – 1919) — актер Малого театра, режиссер театра Общества искусства и литературы I: 215
ГРИБОВ Алексей Николаевич (1902 – 1977) — актер Художественного театра. В «Вишневом саде» Яша II: 354 363
ГРИБОЕДОВ Александр Сергеевич (1795 – 1829) I: 33 110 112 117 127; II: 335
«Горе от ума» I: 111; II: 335 443 445 454
ГРИБУНИН Владимир Федорович (1873 – 1933) — актер Художественного театра. В «Вишневом саде» Симеонов-Пищик II: 102 107 112 116 147 170 229 254 342 348 373 454
ГРИГОРОВИЧ Дмитрий Васильевич (1822 – 1899) — писатель I: 51 133 134 154 155 167 173 181 199 202 217 218 219 239 259 268; II: 87
ГРИГОРЬЕВА (Николаева) Мария Петровна (1869 – 1941) — актриса Художественного театра II: 211
ГРОМОВ Михаил Аполлинариевич (ум. 1918) — актер Художественного театра. В «Вишневом саде» Прохожий II: 170
ГРОССМАН Аделаида Францевна — владелица московской частной женской гимназии I: 275; II: 56
ГУМИЛЕВ Лев Николаевич (1912 – 1992) — ученый-этнолог, писатель I: 12
ГУНО Шарль (1818 – 1893) — французский композитор II: 389
«Филемон и Бавкида» II: 389
547 ГУРЕВИЧ Любовь Яковлевна (1866 – 1940) — театральный критик, редактор литературных трудов Станиславского II: 165 166 179 186 187 190 193 201 244 – 247 251 265 350 378 380 384 444 451
ГУЦКОВ Карл Фердинанд (1811 – 1878) — немецкий драматург I: 97 207 214 223 230
«Уриэль Акоста» I: 97 129 207 214 226 230 271; II: 39
ДАВИДЕНКО Александра Михайловна (р. 1910) — ученица Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Дуняша II: 494
ДАВЫДОВ (наст. фам. Карапетян) Александр Давидович (1849 – 1911) — опереточный певец труппы М. В. Лентовского I: 47
«ДАЕШЬ ЕВРОПУ!» («Д. Е.»), спектакль Мейерхольда В. Э. II: 331 332
«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» — см.: Тургенев И. С.
ДЕКОНСКАЯ (урожд. Соколова) Юлия Константиновна — сестра Соколова К. К., жена Деконского А. П. I: 33
ДЕКОНСКИЙ Александр Павлович (ум. 1893) — врач I: 33
ДЕНИКИН Антон Иванович (1872 – 1947) — в 1919 г. главнокомандующий «белой» армии юга России II: 280
ДЕНИСОВ Василий Иванович (1862 – 1922) — художник II: 79
«ДЕТИ ВАНЮШИНА», пьеса Найденова С. А., спектакль Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского II: 449 480
ДЗЕРЖИНСКИЙ Феликс Эдмундович (1877 – 1926) — председатель ВЧК, парком внутренних дел и путей сообщения II: 403 416
ДОБРОНРАВОВ Борис Георгиевич (1896 – 1949) — актер Художественного театра. В «Вишневом саде» Петя Трофимов, Яша, Лопахин II: 316 334 343 344 352 363 374 485
ДОБУЖИНСКИЙ Мстислав Валерианович (1875 – 1957) — театральный художник II: 79 292
ДОДИН Лев Абрамович (р. 1944) — режиссер II: 102 106
ДОЛГОРУКОВ Владимир Андреевич (1810 – 1891) — князь, московский генерал-губернатор I: 61 – 67 71 72 83 148 151 158 194
ДОЛГОРУКОВЫ — владельцы имения в Мисхоре II: 309
ДОМАШОВА Марья Петровна (1873 – 1952) — драматическая актриса II: 176
ДОН-АМИНАДО (наст. фам., имя и отч.: Шполянский Аминад Пейсахович) (1888 – 1957) — поэт, фельетонист I: 107; II: 385 386
ДОНОН — владелец ресторана в Петербурге II: 163
ДОРОШЕВИЧ Влас Михайлович (1864 – 1922) — журналист, фельетонист I: 136 147 221 224 238; II: 13 49 75 76 77 90 116 143 147 154 157 176 209 244 263 378
ДОСТОЕВСКАЯ (урожд. Сниткина) Анна Григорьевна (1846 – 1918) — вдова Достоевского Ф. М. I: 226 227
ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович (1821 – 1881) I: 97 122 214 223 226 227 228 239; II: 231 232 233 234 277 288
548 «Братья Карамазовы» II: 231 232 285 288 314 321 415
«Село Степанчиково» I: 97 214 215 226 227 228 240 241; II: 443 445 455
«ДОЧЬ АНГО», оперетта Лекока А.-Ш., спектакль Музыкальной студии Художественного театра II: 307
ДРЕЙФУС Альфред (1859 – 1935) — офицер французского Генштаба II: 175
ДРОЗДОВА Мария Тимофеевна (1871 – 1960) — приятельница Чеховой М. П. II: 429
ДУДЫШКИН Сергей Геннадиевич (1853 – 1903) — домашний учитель истории братьев Алексеевых I: 183
ДУЛЬГОФ Евгения (Эмилия) — ученица балетного отделения Театрального училища I: 45
ДУНЯША, Авдотья Назаровна Копылова — горничная Алексеевых I: 3 87; II: 19 20 22 24 26 33 44 53 – 57 61 64 73 93
ДУНЯШИН ВОЛОДЯ — см.: Сергеев В. С.
ДУНКАН Айседора (1878 – 1927) — танцовщица II: 220
ДУРЫЛИН Сергей Николаевич (1877 – 1954) — историк театра и театральный критик II: 362
ДЬЯЧЕНКО Виктор Антонович (1818 – 1876) — драматург I: 108
ДЫМОВ (наст. фам. Перельман) Осип (Иосиф) Исидорович (1878 – 1959) — писатель, журналист II: 176 179
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» — см.: Чайковский П. И.
ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА — см.: Чехова Е. Я.
ЕВРЕИНОВ Николай Николаевич (1879 – 1953) — режиссер театра В. Ф. Комиссаржевской II: 247
ЕВРЕИНОВА Анна Михайловна (1844 – 1919) — редактор петербургского журнала «Северный вестник» — II: 174
ЕГОР, Егор Андреевич Говердовский, лакей Станиславского — I: 39; II: 19 – 22 24 26 29 32 44 47 55 56 59 61 – 65 69 73 93 113
ЕГОРОВ Владимир Евгеньевич (1878 – 1960) — художник II: 301
ЕЖОВ Николай Михайлович (1862 – 1942) — писатель, журналист I: 122 136 147 188 265; II: 103
ЕЛАНСКАЯ Клавдия Николаевна (1898 – 1972) — актриса Художественного театра II: 367
ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА — см.: Алексеева Е. В.
ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА — см.: Алексеева Е. М.
ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА (1864 – 1918) — великая княгиня, жена Сергея Александровича Романова I: 77 78; II: 275 276
ЕНУКИДЗЕ Авель Сафронович (1877 – 1937) — государственный и партийный деятель II: 392 393 400
ЕРМИЛОВ Владимир Владимирович (1904 – 1965) — критик, чеховед II: 97
ЕРМОЛОВ Иван Алексеевич (1831 – 1914) — учитель танцев I: 38 210
ЕРМОЛОВА Мария Николаевна (1853 – 1928) — актриса Малого театра I: 38 103 109 110 118 126 127 130 170 190 195 209 210; II: 119 169 348 362
ЕРШОВ Владимир Львович (1896 – 1964) — актер Художественного театра. В
«Вишневом саде» Гаев II: 291 295 354 359 360
ЕСЕНИН Сергей Александрович (1895 – 1925) — поэт II: 324
ЖДАНОВА Мария Александровна (1890 – 1944) — актриса Художественного театра. В «Вишневом саде» Аня II: 255
ЖЕЛЯБУЖСКИЙ Андрей Андреевич (1850 – 1932) — главный контролер Курской и Нижегородской железных дорог, муж Андреевой М. Ф. II: 211
ЖИВОКИНИ Василий Игнатьевич (наст. имя и фамилия Джиовакино де ла Момо) (1805 – 1874) — актер Малого театра I: 37 128 129
«ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ», опера Глинки М. И. I: 61
ЖОЛТОВСКИЙ Иван Владиславович (1867 – 1959) — архитектор II: 433
ЖУКОВСКИЙ Василий Андреевич (1783 – 1852) — наставник Александра II II: 17
ЖЮДИК (наст. фам. Дамьен) Анна (1850 – 1911) — французская актриса оперетты I: 46 184
ЗАВАДСКАЯ Татьяна Ф. — ученица Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Шарлотта II: 493 505
ЗАГАРОВ (наст. фам. Фессинг) Александр Леонидович (1877 – 1941) — актер Художественного театра II: 211
ЗАЙЦЕВ Борис Константинович (1881 – 1972) — писатель II: 324
ЗАХАРОВ Алексей А. — тесть Алексеева В. С. I: 51 52 146
ЗАХАРОВА Пелагея Алексеевна (ум. в 1933) — сестра жены Алексеева В. С. I: 51
ЗАХАРОВА Прасковья Алексеевна — см.: Алексеева П. А.
ЗАХЕР-МАЗОХ Л. (1836 – 1895) — австрийский писатель I: 110 111 114
«Рабы и владыки» I: 110 114 206
ЗАХОДА Екатерина Ивановна — ученица Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Дуняша II: 452 494 504
ЗВАНЦЕВ Николай Николаевич (1870 – 1923) — актер Художественного театра II: 211
ЗВЕРЕВА Елена Васильевна — ученица Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Шарлотта II: 452 490 493 494 505 516
«ЗЕМЛЯ ДЫБОМ», спектакль театра В. Э. Мейерхольда II: 327
ЗИЛОТИ Александр Ильич (1863 – 1945) — дирижер II: 67
ЗИМИН Сергей Иванович (1875 – 1942) — основатель оперной антрепризы в Москве I: 276; II: 273 389
ЗИНОВЬЕВ Петр Михайлович (р. 1913) — ученик Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Симеонов-Пищик II: 447 461 485 517
550 ЗЛАТОВРАТСКИЙ (псевд. Маленький Щедрин) Николай Николаевич (1845 – 1911) — писатель I: 167 168
ЗНАМЕНСКИЙ Николай Антонович (1884 – 1921) — актер Художественного театра. В «Вишневом саде» Прохожий II: 278 291 471
ЗОЛОТНИЦКИЙ Давид Иосифович (р. 1918) — доктор искусствоведения, профессор I: 2; II: 2
ЗОТОВ — владелец московского магазина керосиновой торговли I: 58
ЗУППЕ Франц фон (наст. имя и фамилия: Франческо Эцекьеле Эрменеджиль, до Зуппе-Демолли) (1819 – 1895) — австрийский композитор I: 107
ИБСЕН Генрик (1828 – 1906) — норвежский драматург I: 109 273 274 277; II: 215 223 247 369
«Доктор Штокман» II: 230 349 350
«Привидения» II: 369
«Столпы общества» I: 277; II: 67
ИВАНОВ Александр Семенович (1882 – 1937) — муж Смирновой М. С. II: 69 236 237 415 416 417 422 424 426 427 431
ИВАНОВ Всеволод Вячеславович (1895 – 1963) — драматург II: 474
«Бронепоезд 14-69» II: 336 337 352 474
ИВАНОВ Вячеслав Иванович (1866 – 1949) — писатель II: 247
ИВАНОВ Константин Александрович (р. 1915) — внучатый племянник Станиславского II: 69 237 412 420 431
ИВАНОВА Людмила Александровна (р. 1914) — внучатая племянница Станиславского II: 412 420
ИВАНОВА Татьяна Александровна (р. 1919) — внучатая племянница Станиславского II: 412 420 427 429 430
ИВАНОВ-КОЗЕЛЬСКИЙ (наст. фам. Иванов) Митрофан Трофимович (1850 – 1898) — драматический актер I: 109 110 117 123 198 232
ИГОРЬ — см.: Алексеев И. К.
ИЗМАЙЛОВ — см.: Смоленский А. А.
ИЛЬИНСКАЯ Мария Васильевна (1856 – 1932) — актриса Малого театра I: 118
ИОГАНСОН (Фридман) Анна Христиановна (1860 – 1917) — балерина I: 84 – 88; II: 20
ИОРДАНОВ Павел Федорович (1858 – 1920) — городской голова Таганрога II: 190
«ИСПАНСКИЙ ДВОРЯНИН», пьеса А. Деннери и Ф. Дюмануара I: 126 130
ЙОРГАНДА Елена Яковлевна (1802 – 1885) — жена Бостанжогло М. И. I: 13 14 19 26 59 113
КАЗАКОВ Матвей Федорович (1738 – 1812) — архитектор I: 71
КАЛИНИН Михаил Иванович (1875 – 1946) — советский государственный деятель II: 310 312 325 365
551 КАЛМЫКОВА Евдокия Николаевна (р. 1861) — ученица балетного отделения Театрального училища I: 45
КАМЕНЕВ (наст. фам. Розенфельд) Лев Борисович (1883 – 1936) — советский партийный и государственный деятель II: 416
КАМЕНСКИЙ Василий Васильевич (1884 – 1961) — поэт II: 278 291 471
«Стенька Разин» II: 278 291 471
КАРАТЫГИН Василий Андреевич (1802 – 1853) — актер Александринского театра I: 109
КАРДОВСКИЙ Дмитрий Николаевич (1866 – 1943) — художник II: 79
КАРЕВ (наст. фам. Прудкин) Александр Михайлович (1899 – 1975) — актер Художественного театра и педагог II: 478
«КАРМЕНСИТА И СОЛДАТ», спектакль Музыкальной студии Художественного театра — см.: Бизе
КАРП Людмила — ученица Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Аня II: 494 504
КАРПАКОВА Полина Михайловна (1845 – 1920) — балерина Большого театра I: 38
КАРПОВ Евтихий Павлович (1857 – 1926) — режиссер Александринского театра I: 247 248 255 257; II: 49 136 143 147
КАРПОВЫ — текстильные фабриканты II: 395
КАТАЕВ Валентин Петрович (1897 – 1986) — драматург II: 333
КАТКОВ Михаил Никифорович (1818 – 1887) — редактор-издатель «Московских ведомостей», публицист II: 196
КАЧАЛОВ (наст. фам. Шверубович) Василий Иванович (1875 – 1948) — актер Художественного театра. В «Вишневом саде» Трофимов, Епиходов, Гаев I: 238; II: 67 68 76 115 116 129 131 – 136 149 159 163 168 185 186 187 192 193 195 211 218 226 231 236 245 247 253 255 258 259 278 280 – 288 291 313 – 321 329 350 353 355 365 377 384 385 398 399 429 470 471
КАШКАДАМОВ Алексей Гордеевич — преподаватель русского языка и литературы I: 43 84
КАШКАДАМОВ Сергей Александрович — приятель Станиславского I: 84 86
КАЩЕНКО Петр Петрович (1859 – 1920) — психиатр I: 55
КЕДРОВ Михаил Николаевич (1893 – 1972) — актер, режиссер Художественного театра, театральный педагог. В «Вишневом саде» Симеонов-Пищик II: 353 447 449 476 478 503 513
КЕЛЛЕР Рудольф Борисович — наследник химико-фармацевтических и парфюмерных фирм, сотрудник банка Рябушинских в Париже II: 397
КЕРЕНСКИЙ Александр Федорович (1881 – 1970) — политический деятель II: 324
КИЗЕВЕТТЕР Александр Александрович (1866 – 1933) — ученый-историк, общественный деятель I: 170; II: 81 340
552 КИРА — см.: Алексеева К. К.
КИСЕЛЕВЫ — владельцы подмосковной усадьбы Бабкино I: 3
КИЧЕЕВ Николай Петрович (1848 – 1890) — журналист и театральный критик I: 119 121 126 127 132 – 151 162 – 172 177 178 182 185 187 191 195 196 206 213 227 228; II: 183 197
КИЧЕЕВ Петр Иванович (1845 – 1902) — театральный критик I: 227; II: 37
КЛИНДВОРДТ Карл (1830 – 1916) — немецкий пианист, учитель музыки Алексеева В. С. I: 35
КНЕБЕЛЬ Мария Иосифовна (1898 – 1985) — актриса Художественного театра. В «Вишневом саде» Шарлотта II: 251 348 360 362 478
КНИППЕР Анна Ивановна (1850 – 1919) — мать Книппер-Чеховой О. Л. II: 213 241 276
КНИППЕР Владимир Леонардович (1876 – 1942) — брат Книппер-Чеховой О. Л. II: 210
КНИППЕР (урожд. Бартельс) Элли (Эльфрида, Елена) Ивановна (р. 1860) — жена Книппер В. Л. II: 210
КНИППЕР-ЧЕХОВА Ольга Леонардовна (1868 – 1959) — актриса Художественного театра и жена Чехова I: 8 185 276 278; II: 457 – 121 416 – 35 39 – 56 59 61 62 63 67 69 70 78 86 91 99 107 108 112 115 – 140 147 148 150 151 153 – 160 163 166 – 181 187 188 189 202 – 214 220 224 – 230 234 240 241 245 249 250 – 253 257 262 263 264 273 274 276 280 281 282 284 285 286 288 308 310 313 314 317 318 319 321 328 329 333 339 342 343 348 350 352 – 357 361 – 377 387 396 415 419 428 429 471 485 497 517 520
КНОППЫ — текстильные фабриканты II: 395
КОВАЛЕВСКИЙ Максим Максимович (1851 – 1916) — профессор-социолог, юрист I: 167 168 170 171
КОГАН Петр Семенович (1872 – 1932) — литературовед II: 350
КОЖИН Николай Михайлович — секретарь правления московского Общества искусства и литературы I: 198 211
КОЗЫРЕВА Надежда Дмитриевна — жена Бостанжогло В. В. II: 413
КОЛУМБ Христофор (1451 – 1506) — мореплаватель I: 110
КОМАРОВСКАЯ (урожд. Секевич) Надежда Ивановна (1889 – 1967) — ученица школы Художественного театра II: 130
КОМИССАРЖЕВСКАЯ Вера Федоровна (1864 – 1910) — драматическая актриса I: 183 198 211 224 247 257; II: 7 8 9 67 96 117 219 247 278
КОМИССАРЖЕВСКИЙ Федор Петрович (1838 – 1905) — один из основателей театра Общества искусства и литературы и студии при нем I: 90 183 198 206 207 208 211 215 276
КОМИССАРЖЕВСКИЙ Федор Федорович (1882 – 1954) — режиссер театра В. Ф. Комиссаржевской II: 247
КОНАШЕВИЧ Владимир Михайлович (1888 – 1963) — художник II: 79
КОНДРАТЬЕВ Алексей Михайлович (1846 – 1913) — режиссер Малого театра I: 194
КОНЕВ П. Т. — учитель музыки Алексеева В. С. I: 35
КОНЕНКОВ Сергей Тимофеевич (1874 – 1971) — скульптор II: 79 80
553 КОНОВАЛОВЫ — текстильные фабриканты II: 395
КОНСТАНТИНОВА Надежда Иванова (р. 1888) — руководительница московского отряда «Армии спасения» II: 311 312 313
КОНЧАЛОВСКИЙ Петр Петрович (1876 – 1956) — художник II: 79 80
КОНШИН Владимир Дмитриевич — текстильный фабрикант, друг отца Станиславского I: 28 29 57 – 59
КОНШИНА Александра Владимировна — см.: Алексеева А. В.
КОНШИНА (урожд. Третьякова) Елизавета Михайловна — см.: Третьякова Е. М.
КОНШИНА Прасковья Владимировна — см.: Чайковская П. В.
КОНШИНЫ — династия текстильных фабрикантов I: 25 30 34 41 77; II: 395 396
КОРГАНОВ Иосиф Иванович — муж Алексеевой Л. С. II: 355 38
КОРЕНЕВА Лидия Михайловна (1885 – 1982) — актриса Художественного театра. В «Вишневом саде» Аня, Варя II: 232 255 291 315 320 343
«КОРНЕВИЛЬСКИЕ КОЛОКОЛА», оперетта Р. Планкетта I: 124
КОРОВИН Константин Алексеевич (1861 – 1939) — художник I: 204 210; II: 79
КОРОЛЕНКО Владимир Галактионович (1853 – 1921) — писатель I: 167 199 202; II: 243
«КОРСАР» Адана А.-Ш., балет Большого театра I: 38
КОРШ Федор Адамович (1852 – 1923) — владелец театра в Москве I: 110 123 165 166 212 213 214 221 232 244 276; II: 51 13 115
КОРФ Николай Александрович (1834 – 1883) — барон, педагог, отец Немирович-Данченко Е. Н. I: 63 64 65 194
«Русская начальная школа. Руководство для земских гласных и учителей сельских школ» I: 64
КОСМИНСКАЯ Любовь Александровна (1880 – 1946) — актриса Художественного театра. В «Вишневом саде» Аня II: 171 192 195 259
КРАНДИЕВСКАЯ Надежда Васильевна (1891 – 1963) — скульптор II: 439
КРАСИКОВ Петр Ананьевич (1870 – 1939) — с 1917-го член следственной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, с 1918-го заместитель наркома юстиции, с 1924-го — прокурор Верховного суда СССР II: 312 402 403
КРАСНОПОЛЬСКАЯ Екатерина Филимоновна (1898 – 1980) — актриса Художественного театра II: 279 291
КРАСОВСКАЯ (Германова) Мария Николаевна (1884 – 1940) — ученица школы и актриса Художественного театра I: 279; II: 211 232 416
КРАСЮК Владимир Владимирович (1908 – 1937) — племянник Станиславского II: 39 53 386
КРАСЮК Владимир Николаевич — второй муж Алексеевой А. С. II: 38 42 45 386
КРЕСТОВНИКОВЫ — владельцы московского магазина свечей I: 51 58
КРЖИЖАНОВСКИЙ Глеб Максимилианович (1872 – 1959) — советский партийный и государственный деятель II: 406
КРОНЕК Людвиг (1837 – 1891) — немецкий режиссер I: 219 222
КРУГЛОВ Александр Васильевич (1853 – 1915) — писатель I: 145
554 КРУГЛЯК Аркадий Григорьевич (р. 1913) — ученик Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Лопахин II: 460 461 497 498 510
КРЫЛОВ Виктор Александрович (псевд. В. Александров) (1838 – 1906) — драматург I: 128 151 165; II: 165
«Лакомый кусочек» I: 151
КРЫЛОВ Иван Андреевич (1768 – 1844) — поэт I: 87
КРЫМОВ Николай Петрович (1884 – 1958) — художник II: 314
КСЕНОФОНТОВ Иван Ксенофонтович (1884 – 1926) — заместитель председателя ВЧК, председатель Особого трибунала ВЧК и заместитель председателя Верховного трибунала при ВЦИК II: 309
КУБЕЛИК Ян (1880 – 1940) — чешский скрипач II: 70
КУВАКИНА Екатерина Семеновна — ученица балетного отделения Театрального училища I: 45
КУГЕЛЬ Александр (Авраам) Рафаилович (1864 – 1928) — театральный критик I: 228 244 247 250 254; II: 85 91 97 116 120 136 137 158 163 165 170 171 176 177 178 179 182 – 186 188 – 193 200 201 222 240 241 243 259 338 339 340 364 384
КУЗНЕЦОВ Михаил Артемьевич (р. 1918) — ученик Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Яша II: 503 515
КУЗНЕЦОВ Павел Варфоломеевич (1878 – 1968) — художник II: 79 80 433 439
КУМАНИН Федор Александрович (1855 – 1896) — издатель журнала «Артист» I: 142
КУПРИН Александр Иванович (1870 – 1938) II: 385 386
КУРЕПИН Александр Дмитриевич (1847 – 1891) — журналист I: 132 – 152 156 – 172 177 178 185 187 195 196 202 206 264; II: 183 197
КУРОПАТКИН Алексей Николаевич (1848 – 1825) — генерал, военный министр II: 172 173
КУРОЧКИНЫ, братья Василий Степанович (1831 – 1875) и Николай Степанович (1830 – 1884) — основатели петербургского журнала «Искра» I: 148
КУСТОДИЕВ Борис Михайлович (1878 – 1927) — художник II: 79
КЮБА — владелец ресторана в Петербурге II: 163
ЛАВРОВ Вукол Михайлович (1852 – 1912) — издатель, переводчик I: 172 199
ЛАНИН Николай Петрович (1830 – 1896) — издатель газеты «Русский курьер» I: 106 189
ЛАНСЕРЕ Евгений Евгеньевич (1875 – 1946) — художник II: 79 395
ЛАПШИН Иван Иванович (1870 – 1952) — психолог II: 444
ЛАРСЕН К — руководитель международной организации «Армия спасения» II: 312
ЛЕГАР Ференц (Франц) (1870 – 1948) — венгерский композитор I: 107
ЛЕВИНСКИЙ Владимир Дмитриевич (1849 – 1917) — с 1883 редактор-издатель московского журнала «Будильник» I: 144 148 149
555 ЛЕВИТАН Исаак Ильич (1860 – 1900) — художник I: 75 181 203 204 208 233 251; II: 276
ЛЕЙКИН Николай Александрович (1841 – 1906) — писатель, редактор-издатель журнала «Осколки» I: 3 4 116 128 129 134 147 – 153 155 156 173 177 178 180; II: 107 163 164 165 167 171 174 202 240
ЛЕКОК Александр Шарль (1832 – 1918) — композитор I: 107
ЛЕНИН (Ульянов) Владимир Ильич (1870 – 1924) — II: 43 262 264 265 269 272 275 276 288292294295300325340341365366370398401406420421465474478
ЛЕНСКАЯ (урожд. Корф) Лидия Николаевна (1862 – 1948) — жена Ленского А. П., кузина Немирович-Данченко Е. Н. I: 194
ЛЕНСКИЙ (наст. фам. Вервициотти) Александр Павлович (1847 – 1908) — актер и режиссер Малого театра, театральный педагог I: 50 79 88 96 109 117 126 129 130 170 190 194 195 199 203 208 216 217
ЛЕНТОВСКАЯ Анна Валентиновна (1862 – 1941) — опереточная актриса, сестра Лентовского М. В. I: 120
ЛЕНТОВСКИЙ Михаил Валентинович (1843 – 1906) — актер, режиссер, антрепренер I: 46 47 50 99 107 120 123 124 128 170 232 244 251; II: 89
ЛЕНТУЛОВ Аристарх Васильевич (1882 – 1943) — художник II: 80
ЛЕОНИДОВ (наст. фам. Вольфензон) Леонид Миронович (1873 – 1941) — актер Художественного театра. В «Вишневом саде» Лопахин II: 38 67 68 99 112 113 115 116 125 126 129 138 142 149 153 191 192 231 245 252 254 289 291 294 297 305 314 318 342 353 363 370 374 382 442 446 447 449 452 481
ЛЕОНИДОВ Юрий Леонидович (1917 – 1989) — ученик Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского, сын Леонидова Л. М. В «Вишневом саде» Гаев II: 446 452 461 486 511
ЛЕОНОВ Леонид Максимович (1899 – 1994) — писатель II: 333 337
ЛЕОНТЬЕВА Елизавета Ивановна (ум. в 1900) — гувернантка матери Станиславского I: 18 184; II: 17
ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич (1814 – 1841) I: 110; II: 65 434
ЛИАНОЗОВ Георгий Мартынович — купец I: 136; II: 4 79
«ЛИЗИСТРАТА», комедия Аристофана, музыка Глиэра Р. М., спектакль Музыкальной Студии Художественного театра II: 326 327 328 334
ЛИЛИ — см.: Глассби
«ЛИЛИ», оперетта — см.: Эрве
ЛИЛИНА (сцен. псевд.; урожд. Перевощикова; в замужестве Алексеева) Мария Петровна (1866 – 1943) — актриса театра Общества искусства и литературы, Художественного театра и жена Станиславского. В «Вишневом саде» Аня, Варя, Полюшка I: 37 42 87 91 93 186 204 209 224 240 253 254 258 271 273 278; II: 8 – 12 15 18 – 29 34 36 37 40 42 45 46 50 54 57 61 62 69 107 108 112 116 124 – 131 159 163 168 171 192 206 209 216 26 245 247 254 255 265 274 315 318 345 346 348 355 356 357 363 364 365 366 373 374 377 424 427 – 430 442 445 446 447 449 451 452 453 456 457 461 462 470 476 – 484 519 520 521
556 ЛИПСКЕРОВ Абрам Яковлевич (1851 – 1910) — редактор-издатель московской газеты «Новости дня» I: 142; II: 209
ЛИСЕНКО Наталия Андреевна (р. 1884) — ученица школы Художественного театра I: 279
ЛИСТ Ференц (1811 – 1886) — композитор I: 35
ЛИТОВЦЕВА (урожд. Лёвестамм; по мужу Качалова) Нина Николаевна (1871 – 1956) — актриса Художественного театра. В «Вишневом саде» Варя II: 168
ЛИФАНОВ Борис Иванович (1913 – 1975) — ученик Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Епиходов II: 494 504
ЛОБАНОВ Андрей Михайлович (1900 – 1959) — режиссер, выпускник школы Второй студии Художественного театра II: 359
«ЛОЛА», опера Сен-Санса II: 389
ЛОПАТИН Владимир Михайлович (1861 – 1935) — актер театра Общества искусства и литературы и Художественного театра I: 224
ЛОПАТИН Герман Александрович (1845 – 1918) — революционер-народник II: 266
ЛУЖСКИЙ (наст. фам. Калужский) Василий Васильевич (1869 – 1931) — актер театра Общества искусства и литературы и Художественного театра. В «Вишневом саде» Гаев, Симеонов-Пищик, Фирс I: 224 271; II: 36 42 107 112 113 128 144 211 254 342 348 429
ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич (1875 – 1933) — нарком просвещения II: 261 262 265 266 267 269 288 289 310 312 313 325 327 332 337 344 474
«ЛЮБОВЬ», пьеса из портфеля литературного бюро Театра-студии на Поварской II: 64
«ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ», пьеса Тренева К. А. II: 349
«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» — см.: Пуччини
МАЗИНИ Анжело (1844 – 1926) — итальянский певец I: 142 162
МАЗУР Ираида Александровна (р. 1912) — ученица Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Варя II: 489
МАЙН РИД (наст. фам. и имя Рид Томас Майн) (1818 – 1883) — английский писатель I: 110
МАКЛАКОВ Василий Алексеевич (1869 – 1957) — присяжный поверенный, муж Якунчиковой М. Ф.; МАКЛАКОВЫ — см.: Якунчиковы
МАКШЕЕВ (наст. фам. Мамонов) Владимир Александрович (1843 – 1901) — актер Малого театра I: 50 109 129 130 222
МАЛЕВИЧ Казимир Северинович (1878 – 1935) — художник II: 79
МАЛКИЕЛЬ Самуил Миронович (р. 1836) — коммерции советник, владелец дома на Тверском бульваре I: 144
МАЛЛАРМЕ Стефан (1842 – 1898) — французский поэт II: 215
МАЛЬШ — соседи Алексеевых по даче в Покровском-Стрешневе I: 19
МАЛЯВИН Филипп Андреевич (1869 – 1940) — художник II: 67 79
557 МАМОНТОВ Виктор Николаевич (1839 – 1903) — кузен Мамонтова С. И., хормейстер Большого театра I: 26; II: 36
МАМОНТОВ Иван Федорович — отец Мамонтова С. И. I: 26
МАМОНТОВ Кирилл Николаевич — кузен Мамонтова С. И. I: 26 27
МАМОНТОВ Николай Федорович — дядя Мамонтова С. И. I: 26
МАМОНТОВ Савва Иванович (1841 – 1919) — купец, свойственник Станиславского I: 26 27 28 41 42 45 77 90 96 236 237 275 276; II: 36 233 392 393 411 424
МАМОНТОВА Александра Саввишна — дочь Мамонтова С. И. II: 393
МАМОНТОВА (Третьякова) Вера Николаевна — см.: Третьякова В. Н.
МАМОНТОВА (урожд. Сапожникова) Елизавета Григорьевна (1847 – 1908) — кузина Станиславского, жена Мамонтова С. И. I: 26 27 41 42 77; II: 36
МАМОНТОВА (Морозова) Маргарита Кирилловна — см.: Морозова М. К.
МАМОНТОВЫ — купеческая династия I: 25 26 34 236; II: 393
МАНДЕЛЬШТАМ Осип Эмильевич (1891 – 1938) — поэт I: 255 256; II: 50 386
МАНОХИН Николай Федорович (1855 – 1915) — танцовщик Большого театра I: 85
МАНЫКИН-НЕВСТРУЕВ (Невструев) Николай Александрович (р. 1869) — композитор, дирижер, заведующий музыкальной частью Художественного театра II: 216
МАНЯ — см.: Смирнова М. С.
МАРГОЛИН Самуил Акимович (1893 – 1953) — критик II: 336
МАРИЯ ПАВЛОВНА — см.: Чехова М. П.
МАРИЯ ФЕДОРОВНА — см.: Андреева М. Ф.
МАРКВАРДТ Август — солист оркестра Большого театра, капельмейстер военной музыки императорских театров, учитель Алексеева В. С. I: 46
МАРКОВ Павел Александрович (1897 – 1980) — театральный критик II: 370
МАРКОВСКАЯ Евгения Константиновна — танцовщица Большого театра I: 45
МАРКС Адольф Федорович (1838 – 1904) — книгоиздатель I: 248
МАРКС Карл (1818 – 1883) — основоположник научного коммунизма II: 194 266 267 287 340 351 352 375 384 432 443 450 462 465
МАРТОС Иван Петрович (1754 – 1835) — русский скульптор II: 304
МАРТЬЯНОВ Сергей Максимович (р. 1913) — ученик Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Гаев II: 452 461 485 486 498 499 511 518
МАСЛОВА — соседка Алексеевых в Покровском-Стрешневе I: 20 21
МАССАЛИТИНОВ Николай Осипович (1880 – 1961) — актер Художественного театра. В «Вишневом саде» Лопахин II: 254 314
МАХАЛОВ Сергей Дмитриевич (1864 – 1942) — писатель II: 209
МАЦКИН Александр Петрович (1906 – 1996) — театровед II: 137
МАЦЮЛЕВИЧ — танцовщица, знакомая Чехова I: 88
МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович (1893 – 1930) I: 132; II: 270 274 288 291
«Баня» I: 132
«Мистерия-буфф» II: 270 288 291
МЕДВЕДЕВ Петр Михайлович (1837 – 1896) — московский антрепренер I: 123
558 МЕДВЕДЕВА (наст. фам. Гайдукова) Надежда Михайловна (1832 – 1899) — актриса Малого театра I: 109
МЕДИЧИ Козимо (1389 – 1464) — основатель торгово-банковской компании, способствовавшей развитию итальянской культуры I: 33
МЕЙЕРХОЛЬД Всеволод Эмильевич (1874 – 1940) — актер Художественного театра, режиссер I: 176 230 244 249 250 259; II: 44 64 95 96 123 126 146 169 170 218222223229247270278288289290291298301306307326331332398462
МЕЛЬНИКОВ Константин Степанович (1890 – 1974) — архитектор II: 436
МЕНДЕЛЬСОН Феликс (1809 – 1847) — немецкий композитор I: 271
МЕНЬШИКОВ — ученик Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Симеонов-Пищик II: 461
МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич (1866 – 1941) — писатель I: 242; II: 271 383
МЕРЕЖКОВСКИЕ — Мережковский Д. С. и Гиппиус З. Н. II: 23 165 179 186 277
МЕТЕРЛИНК Морис (1862 – 1949) — бельгийский драматург I: 245 274; II: 95 96 183 214 – 223 225 229 247 289
«Сестра Беатриса» II: 219
«Синяя птица» I: 92; II: 142 223 289 298 389
«Слепые» II: 215 – 218 221 222
«Смерть Тентажиля» II: 223
МИЗИНОВА Лидия Стахиевна (1870 – 1937) — знакомая семьи Чеховых I: 261 262
МИКА — см.: Алексеев М. В.
«МИКАДО» А. Сюлливана, спектакль Алексеевского кружка I: 82 210; II: 389
МИКЕЛАНДЖЕЛО Буонарроти (1475 – 1564) — итальянский скульптор II: 290
МИЛЮКОВ Павел Николаевич (1859 – 1943) — политический деятель II: 324
МИНИН Кузьма Минич (ум. 1616) — народный герой русско-польской войны II: 304
МИНКУС Людвиг Федорович (наст. имя Алоизий Людвиг) (1826 – 1917) — композитор I: 84
МИРСКОВА Елизавета Викторовна — ученица Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Аня II: 501 512 519
МИТРОПОЛЬСКИЙ Иван Арсеньевич — домашний врач семьи Алексеевых I: 76
МИХАЙЛОВА Мария Анемподистовна (р. 1860) — ученица балетного отделения Театрального училища I: 45
МИХАЙЛОВСКИЙ Николай Константинович (1842 – 1904) — литературный критик, публицист I: 171 173 190 196 199; II: 194 197 202
МИХАЛОВСКАЯ Нина Валериановна (1901 – 1982) — актриса Художественного театра. В «Вишневом саде» Дуняша II: 104 344 345 363
МИХАЛЬСКИЙ Федор Николаевич (1896 – 1968) — администратор Художественного театра II: 325 520
559 МИЧИНЕР Иоганн — московский купец-меховщик, владелец дома в Леонтьевском I: 134 135 140
МИЩЕНКО Мария Иосифовна (р. 1912) — ученица Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Аня II: 452 488 500
М. ЛИЛИН (псевд.; наст. фам. и иниц. Чемоданов М. М.) (1856 – 1908) — художник-карикатурист московского журнала «Будильник» I: 136
МОЗАЛЕВСКИЙ Сергей Александрович (1871 – 1955) — актер Художественного театра. В «Вишневом саде» Работник II: 241 355
МОЛЧАНОВА Раиса Николаевна (1897 – 1980) — актриса Художественного театра II: 291
МОЛЬЕР (наст. имя и фам. Жан-Батист Поклен) (1622 – 1673) I: 221; II: 13 80
МОНФЕРАН Август Августович (1786 – 1858) — русский архитектор, француз по происхождению I: 17; II: 297
МОРОЗОВ Абрам Абрамович (1839 – 1882) — купец-фабрикант, директор правления Тверской мануфактуры, муж Морозовой (Хлудовой) В. А. I: 27 233
МОРОЗОВ Абрам Саввич (1806 – 1856) — богородский купец 1-й гильдии, дядя Морозовых Саввы и Сергея Тимофеевичей I: 27
МОРОЗОВ Михаил Абрамович (1870 – 1903) — сын Морозовых А. А. и В. А., директор товарищества Тверской мануфактуры I: 26 – 28 52 53 56 88 235 236 238 260 261 269; II: 411
«Карл VI и его время» I: 56
«Спорные вопросы западноевропейской истории» I: 56
МОРОЗОВ Михаил (Мика) Михайлович (1897 – 1959) — сын Морозовых М. А. и М. К., основоположник современного шекспироведения I: 262 728
МОРОЗОВ Савва Васильевич (1770 – 1860) — купец 1-й гильдии, основатель текстильных и красильных фабрик, дед Морозовых Саввы и Сергея Т. I: 27
МОРОЗОВ Савва Тимофеевич (1862 – 1905) — директор-распорядитель товарищества Никольской мануфактуры, пайщик и один из директоров Художественного театра I: 27 28 56 73 74 233; II: 4 6 10 11 18 21 26 115 128 140 141 142 152 168 208 351 396
МОРОЗОВ Сергей Тимофеевич (1863 – 1944) — брат Саввы Тимофеевича, основатель Кустарного музея в Москве, I: 27 74
МОРОЗОВ Тимофей Саввич (1823 – 1889) — отец Морозовых Саввы и Сергея, владелец Никольской мануфактуры I: 27
МОРОЗОВА (урожд. Хлудова) Варвара Алексеевна (1848 – 1917) — владелица Тверской мануфактуры, вдова Морозова А. А., гражданская жена Соболевского В. М. I: 26 27 52 233 – 237 260
МОРОЗОВА (урожд. Зимина) Зинаида Григорьевна (1867 – 1942) — жена Морозова Саввы Т. I: 27; II: 152
МОРОЗОВА (урожд. Мамонтова) Маргарита Кирилловна (1873 – 1958) — двоюродная племянница Мамонтова С. И. и Третьяковой (Мамонтовой) В. Н., жена Морозова М. А. I: 26 27 28 31 42 236
560 МОРОЗОВА (урожд. Симонова) Мария Федоровна (1830 – 1911) — мать Морозовых Саввы и Сергея Т. I: 75
МОРОЗОВЫ — династия текстильных фабрикантов I: 27 29 30 34 56 74 75 236
МОСКВИН Иван Михайлович (1874 – 1946) — актер Художественного театра. В «Вишневом саде» Епиходов II: 103 104 117 137 144 159 170 190 222 231 241 245 255 256 278 283 335 337 342 345 346 353 355 362 365 377 429
МОСКВИНА (Алексеева) Елизавета Александровна (1803 – 1850) — бабка Станиславского по отцу I: 13 26
МОЧАЛОВ Павел Степанович (1800 – 1848) — актер Малого театра I: 109
МОЦАРТ Вольфганг Амадей (1756 – 1791) I: 103 119; II: 204
«Похищение из сераля» II: 236
МУЗИЛЬ Николай Игнатьевич (1841 – 1906) — актер Малого театра I: 50 124 125 194 195
МУНШТЕЙН (псевд. Lolo) Леонид Григорьевич (1867 – 1947) — журналист I: 54 269; II: 103 322 323 378 379 382 414
МУРАТОВА Елена Павловна (1874 – 1921) — актриса Художественного театра. В «Вишневом саде» Шарлотта II: 41 116 125 126 142 143 168 170 190 241 273 274 359
МУРОМЦЕВ Сергей Андреевич (1850 – 1910) — профессор Московского университета, гласный Московской думы I: 63 154
МУХИНА Вера Игнатьевна (1889 – 1953) — скульптор II: 433
М. Я. Р. — критик берлинской газеты «Голос России» II: 320 321
НАБОКОВ Владимир Владимирович (1899 – 1977) — писатель I: 131 164 262
НАБОКОВ Владимир Дмитриевич (1869 – 1922) — лидер кадетов, в 1917-м член временного правительства России II: 283
«НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ», спектакль Художественного театра — см.: Островский А. Н.
НАДСОН Семен Яковлевич (1862 – 1887) — русский поэт I: 245
НАЗАРОВА — см.: Павлова В. Н.
НАЙДЕНОВ Николай Александрович (1834 – 1905) — купец 1-й гильдии, гласный Московской думы, председатель Московского биржевого комитета I: 31 63 154
НАПОЛЕОН (1769 – 1821) — французский император II: 49
НАПРАВНИК Эдуард Францевич (1839 – 1916) — русский композитор II: 214
«Дубровский» II: 213
НАРВУТ Георгий Иванович (1886 – 1920) — художник II: 79
НАРЫШКИНЫ — владельцы комаровской усадьбы II: 32
НАТАША — см.: Смирнова Н. С.
НЕБЕСОВ Николай Александрович (р. 1881) — старший консультант сектора капиталовложений Центрального планово-транспортного управления II: 415
НЕВЕЖИН Петр Михайлович (1841 – 1919) — драматург I: 108 128 239
561 НЕКРАСОВ Николай Алексеевич (1821 – 1878) — поэт I: 147
НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО (урожд. Ягубова) Александра Каспаровна (ум. 1914) — мать Немировича-Данченко Вл. И. I: 104 105 109
НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО Варвара Ивановна (1857 – 1900) — сестра Немировича-Данченко Вл. И. I: 104; II: 43
НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО Василий Иванович (1848 – 1936) — писатель, брат Немировича-Данченко Вл. И. I: 105 106 110 120 179 189 – 192 195 196 219 247; II: 100 169 268
НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО Владимир Иванович (1858 – 1943) — беллетрист, драматург, педагог, основатель Художественного театра, его директор и режиссер. В «Вишневом саде» сорежиссер Станиславского I: 6 7 8 10 53 69 98 – 102 104 – 110 117 118 119 121 – 137 140 – 149 151 162 – 180 182 183 187 – 200 203 206 212 213 219 – 222 224 228 229 231 232 235 – 262 265 267 – 270 274 278; II: 5 – 9 11 14 34 40 41 43 60 61 62 65 67 85 86 88 90 91 99 100 101 105 – 115 117 120 122 123 124 128 131 133 138 139 – 142 146 147 148 150 152 153 154 155 158 161 162 164 – 168 171 175 178 187 191 198 208 210 215 216 222 224 231 233 240 241 242 245 246 247 248 251 254 274 275 278 88 279 280 284 286 – 291 299 307 313 315 325 – 335 339 343 351 352 353 356 357 358 360 371 372 373 377 382 – 388 417 429 448 449 450 462 520
«В мечтах» II: 40
«Драма за сценой» I: 213
«Лихая сила» I: 165
«На литературных хлебах» I: 182
«Наши американцы» I: 142
«Новое дело» I: 196
«Последняя воля» I: 196
«Старый дом» I: 190
«Счастливец» I: 212
«Шиповник» I: 142
НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО (урожд. Корф; по первому мужу Бантыш) Екатерина Николаевна (1858 – 1938) — жена Немировича-Данченко Вл. И. I: 194 203; II: 9
НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО Иван Иванович (р. 1853) — брат Немировича-Данченко Вл. И. I: 104
НЕСТЕРОВ Михаил Васильевич (1862 – 1942) — художник II: 79 80
НЕФЕДОВ Филипп Диомидович (1838 – 1902) — редактор московской газеты «Русский курьер» I: 163
НИКОЛАЕВ Николай Ильич (р. 1865) — театральный критик II: 170 245 248 255
562 НИКОЛАЙ, НИКОЛАЙ Александрович — см.: Алексеев Н. А.
НИКОЛАЙ I, НИКОЛАЙ Павлович (1796 – 1855) — российский император II: 17
НИКОЛАЙ II (1868 – 1918) — российский император II: 17 21 250 321
НИКУЛИНА Надежда Алексеевна (1845 – 1923) — актриса Малого театра I: 109 118 195 218
НОВИЦКАЯ Лидия Павловна (р. 1902) — ученица Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Варя II: 447 489
НОВИЦКИЙ Павел Иванович (1888 – 1971) — литературный и партийный деятель II: 351
НОСОВ Игорь Николаевич — ученик Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Фирс II: 462 490 501 519
НОТОВИЧ Осип (Иосиф) Константинович (1849 – 1914) — издатель-редактор петербургской газеты «Новости и Биржевая газета» I: 130
НУСИНОВ Исаак Маркович (1889 – 1950) — литературовед II: 351
НЮША — см.: Штекер А. С.
ОБОЛОНСКАЯ Софья Витальевна — см.: Черепова С. В.
ОБОЛОНСКИЙ Николай Николаевич (1857 – после 1911) — врач I: 87 88 89; II: 27
«ОВЕЧИЙ ИСТОЧНИК», пьеса Лопе де Вега, спектакль Малого театра I: 126
ОГАНЕСЯН Анаит Вачеевна (р. 1943) — искусствовед I: 2; II: 2
ОГАРЕВ Николай Платонович (1813 – 1877) — русский революционер II: 292
«ОДИНОКИЕ» — см.: Гауптман
ОЗАРОВСКИЙ Юрий Эрастович (1869 – 1924) — режиссер Александринского театра II: 240 241
«О КУПЦЕ ОСТОЛОПЕ И РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ», живые картины театра Общества искусства и литературы I: 208
ОЛЕНИН Евгений Петрович (р. 1897) — племянник Станиславского II: 27 55
ОЛЕНИН Петр Сергеевич (1870 – 1922) — первый муж Алексеевой М. С. II: 38 389
ОЛЕНИН Сергей Петрович (р. 1898) — племянник Станиславского II: 27
ОЛЕНИНЫ — семья Алексеевой (Олениной) М. С. II: 28 54
ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА — урожд. Книппер (по мужу Чехова) Ольга Константиновна (1897 – 1980); племянница Книппер-Чеховой О. Л. II: 368
ОЛЬГА ЛЕОНАРДОВНА — см.: Книппер-Чехова О. Л.
ОПЕКУШИН Александр Михайлович (1838 – 1923) — скульптор II: 304
ОРДЖОНИКИДЗЕ Григорий Константинович (1886 – 1937) — советский партийный деятель II: 365
ОРЛОВ Василий Александрович (1896 – 1974) — актер Художественного театра В «Вишневом саде» Петя Трофимов, Гаев II: 354 360 361 368 372 384 447 449 476
ОРЛОВ-ДАВЫДОВ Алексей Анатольевич — вкладчик Художественного театра II: 307
563 ОРЛОВА (Якушенко, Анненкова) Татьяна Митрофановна (1912 – 1997) — ученица Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Раневская II: 452 461
ОСТРОВСКИЙ Александр Николаевич (1823 – 1886) — драматург I: 39 52 97 105 108 109 110 117 118 120 124 – 129 162 – 165 273; II: 133 940 108 330 331 335 337
«Бедность не порок» I: 127
«Без вины виноватые» I: 125 127
«Бесприданница» I: 125 126 141 215 266 268; II: 389 392
«В чужом пиру похмелье» I: 108
«Волки и овцы» I: 127
«Горячее сердце» II: 335
«Гроза» I: 127
«Дикарка» (совместно с Н. Я. Соловьевым) I: 108
«Женитьба Бальзаминова» I: 108
«Красавец мужчина» I: 127
«На всякого мудреца довольно простоты» I: 109 127; II: 285
«Не от мира сего» I: 127
«Не так живи, как хочется» I: 232
«Последняя жертва» I: 124 125 215 216
«Пучина» I: 108
«Свои люди — сочтемся» I: 127
«Снегурочка» I: 273; II: 40 140
«Таланты и поклонники» I: 125; II: 258
«Шутники» I: 233
ОСТРОГРАДСКИЙ Флегонт Павлович (р. 1886) — заведующий отделом текущих счетов в московском банке Рябушинских II: 397
ОСТРОУМОВ Алексей Александрович (1844 – 1908) — врач II: 43 44
ОСТРОУХОВ Илья Семенович (1858 – 1929) — художник II: 79 233
«ОТЦЫ И ДЕТИ» — см.: Тургенев И. С.
ОФРОСИМОВ Юрий Викторович — критик берлинской газеты «Руль» II: 320 322
ОФФЕНБАХ Жак (1819 – 1880) — французский композитор I: 83 107
«Перикола» I: 83
«Прекрасная Елена» II: 497
«Сказки Гофмана» II: 506
ОЧКИН Алексей Дмитриевич (1886 – 1952) — врач, сокурсник Алексеева М. В. по университету, муж Алексеевой Л. С. II: 38
ПАВЛОВ Иван Петрович (1849 – 1936) — ученый-физиолог II: 444
ПАВЛОВА Анна Павловна (Матвеевна) (1881 – 1931) — балерина II: 220
564 ПАВЛОВА (Назарова) Вера Николаевна (1875 – 1962) — ученица школы Художественного театра и его актриса. В «Вишневом саде» Шарлотта Ивановна I: 279; II: 211
ПАВЛОВА (Зейтман) Татьяна Павловна (1893 – 1975) — русская и итальянская актриса, В «Вишневом саде» Вл. И. Немировича-Данченко Раневская II: 377
ПАЛЬМИН Лиодор Иванович (1841 – 1891) — поэт, переводчик II: 134
ПАНИНА (урожд. Половцева, по мужу Щербатова) Софья Владимировна (1871 – 1957) — вкладчица Художественного театра II: 307 308
ПАПЕРНЫЙ Зиновий Самойлович (1919 – 1996) — литературовед I: 3
ПАРАМОНОВ Борис Михайлович (р. 1937) — литературовед I: 3 5
ПАССЕК Евгений Вячеславович (1860 – 1912) — юрист, журналист I: 136 169; II: 197
ПАСТЕРНАК Борис Леонидович (1890 – 1960) — поэт I: 9 221; II: 521
ПАСТЕРНАК Леонид Осипович (1862 – 1945) — художник II: 79 80
ПАСТУХОВ Николай Иванович (1822 – 1911) — редактор-издатель газеты «Московский листок», «Русской газеты» и др. I: 76 146 147 150
«Разбойник Чуркин» I: 147
ПЕРЦОВ Петр Петрович (1868 – 1947) — критик, публицист, мемуарист II: 243
ПЕТИПА Мариус Иванович (1818 – 1910) — балетмейстер I: 84
«Роксана, краса Черногории» I: 84
ПЕТР I (1672 – 1725) I: 90 183
ПЕТРОВ-ВОДКИН Кузьма Сергеевич (1878 – 1939) — художник II: 79 433
ПЕТРОВА Евгения Владимировна (р. 1918) — актриса Художественного театра. В «Вишневом саде» Аня II: 361 362
ПЕТРОВСКАЯ Нина Ивановна (1884 – 1928) — писательница, переводчик II: 154
ПЕТРОВСКИЙ — начальник управления государственных учебных заведений II: 406
ПЕШКОВ Алексей — см.: Горький
ПЕШКОВ Зиновий Алексеевич (наст. фам, имя и отч. Свердлов Зиновий Михайлович) (1884 – 1966) — крестник Горького II: 263
ПЕШКОВА (урожд. Волжина) Екатерина Павловна (1878 – 1965) — жена Горького II: 168
ПИЛЯВСКАЯ Софья Станиславовна (р. 1911) — актриса Художественного театра II: 39
ПИРОЖКОВ, Пирожок — кучер Алексеевых II: 21
ПИСАРЕВ Модест Иванович (1844 – 1905) — драматический актер I: 117 127 260
ПИСЕМСКИЙ Алексей Феофилактович (1821 – 1881) — драматург I: 9 7 239
ПИТЧЕР Харви — английский славист II: 31
ПЛАТОН (428 до н. э. – 348 до н. э.) — древнегреческий философ I: 110 135
ПЛЕВЕ Вячеслав Константинович (1846 – 1904) — товарищ министра и министр внутренних дел I: 71 72; II: 198 199
ПЛЕЩЕЕВ Алексей Николаевич (1825 – 1893) — поэт I: 154 171 181
ПОБЕДОНОСЦЕВ Константин Петрович (1827 – 1907) — обер-прокурор Синода, советник императора Александра III I: 63 64 65 68 71 72 194; II: 196
565 ПОДГОРНЫЙ Николай Афанасьевич (1879 – 1947) — актер Художественного театра. В «Вишневом саде» Петя Трофимов, Гаев, Прохожий, Начальник станции II: 255 316 318 320 343 344 348 349 360
ПОЖАРСКИЙ Дмитрий Михайлович (1578 – 1642) — князь, соратник Кузьмы Минина, герой русско-польской войны II: 304
ПОКРОВСКИЙ Михаил Николаевич (1868 – 1932) — советский историк и государственный деятель, академик II: 432 433
ПОЛЕНОВ Василий Дмитриевич (1844 – 1927) — художник, свойственник Станиславского I: 41 77
ПОЛЯ Кулыбина — прислуга Алексеевых II: 45 63
ПОЛЯ, Пелагея Моисеевна — прислуга Алексеевой Е. В. II: 45
ПОЛЯКОВА Елена Дмитриевна (р. 1884) — ученица балетного отделения Театрального училища I: 45
ПОЛЯНСКАЯ О. П. — см.: Алексеева О. П.
ПОМЕРАНЦЕВ Александр Никанорович (1848 – 1918) — архитектор I: 71
ПОМЯЛОВА (Вальц) Александра Ивановна (1863 – 1930-е) — артистка балета Большого театра, актриса Художественного театра II: 125
ПОПОВА Любовь Сергеевна (1889 – 1924) — художница II: 79
ПОПОВА Вера Николаевна (1889 – 1982) — актриса Художественного театра. В «Вишневом саде» Раневская II: 354
ПОССАРТ Эрнест (1841 – 1921) — немецкий актер II: 67
ПОССЕ Владимир Александрович (1874 – 1940) — журналист I: 266
ПОТАПЕНКО Игнатий Николаевич (1856 – 1929) — беллетрист, драматург I: 202 203 261; II: 334 338 340
ПОТЕХИН Алексей Антипович (1829 – 1908) — драматург I: 118 190 199
«ПОХИЩЕНИЕ ИЗ СЕРАЛЯ» — см.: Моцарт
«ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» — см.: Оффенбах
ПРИСТЛИ Джон Бойнтон (1894 – 1984) — английский писатель II: 261
ПРОТОПОПОВ Алексей Дмитриевич (1866 – 1917/18) — министр внутренних дел II: 260 261
ПРОТОПОПОВ Степан Алексеевич — мануфактур-советник, член попечительских советов коммерческих училищ, муж сестры братьев Четвериковых Д. И. и С. И II: 57
ПРОХОРОВЫ — текстильные фабриканты II: 395
ПРУГАВИН А. С. — публицист I: 167
«ПУГАЧЕВЩИНА», пьеса К. А. Тренева II: 334 335
ПУЧЧИНИ Джакомо (1858 – 1924) — итальянский композитор II: 36 389
«Мадам Баттерфляй» II: 236 389
ПУШКИН Александр Сергеевич (1799 – 1837) I: 47 89 97 176 188 198 204 205 206 208 213 214 215 217 221 232 238 268; II: 18 106 251 289 304 366
«Борис Годунов» I: 27; II: 289
«Каменный гость» I: 204 206 208 215 268
566 «Скупой рыцарь» I: 97 213 214
ПУШКИН Василий Львович (1770 – 1830) — дядя поэта I: 16
ПШИБЫШЕВСКИЙ Станислав (1868 – 1927) — польский драматург II: 229
ПЫЖОВА Ольга Ивановна (1894 – 1972) — актриса Художественного театра. В «Вишневом саде» Варя II: 316 317 318 334
ПЯТНИЦКАЯ Ольга Михайловна (р. 1915) — ученица Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Раневская II: 452 461 511
ПЯТНИЦКИЙ Константин Петрович (1864 – 1938) — управделами издательства товарищества «Знание» II: 177
РАБЕНЕКИ — текстильные фабриканты II: 396 397
РАБИНОВИЧ Исаак Моисеевич (1894 – 1961) — театральный художник II: 326
РАЕВСКАЯ (Иерусалимская) Евгения Михайловна (1854 – 1932) — актриса Художественного театра II: 41
РАХМАНИНОВ Сергей Васильевич (1873 – 1943) II: 154
РЕВО — ученик Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Петя Трофимов II: 492 500 509
РЕДЛИХ — соседи Алексеевых по даче в Покровском-Стрешневе I: 19 21
РЕМБО Артюр (1854 – 1891) — французский поэт II: 215
РЕМЕЗОВ Митрофан Нилович (1835 – 1901) — член редакции журнала «Русская мысль» I: 134 172 199
РЕПИН Илья Ефимович (1844 – 1930) — художник I: 101
РЕСПИГИ Отторино (1879 – 1936) — итальянский композитор и педагог II: 260
РЕШИМОВ (наст. фам. Горожанский) Михаил Аркадьевич (1845 – 1887) — актер Малого театра I: 50 109 130 142
РОБЕСПЬЕР Максимильен (1758 – 1794) — деятель Великой французской революции II: 279
РОДОН (наст. фам. Габбель) Виктор Иванович (1846 – 1892) — опереточный актер I: 47
РОЗАНОВ Василий Васильевич (1856 – 1919) — философ, литературный критик II: 243 244 248 258 364
РОКСАНОВА (сцен, псевд.; наст. фам. Петровская; в замужестве Михайловская) Мария Людомировна (1874 – 1958) — актриса Художественного театра I: 251 254 257 258 259 273; II: 40
РОМАНОВЫ — царская династия II: 261
РОССИ Эрнесто (1827 – 1896) — итальянский актер I: 96 118
РОССОВСКИЙ Николай Андреевич (ум. 1919) — журналист II: 176 179 188 189
РОССОЛИМО Григорий Иванович (1860 – 1928) — врач II: 196
РУБИНШТЕЙН Антон Григорьевич (1829 – 1894) — пианист, дирижер, основатель Русского музыкального общества I: 34 59 80 90
РУБИНШТЕЙН Николай Григорьевич (1835 – 1881) — пианист, основатель Московского отделения Русского музыкального общества и Московской 567 консерватории I: 34 35 36 48 57 58 61 71 77 79 80 81 90 102 105 146 153 158 198; II: 54
РУПЕРТИ Эдгар Александрович (ум. в 1930-х) — муж Алексеевой Е. А., один из директоров товарищества «Владимир Алексеев» I: 42
«РУСАЛКА», опера Даргомыжского А. С. II: 419
«РУСЛАН И ЛЮДМИЛА», опера Глинки М. И. I: 82
РЫБАКОВ Константин Николаевич (1856 – 1916) — актер Малого театра I: 125
РЫЛОВ Аркадий Александрович (1870 – 1939) — художник II: 79
РЫНДЗЮНСКАЯ Марина Давидовна (1877 – 1936) — скульптор II: 371
РЯБУШИНСКАЯ Александра Павловна — см.: Алексеева А. П.
РЯБУШИНСКАЯ Евгения Павловна — домовладелица, сестра жены Алексеева М. В. II: 395
РЯБУШИНСКАЯ (Носова) Евфимия Павловна — домовладелица, сестра Алексеевой А. П. II: 394
РЯБУШИНСКАЯ Надежда Павловна (1886 – 1937) — сестра Алексеевой А. П. II: 236 391 393 394 395 397 400 401 402 405
РЯБУШИНСКИЕ — купеческая династия I: 25 34 55; II: 39 55 396 397 406
РЯБУШИНСКИЙ Михаил Павлович — директор лондонского отделения банкирского дома Рябушинских, брат Алексеевой А. П. II: 395
РЯБУШИНСКИЙ Николай Павлович (1876 – 1951) — промышленник, художник, издатель, брат Алексеевой А. П. II: 79 394
РЯБУШИНСКИЙ Павел Михайлович — основатель товарищества «П. М. Рябушинский и сыновья», отец Алексеевой (Рябушинской) А. П. II: 395
РЯБОВ Павел Яковлевич (1837 – 1906) — актер Малого театра и режиссер театра Общества искусства и литературы I: 215
САБУРОВ Симон Федорович (1868 – 1929) — антрепренер II: 373
САВИНА (урожд. Подраменцова-Стремлянова) Мария Гавриловна (1854 – 1915) — актриса Александринского театра I: 118 130 257; II: 163
САВИЦКАЯ Маргарита Георгиевна (1868 – 1911) — актриса Художественного театра. В «Вишневом саде» Варя I: 253; II: 40 41 215 254
САВОНАРОЛА Джироламо (1452 – 1498) — настоятель монастыря, обличитель тирании Медичи и церкви II: 484
САДОВСКАЯ (урожд. Лазарева) Ольга Осиповна (1849 – 1919) — актриса Малого театра I: 125; II: 6
САДОВСКИЙ Михаил Провович (1847 – 1910) — актер Малого театра I: 142 222
САДОВСКИЙ (наст. фам. Ермилов) Пров Михайлович (1818 – 1872) — актер Малого театра, основатель династии Садовских I: 128
САДОВСКИЕ — династия актеров Малого театра I: 109
САЗОНОВ Николай Федорович (1843 – 1903) — драматический актер I: 130
САЛИАС (наст. фам. Салиас де Турнемир) Евгений Андреевич (1840 – 1908) — русский писатель I: 208
568 САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН Михаил Евграфович (1826 – 1889) — русский писатель I: 147 152 170 171; II: 166 198
САЛЬВИНИ Томазо (1829 – 1915) — итальянский драматический актер I: 96 118
САЛЬЕРИ Антонио (1750 – 1825) — итальянский композитор II: 277
САМАРИН Иван Васильевич (1817 – 1885) — актер Малого театра I: 96 109 118 128 142
САНИН (наст. фам. Шенберг) Александр Акимович (1869 – 1956) — актер и режиссер I: 271; II: 41
САНКОВСКАЯ Екатерина Александровна (1816 – 1878) — балерина Большого театра и педагог по танцу братьев Алексеевых В. С. и К. С. I: 38
САНЯ — знакомая Соколовой З. С. на похоронах Чехова II: 210
САПОЖНИКОВ Александр Владимирович (1878 – 1900) — двоюродный племянник Станиславского II: 53
САПОЖНИКОВ Александр Григорьевич (1842 – 1877) — кузен Станиславского I: 21 22 25 – 29 42 52 54 77
САПОЖНИКОВ Владимир Григорьевич (1843 – 1916) — кузен Станиславского I: 21 22 25 – 28 41 42 52 53; II: 24 53 54 393 412
САПОЖНИКОВ Григорий Владимирович (1888 – 1938) — двоюродный племянник Станиславского II: 53 235
САПОЖНИКОВ Григорий Григорьевич (1810 – 1847) — муж Алексеевой В. В. I: 26
САПОЖНИКОВ Сергей Владимирович (1898 – 1942) — двоюродный племянник Станиславского II: 53 235
САПОЖНИКОВА Александра Григорьевна — двоюродная внучатая племянница Станиславского II: 393
САПОЖНИКОВА Вера Владимировна — см.: Алексеева В. В.
САПОЖНИКОВА Вера Владимировна (р. 1880) — двоюродная племянница Станиславского II: 53
САПОЖНИКОВА Екатерина Владимировна (1882 – 1943) — двоюродная племянница Станиславского II: 53
САПОЖНИКОВА (урожд. Якунчикова) Елизавета Васильевна (1856 – 1937) — кузина Станиславского I: 28; II: 24 53 54 393 413
САПОЖНИКОВА Елизавета Григорьевна — см.: Мамонтова Е. Г.
САПОЖНИКОВА Наталья Владимировна (р. 1883) — двоюродная племянница Станиславского II: 53
САПОЖНИКОВЫ — текстильные фабриканты I: 21 22 26 28 50 51 77; II: 22 24 29 35 42 54 173 187 203 204 233 235 238 393 424 470
САПУНОВ Николай Николаевич (1880 – 1912) — художник II: 395
САРЬЯН Мартирос Сергеевич (1880 – 1972) — художник II: 79 433
СВОБОДИН (наст. фам. Козиенко) (1850 – 1892) — драматический актер I: 232
СЕВАСТЬЯНОВ Василий Сергеевич (1875 – 1929) — муж Алексеевой М. С. II: 38
569 СЕРГЕЕВ Владимир Сергеевич (Дуняшин Володя) (1883 – 1941) — сын Копыловой А. Н., воспитанник Станиславского, ученый-историк, педагог I: 87; II: 20 22 26 56 – 59 62 71 72 74 – 77 80 – 84 132 – 134 136 361 431 432 439 440 470 471
СЕРГЕЕВ Владимир Сергеевич (Сергеев-II) (р. 1872) — студент Московского училища живописи, ваяния и зодчества II: 74 75 132
СЕРГЕЕНКО Петр Алексеевич (1854 – 1930) — литератор, публицист I: 136
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1857 – 1905) — великий князь, московский генерал-губернатор I: 77 78; II: 10 275 276
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1869 – 1918) — великий князь II: 276
СЕРЕБРЯКОВ — владелец московского магазина свечей I: 58
СЕРОВ Валентин Александрович (1865 – 1911) — художник I: 28; II: 135 395
СЕЧЕНОВ Иван Михайлович (1829 – 1905) — русский ученый-физиолог II: 444
СИМОВ Виктор Андреевич (1858 – 1935) — художник I: 136 241 242 245 250 251 252 254 276; II: 24 46 100 144 146 147 161 175 181 195 217 244 255 354
СИМОНОВ Рубен Николаевич (1899 – 1968) — актер и режиссер II: 359
СКАБИЧЕВСКИЙ Александр Михайлович (1838 – 1910) — литературный критик I: 173 190 199
«СКАЗКИ ГОФМАНА» — см.: Оффенбах
СКАФТЫМОВ Александр Павлович (1890 – 1968) — литературовед II: 97 98
СКИТАЛЕЦ (наст. фам. Петров) Степан Гаврилович (1869 – 1941) — писатель II: 153
СКЛИФОСОВСКИЙ Николай Васильевич (1836 – 1904) — хирург I: 75 76
СКОТНИКОВ Константин Алексеевич (р. 1913) — ученик Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Епиходов II: 494
СМИРНОВ Николай Сергеевич (1892 – начало 1940-х) — двоюродный племянник Станиславского I: 23 274 – 276 278; II: 30 31 66 80 204 205 233 234 238 412 414 426
СМИРНОВ Сергей Николаевич — муж Бостанжогло Е. Н., преподаватель 2-й мужской московской гимназии I: 42 185 274 275; II: 24 30 50 56 – 68 71 72 74 154 228 237 310 412 439
СМИРНОВА (Готовцева) Евгения Сергеевна (р. 1889) — двоюродная племянница Станиславского I: 185 274 275 278; II: 24 29 58 69 70 79 233 238 411 412
СМИРНОВА Елена Николаевна — см.: Бостанжогло Е. Н.
СМИРНОВА (Иванова) Мария (Маня) Сергеевна (1885 – начало 1940-х) — двоюродная племянница Станиславского I: 185 261 274 – 276 278; II: 24 29 30 48 50 58 61 66 68 69 70 93 154 155 158 159 173 203 – 206 209 211 223 227 228 233 234 236 – 238 251 412 414 416 417 419 – 422 424 426 – 431
СМИРНОВА Наталья Сергеевна (1887 – 1950-е) — двоюродная племянница Станиславского, художница I: 185 274 – 276 278; II: 24 29 58 67 69 70 73 74 77 – 80 93 95 154 159 233 238 411 412 416 433 435 438 439
СМИРНОВА Татьяна Сергеевна (р. 1890) — двоюродная племянница Станиславского I: 274 275 278; II: 24 58 227 238 412
СМИРНОВЫ — семья Бостанжогло (Смирновой) Е. Н. I: 5 50 185 276; II: 22 28 – 31 35 42 51 54 62 66 173 203 204 206 229 232 237 238 411 – 413 424 470
570 СМОЛЕНСКИЙ (наст. фам. Измайлов) Александр Алексеевич (1873 – 1921) — театральный критик II: 176 179 188 189 209 364
СОБИНОВ Леонид Витальевич (1872 – 1934) — певец I: 97; II: 35
СОБОЛЕВ Юрий Васильевич (1887 – 1940) — литературный критик, историк Художественного театра II: 140 152 248 249 332 338 339 340 346 350
СОБОЛЕВСКИЙ Василий Михайлович (1846 – 1913) — юрист, редактор московской газеты «Русские ведомости» I: 142 152 – 155 158 233 – 236
СОКОЛОВ Константин Константинович (1857 – 1919) — врач, муж Алексеевой З. С. I: 33 217 244; II: 25 210 487
СОКОЛОВА Зинаида Сергеевна — см. Алексеева З. С.
СОКОЛОВА Вера Сергеевна (1896 – 1942) — актриса Художественного театра. В «Вишневом саде» Раневская II: 354
СОКОЛОВЫ — семья Алексеевой (Соколовой) З. С. II: 388 424
СОКРАТ (ок. 469 – 399 до н. э.) — греческий философ I: 110
СОЛЖЕНИЦЫН Александр Исаевич (р. 1918) — писатель II: 381 388
СОЛЛОГУБ Федор Львович (1848 – 1890) — художник I: 204 218
СОЛОВЬЕВ Николай Яковлевич (1844 – 1898) — драматург I: 118
СОЛОДОВНИКОВ Григорий Григорьевич (ум. 1901) — владелец театра на Большой Дмитровке в Москве I: 232
СОЛОДОВНИКОВЫ — братья, московские купцы 1-й гильдии I: 30 33
СОРОКОУМОВСКИЙ Петр Павлович — московской купец-меховщик I: 146
СРЕДИНА Надежда Ивановна («бабушка Средина») — мать ялтинского врача Средина Леонида Валентиновича (1860 – 1909), знакомых семьи Чеховых II: 314
СТАЛИН (1879 – 1953) II: 236 349 362 365 366 367 370 381 399 400 408 435 438 439
СТАНИЦЫН (наст. фам. Гёзе) Виктор Яковлевич (1897 – 1976) — актер и режиссер Художественного театра II: 353
СТАРК (псевд. Зигфрид) Эдуард Александрович (1874 – 1942) — критик II: 175 176
СТАХОВИЧ Алексей Александрович (1856 – 1919) — адъютант великого князя Сергея, московского генерал-губернатора, актер и пайщик Художественного театра II: 10 11 63 114 125 167 169 170 171 172 262 275 276 307 308
СТАХОВИЧ Софья Александровна (1862 – 1942) — сестра Стаховича А. А. II: 307 308 309
СТЕПАНОВ Николай Александрович (1807 – 1877) — художник-карикатурист, один из основателей петербургского журнала «Искра» I: 148
СТЕПАНОВА Ангелина Осиповна (р. 1905) — актриса Художественного театра. В «Вишневом саде» Аня II: 347 348
СТЕПУН Федор Августович (1884 – 1965) — социолог, публицист II: 243
«СТОЛПЫ ОБЩЕСТВА» — см.: Ибсен
СТРАЖЕВ Виктор Иванович — журналист II: 51 76 287
СТРЕПЕТОВА Полина (Пелагея) Антипьевна (1850 – 1903) — драматическая актриса I: 118
571 СТРОГАНОВ — граф, владелец имения под Петербургом, купленного Лейкиным Н. А. I: 3
СТРУВЕ Георгий Густавович — первый муж Алексеевой Л. С. I: 42; II: 25 38
СУВОРИН Алексей Сергеевич (1834 – 1912) — писатель, издатель газеты «Новое время», книгоиздатель I: 23 133 140 168 172 177 178 179 262; II: 32 161 162 164 174 – 180 182 185 192 195 196 198 199 200 201 202 203 216 244 380
«Не пойман — не вор» I: 199
СУДЕЙКИН Сергей Юрьевич (1882 – 1946) — художник II: 79 395
СУДЬБИНИН Серафим Николаевич (1867 – 1944) — актер Художественного театра, скульптор II: 79
СУЛЕРЖИЦКИЙ Леопольд Антонович (1872 – 1916) — театральный деятель, режиссер, художник II: 132 – 136 139 220 383 384
СУМБАТОВ, СУМБАТОВ-ЮЖИН (наст. фам. Сумбаташвили, Южин — сценический псевдоним) Александр Иванович (1857 – 1927) — князь, актер, драматург, театральный деятель I: 51 – 54 88 126 129 190 194 195 202 203 208 215 235 238 239 260 261; II: 108 209 411
СУМБАТОВА (урожд. Корф) Мария Николаевна (1860 – 1938) — жена Сумбатова А. И., актриса, кузина Немирович-Данченко Е. Н. I: 194 203 208 209
СУРЕНЬЯНЦ Вардгес Яковлевич (1860 – 1921) — художник II: 217 218 221
СУРОЖСКИЙ (псевд.; наст. фам. Шатилов) Павел Николаевич (р. 1872) — писатель, публицист II: 244 245 246
СУХАРЕВА Елена Георгиевна (р. 1892) — актриса Художественного театра II: 291
СУХОВО-КОБЫЛИН Александр Васильевич (1817 – 1903) — драматург I: 162
«Дело» I: 162
СЫТИН Иван Дмитриевич (1851 – 1934) — издатель II: 209
ТАИРОВ Александр Яковлевич (1885 – 1950) — режиссер II: 278 298 398 471
«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» — см. Островский А. Н.
ТАЛЬНИКОВ (наст. фам. Шпитальников) Давид Лазаревич (1882 – 1961) — театральный критик, театровед II: 346 347 377 381
ТАНЕЕВ Сергей Иванович (1856 – 1915) — русский композитор, директор Московской консерватории I: 89 91 159
ТАРАСОВА Алла Константиновна (1898 – 1973) — актриса Художественного театра. В «Вишневом саде» Аня, Раневская II: 283 284 315 316 334 343 347 348 353
ТАРНОВСКИЙ Константин Августович (1826 – 1892) — драматург, переводчик I: 128 141 165; II: 89
ТАРХАНОВ (наст. фам. Москвин) Михаил Михайлович (1877 – 1948) — актер Художественного театра. В «Вишневом саде» Епиходов, Фирс, Начальник станции II: 335 363
ТАТЛИН Владимир Евграфович (1885 – 1953) — художник II: 80 433
ТЕЛЕШОВ Николай Дмитриевич (1867 – 1957) — писатель II: 350
572 ТЕСТОВ — владелец ресторана в Москве I: 145 170
ТИХОМИРОВ Иосафат Александрович (1872 – 1908) — актер Художественного театра I: 250 253 254; II: 34 35
ТИХОМИРОВА Нина Васильевна (1898 – 1976) — актриса Художественного театра. В «Вишневом саде» Варя II: 362
ТОЛСТОЙ Алексей Константинович (1817 – 1875) — писатель I: 259 270 276; II: 215 321
«Смерть Иоанна Грозного» I: 270; II: 40 215
«Царь Федор Иоаннович» I: 237 276; II: 11 40 140 215 229 277 314 321 428
ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич (1882 – 1945) — писатель II: 324
ТОЛСТОЙ Дмитрий Андреевич (1823 – 1889) — министр внутренних дел I: 655 71 100 148 151 152 163
ТОЛСТОЙ Лев Николаевич (1828 – 1910) I: 87 97 156 164 174 175 179 185 186 212 219 220 – 226 228 239 242 245 257 263 272; II: 17 20 80 83 85 96 98 132 135 177 197 198 243 260 277 294 384 434 450
«Анна Каренина» I: 156; II: 450
«Война и мир» II: 83
«Воскресение» II: 20
«Плоды просвещения» I: 97 212 213 219 221 222 223 225 226 228
«Холстомер» I: 156
ТОПОРКОВ Василий Осипович (1889 – 1970) — актер Художественного театра. В «Вишневом саде» Епиходов II: 345 354 362
ТРЕПОВ Дмитрий Федорович (1855 – 1906) — московский обер-полицмейстер II: 164
ТРЕТЬЯКОВ Михаил Захарович — купец, отец Третьяковых П. М., С. М. и Е. М. I: 26
ТРЕТЬЯКОВ Николай Сергеевич (1857 – 1896) — сын Третьякова С. М., художник, актер-любитель I: 29 41 42 52 53 56 77 269
ТРЕТЬЯКОВ Павел Михайлович (1832 – 1898) — основатель с братом Третьяковым С. М. Третьяковской галереи I: 26 – 31 52 54 59 236
ТРЕТЬЯКОВ Сергей Михайлович (1834 – 1892) — брат Третьякова П. М. I: 26 – 31 42 52 55 57 61 67 77 79 83 84 89 91 153 269
ТРЕТЬЯКОВА (Боткина) Александра Павловна (1867 – 1959) — дочь Третьякова П. М. I: 50 59
ТРЕТЬЯКОВА (урожд. Мамонтова) Вера Николаевна (1844 – 1899) — жена Третьякова П. М. I: 26 27 31 236
ТРЕТЬЯКОВА (урожд. Матвеева) Елена Андреевна — вторая жена Третьякова С. М. I: 79
ТРЕТЬЯКОВА (урожд. Мазурина) Елизавета Сергеевна — первая жена Третьякова С. М. I: 42
ТРЕТЬЯКОВА (урожд. Коншина) Елизавета Михайловна (1835 – 1870) — сестра братьев Третьяковых П. М. и С. М. I: 26 28 29 42 59
ТРЕТЬЯКОВЫ, династия текстильных фабрикантов I: 25 26 27 29 30 32 34 36 41 42 50 54 55 56 70 77 135 208 236; II: 29 115 395 396 438
573 ТРОЦКИЙ (наст. фам. Бронштейн) Лев Давидович (1879 – 1940) — политический деятель II: 294 295 365 421 426
ТРУБЕЦКОЙ Евгений Николаевич (1863 – 1920) — религиозный философ, правовед II: 194
ТРУБЕЦКОЙ Навел (Паоло) Петрович (1866 – 1938) — скульптор II: 79
ТУКОЛЕВЫ — бывшие до Алексеевых владельцы усадьбы «Любимовка» I: 4; II: 12 47 204 207
ТУЛУЗ-ЛОТРЕК Анри Мари Раймон де (1864 – 1901) — художник II: 284
ТУРГЕНЕВ Иван Сергеевич (1818 – 1883) I: 101 102 104 110 111 112 114 116 121 122 154 155 156 174 – 177 179 181 185 186 195 219 221 247 257 258 263 266 272; II: 96 197 198 208 321 506 520
«Дворянское гнездо» I: 174; II: 190 506
ТУРКЕЛЬТАУБ Исаак Самойлович — критик II: 351
ТЭФФИ (псевд.; урожд. Лохвицкая) Надежда Александровна (1872 – 1952) — писатель II: 365
«УБИЙСТВО КОВЕРЛЕЙ», драма Барюса и Кризафули I: 111 114
УЛЬЯНОВ Николай Павлович (1875 – 1949) — художник II: 79 249 251 301 433
«УРИЭЛЬ АКОСТА» — см.: Гуцков
УСИН Степан Филиппович (1915 – 1983) — ученик Оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского. В «Вишневом саде» Прохожий II: 499
УТКИНА Лидия Николаевна — издательница журнала «Будильник» I: 144 147 148
ФАВОРСКИЙ Владимир Андреевич (1886 – 1964) — художник II: 433
ФАЛЬК Роберт Рафаилович (1886 – 1958) — художник II: 79
ФАЛЬЯ Мануэль де (1876 – 1946) — испанский композитор II: 36 389
«Миг жизни», опера II: 389
«ФАУСТ», опера — см.: Гуно
ФЕДОТОВ Александр Александрович (1863 – 1909) — актер и режиссер театра Общества искусства литературы, сын Федотовой Г. Н. I: 211 212 224
ФЕДОТОВ Александр Филиппович (1841 – 1895) — актер, режиссер, драматург, муж Федотовой Г. Н. I: 198 212 215 227 238
«Годуновы» I: 212
ФЕДОТОВА (урожд. Позднякова) Гликерия Николаевна (1846 – 1925) — актриса Малого театра I: 109 119 125 128 142 170 198 208 212 259; II: 119
«ФЕДРА», пьеса Расина Ж., спектакль Малого театра I: 209
574 ФЕКЛА Максимовна Обухова (1834 – 1909) — кормилица Алексеева В. С., няня в доме родителей Станиславского I: 21 184; II: 15 16 23 24 44
ФИЛОСОФОВ Дмитрий Владимирович (1872 – 1940) — литературный критик II: 23 154 165 176 178 180 181 182 185 – 188 190 191 193 196 200 201 259 271 364
ФИРС МИХАЙЛОВИЧ — житель деревни Макарове Киренского района II: 437
ФИРСАНОВА — см.: Гонецкая В. И.
«ФОМА», инсценировка Станиславского повести Достоевского Ф. М., «Село Степанчиково», спектакль театра Общества искусства и литературы — см.: Достоевский Ф. М., «Село Степанчиково»
ФОНВИЗИН Денис Иванович (1744 – 1792) — драматург I: 110
ФОРТУНАТОВ Сергей Федорович (р. 1850) — ученый-историк II: 81
ФОРШ — соседи Алексеевых по даче в Покровском-Стрешневе I: 20
ФРЕЙТАГ (урожд. Масленникова) Евгения — невеста Алексеева А. В., племянника Станиславского II: 235
ФРЕНЕВА Ольга Николаевна — артистка балета Большого театра I: 45
ХАЛЮТИНА Софья Васильевна (1875 – 1960) — актриса Художественного театра. В «Вишневом саде» Дуняша, Шарлотта I: 279; II: 104 142 144 170 171 252 315 343 355 471 505
ХИЛЬГЕР — чиновник германской миссии в Москве II: 397
ХЛУДОВА Людмила Флорентьевна — внучатая племянница Станиславского I: 2; II: 2
ХМЕЛЕВ Николай Павлович (1901 – 1945) — актер Художественного театра. В «Вишневом саде» Фирс II: 354 363
ХОДАСЕВИЧ Владислав Фелицианович (1886 – 1939) — поэт II: 324
ХОДЖСОН — английский консул в Москве II: 395
ХОЛМСКАЯ (наст. фам. Тимофеева) Зинаида Васильевна (1866 – 1936) — драматическая актриса, издательница журнала «Театр и искусство», жена Кугеля А. Р. II: 176 178
ХОТЯИНЦЕВА Александра Александровна (1865 – 1942) — художник, знакомая семьи Чеховых II: 80
ХУДЕКОВ Сергей Николаевич (1837 – 1928) — издатель «Петербургской газеты» I: 133; II: 174 176 178 179 181
ХЭПГУД Элизабет Рейнольде (1894 – 1974) — американская переводчица книг Станиславского II: 446
«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА», опера Римского-Корсакова Н. А. II: 404 419
ЦВЕТАЕВ Иван Владимирович (1847 – 1913) — специалист в области античной истории, ректор Московского университета II: 81
ЦВЕТАЕВА Марина Ивановна (1892 – 1941) — поэт II: 81 324
575 ЦЕТЛИН-АМАРИ Михаил Осипович (1882 – 1946) — поэт II: 322 323 324
ЦИММЛЕР — служащий бумагопрядильной фабрики II: 43
ЧАЙКОВСКАЯ (урожд. Коншина) Прасковья Владимировна (1864 – 1956) — участница спектаклей Алексеевского кружка, жена Чайковского А. И. I: 26 28 41 58 59
ЧАЙКОВСКИЙ Анатолий Ильич (1850 – 1915) — брат Чайковского П. И., юрист I: 26 58 146
ЧАЙКОВСКИЙ Модест Ильич (1850 – 1916) — брат Чайковского П. И., драматург I: 58 174
ЧАЙКОВСКИЙ Петр Ильич (1840 – 1893) I: 36 48 58 – 63 77 83 89 90 91 146 159 174 183 210; II: 125
«Евгений Онегин» II: 419
«Зимние грезы», симфония I: 77
«Москва», кантата I: 61
ЧАРНОК Э. — секретарь английской миссии в Москве II: 395 397
ЧАРСКИЙ (наст. фам. Чистяков) Владимир Васильевич (1834 – 1910) — драматический актер I: 109
ЧЕЛПАНОВ Георгий Иванович (1862 – 1936) — психолог, логик II: 444
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Николай Гаврилович (1828 – 1889) — писатель II: 194
ЧЕРЕПОВА (Оболонская) Софья Витальевна — балерина Большого театра, знакомая Станиславского, жена Оболонского Н. Н. I: 45 85 – 89; II: 27
ЧЕРКАССКИЙ Владимир Александрович (1824 – 1878) — князь, городской московский голова I: 30
ЧЕРНОВ (Эйнгорн) Аркадий Яковлевич (1858 – 1904) — опереточный певец I: 47
ЧЕСНОКОВ Павел Григорьевич (1877 – 1944) — композитор, автор духовной музыки II: 292 293 297
ЧЕТВЕРИКОВ Дмитрий Иванович (1858 – 1910) — совладелец с братом Четвериковым С. И. Городищенской суконной фабрики; муж Алексеевой А. А. I: 26 29 42 75; II: 407 408
ЧЕТВЕРИКОВ Дмитрий Иванович (р. 1908) — внук Алексеевой А. А., двоюродный внучатый племянник Станиславского II: 407 408 409 426
ЧЕТВЕРИКОВ Дмитрий Сергеевич — сын Алексеевой М. А., двоюродный племянник Станиславского, специалист по математической статистике II: 408
ЧЕТВЕРИКОВ Иван Дмитриевич — двоюродный племянник Станиславского, отец Четверикова Д. И. II: 228 407
ЧЕТВЕРИКОВ Сергей Иванович (1850 – 1929) — совладелец с братом Четвериковым Д. И. Городищенской суконной фабрики, член правления фабрики «Владимир Алексеев», муж Алексеевой М. А. I: 26 29 42 54 56 78; II: 57 407 408
576 ЧЕТВЕРИКОВ Сергей Сергеевич (1880 – 1959) — сын Алексеевой М. А., двоюродный племянник Станиславского, генетик II: 408
ЧЕТВЕРИКОВЫ — текстильные фабриканты I: 26 54 156; II: 57 236 396 407 414
ЧЕХОВ Александр Павлович (1855 – 1913) — брат Чехова Антона Павловича I: 101 102 103 106 114 115 147; II: 72
ЧЕХОВ Антон Павлович (1860 – 1904); в дальнейшем: Чехов
«Анюта» I: 173
«Архиерей» I: 270
«Безотцовщина» I: 103 106 110 – 115 117 127 128 129 155 156 160 166 170 179 191 195 206; II: 185
«В овраге» II: 385
«В рождественскую ночь» I: 108
«В сумерках» I: 181
«Дуэль» I: 178
«Дядя Ваня» I: 112 113 171 176 195 270 273; II: 9 23 36 66 68 69 94 100 127 129 135 139 149 153 159 169 174 175 200 224 230 242 256 275 276 279 352 420 429
«Живая хронология» II: 39
«Иванов» I: 103 112 113 144 174 176 195 214 233; II: 40 98 99 118 214 224 225 226 250
«Калхас» («Лебединая песня») I: 140 194 212
«Каштанка» II: 169
«Невеста» II: 73 – 77 92 196 259 338 383 411 436
«Ну, публика» I: 203
«О вреде табака» II: 73
«О драме» I: 128
«Остров Сахалин» I: 180 181 183
«Относительно женихов» I: 158
«Повести и рассказы» I: 264 265
«Попрыгунья» I: 135
«Предложение» I: 195 211 212; II: 104
«Свадьба» II: 104
«Сестра» («Хорошие люди») I: 220
«Сказки Мельпомены» I: 139; II: 89 90
«Скучная история» II: 89
«Сон репортера» I: 201 202 205
«Спать хочется» II: 226
«Тапер» I: 159
«Три сестры» I: 52 104 112 120 250 252 256 270 271 273 275; II: 4 513 34 35 36 51 59 94 100 106 123 127 138 139 140 144 153 174 175 190 200 205 216 243 258 276 283 285 288 314 333 350 – 353 377 449
«Чайка» I: 51 53 55 112 114 135 182 187 193 195 196 197 200 203 214 217 218 228 229 231 233 237 – 273 277; II: 6 89 11 13 35 36 40 48 49 68 85 87 – 91 94 100 111 119 139 143 151 165 174 – 178 189 199 200 224 229 240 285 322 357
«Шалопаи и благодушные» I: 119
ЧЕХОВ Иван Павлович (1861 – 1922) — брат Чехова I: 102; II: 62 67 153 208 223 234 264 274 387
ЧЕХОВ Михаил Александрович (1891 – 1955) — племянник Чехова, актер Художественного театра. В «Вишневом саде» Епиходов II: 104 255 256 283
ЧЕХОВ Михаил Павлович (1865 – 1936) — брат Чехова I: 3 88 100 102
ЧЕХОВ Николай Павлович (1858 – 1889) — брат Чехова I: 87 102 103 104 107 115 119 120 121 122 133 136 138 145 147 151 160 191; II: 217
ЧЕХОВ Павел Егорович (1825 – 1898) — отец Чехова I: 102 103 104; II: 262
ЧЕХОВА (урожд. Морозова) Евгения Яковлевна (1835 – 1919) — мать Чехова I: 100 102; II: 19 27 30 33 50 59 153 226 227 241
ЧЕХОВА Мария Павловна (1863 – 1957) — сестра Чехова I: 102; II: 7 10 27 34 56 59 61 67 87 153 166 203 204 206 208 210 211 226 227 228 230 231 233 234 243 251 262 263 264 273 274 276 280 281 282 284 308 314 368 371 387 416 417 477 518
ЧЕХОВЫ — семья Чехова I: 14 22 54 87 88 100 105 110 119; II: 6 9 12 13 15 17 – 31 35 36 37 46 50 54 55 56 58 59 61 114 153 154 166 167 168 203 206 207 213 262 264 387 420 434
ЧЕХОВА (урожд. Андреева) Софья Владимировна (1872 – 1944) — жена Чехова И. П. II: 264 274
ЧИРИКОВ Евгений Николаевич (1864 – 1932) — писатель, драматург I: 104; II: 77 222 287
«Новая жизнь» («Иван Мироныч») II: 77
ЧИЧАГОВ Дмитрий Николаевич — архитектор I: 70
ЧИЧЕРИН Борис Николаевич (1828 – 1904) — профессор Московского университета, московский голова I: 63 65 – 68 71 83 149 – 153 157 194; II: 196
ЧУПРОВ Александр Иванович (1842 – 1908) — экономист, публицист, профессор политической экономии и статистики Московского университета I: 167 – 171; II: 197
ЧЮМИНА (Михайлова) Ольга Николаевна (1864 – 1909) — писательница, поэтесса, переводчик II: 96 244 245 246 247 251
578 Ш. Николай Павлович (1879 – после 1957) — муж Смирновой Н. С. II: 436 – 439
ШАВРОВА (Юст) Елена Михайловна (1874 – 1937) — писательница и провинциальная актриса I: 212
ШАЛЯПИН Федор Иванович (1873 – 1938) I: 97 137 237 275; II: 36 67 154 209 211 220 289 309
ШАМШИН Александр Иванович (1852 – 1924) — один из директоров товарищества объединенных фабрик «Владимир Алексеев» и «П. Вишняков и А. Шамшин» I: 94 95
ШАХАЛОВ Александр Эмильевич (1880 – 1935) — актер Художественного театра II: 279 291 294
ШВЕРУБОВИЧ Вадим Васильевич (1901 – 1981) — сын Качалова В. И. II: 253 257 316 354
ШЕВЧЕНКО Александр Васильевич (1882 – 1948) — художник II: 79
ШЕКСПИР Вильям (1564 – 1616) I: 28 97 109 110 112 117 120 126 141 191 214 221 222 223 238 278; II: 13 49 161 162 165 215 411 443
«Венецианский купец» I: 238
«Гамлет» I: 109 111 114 123 198
«Отелло» I: 97 214 215 221 226 271; II: 443 445 455
«Укрощение строптивой» II: 411
«Юлий Цезарь» I: 278; II: 67 68 112 114 138 139 141 154 161 – 167 172 174 188 189 197 199 215 234
ШЕЛАПУТИН Павел Григорьевич — основатель и директор Педагогического института своего имени в Москве II: 81 82 431
ШЕРЕМЕТЕВЫ — семья графа Шереметева Сергея Дмитриевича (р. 1844), владельцы дома на Воздвиженке, где размещалась Московская городская дума до переезда на Воскресенскую площадь I: 149 150 156 157 158 159 272
ШЕРЕМЕТЬЕВА Анна Александровна (ум. 1950) — актриса Художественного театра. В «Вишневом саде» безымянная прислуга Гаевых II: 291 294 305
ШЕХТЕЛЬ Федор (Франц) Осипович (1859 – 1926) — художник, академик архитектуры I: 120 136 148 272; II: 4 6 61 80 154 174 240 329 335 336 352 358 365
ШИЛЛЕР Иоганн Фридрих (1759 – 1805) — немецкий драматург I: 92 97
«Орлеанская дева» I: 278
ШОПЕН Фридерик (1810 – 1849) — польский композитор II: 179
ШОПЕНГАУЭР Артур (1788 – 1860) — немецкий философ I: 110
ШОСТАКОВИЧ Дмитрий Дмитриевич (1906 – 1975) — композитор II: 413
ШПАЖИНСКИЙ Ипполит Васильевич (1848 – 1917) — драматург I: 128 199 239
ШПЕТ Густав Густавович (1879 – 1937) — философ, психолог II: 444
ШТЕКЕР Анатолий Андреевич (р. 1889) — племянник Станиславского II: 53
ШТЕКЕР Андрей Андреевич (1888 – 1940) — племянник Станиславского II: 53
ШТЕКЕР Андрей Германович (1860 – 1924) — служащий бумагопрядильной фабрики, муж Алексеевой А. С. I: 42 77 185; II: 25 26 38 39 42 43 44 53 236
ШТЕКЕР Анна Сергеевна — см.: Алексеева А. С.
579 ШТЕКЕР Всеволод Андреевич (1892 – 1925) — племянник Станиславского II: 53
ШТЕКЕР Георгий Андреевич (1895 – 1963) — племянник Станиславского I: 40; II: 53
ШТЕКЕР Глеб Андреевич (1901 – 1954) — племянник Станиславского II: 39 53
ШТЕКЕР Любовь Глебовна — внучатая племянница Станиславского I: 2; II: 2
ШТЕКЕР Людмила Андреевна (1898 – 1969) — племянница Станиславского II: 39 53
ШТЕКЕР Сергей Андреевич (1893 – 1922) — племянник Станиславского II: 53
ШТЕКЕР Софья Андреевна (1886 – 1912) — племянница Станиславского I: 185; II: 24 36 38 42 53 54 228 233 413 431
ШТЕКЕРЫ — семья Алексеевой (Штекер) А. С. I: 8 50; II: 22 35 41 43 51 54 203 204 393 411 424 470
ШУМАН Роберт (1810 – 1856) — немецкий композитор II: 67
«Шанфред» II: 67
ШУМСКИЙ (Чесноков) Сергей Васильевич (1820 – 1878) — актер Малого театра I: 128
ШУХОВ В. В. — помощник Начальника центрального планово-транспортного управления при наркомате путей сообщения II: 415 416 418 419
ЩЕПКИН Михаил Семенович (1788 – 1863) — актер Малого театра I: 109 126 232
ЩЕПКИНА-КУПЕРНИК Татьяна Львовна (1874 – 1952) — писательница, переводчик I: 253 254 255; II: 93 119 251 368 386
ЩЕРБИНСКИЙ — антрепренер Московского общедоступного театра I: 238
ЩУСЕВ Алексей Викторович (1873 – 1949) — архитектор II: 433
ЩУКИН Яков Васильевич (1856 – 1926) — театральный предприниматель I: 69 251; II: 4
«ЭМИЛИЯ ГАЛОТТИ», пьеса Лессинга Г.-Э. I: 126
ЭНГЕЛЬС Фридрих (1820 – 1895) — основоположник научного коммунизма II: 338
ЭПШТЕЙН Моисей Соломонович (1890 – 1938) — заместитель наркома просвещения РСФСР II: 393
ЭРВЕ (наст. фам. Ронже) Флоримон (1825 – 1892) — французский композитор I: 46 184
«Лили» I: 46
«M-lle Нитуш» I: 184
«Маленькая баронесса» I: 46
ЭРКМАН-ШАТРИАН — псевдоним французских драматургов ЭРКМАНА Эмиля (1822 – 1899) и ШАТРИАНА Луи Шарля Александра (1826 – 1890) I: 97 229 252; II: 148
«Польский еврей» I: 197 226 229 230 231 232 241; II: 148
580 ЭРМАНСДЕРФЕР Макс (1848 – 1905) — немецкий дирижер I: 90
ЭРНЕСТИНА — см. ERNESTIN
ЭФРОС (в замужестве Коновицер) Евдокия Исааковна (1861 – 1943) — подруга Чеховой М. П. II: 118
ЭФРОС Николай Ефимович (1867 – 1923) — театральный критик и историограф Художественного театра I: 43 47 223 253 259 265 266 268; II: 4 16 90 91 106 107 130 136 193 194 209 221 222 242 255 259 300
ЮЖИН Александр Иванович — см.: Сумбатов А. И.
«ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ» — см.: Шекспир
ЮОН Константин Федорович (1875 – 1958) — художник II: 80
ЮРГЕНСОН Петр Иванович (1836 – 1904) — нотоиздатель I: 89 91
ЮШКЕВИЧ Семен Соломонович (1868 – 1927) — драматург II: 177 231 263
«Евреи» II: 177
«Miserere» II: 231
ЯГОДА Генрих Григорьевич (1891 – 1938) — государственный деятель II: 397 438
ЯКОВЛЕВ Василий Абрамович (1806 – 1848) — купец первой гильдии, дед Станиславского со стороны матери I: 13 17 18 51; II: 17 163 297
ЯКОВЛЕВА Адель — см.: Алексеева Е. В.
ЯКОВЛЕВА Мари, Мария Васильевна — см.: Бостанжогло М. В.
ЯКУБОВСКИЙ Владимир Акимович — домашний врач Алексеевых I: 32
ЯКУЛОВ Георгий Богданович (1884 – 1928) — художник II: 79
ЯКУНЧИКОВА Елизавета Васильевна — см.: Сапожникова Е. В.
ЯКУНЧИКОВА (Поленова) Наталья Васильевна (1858 – 1931) — кузина Станиславского I: 28 41 77
ЯКУНЧИКОВЫ — Якунчикова М. Ф. и Маклаков В. А., владельцы имения в Наро-Фоминске II: 49 114 263
ERNESTIN, Эрнестина Карловна Дюпон — гувернантка детей Станиславского II: 210 214 229 230
ПОСТРАНИЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
1* Вишневский.
2* Эрнестин Дюпон, гувернантка детей Станиславского.
3* Смирнову.
4* Горбунов И. Ф. — актер Александринского театра, исполнитель эпизодических ролей. Выступал на концертных эстрадах с чтением своих комедийно-бытовых рассказов.
5* Элли Ивановна и Владимир Леонардович Книпперы.
6* В. В. Красюк, сын репетитора старших детей Анны Сергеевны — В. Н. Красюка.
7* К. С. Станиславский.
8* Т. М. Алексеева.
9* З. С. Соколова.
10* Кирилла Романовна Барановская-Фальк.
11* Иван Михайлович Москвин и Василий Иванович Качалов.
12* Немирович-Данченко.
13* Минувшее. № 10. М.; СПб.: Atenaeum — Феникс, 1992. С. 312.
14* Там же. С. 311.
15* О Станиславском. М.: ВТО, 1948. С. 548.
16* Луначарский А. Станиславский и театр его эпохи // Вечерняя Москва. 1934. 15 января.
17* Художественный руководитель постановки К. С. Станиславский. Режиссер и режиссер-педагог М. П. Лилина.
18* Воедино собраны разновременные куски из разных лилинских источников, относящиеся к данной сцене. Промежуточный, репетиционный, рабочий момент может соседствовать с предпремьерным, закрепленным. Не всегда последние замечания Лилиной по данной сцене могут совпадать с первыми или вытекать из них. И все же в монтаже приводятся все возможные сколько-нибудь законченные фрагменты из этого процесса работы над спектаклем. Процесса, растянувшегося на пять с лишним лет.
Тексты Лилиной приводятся почти дословно, с минимальной правкой. Комментарии — также минимальны. Для простоты чтения монолог Лилиной не прерывается ни кавычками, ни датами записи, ни ссылками на источники лилинских текстов, приведенных в данной реконструкции.
19* Этот текст принадлежит Станиславскому (I. 4 : 344). Лилина принимала его за установочный.
20* Станиславский начинал диалог Лопахина и Дуняши очень мажорно, — вспоминала Лилина 9 января 1941 года. Лопахин встревожен, взбешен и злится на себя, что проспал встречу. Иго следующие слона: — «Ни сколько же это опоздал поезд? Часа на два, по крайней мере» — сопровождаются у Чехова ремаркой: «Зевает и потягивается». У Лилиной Лопахин выбегает из комнаты, чтобы узнать и понять, что делается на дворе, то есть кто поехал на станцию, Возвращается злой и ругает себя вовсю, нападает даже на Дуняшу. «Помню, как Константин Сергеевич очень настаивал на этом выходе, а Леонид Миронович упрямился и не хотел его делать. По потом Константин Сергеевич его убедил». Действительно, Станиславский говорил о темпе и ритме этой сцены Леонидова и Халютиной како камертоне, по которому должен был настраиваться темпоритм выхода Раневской — Ольги Леонардовны.
21* Лилина считала, что это — главное в линии Дуняши в первом действии. Станиславский поправил ее. Он сказал, что это неверно, — передавала Мария Петровна исполнительнице роли Дуняши, — так как для него сквозное действие — приезд — и Дуняшу разбирает любопытство поглядеть на барыньку, на Яшу, на туалеты. Остальное Константин Сергеевич утвердил, И Лилина согласилась с ним.
Станиславский рассматривал каждую роль в контексте всего спектакля и каждую сцену — нанизанной на сквозное действие, связанное с Раневской и с продажей — «Вишневого сада».
22* После консультаций со Станиславским первый кусок назвали «Ожидание». Каждый из студийцев должен был решать: что делает человек, который ищет, что должен делать он, студиец, окажись он на месте Лопахина, Дуняши, Епиходова, не поехавших встречать «приезжающих» на станцию, — «оставшихся дома». Каждый должен был вспомнить моменты ожидания в своей жизни и, исходя из своих ощущений, нафантазировать действие роли, зерно которой — ожидание. Станиславский предложил через Марию Петровну каждому написать анализ физических действий на тему ожидания, а потом проделать этюды, только не по самой пьесе, не по написанному автором, а на промежуточные между сценами моменты роли.
23* Большую часть жизни З. С. Соколова и ее муж доктор К. К. Соколов прожили среди крестьян и село Никольском Воронежской губернии.
24* В примечания включены источники, использованные в данной книге. Они разделены на два вида — «архивный материал и книги», часто цитируемые, и «концевые сноски».
Первый вид представлен единым списком, состоящим из пяти разделов. Ссылки на источники, указанные в этом списке, даются прямо в тексте, после цитаты, в круглых скобках тремя цифрами: римской — раздел списка; арабской через точку — порядковый помер в разделе и через двоеточие — цитируемая страница.
Если ссылка дается на архивный материал, то после порядкового номера в разделе через точку указываются его реквизиты в архивохранилище.
Если какие-либо из указанных источников не цитируются, это не означает, что они не используются.
Ссылки на архивные источники и книги, не вошедшие в данный список, на газеты и журналы даются во втором виде примечаний — «концевые сноски» — со своей для каждой главы нумерацией.
Купюры, сделанные в цитатах, обозначаются тремя точками в квадратных скобках.
Публикуемые по подлинникам личные письма, фрагменты из писем и других рукописных источников оформляются курсивом.

