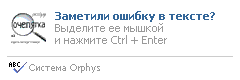3 Совесть художника
Зерно революции кроется во всяком истинном таланте.
(Из речи Немировича-Данченко)
Владимир Иванович Немирович-Данченко родился при крепостном праве, а умер в 1943 году — в преддверии близкой, всем сердцем ожидаемой победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Материалы и документы «Летописи», собранные воедино, как бы воспроизводят течение ушедшей жизни. Они располагаются в хронологической последовательности, год за годом, месяц за месяцем, на протяжении восьмидесяти пяти лет. Это делает «Летопись» похожей на дневник, хотя дневниковую запись самого Немировича-Данченко часто заменяют неопубликованные письма, статьи, высказывания об искусстве.
Летопись жизни и творчества всемирно известного режиссера — перечень его огромных заслуг перед отечественной и мировой культурой.
Прогрессивный театральный критик, драматург, беллетрист 80 – 90-х годов пришел к реформе драматического и оперного искусства, стал одним из основателей Московского Художественного театра, первооткрывателем чеховской и горьковской драматургии, постановщиком произведений Толсти: о, Достоевского, Салтыкова-Щедрина. В советскую эпоху он объединил вокруг МХАТ молодые силы литературы и повел театр по пути социалистического реализма.
«Летопись» должна знакомить читателя с тем, как формировались мировоззрение, политические взгляды Вл. И. Немировича-Данченко, его новаторская эстетическая программа.
Новые данные о литературной, режиссерской, общественной деятельности Немировича-Данченко почерпнуты из рукописных фондов государственных хранилищ и личных архивов. Ценные сведения извлечены из «Русского курьера», «Новостей дня», «Русских ведомостей», «Русской мысли», где печатались критические статьи, повести, пьесы, романы Немировича-Данченко. 4 Существенные проблемы его творческой биографии восполняют рассказы, наблюдения, письма А. И. Южина, К. С. Станиславского, О. Л. Книппер-Чеховой, И. М. Москвина, Е. К. Малиновской, О. С. Бокшанской. В «Летописи» приводятся также фрагменты из писем С. В. Рахманинова к Н. Д. Скалой, М. Н. Ермоловой к Л. В. Средину, М. П. Лилиной к матери Александра Блока, А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой, А. М. Горькому, К. С. Станиславскому, А. Н. Плещееву, Н. П. Кондакову, М. М. Ковалевскому. Нередко о Владимире Ивановиче идет речь в письмах Горького к Е. П. Пешковой, А. П. Чехову, К. П. Пятницкому, И. П. Ладыжникову.
Среди источников, характеризующих творчество Вл. И. Немировича-Данченко в советскую эпоху, — стенограммы и протоколы репетиций, режиссерские комментарии и заметки, статьи о театральной педагогике и этике. О художественных исканиях Немировича-Данченко говорится в дневниках Е. Б. Вахтангова, В. В. Лужского, Л. М. Леонидова, статьях А. В. Луначарского, А. Н. Толстого, К. А. Тренева, А. Н. Афиногенова, Н. Ф. Погодина, А. Е. Корнейчука, в воспоминаниях В. И. Качалова, М. М. Тарханова, Н. П. Хмелева, В. Г. Сахновского и других.
«Говорят, я принадлежу к мечтателям. Вероятно. Однако к таким, которые Довольно упрямо добиваются осуществления своей мечты», — писал о себе Немирович-Данченко. Художник по натуре и призванию, человек дела по воспитанию, он умел претворять мечтания в реальные ценности искусства. Это подтверждает множество фактов, перечисленных в «Летописи». И какой ум, энергия, какое творческое предвидение скрыты в скупых фактах! Так, например, за коротким сообщением об открытии Московского Художественного театра стоят годы мечтаний о сближении сценического искусства с русской реалистической литературой.
Толстой и Чехов были вдохновителями новаторского переворота, совершенного Станиславским и Немировичем-Данченко. Описание курьезов «ненатурального», притворного оперного зрелища в «Войне и мире» напоминало пародию. После «Войны и мира», после «Севастопольских рассказов» Толстого могли ли Станиславский и Немирович-Данченко мириться с картонными героями на сцене?
Из искусства сценического было изъято то, что Толстой в литературе называл фразистостью, высокопарностью, манерностью. Трагедия и трагизм сделались некричащими, тихими. Возник жанр русской трагедии. Изменился и стал близок реализму Толстого самый метод создания характера.
Представление о красоте — непривычной красоте — отвечало душевной потребности МХТ показать без прикрас нужду российских деревень («Власть тьмы»), бессердечие расейских департаментов, 5 унылую роскошь титулованной знати («Живой труп»).
Новое жизненное содержание требовало новых художественных открытий. Одно из них — простота, чисто толстовская, невиданно дерзкая, суровая простота. Сколько усилий затрачивал театр на то, чтобы изображаемая на сцене жизнь воспринималась как явь. Ведь тому, кто читает «Войну и мир», «Анну Каренину», «Воскресение», кажется, что когда-то жили и Анна Каренина, и Андрей Болконский, и Нехлюдов. Литературное описание захватывает, как сама жизнь. «… Как будто и не читаю, а сам хожу и вижу этих людей, камеры, комнаты, фортепьяно, ковры, мостовую». Это Немирович-Данченко писал Л. Н. Толстому после того, как «Воскресение» было напечатано в «Ниве». А потом в спектаклях МХТ была воздвигнута «четвертая стена», и сколько подобных писем приходило в адрес театра. Чтобы безбоязненно осуждать несправедливость, нужно было быть реалистами.
Немирович-Данченко достиг своей цели и доказал всем — в том числе и самому Чехову, — что не только чеховские пьесы, но даже чеховские рассказы сценичны. Влюбленность в талант Чехова — а через талант в самого Чехова — проявлялась деятельно.
Восхищенный отзыв о «Черном монахе», «Бабьем царстве», «Дуэли» был напечатан в газете «Новости дня», когда молодой писатель нуждался в похвале и поддержке. Лиризм товарищества и дружбы, тяготение к тоскливым и бодрым мелодиям чеховского пера, наслаждение чеховским юмором — ночью, читая рассказы Чехова, хохотал в подушку, чтобы не разбудить всех спящих в доме, — все это влилось в чеховские постановки МХТ.
В своих критических статьях Немирович-Данченко звал к реформе оперы: опера не концерт. Оперный певец — артист, создающий драматический образ, а не концертант. Встретившись в 1891 году с П. И. Чайковским, Владимир Иванович заговорил с ним о шаблоне в исполнении оперных арий.
Особенное разочарование и неудовлетворенность приносили ему опереточные спектакли: «На сцене была обычная “хорошая” оперетка, то есть два-три недурных голоса, две-три смешных штучки и беспросветная вульгарность».
В одном из газетных интервью он отмечал, что прекрасная манера пения, искренность, простота, чувство правды «удерживают А. В. Нежданову от тех опостылевших форм, которые царят на оперных сценах».
Идеал артиста-певца Немирович-Данченко видел в Шаляпине. Позднее, занимаясь с молодежью Музыкального театра, он часто вспоминал созданный Ф. И. Шаляпиным художественный портрет Дон-Кихота. Вспоминал и о том, как приходил за кулисы Большого театра к Л. В. Собинову. Собинов, увлекшись 6 искусством Художественного театра, намеревался приблизить партию Ромео из оперы Гуно «Ромео и Джульетта» к шекспировскому образу Ромео и просил Немировича-Данченко помочь ему в этом.
Подобные факты приводятся в «Летописи» для того, чтобы пояснить, что привело Немировича-Данченко к режиссуре оперного и опереточного спектакля, что побудило его в 1919 году организовать Музыкальную студию МХАТ, выросшую в дальнейшем в Государственный музыкальный театр имени Вл. И. Немировича-Данченко. Борьбе с ремесленничеством, фальшью, со всем тем, что мешает культуре и вкусу оперного артиста, Немирович-Данченко отдал много сил, вдохновения, труда, пока не сложилось направление, позволяющее даже такой смелый эксперимент, как создание образа В. И. Ленина на оперной сцене.
Естественно, что в центре «Летописи» — режиссерская и педагогическая практика Немировича-Данченко, обусловившая основные положения его сценической теории. Режиссерам и актерам, которым, в сущности, предназначена «Летопись», важно знать, как Немирович-Данченко овладевал тайнами режиссерской профессии, постигал технику постановочного мастерства, находил всегда новую, точную, органическую форму, ту неповторяющуюся выразительность, которая отличала чеховские спектакли МХАТ от горьковских, толстовские от чеховских и т. д. Дополняя известные статьи и монографии о Немировиче-Данченко, «Летопись» по мере возможности фиксирует процесс создания спектакля: первые встречи с автором, постижение стиля и жанра пьесы, ее истолкование, «внушение» замысла художнику-декоратору, актерскому коллективу, совместные творческие поиски на репетициях.
«Ведь методы искусства так многочисленны и так разнообразны; оттенки так трудно уловимы, — писал он художнику Э. М. Чарномскому в феврале 1939 года. — Когда необходимы беседы за столом, а когда они становятся даже вредны; когда надо строго держаться ремарок автора, касающихся оформления, а когда убедительнее будут отступления; где фантазия художника уводит гармонию спектакля от зерна его, а где неожиданными находками еще лучше углубляет; и т. д. и т. д. — целая цепь вопросов…».
Благодаря таким режиссерским находкам появились: чтец в «Братьях Карамазовых», «лицо от автора» в «Воскресении», хор в «Травиате», комментирующий события оперы, и совсем несхожая условность в оформлении «Лизистраты», «Анны Карениной», «Трех сестер».
«Талант — это подробность», — говорил И. С. Тургенев. В режиссуре Немировича-Данченко много значила художественная подробность — те образные, лаконичные, но все исчерпывающие детали, без которых тускл и нем язык сценического искусства. Однако с первых режиссерских шагов он стремился найти общую 7 концепцию спектакля, соразмерность всех его частей, их сцепление и гармонию. Способность к обобщению — самая сильная сторона его режиссуры. Обобщение, большая цель спектакля, идея пьесы подсказывали ему ту, а не иную мизансцену, тот, а не другой стилевой прием.
«Бывают такие репетиции, — рассказывал он в одном из писем, — на которых я, режиссер, стараясь помочь актеру, ищу для какого-нибудь куска его роли мизансцену; как, где ему в этом куске находиться на сцене; стоять ли, сидеть, ходить, или прислониться к стволу дерева, водить рукой по барьеру, вглядываться ли в лицо партнера или, наоборот, отводить от него взгляд, чувствовать ли и пользоваться карманом, бортом пиджака, цепочкой, галстуком, платком и т. д. и т. д. без конца… Так вот ищу какие найти внешние выражения, наиболее удобные, может быть в данной обстановке (место, время, действие) единственные, которые глубоко сливались бы со всем комплексом внутренних задач, диктуемых образом, переживаниями в этом куске, взаимоотношениями, молниеносными перелетами фантазии в разные углы роли и пьесы… Словом, такие формы, которые внутренне были бы оправданы. А не заимствованные из богатого арсенала театральных штампов».
По словам Немировича-Данченко, колоссальную услугу его режиссерской практике оказывала «система» Станиславского. Касаясь творческого содружества Станиславского и Немировича-Данченко, «Летопись» должна дать верное представление о режиссерском методе Немировича-Данченко, его учении о «зерне» спектакля, слиянии трех правд (социальной, жизненной и театральной), о «втором плане», физическом самочувствии, внутренних монологах, законе внутреннего оправдания и т. д.
С этой целью привлекаются не только теоретические статьи Немировича-Данченко, где он объясняет значение и смысл своей терминологии, но и стенографические записи его репетиций. На репетициях «Анны Карениной», «Половчанских садов», «Трех сестер», «Кремлевских курантов» Немирович-Данченко убежденно и последовательно отстаивал свои идейно-эстетические принципы, свой режиссерский метод.
Теоретические положения и выводы — итог многолетнего опыта — выверялись и уточнялись в самом быстротечном, сложном творческом процессе.
Следует изучить записи репетиций «Трех сестер», чтобы понять, почему труд режиссера и актеров увенчался таким редкостным успехом. Безошибочное определение «зерна» — сути пьесы — предотвратило возможные художественные ошибки и неточности. «Второй план» роли, тот жизненный груз, который ощущался в каждой секунде пребывания действующих лиц на сцене, уводил от суррогатов реализма к реализму подлинному и глубокому. Верное «психофизическое проявление характера» 8 избавляло актеров от накопившихся театральных привычек. Иным было их настроение в солнечное весеннее утро, в зимние сумерки, предрассветные часы, когда утомление ночи сказывается в покаянии Маши, в исповеди Андрея, в любовном объяснении Тузенбаха с Ириной.
Немирович-Данченко не соблазнился показной смелостью, ниспровергающей старую традицию чеховских постановок. Немногие условные элементы формы, как и вся форма спектакля, отвечали стилевым приемам А. П. Чехова. Постановку «Трех сестер» и у нас в стране, и за рубежом называли художественным шедевром, самым совершенным из всех когда-либо виденных на театре. В режиссере признали мыслителя, поэта, новатора. Друг и ровесник Чехова, Немирович-Данченко ставил «Три сестры» как наш современник. Он увлек за собой людей, создающих спектакль. Его режиссерский метод стал для них живительным источником художественных исканий и открытий.
* * *
По «Летописи» можно установить творческие и духовные связи Немировича-Данченко с талантливыми людьми России и Запада. Упоминаются поездки к А. М. Горькому в Арзамас и Нижний Новгород; посещения Л. Н. Толстого (день, проведенный в Ясной Поляне, Немирович-Данченко описал в газете «Новости дня»); частые беседы с А. П. Чеховым в Москве, Мелихове, Ялте; встречи в Петербурге с А. А. Блоком, М. В. Добужинским, М. Г. Савиной; первое знакомство с А. Н. Толстым, тогда начинающим писателем; знакомства и встречи Немировича-Данченко с деятелями немецкого, итальянского, французского, чешского театра — с Гергартом Гауптманом, Максом Рейнгардтом, Элеонорой Дузе, Люнье-По, Ганой Квапиловой и другими.
С. Л. Бертенсон, исполнявший обязанности секретаря Немировича-Данченко во время пребывания в Америке (1926 – 1927), записывал его мысли о сближении народов России и Америки, его разговоры с Чарли Чаплином, Мэри Пикфорд, Лилиан Гиш, Дугласом Фербенксом. Из записных книжек и интервью Немировича-Данченко мы узнаем, что знаменитый американский дирижер Л. Стоковский произносил в Филадельфии вступительное слово перед началом спектакля Музыкальной студии, а драматург О’Нейл «готов был пойти на большие жертвы, чтоб его пьеса была поставлена приемами Художественного театра».
В Америке Немирович-Данченко обсуждал с С. В. Рахманиновым замысел постановки «Пиковой дамы». Там же встречался с Ф. И. Шаляпиным.
Множеством интеллектуальных нитей был связан Немирович-Данченко с советскими писателями, художниками, композиторами, актерами. Свои слова: «Как в нашем деле надо любить 9 и дорожить талантом!» — он подтверждал требовательным и восхищенным отношением к Д. Шостаковичу и Н. Хмелеву, Г. Улановой и К. Еланской, В. Дмитриеву и П. Вильямсу.
Константин Тренев, Александр Афиногенов, Всеволод Иванов, Николай Вирта, Тихон Хренников доверяли его дальновидности и художественному чутью. После премьеры «Пугачевщины», не сразу признанной, Тренев писал Немировичу-Данченко: «Вы — единственный нужный мне в данную минуту человек». Николай Погодин изумлялся тому, как Немирович-Данченко ведет репетиции «Кремлевских курантов»: «Работал почти во всех театрах в Москве и могу сравнивать. Ничего подобного я ведь нигде не видел. Для меня лично репетиции эти — университет».
В 1940 году, заняв по праву старейшины советского театра пост председателя Комитета по Государственным премиям, Немирович-Данченко следит за большой жизнью многонационального советского искусства. В годы Отечественной войны на заседаниях комитета он высказывает свои суждения о новой скульптуре В. Мухиной, портрете летчика Юмашева работы П. Кончаловского, симфонии Н. Мясковского, пьесах Н. Погодина, А. Корнейчука, К. Симонова, А. Толстого, романе И. Эренбурга «Падение Парижа», повести Л. Кассиля «Великое противостояние». Его критерий — «большая сквозная идея», образы, а не ярлыки на образах.
Он сулил успех «Русским людям» К. Симонова. Ему нравилась повесть Льва Кассиля «Великое противостояние». Он говорил: в «Падении Парижа» есть и «внутренний мир людей, и разложение правительства, и все столкновения, которые привели Францию к гибели. Все сделано очень ярко».
Из двух пьес об Иване Грозном он отдавал предпочтение трагедии А. Н. Толстого «Трудные годы», отвергая «избитые формы» пьесы Вл. Соловьева «Великий государь».
Он хотел, чтобы каждая новая пьеса А. Корнейчука могла состязаться с его «Гибелью эскадры», чтобы в сценарии Вс. Вишневского «Мы, русский народ» была «радость новизны и острой правды», а не «фигуры, к которым мы уже привыкли».
Радость новизны и острой правды — с этим мерилом Немирович-Данченко прежде всего подходил к своим постановкам в МХАТ и в Музыкальном театре.
* * *
«Было даже два больших успеха1*. А радости мало, — писал Немирович-Данченко А. Ф. Адурской в первые дни русско-японской войны 1904 года. — Несомненно, что давит всеобщее настроение, нескладная, мучительная жизнь всего русского общества. Нет возможности отойти от нее, нельзя, нет сил не возмущаться 10 или не сочувствовать, а потому интересы театра стиснуты и увядают».
Записи Немировича-Данченко, относящиеся к русско-японской войне, первой русской революции, столыпинской реакции, империалистической войне 1914 года, «не разрешившейся» февральской революции, выдают в нем художника не только занятого повседневной работой в театре, но и поглощенного заботой о настоящем и будущем России.
Важнейшие события общественно-политической жизни врывались в жизнь Немировича-Данченко, находя отклик в его творчестве. В идейной эволюции Немировича-Данченко, типичной для некоторых слоев русской демократической интеллигенции, отразился век. Именно это «отражение истории в человеке» придает особый интерес его биографии и позволяет «Летописи» выйти за пределы узкоэстетических, театральных вопросов.
В молодости, будучи студентом Московского университета, начинающим театральным критиком, Немирович-Данченко выступал в печати против самоуправства, самодурства, взяточничества.
Наблюдая разорение дворянских поместий, появление капитализма в России, он в своей повести «Баанкоброшница», рассказе «Отдых», неоконченном романе «Пекла» описывал фабрики и заводы, непосильный труд рабочих.
В «Пекле» — одном из первых произведений русской литературы о рабочем классе — происходит бунт сталеваров. Их не останавливают непрекращающиеся аресты: «Выходит, пропадать надо нашему брату? Работай — работай тут, надрывайся из последних сил, а тебе за это во всем отказ? Ну, нет, врешь! Я те взбодрю! Я те покажу, как наживаться нашим потом!» — возмущается один из рабочих. Все симпатии автора, несомненно, на стороне рабочих, хотя он и не способен еще понять, что классовые интересы хозяев и рабочих непримиримы, что они — враги. Хозяев завода, собственно, нет среди персонажей романа. Эта некая злая сила находится за кулисами. Виновными оказываются начальники всякого рода и звания.
В названии «Пекло» (1898) заключена та же идея, что в «Молохе» Куприна (1896), — капиталистический завод пожирает человеческую жизнь ненасытнее, чем древний идол Молох. Но в «Пекле» труд на сталелитейном заводе не только тяжелый крест, как у Куприна. Горьковское отношение к труду, как к творчеству, к величайшему благу жизни, свойственно роману Немировича-Данченко. И в этом его достоинство. Герой романа, сталевар Емельян Иванов, бежавший из ссылки, стосковался по труду. «Не многие могли переносить невыносимый жар бессемеровского и прокатного отделений. Но в Емельяне Иванове эта игра огня вызывала художественное чувство силы и красоты».
11 В очерке «Образцовая школа» Немирович-Данченко сожалеет о силах, что не находят в России применения, о средствах, что тратятся попусту на вздорные затеи. Проезжая по выжженной солнцем екатеринославской степи, он видит жидкие кучки пшеницы, разбросанные на десяток сажен друг от друга, до устали работающих матерей, ползающих под арбой детей и думает о том, что зимой здесь даже не будет сена, чтобы прокормить скот.
Встречаются в беллетристике Немировича-Данченко кулаки-стяжатели: «махровый кулак из дворян», или хозяин постоялого двора Крутояров, который «давит своего брата мужика, сжимает его в своих кулаках, как железными клещами, а тот перед ним шапку ломает, чуть не в ноги кланяется».
В повести «В степи» (1896) писатель говорит о народной нужде, бедности, о самом насущном для России: «Земля должна принадлежать тому, кто ее обрабатывает».
В том же году в журнале «Нива» появляются очерки Немировича-Данченко о коронации, и среди них очерк «Ходынка» — о том, как тысячные толпы, прельщенные царским гостинцем (мешочком с пряниками и сластями, кружкой, украшенной гербом), ринулись к Ходынскому полю, где в нестерпимой тесноте и духоте началась давка. Падавших живьем втаптывали в землю. Страдания изувеченных, сдавленных, расплющенных были безмерны. До поздней ночи по Москве двигались нескончаемые похоронные процессии и сотни неопознанных трупов сбрасывались в общие могилы2*.
Правда «страшных лет России» опрокидывала либеральные иллюзии во многом компромиссных первых «Писем о коронации». «Представители демократической тенденции идут к своей цели, постоянно колеблясь и попадая в зависимость от либерализма», — отмечал В. И. Ленин.
Ходынская катастрофа потрясла, изнурила Немировича-Данченко. «Мне уже за тридцать пять лет, — писал он. — В наше время в этом возрасте у всякого порядочного человека душа изборождена тяжелыми вопросами. … Мы мечтаем лишь об общей сытости, о скромном материальном довольстве всякого труженика, о чистой совести, о справедливости, о свободе личности».
Горестные размышления о жизни России заполняют многие произведения Немировича-Данченко. Русская литература всегда была литературой «встревоженной совести».
Театром «встревоженной совести» стал и созданный Станиславским и Немировичем-Данченко Московский Художественный театр. Там ставились пьесы Чехова, предсказывавшие революционную 12 бурю, раздавались политические пророчества Горького.
Немирович-Данченко нетерпимо относился к бездушной казенщине несправедливого строя, к одичанию деревни, нищете городских ночлежек, мещанскому прозябанию провинции. Но прошли годы идейных брожений, прежде чем он признал неизбежность революции. Одно время был он во власти этических проповедей Л. Н. Толстого. Восторженно встретив пьесы Горького «Мещане» и «На дне», упрекал в излишней тенденциозности «Дачников». Искал выход из социальных противоречий, но нелегко расставался с абстрактно-гуманными понятиями — «страдания человечества», «царство свободы». Брался в годы реакции за режиссуру драмы Л. Андреева «Анатэма», чтобы напомнить о голодном люде, который ждет справедливости, как чуда. Инсценировал и ставил роман Ф. М. Достоевского «Бесы», вступая в полемику с Горьким по вопросу о тенденциозности, партийности творчества.
Немирович-Данченко не избежал распространенной болезни века — искушения так называемой духовной революцией — и верил в то, что «поэзия добра», «культ красоты», нравственно очищающее страдание преобразуют жизнь и без политической революции.
Уже первая мировая война пошатнула эту веру. Мир, раздираемый войной, нельзя было примирить проповедью милосердия и красоты. «В настоящий момент, — писал Немирович-Данченко в апреле 1915 года, — особенно ярко чувствуется, до какой степени красота есть палка о двух концах, как она может поддерживать и поднимать бодрые души и как она, в то же время, может усыплять совесть. Если же красота лишена того революционного духа, без которого не может быть никакого великого произведения, то она преимущественно только ласкает бессовестных».
Его раздумья в эту пору удивительным образом совпадают с настроениями Александра Блока, Валерия Брюсова. То же предчувствие неизбежности революции — то притягивающей, то пугающей. Когда же в 1917 году наступило время категорического выбора между «революцией и нереволюцией», когда Андреев, Мережковский, Бальмонт сошлись на «нереволюции» и эмиграции, Немирович-Данченко, как и Станиславский, Блок, Брюсов, пережив серьезный духовный кризис и идейное возмужание, выбрал революцию, Родину.
Сложными путями шел Немирович-Данченко к революции, к искусству социалистического реализма.
«Безупречная объективность» несовместна с тенденциозностью, говорил он до революции. После революции Немирович-Данченко изгоняет из спектаклей МХАТ бесстрастный объективизм. Он благодарен революции за то, что она научила его верить В идею социализма, освободила его мышление и творчество от 13 уклончивости, компромиссов, жалких противоречий. «Революция дала работе МХАТ громадный толчок. Революция разогрела его художественное кровообращение», — писал Немирович-Данченко в 1923 году.
Новая идеология художника сказалась в готовности работать «рука об руку» с Коммунистической партией.
Рост созидательных сил социализма, невиданные преобразования в стране вдохновляли его. Юзовка, куда он ездил в 90-х годах собирать материал для своего романа «Пекло», волею партии и народа превратилась в крупный промышленный и культурный центр: «Никогда даже мечтать не мог о таком превращении». Стоило Немировичу-Данченко лишь один день провести в Тбилиси, чтобы приметить «поистине чудесные завоевания» — университет, институты, театры, школы и т. д.
Если в 1931 году он предупреждал А. Афиногенова, что ему трудно будет вести репетиции «Страха», так как он еще недостаточно знает таких людей, как старая большевичка Клара и молодая коммунистка Елена, то последующие годы принесли ему то знание современной жизни, без которого он не мыслил себе режиссерского труда.
Его театральная эстетика, идеал искусства мужественной простоты складывались под непосредственным воздействием новых общественных отношений. Убеждая актеров в том, что простота вовсе не означает приниженности чувств, что без простоты нет лирики и величия на сцене, Немирович-Данченко приводил в пример подвиг челюскинцев: «Театры и, в частности, актеры должны подумать над тем, каким огромным внутренним огнем, какой стойкостью, какой преданностью своему народу должны обладать люди, чтобы быть подлинными героями в самых простых бытовых проявлениях, и каким пафосом необычайной простоты должен обладать актер, стремясь к созданию такого героического образа».
Простоту, насыщенную пафосом, ощущал Немирович-Данченко во всем строе нашей жизни. Ее хотел он запечатлеть в наших спектаклях.
Он умел вскрыть социальный, политический смысл отдельного жизненного факта, его непреходящее значение. Молодые актеры и режиссеры приняли съезд колхозников-ударников как должное, само собой разумеющееся. У Немировича-Данченко выступления колхозников на съезде вызвали… слезы. Он помнил унижения крестьянина той поры России, когда безрезультатны были призывы: «Земля должна принадлежать тому, кто ее обрабатывает». Нереальными оказались тогда и проекты нравственного оздоровления общества. «Мне кажется, — писал Немирович-Данченко в молодости, — что во мне большой запас жизнерадостности… Я называю жизнерадостностью веру в человека, а большинство — любовь и умение пользоваться жизненными 14 благами». Вера его в человека не меркла до старости, но часто заслонялась накопившимися за жизнь разочарованиями.
До революции Немирович-Данченко много думал о несовершенстве человеческой природы. Как избавить человека «от того жестокого, от того озверелого, что он носит в себе как беспощадный, дрянной дар природы».
И вот вывод, сделанный им в советскую эпоху, — только свободный труд, труд для блага Родины выжжет человеческие недостатки и слабости, сделает личность человека благородной, чистой, прекрасной.
Приветствуя передовых рабочих страны, пришедших 9 ноября 1935 года в Художественный театр, Немирович-Данченко говорил о том, что человек, занятый социалистическим трудом, уже не может быть плохим человеком, не смеет им быть: «Я всем существом чувствую, что тот энтузиазм, то горение, которое охватило советского работника в его специальном труде, не только не может остаться бесследным и для его личности, но все его существо наверняка выжигает все то, что могло бы бросить тень на эту личность. … Энтузиазм будет иметь большое влияние на рост личности…».
Литератора Солончакова в драме Немировича-Данченко «Цена жизни» (1896) печалило, что в буржуазном обществе высокие нравственные понятия о совести превращаются в избитую вызубренную фразу.
Этические проблемы, запутанные, неразрешенные, разрешила революция: «Прежние бесплодные мечтания воплотились в жизнь».
Немирович-Данченко приходит к искреннему и стойкому убеждению, что социалистическое переустройство человека, переустройство мира — главное в жизни художника. Его постановки — «Враги», «Воскресение», «Анна Каренина» — обвиняли буржуазное общество, в котором проповедь любви к ближнему не только не могла искоренить всю ложь, все зло, но и неизбежно становилась пустозвонством, ханжеством, юродством.
Статью о грандиозной мощи Октябрьской социалистической революции, о ее благотворном влиянии он неспроста назвал «Освобожденное творчество». В самом названии был вызов тем, кто уверял, что принципы социалистического реализма навязываются насильственно.
* * *
Биография Немировича-Данченко нераздельно связана с развитием русской и советской культуры.
Детству, отрочеству, юношеским театральным и литературным пристрастиям посвящен первый раздел «Летописи». В нем говорится о влиянии семьи Яблочкиных, частых посещениях 15 тифлисского театра, где выступали заезжие знаменитости, и т. д.
Театральные воспоминания, хранящиеся в архиве Немировича-Данченко, дополняют его автобиографию. «Опьянение театром» случилось с ним в десятилетнем возрасте. Тогда стали заметны задатки даровитой, глубокой натуры — необычайная впечатлительность и лиризм, способность подчиняться власти прочитанного или увиденного на сцене, дар ощущения музыкальной стихии, умение увлекаться азартно, заражая своим увлечением семью, товарищей. «Заразительность» темперамента и нервов, которую позднее так ценил Немирович-Данченко в людях искусства, была в высокой степени присуща ему самому.
Рано выявились и особенности его характера: эмоциональность, спрятанная за внешней сдержанностью, чуткость к поэзии и красоте, сочетавшаяся с умом трезвым, аналитическим, волевым. Это волевое начало оказалось сильнее всяких искушений. Если и были в отрочестве поступки, о которых он, став старше, сожалел, то верх взяли благородство побуждений, нравственная потребность строго судить себя.
Спектакли, поставленные тайком от гимназических надзирателей, классный литературный журнал «Товарищ», возникший по инициативе Владимира Данченко и соперничавший с журналом параллельного класса, которым заправлял Александр Сумбатов (впоследствии известный актер и драматург А. И. Южин-Сумбатов), первые драмы и водевили, сочиненные в четвертом классе, — вот искорки, симптомы будущего призвания.
По свидетельству А. И. Южина, Немирович-Данченко уже в гимназии отличался независимостью суждений, «сильно обостренным критическим задором». К удивлению восторженных гимназистов, он критиковал репертуар столичных гастролеров и, обладая от природы художественной интуицией, различал поддельное и подлинное искусство.
Пора ранней юности, когда Немирович-Данченко закончил тифлисскую гимназию и стал студентом Московского университета, запечатлена в «Летописи» бегло. Не сохранились письма его к матери, к брату, популярному писателю Василию Ивановичу Немировичу-Данченко, к сестре, известной актрисе. Первое дошедшее до нас письмо к другу детства и юности А. И. Южину помечено 1881 годом. Именно поэтому такое значение обретают годовые комплекты «Русского курьера», «Новостей дня», «Московской иллюстрированной газеты». Судя по рецензиям, опубликованным в этих газетах, Немирович-Данченко почти ежевечерне посещал театр. Ему довелось быть в Малом театре на премьерах «Последней жертвы», «Бесприданницы», «Талантов и поклонников», «Светит, да не греет». Обычно на 16 этих первых представлениях присутствовал сам А. Н. Островский.
Немирович-Данченко изучил игру актеров Малого театра: Ермоловой, Федотовой, Садовской, Ленского. Он внимательно следил за выступлениями Южина в театре А. Бренко, за первыми опытами Станиславского, Лилиной, Артема в Обществе искусства и литературы, за приехавшими из провинции Андреевым-Бурлаком и Ивановым-Козельским, анализировал игру Савиной и Стрепетовой. Писал он и об итальянских трагиках Э. Росси, Т. Сальвини, Э. Дузе, французских актерах С. Бернар, Ф.-А. Февре, Б.-К. Коклене, итальянской опере, немецкой мейнингенской труппе.
Впечатления, мысли, высказываемые печатно, приоткрывают нам внутренний мир еще совсем молодого человека — его насущные гражданские интересы, жизненный опыт и наблюдения, то созревание личности, которое, говоря словами самого Немировича-Данченко, проходило под «влиянием беллетристов и особливо критиков 60-х годов». Их заветы он называл «традициями лучшего прошлого нашей литературы».
Влияние критиков-демократов давало себя знать уже в первой статье, появившейся в «Русской газете» в 1877 году. Девятнадцатилетний рецензент не ограничивался эстетической оценкой спектакля. Он с критическим задором нападал на репертуарную дребедень, говорил об «ярме антрепренеров», о том, что «драматическое искусство до сих пор облекается в столице в канцелярскую одежду».
А. М. Горький как-то заметил, что литератор должен быть наделен социальным чувством. Социальное чувство развилось в Немировиче-Данченко еще в молодости. По мере того как происходило постепенное мужание человека, мужало и дарование критика, возрастал интерес к общественно-политической жизни России, к социально-этическим проблемам. Эстетические суждения становились увереннее, определеннее, последовательнее. Он ждал от литературы и театра «критического отношения к действиям власть имущих». Он винил цензуру, мешающую писателю «высказаться по совести», и верил, что пользу и помощь России может принести одно лишь искусство критического реализма. Его статьи, направленные против переводной романтической драмы, появлялись в те годы, когда народники во главе с Н. К. Михайловским недооценивали реалистический роман Бальзака, Флобера, Золя, рассказы Чехова, предпочитая им бунтарство Гюго, протест Жорж Санд, гражданские идеалы Шиллера. Либеральные народники упрекали Чехова в «индифферентизме» и превращали героев романтических драм в трубадуров своей теории героя и толпы.
Только учитывая, в каких исторических условиях происходил поединок русского критического реализма с европейской романтической 17 литературой, можно понять вражду Немировича-Данченко к романтической драме и классицистской трагедии.
«Против Корнеля в Малом театре я всегда буду. … Кому он нужен, кому дорог, кому интересен этот Корнель? Для нынешней публики ставить Корнеля — значит умышленно отводить ее глаза от того, над чем она действительно должна размышлять, пустой, внешней, декоративной забавой. … Мы спорим вот уже семь лет все о том же», — пишет он Южину в 1892 году.
Немирович-Данченко защищал от преследований цензуры и реакционной прессы драмы Островского, Сухово-Кобылина, Потехина, поддерживал пьесы петрашевца А. И. Пальма, указывавшего на «общественные язвы», «общественные пороки».
В серьезных и принципиальных статьях, подписанных псевдонимами «Вл», «В», «Владь», «Инкогнито», разбросанных в «Русском курьере», «Русских ведомостях», «Новостях дня», «Московской иллюстрированной газете», высказывались взгляды, подготовившие возникновение Московского Художественного театра.
Одновременно молодой Станиславский в спектаклях Общества искусства и литературы, разрушая трафареты, открывал новые законы сценического реализма. Станиславский и Немирович-Данченко видели в театре средоточие высоких просветительных и гражданских идеалов. «Обидно только за вкус нашей театральной массы, которая восторгается пустыми избитыми эффектами. При существовании народного театра подобного явления не было бы», — утверждал Немирович-Данченко еще в 1880 году в «Русском курьере». Он непримиримо отрицал сценическую фальшь, приукрашивание, притворство, высмеивал курьезы театральщины, обветшалые сценические условности, стесняющие художественное творчество. И заявлял, что правда — первое условие художественности, что актер, исполняющий роль Гамлета, должен являться человеком, а не театральным героем. В этом эстетическом принципе — истоки его будущих режиссерских экспериментов. Ставя в МХТ в 1903 году «Юлия Цезаря» Шекспира, он решительно восстал против выспренних сценических героев, напыщенности их монологов, картинности их поз и жестов. На репетициях доказывал, что шекспировский Брут не статуя, сошедшая с пьедестала, а живой, сложный характер. В режиссерских заметках к «Бранду» Ибсена (1906) он снова напоминал: «Бранд — гигант, но и Бранд — человек». То, о чем мечтал Немирович-Данченко — театральный критик, позднее пытался осуществить Немирович-Данченко — режиссер.
В его рецензиях говорилось об идейности и художественности; реализме и натурализме; о розовой дымке идеализации и приукрашивания, чуждых реализму; о простоте, не нарушающей ярких тонов, и о простоте серой, сонливой, «заставляющей спать в театре»; о том, что актер не игрушка, забавляющая 18 театральную публику, а человек, воспитывающий ее; о сближении театра с литературой; о ремесленных актерских приемах, об актерах, ради эффекта жертвующих правдой; об игре грубой и тонком, искреннем, художественном исполнении; об искусстве перевоплощения; о живой естественной речи и декламационной читке; о премьерстве и общем ансамбле и т. д. Все это слагалось в прогрессивную сценическую теорию, целостное эстетическое учение.
* * *
Писал ли Немирович-Данченко статьи, пьесы, беллетристические произведения, преподавал ли в драматическом училище Филармонии, он, по существу, проходил свои режиссерские университеты, учился режиссуре.
Режиссерское призвание, им самим тогда не осознанное, угадывается в ремарках его пьес. Так, например, ремарка в «Новом деле» режиссерски образно рисует разорение барина Столбцова.
В «Летописи» цитируются «Режиссерские указания» Немировича-Данченко к «Новому делу» («Артист», 1891, № 12): режиссер не должен навязывать актеру мизансцену, ибо мизансцена зависит от поведения действующего лица, его характера, поступков. Режиссер, анализируя характеры, выясняет их отношение к общей концепции пьесы. Не зная этой общей концепции, нельзя ни играть пьесу, ни ставить ее.
Пользуясь правом автора, Немирович-Данченко участвовал в постановке своих пьес в Малом и Александринском театрах. Репетиции «Темного бора», «Последней воли», «Счастливца», «Нового дела», «Золота», «Цены жизни» были его первым профессиональным режиссерским опытом. Общаясь на репетициях с великими мастерами русской сцены, прислушиваясь к их советам, вопросам, возражениям, будущий режиссер Художественного театра постигал живую душу реалистических традиций. М. Г. Савина, А. П. Ленский, В. Н. Давыдов, оценивая достоинства его пьес, не прощали ему малейших отступлений от жизненной правды. Так, Савина, выбрав «Цену жизни» для своего бенефиса, заметила, однако, что четвертый акт «приставленный», а Давыдов, придя в восторг от первых трех актов, воспротивился идейной уклончивости последнего действия. «Почему напало на всех такое евангельское смирение и всепрощение, мне непонятно», — упрекал он Немировича-Данченко. Савина и Давыдов были правы.
Уступая общепринятым «сладким тонам» либеральной драматургии, Немирович-Данченко приставлял к «Цене жизни» благополучную развязку. Пьеса неожиданно завершалась примирением Анны Демуриной с Демуриным. Незадолго до примирения Анна тяготилась тем, что ее взял в жены, «купил» фабрикант Данила Демурин. Слишком много она узнала о своих благодетелях, 19 слишком часто думала о самоубийстве, чтобы верилось в ее смирение.
В своих драмах и комедиях Немирович-Данченко намеренно шел по «стопам Островского». Критики уже называли его преемником Островского. «Цену жизни» сравнивали с «Грозой». Но разве Катерина в «Грозе» могла покориться «темному царству», как это сделала в «Цене жизни» Анна Демурина?
Немирович-Данченко сам испытывал острое недовольство финалом «Цены жизни». После премьеры в Малом театре он, по его словам, «был мрачен, неудовлетворен до последней степени, несмотря на огромный успех… Винил себя в том, что в четвертом действии все кончается хорошо, благополучно, что не так, не так кончена пьеса».
Изображая в «Новом деле», «Золоте», «Цене жизни» нравственно совершенных, «идеальных» людей, Немирович-Данченко попросту не знал, что с ними делать в последнем действии. Не зная, в чем спасение от окружающего зла, неравенства, несправедливости, мог ли он указать верный выход своим героям?
Поиски финала обычно были настолько мучительными, лихорадочно-нервными, что он не раз давал себе слово никогда больше не писать пьес. И этот мильон терзаний писательского труда зависел не столько от умения, мастерства, сколько от мировоззренческих колебаний между демократизмом и либерализмом.
«Цена жизни», написанная в один год с «Чайкой», была ее предтечей. Немирович-Данченко, как и Чехов, пытался перенести в драматургию приемы прозы, приемы повествования. Он заботился о том, чтобы сценические каноны не преграждали дорогу жизненной правде, чтобы сцене была доступна сложная психология людей, их неуловимые настроения, трудно объяснимые поступки. Многое удавалось. Но сколько еще в его пьесах было уступок либерализму, приводивших к добродетельным развязкам, к идеализации некоторых действующих лиц.
Демократ все же брал в Немировиче-Данченко верх. Пьесы с умиротворяющим финалом могли нравиться зрителю, получать одобрение критиков, удостаиваться премий, — ему они радости и удовлетворения не приносили. Он отказался от присужденной за «Цену жизни» Грибоедовской премии, уверяя, что ее в большей степени заслуживает «Чайка» Чехова, чуждая «сладким тонам» либерального утешительства и морализаторства.
Возглавив вместе со Станиславским Художественный театр, Немирович-Данченко прежде всего закрыл доступ на сцену МХТ своим собственным пьесам3*. У него достало мужества сказать Чехову: «Из современных русских авторов я решил особенно 20 культивировать только талантливейших и недостаточно еще понятых… Немировичи и Сумбатовы довольно поняты».
Хорошо известны благодарные слава Чехова: «Ты дал моей “Чайке” жизнь. Спасибо!» После провала в Александринском театра «Чайка» перешла в «литературные руки» Немировича-Данченко. Он был писателем чеховской школы, чеховского направления, хотя и не помышлял сравнивать свои писательские способности с неповторимым даром Чехова. «Мы как будто пользовались одним и тем же жизненным материалом и для одних и тех же целей, потому, может быть, я влюбленно схватывал его поэзию, его лирику, его неожиданную правду», — вспоминал Немирович-Данченко.
В повести Немировича-Данченко «Вихрь» (1891) хирург Старцев стыдится своего демократического происхождения, заискивает перед светскими дамами, бесцеремонно обирает пациентов и лишь для популярности, лицемеря, устраивает дни бесплатного приема больных. В произведениях Немировича-Данченко, как и у Чехова, немало преуспевающих карьеристов, омещанившихся интеллигентов. Еще больше — тоскующих, хмурых неудачников, попусту растративших здоровье, молодость, талант. У них, как и у чеховского дяди Вани, «пропала жизнь». В «Цене жизни» литератор Солончаков, как и Вершинин в «Трех сестрах», мечтает о том «идеальном обществе, в котором фундаментом всей жизни явится симпатия человека к человеку, где никто не будет чувствовать себя одиноким и покинутым». В повести Немировича-Данченко «Сны» (1896) можно встретить разновидность чеховского купца Лопахина, а в комедии «Новое дело» неделовой барин Столбцов своей никчемностью, непрактичностью напоминает Гаева из «Вишневого сада».
Повесть «Губернаторская ревизия», о людях уездного захолустья, примыкает к чеховской литературной школе не только по жизненному материалу, но и по манере повествования — негромкой, строгой. В беллетристике Немировича-Данченко, как и в чеховских произведениях, сквозь драматизм повседневности, неудовлетворенность настоящим брезжила тоска по иной, лучшей жизни. Это все подготавливало его к режиссуре чеховских спектаклей с их трагической обыденщиной.
«Наткнулся как-то на “Губернаторскую ревизию”, — писал К. А. Тренев Немировичу-Данченко в 1942 году. — Я и сын с большим убеждением сказали, что это настоящая большая литература, примыкающая во многом к Чехову… Изумительная повесть, после которой так понятно, почему ключ к “Чайке” оказался именно у Вас».
К «Чайке» тянутся нити некоторых зарисовок, очерков Немировича-Данченко. Еще не существовало Нины Заречной — не была создана чеховская «Чайка», а в декабре 1381 года в «Русском курьере» был напечатан очерк Немировича-Данченко о трудной судьба молоденькой провинциальной актрисы, повстречавшейся 21 ему однажды на глухой железнодорожной станции. Ей не хватило двух рублей, чтобы довезти багаж, и она умоляла кассира, просила пассажиров поверить в долг. Послезавтра у нее дебют, не приедешь — антрепренер оштрафует на месячное жалованье. Одетая в легкое пальто, несмотря на изрядный мороз, с ребенком на руках, она мыкалась по вокзалу, а кругом, словно из будущего монолога Нины Заречной, — пьяные купцы, окурки, грязь. «Проходя потом, глубокой ночью по вагонам, когда все спали, я увидел опять эту актрису, — рассказывает Немирович-Данченко. — Она стояла, прислонившись к стене, держа какую-то тетрадь около фонаря и, по-видимому, учила роль. На единственном кусочке места опал ребенок — она должна была стоять всю ночь».
В романе Немировича-Данченко «Мгла», написанном за четыре года до «Чайки», был запечатлен образ артистки Анчаровой. Анчарова, как и «обворожительная пошлячка» Аркадина, позировала, наигрывала не только на сцене, но и в жизни. Популярность, успех, ценились ею дороже самого искусства и т. д.
В «Чайке», как и в повести Немировича-Данченко «Сны» (1896), сопоставлялись общественные и эстетические идеалы двух поколений русской интеллигенции. Людей, подобных Заречной, Аркадиной, Тригорину, Треплеву, Немирович-Данченко часто видел вокруг себя. Но Чехов рассказал о них по-своему, так, как до него никто не рассказывал: с новым отражением «окружающей жизни, какое принес новый поэт». Во время репетиций «Чайки» Немирович-Данченко обнаруживал тонкое понимание авторского замысла. Он угадывал общее настроение — тональность, ритмы пьесы, особенности ее языка — и постоянно приходил на помощь актерам. Он знал, к примеру, чем именно Тригорин похож на И. Н. Потапенко, какие автобиографические мотивы ввел в этот литературный образ Чехов, наконец, в Тригорине как характере типическом и обобщенном он узнавал отчасти и свои черты. М. Е. Дарскому, начавшему репетировать роль Тригорина, он предлагал в прототипы самого себя.
Его влюбленность в талант Чехова сообщилась Станиславскому, который создал замечательный режиссерский план спектакля. Прочитав рукопись, присланную Станиславским, Немирович-Данченко восхищался: «Многое бесподобно, до чего я не додумался бы». Репетиции тем не менее не обошлись без споров. Режиссуре Станиславского, изобретательной и размашистой по темпераменту, было вначале тесно в «будничной» чеховской пьесе. Он прибегал к приемам оживляющим, по его мнению, «скучную» «Чайку»: обморок Сорина по режиссерской ремарке Станиславского должно было играть так, чтобы публика думала, что Сорин умер: «Это подымет нервы публики и интерес к тому, что происходит на сцене». Немирович-Данченко уверял, что скрытые драмы и трагедии и без того захватят зрителей. 22 Сказывался подчас различный подход режиссеров к ролям Дорна, Нины Заречной. Опоры эти были благотворны. Станиславский и Немирович-Данченко создали прекрасный спектакль, бросивший вызов «признанным гениям», погрязшим в рутине и предрассудках.
* * *
Немировича-Данченко по-прежнему тревожили противоречия русской действительности. Писатель, пришедший в режиссуру, испытывал острую потребность досказать все то, что он не успел и не сумел сказать в своих повестях и драмах. Преемственность его беллетристических и режиссерских мотивов чувствовалась не только в выборе и толковании «Чайки», но и в постановке трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович». «“Федора” мы с женой на днях читали громко и ревели, как два блаженных, — писал он Станиславскому в июне 1898 года. — Удивительная пьеса! Это бог нам послал ее. … Я не знаю ни одного литературного образа, не исключая и “Гамлета”, который был бы до такой степени близок моей душе. Я постараюсь вложить в актеров все те чувства и мысли, какие эта пьеса возбуждает во мне».
Немировичу-Данченко было уже сорок лет, и если он «ревел», читая трагедию Толстого, то это значило, что его доводило до отчаяния, до «личной боли» бессилие людей, подобно Федору, желавших добром искоренить зло.
Герой его повести «Губернаторская ревизия», незлобивый земский начальник Думчин, вынужден покончить жизнь самоубийством, так как не может отбирать у мужика последнюю корову. Он пытался остаться честным и человечным, а служебные обязанности вынуждали его к поступкам бесчестным, бесчеловечным. Перед смертью Думчин говорит: «Я хотел быть только справедливым. Понимаешь? Только. А это только оказалось самым невозможным». Немировичу-Данченко самому была знакома тоска по справедливости, по добру, по хорошему человеку. Могли ли его не тронуть слова Федора Иоанновича: «Моею, моею виной случилось все! А я — хотел добра, Арина! Я хотел всех согласить, все сгладить».
Даже нравственно чистый человек своею проповедью, своим примером жизнь не изменит. Одинокими усилиями не сокрушить государственный порядок России, исключавший добро и справедливость. Эти идейные и философские мотивы трагедии «Царь Федор Иоаннович» были близки Немировичу-Данченко. Они тревожили его совесть, задевали в нем что-то глубоко личное, граждански важное. Поэтому он так любовно и заинтересованно готовил роль Федора с И. М. Москвиным.
Спектакль «Царь Федор Иоаннович», поставленный Станиславским, был талантливым и смелым. Его значение выходило далеко за пределы эстетической декларации. В спектакле находили 23 отклик общественные события, которыми жила тогда Россия.
Начинался третий, высший этап освободительного движения. Впереди уже маячила революция. Ее нельзя было заменить ни «малыми делами», библиотечками и аптечками, ни сочинением неосуществимых гуманных проектов.
Разумеется, историческая трагедия А. К. Толстого о даре, бессильном управлять страной, не подводила, да и не могла подвести к мысли о революции. Это вскоре сделают пьесы Горького.
Одно великодушие не способно сразить мир насилия и зла — вот что подсказывал спектакль «Царь Федор Иоаннович». В первом спектакле демократического театра философия утешительства и пассивности уже терпела известное поражение. Через несколько лет в связи с постановкой пьесы Чехова «Иванов» Немирович-Данченко скажет: «Широкая русская жизнь развернула явления революционные, куда ушли все нетерпимые, пришедшие к убеждению, что добром ничего не поделаешь».
Да и как можно было верить в чудодейственную силу добра в обстановке деспотии и бесчинств. Стоило, например, в 1899 году Немировичу-Данченко организовать четыре утренних спектакля для рабочих, как он был вызван в московское охранное отделение и занесен в список неблагонадежных.
Под впечатлением революционных студенческих беспорядков Немирович-Данченко задумывает пьесу об аресте студента. Тогда же его привлекает образ русской женщины, политэмигрантки в драме Г. Гауптмана «Одинокие». Анна представляется ему человеком будущего. «Публика должна сказать: “Да, трудно быть такою, но надо”». О другом действующем лице, прачке Леман, он высказывает предположение: «В случае революции эта баба будет первая убита жандармами». «Случай революции» учитывается им как возможная реальность.
В условиях революционного подъема становилась несостоятельной нравственно-этическая программа преобразования общества. Все с большим холодком относится Немирович-Данченко к проповеди непротивления злу. Освобождаясь от влияния социально-философского учения Л. Н. Толстого, все чаще замечает «разительное несоответствие толстовских идей духу предреволюционной эпохи».
Началось с фактов, о которых идет речь в письме Немировича-Данченко к Л. Н. Толстому, посланном 10 июля 1899 года. Прочитав в «Ниве» роман «Воскресение», покоривший его своей художественной силой, Немирович-Данченко счел нужным рассказать великому писателю об одном помещике, чьи намерения были схожи с поступками Нехлюдова. Помещик, сосед по имению, продающий перед смертью, чтоб спасти душу, за полцены землю крестьянам, в его глазах лишь «спасающийся землевладелец»: «Я недолюбливал вообще этого господина. Мне казалось подозрительным приобретение огромного состояния землей». 24 Но важнее было другое: «И можете себе представить, что крестьяне не только увидели “подвох” с его стороны, но решительно отказались от покупки». Немирович-Данченко совсем не по-толстовски объясняет, почему невозможен добровольный сговор между барином и мужиками: крестьяне не хотят этой сделки с помещиком потому, что «они положительно предчувствуют… что рано ли, поздно ли — земля будет ихнею».
Знаменательно, что чеховские и горьковские спектакли Художественного театра послужили поводом для его полемики с Л. Н. Толстым. «На “Дяде Ване” был Толстой, — сообщал Владимир Иванович Чехову в феврале 1900 года. — Он очень горячий твой поклонник — это ты знаешь. Очень метко рисует качества твоего таланта. Но пьес не понимает. … Я старался уяснить ему тот центр, который он ищет и не видит. Говорит, что в “Дяде Ване” есть блестящие места, но нет трагизма положения. А на мое замечание ответил: “Да помилуйте, гитара, сверчок — все это так хорошо, что зачем искать от этого чего-то другого?”. Не следует говорить о таком великом человеке, как Толстой, что он болтает пустяки, но ведь это так. Хорошо Толстому находить прекрасное в сверчке и гитаре, когда он имел в жизни все, что только может дать человеку природа: богатство, гений, светское общество; война, полдюжины детей, любовь человечества и пр. и пр. И вообще Толстой показался мне чуть-чуть легкомысленным в своих кое-каких суждениях. Вот какую ересь произношу я!»
В отзыве Толстого о «Дяде Ване» было, однако, не легкомыслие, не каприз или парадокс, хотя Толстой и был склонен к парадоксам. Им руководило требование многотерпения и аскетизма, сурово предъявляемое людям. Посещая дома вокзальных грузчиков и фабричных рабочих, Толстой увидел бедность ужасающую, страшную. В «Воскресении» он рассказал о «трагизме положения» в тюрьмах и каторге. В начатой драме «И свет во тьме светит» — о тягостной доле русского крестьянина, о барине, сознающем свою вину перед мужиком. Может, в сравнении с этим судьба Войницкого, Астрова, Сони не казалась ему столь драматичной, заслуживающей сострадания. Но ведь сам Толстой, противореча своим суждениям о дяде Ване, бежал от ненавистного довольства Ясной Поляны! В том же 1900 году он записал в своем дневнике: «Нынче поднялся старый соблазн уйти из Ясной Поляны».
«Пропала жизнь», — тоскует дядя Ваня. «Обижен… очень уж обижен простой народ», — горюют в «Воскресении». Трагизм положения Астрова, Войницкого — звено общенародной трагедии.
Толстой смотрел «Дядю Ваню» в ту пору, когда лишал себя даже наслаждения творчеством. Потрудившись до головных болей над религиозно-философскими сочинениями, он изредка позволял себе «отдохнуть на художественном».
25 Автор «Крейцеровой сонаты» осуждал тяготение Астрова к Елене Андреевне. Сдерживая в себе самом силы жизни, он то и дело напоминал вторую заповедь евангелия — человек должен избегать наслаждения женской красотою. Не сообразна этой заповеди и «Дама с собачкой». В ней не разделено, по мнению Толстого, добро и зло. Впрочем, еще хуже, греховней «Анна Каренина». Толстой отрекается от нее: — Этой мерзости для меня не существует. — Ближе всех к нравственному идеалу — чеховская душечка. Безлична, но зато какое послушание, какой домострой! На равноправие не претендует, в революцию не пойдет4*.
Так разгадываются ребусы, расшифровываются, сперва ошеломляющие парадоксальностью, эстетические вкусы Толстого.
Серьезным было расхождение в оценке пьес Горького. Немирович-Данченко, впервые ознакомившись с «Мещанами», послал телеграмму Чехову: «Пьеса отличная достойна Горького». Толстой, прочитав «Мещан», вынес приговор: «Ничтожно». Ничтожным Толстой обзывал тогда все, что не содержало евангельского умиротворения. «Гамлет» нарушает заповедь «не убий» и потому грубое, безнравственное, бессмысленное, пошлое произведение. Увидев в кабинете А. И. Южина гравюру, изображающую Гамлета, Толстой отнесся к ней сурово: — Какое тут злое лицо у Гамлета!.. А ведь Гамлет действительно зол… — И Толстой отдает предпочтение доброй, морализаторской повести Л. И. Веселитской «Мимочка». По-видимому, недобр и Нил в «Мещанах»…
Немирович-Данченко говорил, что «На дне» сильно жжет его и захватывает своею реальностью. Толстому же героическая психология горьковских персонажей казалась произвольною: «Все воображаемые и неестественные, огромные героические чувства и фальшь». Отсутствие религиозных убеждений и героическая психология в произведениях Горького вызывают недоброе чувство Толстого.
Противоборство «толстовского» и «горьковского» разгоралось потом все сильнее. Об этом сложном идеологическом процессе Немирович-Данченко писал: «“Непротивление злу” вызвало резкую реакцию в типах Горького».
А молодой Горький, пришедший из самых недр народа, звал и вел за собой.
Чтобы оценить в полной мере его духовное воздействие, надо вспомнить, каким было творчество Немировича-Данченко, да и сам он в 1901 году, когда МХТ впервые приступал к режиссерской работе над пьесами Горького.
Летом 1901 года Горький создавал «Мещан». Немирович-Данченко 26 в это время заканчивал свою новую драму «В мечтах». Вот один из ее диалогов:
«Алфеев. Жизнь, видишь ли, сцена. Природа — автор или сама пьеса. Люди — актеры. И все еще плохие актеры, потому что до сих пор не разобрались в пьесе и не могут сыграть ее с стройным ансамблем.
Григорий Кириллович. Значит, ты веришь, что когда-нибудь они ее сыграют?
Алфеев. Без малейших сомнений. Сыграют твердо, стройно и красиво».
Что же нужно сделать, чтобы жизнь стала стройной и красивой? На это не могут ответить пребывающие в мечтах, оторванные от жизни и борьбы герои пьесы. Немирович-Данченко в своей драме успокаивает: солнце выглянет потому, что «горе и радости чередуются так же, как хорошая и дурная погода».
Совсем другое доказывает в «Мещанах» Горький: чтобы восторжествовала справедливость, нужно завоевать права, устранить социальное неравенство.
О пьесе Немировича-Данченко Горький отозвался холодно: «Это должно звучать со сцены красиво».
Премьера «В мечтах» успеха не имела, так как публика, по словам В. Э. Мейерхольда, заподозрила автора в «безразличном» отношении к буржуазии.
«В эту пьесу я отдал много-много своих лучших чувств, а пьеса не задалась! Не знаю, что случилось», — огорчался и недоумевал автор. Лишь позднее, прочитав «На дне», он уяснил себе, что его поражение было столь же неотвратимо, сколь закономерен триумф Горького.
Немирович-Данченко в то время не мог возвысится до политических взглядов Горького. Еще убедительнее подтверждает это сопоставление драмы «В мечтах» с «Дачниками» (1904) и «Врагами» (1906).
Горький во «Врагах», как и Немирович-Данченко «В мечтах», сравнивает жизнь с любительским спектаклем: «Роли распределены скверно, талантов нет, все играют отвратительно… пьесу нельзя понять». Но Горький знает, кого винить. Портят всё — враги. Их нужно прогнать со сцены. «Однажды они прогонят нас со сцены», — говорит Татьяна.
Только революция изменит жизнь. Горький немало потрудился над тем, чтобы в это уверовали деятели Художественного театра. «Накипает ряд глубоких вопросов, — писал ему Немирович-Данченко в 1902 году, — по которым до сих пор моя мысль только скользила. Так сказать, она еще не поддавалась Вам всецело, хотелось самому ясно понять, почему Вы ее толкаете в известном направлении. Теперь многое мне становится понятнее и сильнее жжет меня».
27 * * *
Накануне первой русской революции рознь между демократами и либералами все углублялась. Политические взгляды предопределяли смысл и цель жизни, характер труда, личные взаимоотношения. Многие из либералов открыто переходили в лагерь реакции. Таков был А. С. Суворин, о котором В. И. Ленин писал: «Бедняк, либерал и даже демократ в начале своего жизненного пути, — миллионер, самодовольный и бесстыдный хвалитель буржуазии, пресмыкающийся перед всяким поворотом политики власть имущих в конце пути».
Карьера Суворина, достигнутая добровольным холопством, не могла не привести к разрыву с ним передовых людей России. Среди них был и Немирович-Данченко. После поездки в Петербург он писал Чехову: «Как случится вот провести несколько часов с такими людьми, как суворинцы, точно тебя грязью обдает и вонью…». И еще: «Воздух около Суворина — действительно пакостный». Позорное отношение Суворина к делу Дрейфуса, весь курс газеты «Новое время», издаваемой Сувориным, оттолкнули от него Чехова. А Горький со свойственной ему непримиримостью, категоричностью заявлял: «Никакие соглашения между мною и Сувориным невозможны».
Поколение писателей, к которому принадлежал Немирович-Данченко, расслоилось. Недавние товарищи по профессии становились чужими. «Приходил Потапенко, — рассказывает Немирович-Данченко в письме к Чехову 29 октября 1903 года. — Как опустился. И какой усталый скептицизм!» Скептицизмом был замутнен рассказ Потапенко «На покой», вышедший в 1903 году в декабрьской книжке «Русской мысли». Присочиненная к рассказу оптимистическая концовка лишь усиливала общее впечатление уныния, достигнутого рассуждениями учителя Востокова. Востоков, герой рассказа, так объясняет свою жизненную усталость: «Я думал, что в моих руках будущее России. Я был горд, я с сожалением смотрел на людей других профессий: разных инженеров, адвокатов, чиновников, которые только зарабатывают хлеб, а не осуществляют никакого призвания. Да, Светозаров, если человека заставить толочь воду в ступе и убедить его, что из этой воды, где-то там, в другом месте, неведомом ему, делается золото или какой-нибудь жизненный эликсир, полезный для всего человечества, так он с охотой будет толочь воду в ступе годы и десятки лет, пока в нем живет вера… Но если он один только раз собственными глазами увидит, как эта вода выливается в помойную яму и вместе с разной другой дрянью исчезает без следа, — так уже он больше не будет толочь воду в ступе, а если и будет по необходимости, так с отвращением. Вот это случилось и со мной».
Ни одна пьеса И. Н. Потапенко не могла идти на сцене молодого Художественного театра. Еще сохранялась инерция прежних, 28 давних отношений, происходили встречи, не прерывалась переписка, но Потапенко уже не был своим.
Чужим сделался и либеральный писатель П. Д. Боборыкин. Немирович-Данченко отклоняет его пьесу, не отвечающую запросам демократической интеллигенции, посещающей МХТ. Встретившись с Боборыкиным через несколько лет, он окончательно разочаровывается в нем: «Пустой старикан! Понять человека убежденного и идейного он может, но то, что составляет сущность убежденности и идейности, его все время может удивлять».
Немирович-Данченко оберегает театр от «чудища-публики», норовящей подчинить МХТ своему влиянию. Судя по его письму к Станиславскому, он имеет в виду богатую знать — Якунчиковых, Стаховичей, Гардениных. Призывая труппу к смелым творческим исканиям, Немирович-Данченко предлагает ввести в репертуар МХТ «Столпы общества» Ибсена, «Юлия Цезаря» Шекспира, и сам в 1903 году осуществляет эти постановки.
В режиссерском плане «Юлия Цезаря» он пишет, что убийство тирана — «подвиг, исполненный опасности и славы», что Брут и Кассий — «спасители гибнущей свободы, смелейшие и лучшие граждане, избавляющие Рим от надменного тиранства». В такой трактовке чувствовались предреволюционные веяния и настроения.
«Столпы общества», по мнению прогрессивной критики, продолжали протест, начатый горьковскими «Мещанами».
Но понятия Немировича-Данченко о революции были еще абстрактны, далеки от постижения ее классовой природы. Поэтому он упрекал пьесу Горького «Дачники» в пристрастном, тенденциозном, даже озлобленном изображении интеллигенции, требуя безупречной объективности в характеристике людей, которых Горький ненавидел и презрительно окрестил дачниками.
Весной 1904 года Горький, получив от Немировича-Данченко длинное письмо, подробно анализирующее «Дачников», ответил на него гневно и холодно, не щадя ни самолюбия, ни установившегося между ними товарищества: «Внимательно прочитав Вашу рецензию на пьесу мою, я усмотрел в Вашем отношении к вопросам, которые мною раз навсегда, неизменно для меня решены, — принципиальное разногласие. Оно неустранимо, и потому я не нахожу возможным дать пьесу театру, во главе которого стоите Вы».
Давно ли Горький радовался знакомству с «умницей Данченко», благодарил его за меткие, верные замечания по пьесе «Мещане»: «Все исправил, переставил, и я удивился сам, как все вышло ловко и стройно. Вот молодчина!» Давно ли дарил Немировичу-Данченко щедрую похвалу: «Половиною успеха этой пьесы [“На дне”. — Л. Ф.] я обязан вашему уму и сердцу, товарищ». Станиславский писал, что, репетируя «На дне», Немирович-Данченко нашел «настоящую манеру» игры. Стиль 29 спектакля разительно отличался от других постановок Художественного театра. «Какое-то отрешение от самих себя», «удивляющий прыжок» — такими словами приветствовал Горький рождение новаторской сценической формы. Немирович-Данченко пришел к ней, интуитивно чувствуя социальный оптимизм Горького. Горьковское миропонимание торжествовало в патетике монологов Сатина — Станиславского, в общем бодром мажорном тоне спектакля.
… И вот на смену благодарности пришли отчужденность и чисто горьковская резкость.
В своей рецензии о «Дачниках» Немирович-Данченко советовал Горькому очистить пьесу «от банальностей», брал под сомнение любовь Марьи Львовны к Власу, оспаривал художественность некоторых действующих лиц. Но не это привело к размолвке, хотя и недолгой, но болезненно воспринятой Немировичем-Данченко.
Немирович-Данченко подошел к «Дачникам» с позиций отвлеченного человеколюбия. Он напоминал Горькому его же слова — уважать надо человека, но применял их к Басовым, Сусловым, Шалимовым. Естественно, что Горькому такая оценка пьесы показалась ложной, он увидел в ней большее, чем простое непонимание своего замысла.
Выступивший вскоре со статьей о «Дачниках» А. В. Луначарский приветствовал Горького именно за бескомпромиссное, вполне определенное отношение к «мелкому человеколюбию», к жалости, к мягкости. Революция, разъяснял Луначарский, — «веселое, радостное время, но в достаточной степени и жестокое».
* * *
Горькому, старавшемуся обратить в революционную веру лучшую часть художественной интеллигенции, пришла на помощь сама революция. Революция 1905 года и предшествовавшая ей русско-японская война на многое открыли глаза, многому научили.
Встревоженный тем, что «где-то на Востоке льется кровь», Немирович-Данченко летом 1904 года начинает писать пьесу «Курган». Тунеядство в военное время — преступление; «патриотическая болтовня» нужна титулованным тунеядцам для того, чтобы откупиться от солдат, гибнущих на войне, — такова мысль пьесы. В сущности эти «деятели — фарисеи и лицемеры» чем-то схожи с потерявшими совесть «дачниками».
В черновых набросках к пьесе названы Николай II, министр внутренних дел и шеф жандармов Плеве, председатель комитета министров Витте и т. д. В то время как крупные финансисты и промышленники величали Витте прогрессивным государственным деятелем, Немирович-Данченко характеризует его трезво и дальновидно: «Витте ловкий и практический, опирающийся 30 на власть, как на единственную возможность поддержать свое благополучие». Можно пожалеть, что замысел драмы «Курган» остался неосуществленным.
«Японская война показала всю гниль правительства, — читаем мы в дневнике Немировича-Данченко. — Бессмысленная по задачам, неподготовленная, разорительная, она обнаружила воровство и неумение… Сражались только по долгу перед родиной, перед отечеством. Кончилась она, вот и пошла революция».
За ходом революции он следит напряженно. В феврале 1905 года вместе со всем Художественным театром подписывает «сочувственный адрес» Горькому, томящемуся под арестом в Петропавловской крепости. В марте присоединяется к тем, кто негодует против увольнения Н. А. Римского-Корсакова из консерватории. В мае 1905 года на собрании сценических деятелей и драматических писателей подымает свой голос против гнета и произвола цензуры: «Студент не может говорить о студенческих волнениях… рабочему цензура не позволит говорить о рабочем вопросе, крестьянину — о малоземельи и т. д.».
Узнав, что хозяева Владикавказской железной дороги грозятся выселить бастующих рабочих из квартир, он пишет Южину о том, как «корректно, твердо и умно» ведут себя рабочие.
Когда Станиславский в речи, посвященной открытию Студии на Поварской, заявил, что наступило время пробуждения общественных сил в стране, что театр «должен отзываться на общественные настроения», Немирович-Данченко был солидарен со Станиславским: «Вы были очень крупный человек, и я глубоко, всей своей мужской душой зрелого человека любовался Вами, — на такого хочется смотреть снизу вверх».
В мае 1905 года происходит примирение с Горьким. Он приглашает Станиславского и Немировича-Данченко приехать в Финляндию, чтобы послушать чтение новой пьесы «Дети солнца».
В сентябре Владимир Иванович в присутствии Горького ведет репетиции «Детей солнца», заменяя Станиславского, который заканчивал в это время режиссерский план спектакля. Не удовлетворяясь достигнутым, Немирович-Данченко стремится к тому, чтобы каждое лицо было ярко по своей жизненности, новизне, характерности, простоте тона. Его режиссерский идеал — «полнейшее отсутствие игры»: … не играть роль, а создавать характер реально существующего, живого человека, сохраняя при этом «пятна горьковски-публицистические».
14 октября генеральная репетиция «Детей солнца» была прервана. Немирович-Данченко, как и весь Художественный театр, присоединяется к всеобщей забастовке. По окончании забастовки артисты МХТ играют «На дне», объявив на афише, что весь сбор от спектакля поступит в пользу семейств рабочих, участвовавших в последних забастовках.
31 А 20 октября 1905 года разразилось событие, всколыхнувшее Москву: полиция стреляла в беззащитных, невооруженных людей, возвращавшихся с похорон Н. Э. Баумана. Немирович-Данченко не остался в стороне, когда собирались подписи под письмом общественного протеста и осуждения.
Во время декабрьского вооруженного восстания, по инициативе артистки М. Ф. Андреевой (в 1904 году вступившей в РСДРП), в здании Художественного театра, надо думать с ведома его руководителей, раненым дружинникам оказывали медицинскую помощь.
Приехав летом 1906 года в имение Нескучное Екатеринославской губернии, Немирович-Данченко приметил, что деревня «несравненно обнаружила свой рост за один революционный год», что у крестьян одно желание — увеличение земли, а их «отношение к монарху — более равнодушное, чем могут ожидать те, которые слишком хотят опираться на крестьянский монархизм». Между тем и монарх, и опиравшиеся на монархизм готовили контрудар. Репрессии, идущие повсеместно, достигли степной глуши Мариупольского уезда. Немирович-Данченко узнает, что учительницу Времьевской школы, которая читала крестьянам «самые дозволенные книжки», отправили в ссылку вместе с десятью учителями Мариупольского уезда.
Осенью московское охранное отделение потребовало, чтобы дирекция МХТ ежевечерне предоставляла три билета полицейским, одетым в штатское платье. «Не понимаю, — писал Немирович-Данченко московскому градоначальнику 7 октября 1906 года, — почему членам охранного отделения нужно наблюдать за публикой в зале театра во время хода действия, когда публика сидит молча на своих местах и следит за пьесой. … Случаев распространения прокламаций было едва ли не гораздо менее, чем в других театрах».
В такой политической обстановке проходили репетиции «Бранда». Немирович-Данченко любил в Бранде бунтаря, решившего «пересоздать всю жизнь». Премьера «Бранда» состоялась 20 декабря 1906 года — на рубеже революции и реакции.
* * *
Начиналось полное испытаний для интеллигенции десятилетие 1907 – 1917 гг. И снова совесть художника вбирала в себя жизнь России: «… Нельзя, нет сил не возмущаться или не сочувствовать».
В 1907 году в связи с постановкой «Росмерсхольма» Ибсена Немирович-Данченко так оценивал политическую партию Мортенсгора, выступавшую в пьесе против консерваторов Кроллей: «Они… решили… бороться не для того, чтобы погибнуть для людей будущего… Нет. Мортенсгоры сами дорожат своим благополучием. … Это не наши большевики. Это постепеновцы». В словах это не наши большевики чувствуется уважение к большевикам, 32 которые не дорожат личным благополучием и готовы отдать жизнь за будущее счастье людей. Следует отметить, что эти режиссерские записи к «Росмерсхольму» относятся к тому времени, когда первая русская революция была уже сокрушена и нарождалась литература, преследовавшая большевиков издевательствами, клеветой.
Немирович-Данченко по-прежнему ищет для МХТ пьес «с теми боевыми нотами, которыми звенит наша современная жизнь». В 1908 году, произнося речь в Литературно-художественном кружке, он говорит о «подвигах героизма и самоотверженности» в недавней революции. В годы реакции нужно было мужество, чтобы напоминать об этом.
В записной книжке 1908 года появляется заметка: ввести в спектакль МХТ «Бранд» ранее не игранную сцену избиения Бранда камнями. Это желание отнюдь не малозначащее. В разгар революции та сцена в пьесе Ибсена, где толпа, изменяя Бранду, покидает и избивает его, могла показаться неуместно предостерегающей. Сама версия возможного предательства отталкивала. Она не отвечала общему народному подъему, могла омрачить его.
После расправы с революцией и революционерами те, кто, подобно Петру Бессеменову из «Мещан», были гражданами на полчаса, успели отречься и «поумнеть». Их самих не хватило на героизм, и они не верили в героизм других, «разочаровались» в героях, отступились от них. Восстанавливая сцену, в которой вчерашние сподвижники Бранда избивали его камнями, Немирович-Данченко задевал тем самым отступников, дезертировавших с клеветой на устах и каменьями за пазухой. В годы реакции эта сцена была полна злободневных политических намеков.
Вот когда Немирович-Данченко испытывает отвращение к московскому «обществу», политической суете, к демонстрациям черносотенцев, к тем, кто инертность, неподвижность, нелюбознательность выдает за основы русской цивилизации и конституции.
Годы реакции Александр Блок называл «полосой убийственного опустошения». Человеческое и общественное измельчание претит Немировичу-Данченко, рождает суровые мысли и настроения, желание обособиться, отстраниться. Намерение отойти от сутолоки, от скверны, понятное в честном художнике, выражает себя граждански крупно. Он выдвигает проект: Художественному театру уехать из Москвы в Выборг, чтоб там спастись от реакционной цензуры. Он предвидит, какой политический резонанс будет иметь тот факт, что Художественный театр, «стесненный цензурой, уехал творить в Финляндию… Общественное значение этого шага будет так значительно. В истории освобождения России мы сыграем блестящую и почетную роль».
В бессонные ночи зимы 1908 года Немирович-Данченко все думает о том, «какими силами можно было бы вытравить из 33 театра пошлость и невежественность, и рабский дух, охвативший его так же, как он охватил теперь всю Россию».
Он изъявляет готовность идти на испытания, жертвовать материальным благополучием ради того, чтобы никто и ничто не подавляло его «свободный дух».
Создание общедоступного театра по-прежнему является недостижимой, заветной целью Станиславского и Немировича-Данченко. Их гнетет сознание, что жизнь уходит на то, чтобы просвещать московских богачей, коих просветить невозможно. Между тем именно эту миссию навязывала Художественному театру реакция.
Немирович-Данченко всерьез обеспокоен тем, что уже на третьем году реакции «идейный колокол» МХТ не звучит так громко и призывно, как звучал прежде, когда ставили пьесы Горького, Гауптмана, Ибсена. Замечая, что театр идет по течению, что актер постепенно превращается в «заурядного господина», что спектакли отучают от героизма, от борьбы, он указывает на опасность буржуазного перерождения: «Мы готовили революцию, потом испугались и пошли за октябристами»5*.
Наперекор течению, бросая вызов богоискателям, «якобы познавшим все», Немирович-Данченко ставит трагедию Л. Андреева «Анатэма». Анархический бунт всех голодных в «Анатэме» он принимал за революционность — «большой революционный взмах».
Он хотел бы сам написать пьесу об успокоившихся, изолгавшихся, о тех, кто «кует свое личное счастье». Но к драматургии ему уже трудно вернуться и потому, что режиссура, руководство театром поглощают всю энергию, и потому, что его воля отучилась от того особого, сосредоточенного напряжения, которого требует литературная работа. Перо с годами стало холоднее, рассудочнее, тогда как требования, предъявляемые к себе, — жестче, строже. Необоримое желание писать пьесу время от времени приходило и, не утоляясь, рождало ощущение, что в нем как писателе что-то похоронено, кончилось…
Он часто думал об изменчивой судьбе литератора и насторожился, когда декадентская критика пустила в обращение слух; что Горький исписался. «Нет, Горький не кончился, — пишет он жене. — Этот “Кожемякин” [повесть “Жизнь Матвея Кожемякина”. — Л. Ф.] очень хорошая вещь. Чудесная по колориту и, в особенности, по языку».
В беллетристике, драматургии его привлекает то, что может прошибить вялое смирение интеллигенции. «Говорили… о революции — бывшей и будущей», — рассказывает он в одном из своих писем летом 1910 года. И уже решительно утверждает: 34 время «октябризма», реакции проходит, «очень скоро наступят боевые дни… есть в обществе живые, бодрые, боевые силы».
Доказательства этому он находит повсюду. По умершему Л. Н. Толстому, несмотря на препятствия властей, служат гражданские панихиды. Гражданские похороны справляются без духовенства, собирая многочисленные толпы. Живые силы есть и среди студенчества, коль оно устраивает овацию опальному профессору П. Н. Сакулину, которому запретили читать лекции в Московском университете. Немирович-Данченко приводит и другие свидетельства. Когда в 1912 году в Москве, чтобы поднять престиж царя, торжественно и помпезно отмечается 100-летие Бородинской битвы, он пишет: «Все бегут посмотреть царя. Вот какое настроение. А в то же время в Черноморском флоте обнаружен, говорят, заговор. Планировали взять в октябре приступом Ливадию — и потребовать акта отречения. Конечно, вероятно, в заговоре пока еще участвовали очень немногие, — но то уж, что такое появляется во флоте, в Севастополе — как не похоже на эти толпы в Москве в эти дни».
Его режиссерские помыслы направлены к реалистическому искусству. «Думаю, — пишет он жене, — что можно и надо достигать серьезности, сущности, глубины искусства, и не могу радоваться наивно всяким суррогатам его». Модное увлечение внешне эффектным, «наружно» красивым, легким не соблазняет его. Имитация правды не заменяет ему самой правды. Бездумного, бездушного искусства он не признает.
В 1907 – 1917 годах среди постановок Немировича-Данченко преобладают пьесы русского национального репертуара. Вслед за «Горем от ума» (1906), «Ревизором» (1908), поставленными совместно со Станиславским, на сцене МХТ появились «Борис Годунов», «На всякого мудреца довольно простоты», «Братья Карамазовы», «Смерть Пазухина». Помимо этого, Немирович-Данченко участвовал в репетициях «Живого трупа», «Провинциалки», «Маленьких трагедий» Пушкина; намеревался сделать инсценировку «Обрыва», включить в репертуар МХТ «Грозу» и «Волки и овцы».
Программа режиссера — реализм, отточенный до символов. Поиски формы он связывает не со смертью быта, которую провозглашали модернисты, а с философски-обобщенным выражением быта. Такое обобщенное истолкование он внес в спектакли «На всякого мудреца довольно простоты» (1910), «Смерть Пазухина» (1915) и др. Постановки классических пьес не утоляют его потребности в современном спектакле. Режиссер ждет случая, чтобы обрушиться на все лживое, лицемерное. И в этом своем запале допускает даже непростительные художественные ошибки, вроде постановки «Екатерины Ивановны». Актерам Художественного театра, неприязненно встретившим эту драму Л. Андреева, он обещает освободить спектакль от «всего специфически безвкусного Андреевского». Его доводы в защиту «Екатерины 35 Ивановны»: без современных «колючих» пьес МХТ покатится вниз, станет «вчерашним театром… Может быть, в нем искусство и на высоте, но он мертвеет в своем искусстве, становится классическим, и живая жизнь протекает, обходя его».
Сколько усилий затрачивал Немирович-Данченко на то, чтобы живая жизнь не обходила театр, с каким достоинством вел себя в годы реакции и все же не избежал ее влияния. Нечто парадоксальное, а по существу диалектически сложное, было в том, что влияние реакции настигло его творчество, когда сама реакция уже отступала.
Упустив из репертуара МХТ пьесы Горького «Чудаки» в «Зыковы», он пришел к «Бесам» Достоевского. В 1908 году, перечитав все большие романы Достоевского, Немирович-Данченко отметил, что «“Бесы” слабая вещь». Его отталкивала реакционная окраска романа. Известно, что анархическая программа «повсюдного всеразрушения» выдавалась в «Бесах» за истинное содержание социализма: «Мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к единому знаменателю. Полное равенство». Социалисты характеризовались Достоевским как «сознательные иезуиты и лгуны», их идеал — насилие над совестью и низведение человечества до «стадного скота». Таким социалистом и был в романе Петр Верховенский.
Предвзятость Достоевского не была скрыта от Немировича-Данченко и в ту пору, когда он приступил к инсценировке «Бесов». Он писал Александру Бенуа летом 1913 года о «сатирических судорогах» Достоевского, о том, что художественное обаяние «Бесов» засорено тоном рассказчика, то есть предвзятым, предубежденным против революционного движения тоном романа. Тем не менее это не остановило его.
В режиссерской трактовке романа отчетливо обозначилась опасная идейно-философская тенденция. Предполагалось, что важным лицом в спектакле будет старик Степан Трофимович Верховенский — поборник красоты. Поборник красоты вольно или невольно противопоставлялся революционерам, добро и красота — революции. Немировичу-Данченко, как и всему Художественному театру, предстояло сделать выбор между «революцией и нереволюцией».
Не случайно Горький выступил в «Русском слове» против постановки «Николая Ставрогина» (так называлась инсценировка «Бесов»).
Материалы, впервые публикуемые в «Летописи», позволяют заглянуть в самую глубь происшедшего и увидеть, что волнения, вызванные статьей Горького, перемежаются у Немировича-Данченко с тревогой другого свойства. «Было несколько дней тревожных, — сообщает он жене. — Совпало с трамвайной забастовкой, демонстрациями на улицах, известиями о железнодорожных катастрофах». Нельзя не почувствовать, что его отношение 36 к демонстрациям и забастовкам уже иное, чем в революцию 1905 года.
Именно в этих общественных событиях — истоки растерянности редко терявшегося человека и художника. Публикуя ответ Художественного театра Горькому, Немирович-Данченко не был уверен в своей правоте. «Ошибся я или нет?» — допытывал он себя, то возмущаясь «узким, партийным, нехудожественным» взглядом Горького на литературу и театр, то соглашаясь признать постановку «Бесов» своей ошибкой.
Исход этих колебаний, этой борьбы с самим собой еще не определился, как подоспело незамедлительное вмешательство Мережковского, Сологуба, Леонида Андреева и других. Все они призывали МХТ «свободно» служить искусству. Спор из-за «Бесов» перерос в напряженное политическое столкновение. Подняли «вой» (выражение В. И. Ленина) все, кому была ненавистна партийность в искусстве. Характерно срочное послание Леонида Андреева. Охладевший к своему «революционерству», Л. Андреев спешил поддержать Немировича-Данченко. «Ваш ответ Горькому хорош, — писал он 24 сентября 1913 года. — Мне жаль Горького, жаль литературу, к[отор]ую он в своем лице поставил в столь горькое положение…».
Эта жалость была неуместной. Победа осталась за Горьким и той партийной литературой, которую третировали модернисты.
Реакционная идеология, пытаясь завоевать театр извне, просачивалась и внутрь. Л. Андреев, Д. Мережковский, Ф. Сологуб назойливо атаковали МХТ своими пьесами. Немирович-Данченко отбивал эти атаки уже без прежней решимости, колеблясь, долго раздумывая. После таких сомнений была поставлена драма Мережковского «Будет радость». Мережковский, Сологуб на него постоянно обижались, сердились. Подавляя обиду и претензии, Сологуб присылал Немировичу-Данченко свои пьесы, рассчитывая на то, что «строгий» Художественный театр преодолеет равнодушие и нелюбовь к нему.
Нелюбовь испытывали на себе Мережковский, Философов и даже Андреев, «Мысль» которого Немирович-Данченко ставил в 1914 году. Андреев то корил за холодный тон писем, за то, что их отношения словно «смазывало дегтем», то льстиво писал о режиссуре Немировича-Данченко: «… вот оно искусство, которое требует жертв как религия — тут ведь костром пахнет».
Драма Мережковского «Романтики» (о Бакунине) не обманула Немировича-Данченко — он сразу ощутил «привкус спекуляции возвышенными идеями».
«Завтра я освобождаю себя от Мережковских, а то утомили! — пишет он жене 20 июня 1916 года. — С Философовым я вел себя холодно сегодня. Так и буду продолжать. Думаю, что он настоящий пройда и скверная. Андреев, Мережковские… Это надо знать».
37 Однако полностью освободить свою жизнь и жизнь театра от модных литераторов Немировичу-Данченко не удавалось.
Борьба революционных и реакционных сил разгоралась не только вокруг МХТ, но и в самом МХТ. Столкновение двух мировоззрений, которое Немирович-Данченко и раньше наблюдал в труппе, стало непримиримее. Опасность буржуазного перерождения, подмеченная им в 1909 году, возросла. Труппа не была однородной. Одни, как В. И. Качалов, Л. А. Сулержицкий. Г. С. Бурджалов, помогали нелегальной работе большевиков; другие, как Н. С. Бутова, искали утешения в религии; третьи, как А. Л. Вишневский, придавали слишком большое значение коммерческому успеху, боялись риска и готовы были потрафлять фешенебельному зрителю; четвертые, как А. А. Стахович, были консервативны в своих политических и эстетических взглядах.
Немало значила здесь и пресыщенная буржуазная публика, что по вечерам заполняла зрительный зал театра. Станиславский называл ее «массой жирных тел и душ».
Материально МХТ зависел от богатых пайщиков и вкладчиков. «Художественный театр был революционным еще до Октября не только в искусстве, но и в жизни. Все наши тяготения, настоящие, душевные, были направлены к борьбе за прекрасное, свободное в жизни. Но бытовые условия, необходимость иметь связи со слоями, против которых шла революция, — все это чрезвычайно отрицательно сказывалось на нашем политическом существовании», — вспоминал Немирович-Данченко уже после победы Октябрьской революции.
Крупные вкладчики и пайщики навязывали театру свои репертуарные вкусы, исключавшие пьесы горьковского мировоззрения. Так, один из них, А. А. Стахович, еще в 1904 году советовал Немировичу-Данченко «наплевательски» отнестись к размолвке с Горьким из-за «Дачников». Он торжествовал, когда «писатели-освободители» (насмешливая терминология Стаховича) были недовольны Художественным театром. «Ликую, а не грущу и не в качестве крупного русского землевладельца, а как старый эстет, враг дидактики, а “пуще” современной», — писал он Немировичу-Данченко.
Горький для Стаховича, как и для всего его сословия, — «каторжник Максимка». Выступая в 1906 году на митинге в Неаполе, Горький закончил свою речь призывом: «Да здравствует итальянский революционный пролетариат!» Полиция, предложившая Горькому «вести себя поскромнее», удостаивается одобрения Стаховича. Но ему мало полицейских мер: «Хоть бы нашлась на него где-нибудь, какая-нибудь Шарлотта Кордэ». (Шарлотта Кордэ убила революционера Марата.)
Отношение Немировича-Данченко к Стаховичу было сложным. Он говорил, что в вопросах «идейного направления репертуара» нельзя «доверяться Алексею Александровичу, такому убежденному октябристу». В письмах к Стаховичу он не раз отстаивал 38 свои демократические убеждения, «свободный дух». Но в годы мировоззренческого и художественного кризиса далеко не всегда замечал, что общение со Стаховичем заражает буржуазностью, консерватизмом, мешает ему оставаться самим собой. Лишь порой Немировичу-Данченко становилось ясно, что этот оригинальный человек, пожертвовавший блестящей карьерой придворного ради сцены, обаятельный красавец, великолепно изъясняющийся по-французски, — сила косная. Незаметно, может, даже полусознательно, одним своим присутствием в труппе он насаждал рабское чинопочитание правительственных верхов. Злоба Немировича-Данченко против буржуазно-налаженных душ, бунтарские настроения, вызванные войной, сказались и на оценке Стаховича: «Очень уж из тех, против которых и революции поднимаются».
Бунтарские, антибуржуазные настроения ищут выхода в творчестве: вместе с И. М. Москвиным и В. В. Лужским Немирович-Данченко ставит сатирический памфлет М. Е. Салтыкова-Щедрина «Смерть Пазухина».
Империалистическая война показала ему, сколько душевной гнили и дряни в буржуазных кругах, лишенных «истинного, широкого патриотизма».
Спектакли Художественного театра, по его понятиям, должны бодрить тех, кто выносит тяготы и опасности военных лет. Вести с фронта сильно угнетают его, но он, подавляя часто беспокойство и уныние, поддерживает высокую дисциплину, требуя неизменной подтянутости, самоотверженного служения делу. А работа в театре не ладится. Незавершенной остается постановка буддийской легенды Р. Тагора «Король темного покоя». На репетициях не удается найти неиспробованную сценическую форму для драмы А. Блока «Роза и Крест». «Трудно-о-о!..» — заканчивает он письмо к А. Блоку о своих репетиционных муках. Половинчатость, безрезультатность художественных исканий рождают неудовлетворенность, близкую к тоске.
Февральскую революцию Немирович-Данченко, судя по письму к председателю народных представителей, встретил с чувством светлой радости, «святого восторга и благодарного преклонения перед совершившимся». Смысл происшедшего для него заключен в том, что правда одолела ложь. Истинный характер буржуазно-демократической революции ему не ясен: «Великий подвиг Народного Представительства, созидая на Руси царство справедливости, расчищает пути для утверждения высшей духовной красоты, которой мы, скромные художники, призваны служить».
Летом 1917 года он приходит к заключению, что для революционных элементов искусство «радость… более необходимая, чем для буржуазии, для которой искусство уже простая привычка». В то же время он не знает, «во что выльется большевизм», и склоняется еще к революции духовной, этической. «Политическая 39 революция это только разрыв внешних цепей, — читаем мы в его письме к Сергею Рахманинову. — Для высшего освобождения нужна революция духовная».
* * *
Великая Октябрьская социалистическая революция нерасторжимо соединила политические и духовные цели. За ожесточенной, непримиримой борьбой классов Немирович-Данченко не сразу сумел разглядеть гуманное содержание социалистической революции, ее высокую человечность: «Надо сказать правду: когда пришла революция, мы испугались. Это оказалось не так, как представлялось по Шиллеру».
Преследуемая врагами, революция рабочих и крестьян не могла походить на «очаровательные», чистенькие, эффектные революции, изображавшиеся на сценических подмостках. В конце концов Немирович-Данченко это понял. «На первых порах, — рассказывал он в 1938 году, — мы сами не предвидели, как развернутся грандиозные масштабы революции. В наших представлениях о революции преобладали литературные образы. Мы знали о революции по книжкам».
Трудно сейчас отчетливо обозначить все этапы становления новой идеологии художника. Пережитое и передуманное им в 1917 – 1918 годах нашло отклик и отражение в творчестве последующих лет. Так, в 1936 году на репетициях «Любови Яровой», где шла речь об отношении интеллигенции к резолюции, Немирович-Данченко вспоминал свои собственные раздумья и решения. Чувствовалось, что учительница Яровая, уверовавшая в коммунизм, была для него не только действующим лицом драмы Тренева, но и частицей его прошлого. Он великолепно показывал Б. Г. Добронравову, как нужно играть «революционное» фразерство эсера Ярового, потому что сам в 1917 году испытал разочарование в пустословии эсеров.
Режиссерский эскиз роли Паковой был также подсказан множеством воспоминаний, наблюдений: Панова не пикантная дама, флиртующая с юнкерьем, а ядовитый политический враг. Она говорит о гибели цивилизации от лица всей реакционной буржуазной интеллигенции. Панова потому и ненавидит большевиков, что принимает их за варваров, разрушителей культуры. В ее словах — старая версия Мережковского о «грядущем хаме». Впереди у нее — потерянная родина, Париж, кокаин, предательство, опустошенность, возможное самоубийство.
В 1917 году Немировича-Данченко воодушевляла идея всеобщего братства. Поэтому, ставя «Любовь Яровую» — спектакль о революции, — он придал такое огромное значение словам Колосова: «Люди истекут кровью, если ее не остановить любовью». Помогая В. А. Попову в работе над ролью Колосова, он говорил: «Зерно его роли как бы жалость». Немирович-Данченко допускал, 40 что Колосов может быть субъективно добр, нелицемерно жалостлив к людям. Но, постигнув классовую суть революции, режиссер предостерегал: доброта Колосова, жалостливость, желание отстраниться от борьбы несвоевременны и могут стоить немалой народной крови.
Объясняя позднее, на репетициях «Кремлевских курантов», как инженер Забелин пришел к большевикам, Немирович-Данченко снова касался сокровенно личных автобиографических переживаний: Забелин, по его мнению, стал «ближайшим другом социализма» потому, что был влюблен в науку. Забелины не могли оставаться среди колеблющихся, так как просторы для науки, открытые Коммунистической партией, вселяли в них веру в будущее России. Для таких крупных ученых, как Забелин, таких художников, как Станиславский и Немирович-Данченко, русская наука, русское искусство всегда дороги, как дорого Отечество.
Да и могли ли Станиславский и Немирович-Данченко не оценить тех условий политических, общекультурных, материальных, которые революция принесла театру.
Подписанные В. И. Лениным декреты Советского государства о сохранении художественных ценностей и памятников старины, о национализации театров опровергали предсказания о близкой гибели культуры. Театр в молодой республике был приравнен к школам и университетам, обрел значение государственного дела. Коммунисты, с энтузиазмом несшие в театральные коллективы волю и директивы партии, — А. В. Луначарский, Е. К. Малиновская и многие их помощники, — были широко образованы, знали и любили искусство с юности. Они поощряли смелые начинания Немировича-Данченко в МХТ, в Большом театре, в основанной им Музыкальной студии.
Вскоре после исторических Октябрьских дней, в январе 1918 года, перед Немировичем-Данченко уже встал во всей своей важности вопрос: «Что такое Художественный театр? Что должно быть сохранено и что разбито?» Бурный поток жизни стремительно несет его вперед, не считаясь с инерцией достигнутого опыта, нажитых привычек и предубеждений. Желание вырваться из затишья художественных неудач и полуудач предреволюционных лет овладевает им. Он говорит, что сама жизнь проделала колоссальную подготовку к новым исканиям в сценическом искусстве, что революция расширила сердце для больших впечатлений. У него обостряется интерес к форме спектакля. Но это не заслоняет от него главного — обязанностей театра по отношению к революции. Так же как Е. Б. Вахтангов, он живет с ощущением, что «с художника спросится».
В январе 1919 года на собрании труппы Художественного театра Немирович-Данченко признается, что «в его душу постучало суровое и глубокое слово — ответственность».
41 Взяв «курс на современность», он на протяжении нескольких лет, вплоть до 1925 года, убежденно повторяет: пиетет молодых актеров и режиссеров перед традициями МХТ должен помогать, а не мешать созданию новых творений. Обожание прошлого не может затмить настоящее. «Хороший режиссер тот, кто чувствует современность», «в художнике прежде всего самым ценным является современность».
13 января 1919 года, выступая в МХТ по докладу «Искусство наших дней», он сетует на то, что не видит большевиков среди молодежи, не видит тех патетических вожаков, которые могли бы повести за собой. Сам того не замечая, он ведет себя как «патетический вожак», призывая труппу Художественного театра быть внимательной к тому новому, что нахлынуло с революцией: «Я считаю, что сегодняшний день лучше вчерашнего, а завтра — еще лучше, чем сегодня». Ему, как и Станиславскому, Мейерхольду, Вахтангову, хочется взметнуть, а «взметнуть нечем». Современные пьесы были еще в то время редки и литературно несовершенны. Среди них, как свидетельствует А. В. Луначарский, преобладала «революционно-благонамеренная макулатура». Оттого Станиславского увлекает мятежная мистерия Байрона «Каин». О постановке «Каина» мечтает Вахтангов, а Немировича-Данченко тянет то к трагедиям («Прометей» и «Медея»), то к веселой, дерзкой, против войн направленной комедии Аристофана «Лизистрата». Выбор «Лизистраты» он объясняет «потребностью впитать сегодняшний день».
Нужду в пьесе с жизненно важным, революционным содержанием режиссеры тех лет пытались восполнить «революционностью», новизной формы. Наряду с новью подлинной, несомненной распространялись претенциозное, неразумное оригинальничанье, новшества ради новшеств. Апостолы футуристической и эстетской зауми, модной в предреволюционное десятилетие, объявляли себя законодателями пролетарского искусства и на этом основании поносили любую форму реалистического спектакля, станковую реалистическую живопись, даже литературный жанр романа. Все это обзывали буржуазным, консервативным, старорежимным. Поносили и Художественный театр. Известно, что партия и В. И. Ленин развенчали «главарей» пролетарской культуры и мудро направили развитие советского искусства.
Нетерпеливые наскоки, самоуверенные окрики пролеткультовцев и лефовцев вызывали у Станиславского и Немировича-Данченко не одно лишь чувство раздражения и обиды. Нападение требовало обороны, приводило в состояние боевой готовности. Страшнее, чем слыть отсталым, было стать отсталым, «покрыться плесенью покоя и застоя», очутиться среди живых реликвий старины. Надо было жить в движении, вглядываться в новые начинания, отделяя благодатно-творческое, рожденное революцией, от шаманствующего, нигилистического, карьеристского, без права пользующегося именем революции.
42 Восстанавливая старые классические спектакли МХТ («Иванов», «Нахлебник», «Ревизор»), нужные новой, народной аудитории, Немирович-Данченко присматривался к постановкам Вс. Мейерхольда, А. Таирова, С. Эйзенштейна, Евг. Вахтангова. Он проделал серьезную, невидимую другим работу по отбору, анализу впечатлений, различая то, что может обогатить, обновить искусство Художественного театра, от того, что решительно должно быть отвергнуто им. Он, по его слову, вовсе не намерен «с бацу» разрывать со старым ради любой последней новинки.
Даже восторгаясь «Принцессой Турандот» (условным и одновременно интимным общением актеров с театральным залом), Немирович-Данченко сомневается в том, что Третья студия будет «живым организмом, если ока будет ставить 2-го “Турандота”, 3-го “Турандота”». Его беспокоит, что Третья студия после смерти Вахтангова лишь следует «Турандот», варьируя приемы этого спектакля.
Он пишет об этом А. В. Луначарскому: «Вахтангов заявлял категорически, что каждую пьесу надо ставить настолько по-новому, чтоб все подходы были новы, не только форма, но и принципы. Стало быть, если ставить новую пьесу по приемам “Турандота”, поставленного Вахтанговым, — то вот основной принцип и нарушен».
Соглашаясь с Эйзенштейном в том, что тело актера на сцене должно быть гибким, тренированным, «радостным», он в то же время не принимает смесь театра и цирка в его постановке «На всякого мудреца довольно простоты»: «Нужны какие-то грани. Отличная вещь акробатика, нельзя, однако, доводить ее до цирка, до того момента, когда она выходит из плана театра, как такового».
В спектаклях Таирова ему импонируют динамические, изменчивые ритмы, забота о свете и цвете, синтез музыки, драмы, танца. Но его притягивают лишь те новые формы, которые идут от «настоящих чувств».
С нескрываемым пристрастием, но без предвзятости смотрел он спектакли Мейерхольда.
Велика была роль Мейерхольда в создании политического агитационного театра. Но спектакль-плакат был чужд природе режиссерского дарования Немировича-Данченко. В Художественном театре актеры и режиссеры томились по пьесе, которой дождались лишь через пять-шесть лет, — «Дни Турбиных», «Бронепоезд 14-69» и другие.
Не заинтересовали Немировича-Данченко и абстрактно-революционные постановки, где изображался бунт в некоем царстве, некоем государстве («где-то, с кем-то было»). Побывав в Театре революции на представлении пьесы А. Файко «Озеро Люль», поставленной Мейерхольдом, он нашел, что пьеса «не очень-то революционная», скорее кинематографическая мелодрама.
43 В своих спектаклях Мейерхольд по-новому строил и обыгрывал сценическую площадку. Немирович-Данченко, разумеется, понимал значение этих опытов. Они нередко обогащали, подталкивали режиссерскую мысль. Но идущая за Мейерхольдом неискушенная театральная молодежь видела в реконструкции сценической площадки чуть ли не самоцель. Такой подход к форме Немирович-Данченко считал ложным. Он замечал, что режиссеры, подражавшие Мейерхольду, «под прикрытием политических лозунгов и внешней, чисто трюковой выразительности давали пустые, неубедительные спектакли». К тем, кто провозглашал, что конструктивные станки — революционная форма, достойная пролетариата, он относился скептически, ибо помнил, что крэговские объемные кубы и ширмы Станиславский применял в «Гамлете» еще в 1911 году. Немировича-Данченко не эпатировали ни условность мейерхольдовских постановок, ни его спектакли без занавеса, вызывавшие такой шум и разноречия. В практике Художественного театра были и условные спектакли, шедшие в сукнах, почти без декораций («Братья Карамазовы», 1910) и даже спектакли без занавеса («Антигона», 1898).
Немирович-Данченко противопоставлял эстетической программе Вс. Э. Мейерхольда — театру-зрелищу, театру социальной маски — «реализм, живая вода которого единственное волшебное средство, превращающее мертвую театральную маску и неживую голую технику в живой и нужный человечеству театр».
Принципиальная полемика с Мейерхольдом окрашивалась подчас личной отчужденностью. Заведуя театральным отделом Наркомпроса, Мейерхольд не всегда считался с интересами Художественного театра. В 1921 году он опубликовал в «Вестнике театра» две статьи. В одной из них — о спектакле «Дочь Анго» — Немировичу-Данченко предъявлялись необоснованные политические обвинения, а в статье «Одиночество Станиславского» Вс. Мейерхольд и В. Бебутов изображали Немировича-Данченко ограниченным натуралистом, чуть ли не загубившим Станиславского. Несомненные заслуги Немировича-Данченко в преодолении натурализма отрицались.
Немирович-Данченко начал было писать ответ на статьи Мейерхольда в «Вестнике театра», но бросил, смолчал.
В статье «Одиночество Станиславского» Мейерхольд рекомендовал Станиславскому сжечь рукописи «системы», подобно тому как Гоголь сжег вторую часть «Мертвых душ». Именно такое ниспровержение «системы» обрекало Станиславского на одиночество. Между тем Немирович-Данченко, преследуя вульгаризаторов «системы», был ее убежденным защитником и единомышленником. Он знал, что выявлению крупных идей и мыслей, «внутренней сути» авторского замысла препятствует неразвитая актерская техника, что нужны годы труда по ее совершенствованию, а не дебаты о том, что реалистическая школа актерской 44 игры изжила себя. Все это объединяло Немировича-Данченко со Станиславским, и общность эту не могли разрушить возникавшие между ними творческие споры. Они сами сравнивали их с освежающими грозами, после которых легче дышится и живется в искусстве. В 1922 году, напутствуя Станиславского, отбывавшего вместе с Художественным театром на гастроли в Европу и Америку, Немирович-Данченко писал ему: «Ваш путь создания актера — самый новый».
Приходя в Театр РСФСР I на спектакли, поставленные Мейерхольдом, Немирович-Данченко отметал мусор личных обид. В его отзывах и впечатлениях — не накипь многолетних недоразумений, а все та же неутихшая борьба разных художественных верований. Вот, к примеру, его суждения о «Великодушном рогоносце»: «Актер без грима, актер в одной общей прозодежде. Прекрасно. Приемлю». И не приемлет он только то, что ближе к капризной выдумке Мейерхольда, чем к органической, внутренне необходимой и вместе с тем неожиданной режиссерской находке. «Но вот колеса в “Рогоносце”, вращение которых должно убыстрять динамику, темп действия или символизировать некие вершины этого действия, — это уже очень от головы… Сегодня лестницы и круг, а завтра будет что-нибудь другое. Это не главное».
В «Лизистрате» — спектакле Музыкальной студии МХАТ — конструкция художника И. Рабиновича, по существу, не была конструкцией. В отличие от нейтральных геометрических сооружений тех лет, она создавала образ древней Эллады, вводила в события озорной и патетической комедии Аристофана. Когда макет был готов, он поразил Немировича-Данченко сочетанием содержательной конкретности и лаконичной условности. Декорация «замечательная», «пленительная», писал он В. В. Лужскому.
Ослепительно белые античные колонны, белые лестницы, белые площадки на фоне синего горизонта образовывали стройный архитектурный ансамбль. Перед началом второй картины весь архитектурный ансамбль внезапно на глазах у зрителя при открытом занавесе, при ярком, а не приглушенном свете приходил в движение, что было тогда совершенно внове. Приемом этим, найденным в «Лизистрате», стали потом пользоваться другие режиссеры.
Вращаясь, круг сцены открывал неожиданный ракурс декораций. Вращение сцены, так же как и лестница, по которой актеры поднимались из люка, было изобретательно обыграно Вл. И. Немировичем-Данченко и его помощником Л. В. Баратовым. Воины, вернувшиеся наконец после боев, бежали вдоль движущегося круга сцены, отчего их бег казался неудержимым, стремительным. Декорации словно помогали актерам двигаться быстрее.
В другой сцене немощные старики никак не могли догнать 45 молодых женщин, так как им приходилось преодолевать инерцию движения (круг шел старикам навстречу). Это был смешной и неуклюжий, нарочито замедленный бег на месте.
По-иному, чем в своих прежних постановках, Немирович-Данченко пользовался световой аппаратурой. Освещение не имитировало лунный или солнечный свет, а подчинялось законам театральной выразительности.
По-иному строились массовые сцены: монолитный хор, единый в своих желаниях и стремлениях, заменил пеструю, разнохарактерную толпу. Отчеканились кульминации действия. Изображаемое на сцене было не копией, не фотографией, не археологией. Жизненные события преломлялись через воображение, вымысел, фантазию. Во всем — сходство с жизнью и непохожесть на жизнь. Во всем — театр!
Нововведений было много. Лишь одно оставалось непреложным: «Говорить со сцены только правду, но правду не в натуралистической ее сущности, а в красоте яркого обобщения». Постановочные и режиссерские задачи решались самим актером, тренирующим свою внутреннюю и внешнюю технику.
«Но самым замечательным свойством этого спектакля было то, что, при всей смелости его решения, впереди всего шла его тема, патетическая тема жизни, точная в своей политической и социальной направленности. И удивительно, что старейший режиссер русского театра оказался самым молодым в этот молодой период советского театра», — свидетельствовал С. В. Образцов, игравший в «Лизистрате» роль предводителя стариков.
По «Лизистрате» и по оперной постановке «Карменсита и солдат» можно было судить, как сам Немирович-Данченко решает дискуссионные театральные проблемы и как он расценивает искания своих товарищей по режиссерской профессии.
Все, что наполняло его душу благодарностью, что нравилось в других театрах, увлекало, казалось интересным, все претворилось в новом, им сказанном слове. В этом не было подражания, заимствования, влияния. Скорее воздействие… Сильны были эти работы и своей непримиримостью, отрицанием враждебных художественных принципов. «Лизистрата», «Карменсита и солдат» вобрали в себя время, самую атмосферу новаторских исканий первых послереволюционных лет.
Немирович-Данченко ставил оперу Бизе «Кармен» как «трагедию на сюжет Мериме». Трагедия любви и смерти разыгрывалась не среди экзотически оперных испанских пейзажей, а в подвалах и переулках ночного города. Обреченность героев, борьба их с роком, восприятие жизни как опасной игры придавали спектаклю трагический колорит. Любовь была гибельной, смерть — сильнее любви. Хор, подобно хору античной трагедии, неотступно следил за событиями, предостерегая Карменситу и Хозе, соболезнуя им.
Такой замысел потребовал не только нового либретто (оно 46 было написано К. Липскеровым), но и вторжения в музыку Бизе. Чтобы утвердить в опере жанр трагедии, Немирович-Данченко решился на перемонтировку музыкального материала. Так, он упразднил партию Микаэлы, передав ее «голосу из хора» — голосу матери Хозе. Мужской хор первого акта был переделан в сольную партию. Это, как и измененное название оперы — «Карменсита и солдат», вызвало возражения некоторых музыковедов. Но прав был П. А. Марков, писавший: «… взгляд на “Карменситу”, как на большую человеческую драму страстей, уничтожение конфетной, кафешантанной Испании, появление формулы “поющего актера”, решительная борьба с оперными штампами и, наконец, идейное осмысление оперного спектакля, столь неожиданное для оперной сцены, были подлинными заслугами театра».
Именно потому, что «Лизистрата» и «Карменсита» находились на острие споров, диспутов, столкновений, в них — и у нас в стране, и на гастролях в Европе и Америке — увидели не художественную удачу одного театрального коллектива, одного режиссера, а достижения театров Советской России. «Советская Россия идет впереди, всего мира, советское искусство идет тоже впереди других», — отмечала немецкая газета «Сакс арбейтер цейтунг» от 6 ноября 1925 года.
«Американские постановщики могут взять несколько ценных уроков у художественного триумфа Музыкальной студии МХАТ»; «Молодые русские показывают, как сделать оперу жизненной», — признавала американская печать.
* * *
В дни, когда Музыкальная студия МХАТ собиралась на гастроли в Европу и Америку, Немирович-Данченко выпускал в Художественном театре премьеру пьесы К. Тренева «Пугачевщина». Это был важный, ответственный этап в формировании новой идеологии режиссера. На репетициях «Пугачевщины» выявились присущие советской режиссуре определенность, недвусмысленность политических симпатий и антипатий. Ставя «Пугачевщину», нельзя было подходить с равной мерой к правым и виноватым, к восставшим пугачевцам и усмирявшим их карателям. Нельзя было не горевать о расправе с Пугачевым и пугачевским движением. Сама человечность и справедливость взывали к пристрастию. То, что могло показаться тенденциозным, было не чем иным, как самой правдой, «безукоризненной объективностью». Примечательна характеристика, которую дает Немирович-Данченко одному из сподвижников Пугачева: «Чумаков идет один, ищет Чику, полон громадных планов, очень значительный, несет громадный революционный замысел. Зерно — революционер. Желание все собрать, плохое разрушить, взорвать и сделать новое, большое, свободное. Насыщенно-таинственный с громадным огнем. С народом — балагур. Выбирает 47 все, что нужно для его важного дорогого замысла — очень глубоко серьезный, содержательный человек».
Постановка «Пугачевщины» была отмечена поисками новых форм реализма, близких современности. Приемы конструктивного декорационного оформления полемически подчеркивали вражду к натурализму, разрыв с бытописью. Но если архитектурное сооружение в «Лизистрате» воскрешало образ древней Эллады, то условный помост в «Пугачевщине» не давал ощущения степной шири, казацкой вольницы. Условные и жизненно реальные элементы формы не сливались воедино. Подлинная режиссерская новизна была в другом. На репетициях «Пугачевщины», так же как и на репетициях других пьес, Немирович-Данченко доказывал, что Художественному театру необходимо вырваться из «плена Чехова», что нельзя переносить в «Пугачевщину» «чеховские тона»: «В “Пугачевщине” все насыщенно, происходит раз в сто лет, а у Чехова будни. Здесь насыщенность, темпераменты… Все значительно».
Мизансцены, найденные Немировичем-Данченко, передавали значительность происходящего. В первой картине казаки и казачки опускались перед Пугачевым на колени. Их склоненные фигуры выражали надежду и ожидание. А сам он стоял на мостике в высокой шапке, в чекмене с драными рукавами. Один глаз был не то прищурен, не то полузакрыт. Этого бородатого человека станичники принимали за мужицкого царя. Все спины, глаза, головы устремлялись к Пугачеву, а он выхватывал саблю из ножен, взмахивал ею и кричал: «Теперь же, детушки, помогите мне расправиться с моими лиходеями — боярами». «Все готовы. Веди! Как один! Сполох! Сполох! В колокол», — отвечали казаки. И все смешивалось в один сплошной гул: крики, звон набата, говор казаков, призывы Пугачева. Согласно замыслу пьесы, казак Емеля Пугачев, каких много было на Яике, становился вожаком, поднятым на гребень народной волной пугачевщины. Жанр народной трагедии не допускал сусальности: — голубого цвета нет нигде, только густо-серый, — говорил Немирович-Данченко. — … костюмы должны быть рваные, в пыли. Кое-кто из атаманов перевязан. Измучены…
Спектакль был вольнолюбивым, хотя больше, чем картины бунтарские, удавалась И. М. Москвину та сцена, в которой Пугачев был схвачен и брошек в железную клетку. Западал в душу его отрывистый голос, беспокойный, угрюмый взгляд. В бессильной ненависти раскачивал он прутья клетки, сотрясая своды театра страшным стоном.
В «Пугачевщине» наряду с И. М. Москвиным, Л. М. Леонидовым, исполнявшими роль Пугачева, успешно выступила молодая часть труппы — А. К. Тарасова, Н. П. Хмелев, М. Н. Кедров, Н. П. Баталов, Б. Г. Добронравов, М. И. Прудкин. С «Пугачевщины» началось сближение МХАТ с советской литературой.
48 * * *
Пребывание Немировича-Данченко в Америке (1926 – 1927) окончательно сделало его, как говорили в зарубежной печати, большевистски настроенным режиссером. Постоянно возникавшее сравнение двух социальных систем, двух культур было небесполезно. Оно помогло щедрее оценить завоевания революции. Неприятие буржуазной цивилизации было неизбежным результатом мировоззренческих процессов первого послеоктябрьского десятилетия. Ему полюбился американский народ, его непосредственность, жизнерадостность, энергия, но удивление вызывало слепое преклонение американцев перед долларом. «Царь жизни — доллар; все заняты его получением», — писал он Луначарскому из Лос-Анжелоса в апреле 1927 года.
Еще в 1910 году Немировича-Данченко привлек литературный талант Джека Лондона. Естественно, что его заинтересовали проза и драматургия 20-х годов — своеобразная структура пьес О’Нейла, произведения Джона Р. Дос Пассоса и других. Душа его была открыта для восприятия всего прекрасного. Он наслаждался в Нью-Йорке то «изумительным квинтетом негров», то концертом симфонического оркестра под управлением знаменитого дирижера Л. Стоковского.
И все же он замечал, что Америка «еще не нашла своей красоты», что она жадно скупает и коллекционирует духовные ценности. В такую коллекцию попадало непревзойденное искусство Шаляпина, Рахманинова, собранные в нескольких залах музея замечательные картины Рериха.
Приняв приглашение голливудской кинофирмы, семидесятилетний режиссер, воспитавший несколько актерских поколений, начал изучать кинотехнику с самых основ, как это делает начинающий кинооператор. «Когда я приехал, — рассказывал Немирович-Данченко, — я не предъявлял со своей стороны никаких претензий, я приехал учиться, и должен был учиться, но чем больше я там находился, тем более убеждался, какая это трясина».
Более всего недоставало Голливуду художественной атмосферы. Поэтому в Москву из Калифорнии приходили письма, исполненные горечи, протеста, презрения. «На какие-нибудь реформы толкнуть здесь нелегко: на что им? Их хвалят, им платят!» «Моя тоска по Театру, мое состояние без моей родной атмосферы гонит меня отсюда». Ужасало то, что американские дельцы растлевали таланты, вынуждая художников к компромиссу, продажности; травили тех, кто не подчинялся лицемерию буржуазной морали; кто работал до устали, до измору или рыскал по киностудиям в поисках работы. «Все эти россказни о легкости наживы в Америке — сплошная ерунда, — писал Немирович-Данченко Южину. — Люди бьются, буквально, как рыба об лед. Есть имена (я говорю об артистических), зарабатывающие 49 много, но таких имен 20 – 30 на всю Америку. Живут экономно, с большой сдержанностью…».
Даже прославленные «звезды» зависели от банального вкуса самодовольной толпы, то и дело низвергавшей своих кумиров. Так, после участия Лилиан Гиш в психологическом фильме ее успех начал падать. А Немирович-Данченко считал ее одной из лучших артисток Америки: «вдумчива и серьезна», «хрупкость и чистота совершенно исключительная». В условиях риска проходили творческие эксперименты «гения от экрана» — Чаплина.
Немирович-Данченко испытал на самом себе, на судьбе своих сценариев незащищенность художника в мире коммерсантов, карьеристов, циников. Владелец фирмы всесилен, так как он держит в руках всю местную политику, влияет на городские выборы и т. д. «Трудно переносимо это царство спекуляции», — пишет советский режиссер Луначарскому.
Характерны темы сценариев, которые намечает Немирович-Данченко для американского кино: ничтожная цена жизни; стремление к власти — все Наполеоны; неприличная расточительность; зверства, соседствующие с чудесами техники; общая усталость от политики, от кризисов. И — важнейшая социальная проблема — переустройство мира. Вкусы и нравы тогдашнего Голливуда, допускавшие все, вплоть до грубого игнорирования авторских прав, перечеркнули эти замыслы. Для многих они были «умной ненужностью». «Все мое существо так потрясается тяготением домой… И это не только лирика — родной язык и березка, — а во-первых — самая настоящая тоска по искусству: по художеству, по идеологии, по широте мировоззрений, по благородству вкуса, по исканиям, по запросам в самой публике, — ничего подобного здесь, в Холливуде, как атмосферы не существует… Современный русский театр самый передовой в мире. Он шагнул по отношению к другим на десять — двадцать лет вперед».
Вернувшись на Родину в январе 1928 года, Немирович-Данченко спрашивал себя, зачем было ехать в Калифорнию. И отвечал: «Чтобы прийти к сознанию… что нельзя жить без той идеологии, за которой идут театры в Советской России», чтобы удостовериться, что творить можно только в России.
* * *
Многосторонне и зрело проявлялось режиссерское творчество Немировича-Данченко в последнее пятнадцатилетие его жизни. В 1928 – 1943 годах наряду с «Грозой», «Воскресением», «Врагами», «Травиатой», «Анной Карениной», «Тремя сестрами» были созданы спектакли о революции — «Блокада», «Любовь Яровая», «Тихий Дон», «В бурю», «Кремлевские куранты». Эти режиссерские опыты показали всему миру принципиально новые, отличительные черты художественного реализма революционной эпохи.
50 Чем глубже постигал Немирович-Данченко идеи революции, чем ближе узнавал послереволюционное поколение русских людей, тем сильнее тянуло его к постановкам советских пьес и опер.
Один из первых в советском театре он понял, что героика нашего времени требует особых, невиданных форм реализма. Еще до того как возникли теоретические формулы в определения метода социалистического реализма, он, ставя «Блокаду» Вс. Иванова (1928 – 1929), пытался найти непривычно новое сочетание революционного пафоса и жизненно реальной простоты. В спектаклях «Блокада», «Любовь Яровая», «Тихий Дон», «Кремлевские куранты» все коммунисты — от большевика-ленинца Артема в «Блокаде» до самого Ленина в «Кремлевских курантах» — готовы были без фраз и позы отдать жизнь за революцию. Для героев этих пьес подвиг был партийным долгом, партийным делом.
На репетициях Немирович-Данченко устремлялся к мужественному, строгому, поэтическому реализму, к простоте, насыщенной революционно-героическим пафосом эпохи, к синтезу жизненного, театрального и социально-философского. Он ставил горьковские спектакли, в которых острополитическая тенденция становилась не только художественно убедительной, но и жизненно объективной, непреоборимой. Классически совершенную постановку «Врагов» по праву называли манифестом социалистического реализма.
В творческой практике Немировича-Данченко, как и в творчестве других крупнейших режиссеров нашей страны, раскрывалось живое, конкретное содержание искусства социалистического реализма. Борьба за социалистический реализм велась им решительно и последовательно. Ни обветшалые формы трескучей театральной романтики, ни штампы измельченного реализма, ни эклектическая мешанина того и другого не отвечали его представлениям о современном спектакле. «Так же как под громкими словами “правда”, “жизненность” мещанская идеология протаскивает на сцену грубую фотографию и дешевую сценическую сноровку, — так под словами “поэзия”, “идеалы”, “всечеловеческое” маскируется красивая болтовня», — писал он актеру староромантической школы Н. П. Россову в сентябре 1934 года.
Он вступал в полемику с режиссерами, которые выдавали за социалистический реализм рецидивы старого театрального романтизма, и предсказывал, что недалеко то время, когда и слово это «романтизм» исчезнет из театрального лексикона. Огорчала его и путаница в театральной теории — те статьи, что поощряли и одобряли внешне эффектные, фальшивые спектакли. Он не допускал мысли, что советский театр может поступиться художественной простотой, в которой заключено своеобразное очарование, сила, красота русского национального искусства.
51 Но простота тусклая, не одухотворенная чувством и мыслью, была для него столь же ненавистна, сколь и внешняя аффектация, бездушное «представляльчество».
От измельченного реализма, от нарочитой помпезности так называемых романтических спектаклей он звал к большим задачам социалистического искусства. Об этом свидетельствуют приведенные в последнем разделе «Летописи» статьи, выступления, беседы с молодежью, и прежде всего записи репетиций «Кремлевских курантов», в которых виден, обычно невидимый зрителю, вдумчивый, беспокойный, всеобъемлющий труд режиссера.
На репетиции «Кремлевских курантов» актер, исполнявший роль крестьянина, спросил Немировича-Данченко: «А не будет ли пафосом то, как я говорю: “Я знаю, как для Ленина в колокол вдарить!”». И Немирович-Данченко ему ответил: «Я и хочу на пафосе. Но пафос пятидесятилетнего человека, а не пафос молодого актера». В самом отношении крестьян к Ленину был пафос, и новое содержание этого пафоса, как и новое его сценическое выражение, подсказанное самой жизнью, временем, важно было донести до зрительного зала. Немирович-Данченко хотел, чтобы у А. Н. Грибова, репетировавшего роль В. И. Ленина, была не только обаятельная простота, мягкость, интеллигентность, жизненность, юмор, но и молниеносность гениальной ленинской мысли. Должен быть вождь гневный, человечный в своем гневе, а не добренько-сентиментальный. С улыбкой мир не сдвинешь, не перестроишь.
Немирович-Данченко сам на репетициях поднимался на сцену и показывал, что такое пафос в роли Ленина, чем «идеологический подъем» отличается от старого лживого, ходульного актерского пафоса. Жизненность, правда, простота в его исполнении были объяты великой идеей. Все следившие за ходом репетиции забывали, что на сцене стоит восьмидесятитрехлетний режиссер, и отдавались во власть темперамента, воли Ленина — Ленина политического трибуна.
«В стремлении помочь Грибову создать [образ] Ленина во мне волновались самые лучшие, самые возвышенные частицы моей сущности», — писал позднее Немирович-Данченко. Однажды, репетируя встречу Ленина с трамвайными рабочими, Грибов произнес слова Ленина «я никогда не ухожу от рабочего класса» как декларацию. От этого сразу исчезло ощущение жизненного разговора. Немирович-Данченко предложил другой подтекст: «Я всегда готов поговорить с вами» [с рабочими. — Л. Ф.]. Это было сказано просто, но означало, что Ленин с рабочим классом, для рабочего класса.
Немирович-Данченко полагал важным, чтобы не только актеры, но и художник-декоратор различал пафос «вообще» и пафос, заключенный в мужественной простоте. Характерно, что из 52 двух приготовленных декораций для пятой картины «Кремлевских курантов» он выбрал не мост, эффектно перекинутый через все пространство сцены, а кремлевскую стену, строгую, суровую. Пейзаж Москвы и Кремля за мостом был написан В. В. Дмитриевым великолепно: торжественно, красочно, поэтично. В древней стене художник нашел иную поэзию — сдержанную, глубокую. В ее суровости чувствовалось героическое напряжение, в котором постоянно жила молодая республика. Сидя поздней ночью на скамейке у кремлевской стены, В. И. Ленин мечтал об электрификации России.
Когда Немирович-Данченко взялся за выпуск спектакля, стало заметно, что сделанное за год актерами, режиссерами, художником, во многом талантливое, интересное, еще разбросано, разрозненно, не объединено целостностью замысла, не слито с существом пьесы. Договорившись с Н. Ф. Погодиным, Л. М. Леонидовым, М. О. Кнебель, Немирович-Данченко переменил порядок картин. Спектакль начинался не с «Опушки леса» и «Избы», а прямо с третьей картины — «У Иверских ворот», чтобы сразу была видна не деревня, а Москва первых лет революции. Чтобы в плакате со словами Маяковского: «Кто там шагает правой?» — в отряде красноармейцев были явные приметы времени.
Коррективы были внесены в сцену «Изба», в диалог трамвайных рабочих с Лениным, в диалог Ленина с английским писателем и т. д.
Пересматривались также дуэтные сцены Маши с Рыбаковым, Забелина с Забелиной. Немирович-Данченко репетировал так, чтобы в лирико-героическую мелодию пьесы вплетался юмор, столь свойственный драматургии Погодина.
Ломка, совершаемая Немировичем-Данченко на репетициях во имя «большой сквозной идеи», коснулась также декоративного решения интерьеров. Интерьер кабинета Забелина был исполнен с обычным для художника Дмитриева мастерством композиции и сам по себе заслуживал только похвалы и одобрения. Но все детали характеризовали обстановку обывателя, спасающегося от разрухи, тогда как Немирович-Данченко в соответствии с замыслом Погодина ставил спектакль не о судьбе обывателя, а о крупном ученом, о том, как Ленин сломил его саботаж, увлек громадностью планов. Квартира Забелина, в недавнем прошлом буржуазная, обжитая, ныне была захламлена, загромождена. 1920 год, гражданская война, разорение. На первом плане выпячивалась высокая черная жестяная печка-времянка. Дмитриев поставил времянку так, что сразу обнаруживалось чужеродное происхождение сего полезного, но весьма нескладного предмета. На полу, окнах, на письменном столе валялись мешки, кульки, утварь. А зритель, по мнению Немировича-Данченко, должен сразу увидеть совсем другое: как бы время не исказило кабинет Забелина, это все же кабинет ученого. Всю жизнь он строил мосты, электростанции. Теперь, 53 бросая вызов Советской власти, торгует у Иверских ворот спичками. Что удивительного и драматичного в том, что спичками торгует обыватель?
В итоге возник новый вариант декораций кабинета Забелина, передающий самую суть пьесы.
Немирович-Данченко звал от быта к эпохе и идее, от быта к социально-философским, поэтическим раздумьям. Как и на репетициях «Врагов», «Анны Карениной», «Трех сестер», он всегда помнил о главном, о «внутренней сути», о «зерне» М. М. Тарханов, проходивший с Немировичем-Данченко роль генерала Печенегова во «Врагах», писал о его режиссерском методе: «Приходит такая сила, которая ведет меня к тому художественному образу, облик и черты которого вытекают из художественных и политических задач спектакля. Без особого труда я ухожу от ранее намеченного образа к более внутренне необходимому, во имя полного звучания всего ансамбля». То же повторилось на репетициях «Кремлевских курантов». Немирович-Данченко, поощряя находки Тарханова в роли Забели-ка, любуясь счастливо угаданными, неожиданными (следовательно, хорошо выношенными) черточками и деталями, отвергал даже талантливо найденное, если оно не устремлялось в сердце и мозг спектакля, в его идейный центр.
Никто из присутствующих на репетиции не мог представить себе, что сцену, в которой Забелин возвращается домой после посещения Кремля, можно сыграть хоть немного лучше, чем сыграл Тарханов. Репетировал он необычайно трепетно. Сквозь драматизм экстравагантной бравады Забелина пробивалось забытое, похороненное чувство любви к жизни. Давно не испытанное, оно прорывало недавнюю депрессию.
В первой картине, демонстративно торгуя спичками, ученый-энергетик Забелин иронически именовал себя Прометеем, раздающим огонь. В Кремле ему и впрямь предложили нести людям электрический огонь — строить электростанции.
Дома Забелин в волнении ходил по кабинету, что-то тихо напевая, подходил к зеркалу, печально разглядывал свою седину и говорил: «Неужели жизнь прошла». Й здесь искренность прогорклой тархановской печали застлала все. Никто больше не думал о пьесе, о кремлевских курантах, об электрификации. Эта минуты актерского творчества были прекрасны. Но режиссер вынужден был поступиться ими, дабы вернуть Тарханова в пьесу.
Помнится, Немирович-Данченко начал с частности. Он не одобрил того, что Забелин рассматривал себя в зеркале.
— Вы играете великолепно, — сказал он Тарханову, — но это у Вас постороннее. Все сквозное действие летит в сторону.
Тарханов не уступал:
54 — Я Вам правду скажу, мне жаль с этой краской расстаться.
— Вы — актер импрессионистический, — возражал Немирович-Данченко, — бац, краска здесь, бац, краска здесь. Вы упускаете из виду общий рисунок роли. Ну, если уж Вам так хочется, подходите к стеклам книжного шкафа, ищите там свое отражение. Откуда в кабинете ученого, инженера взялось зеркало?
Речь как будто шла лишь о зеркале, о перемене приспособления. Но это был временный, хитро рассчитанный педагогический прием.
На другой день Немирович-Данченко беседовал с Тархановым с глазу на глаз. После этой интимной репетиции, потребовавшей от режиссера огромного такта, чуткости, умения убеждать, Тарханов не подходил уже ни к зеркалу, ни к стеклам книжного шкафа. В его исполнении преобладали не посторонние, трогательные мотивы старости, отжитости, а тема — «гожусь ли я по нынешним временам». Не разлад Забелина, а мобилизация душевных сил, не гамлетовское «быть или не быть», а Прометеево начало. Сомнения отступали перед гением большевиков, объемом их идей. Перелом в Забелине еще не свершился, но свершался. Мотивировка перелома выявлялась самой пьесой. Каждая минута в игре Тарханова стала целеустремленной, проникнутой «общим чувством» пьесы и спектакля.
На репетициях, вспоминал А. Н. Грибов, Немирович-Данченко анализировал исполнение роли В. И. Ленина, «как разбирают сложный механизм, чтобы его наладить: это шестерня, а вон колесики, а там — винт, а здесь — стержень. А потом — все собрал. Вот это и есть режиссура!»
Немирович-Данченко не довольствовался одним анализом, а «заражал» актера своими нервами, темпераментом, своим видением образа Ленина. Он прибегал ко всем испытанным и неиспытанным педагогическим приемам, чтобы актер, идя «от себя», от своей индивидуальности, приходил к образу, воссозданному драматургом.
Вспоминается одна репетиция, весьма характерная для режиссерско-педагогических приемов Владимира Ивановича. Прежде чем начать репетицию с Грибовым, он на самом себе выверял внутреннюю линию сцены в кремлевском кабинете Ленина. Садился за письменный стол. По пьесе — впереди у Ленина ночь напряженной работы. Уловить самочувствие бессонной ночи, передать сосредоточенность и полет мыслей Ленина режиссеру нелегко. Он начинает писать, потом отрывается от листов, думает, берет с полки какие-то книги, находит в них нужные страницы, снова пишет, останавливается, затем опять продолжает…
При повторении репетирует уже А. Н. Грибов, а Немирович-Данченко переходит в зрительный зал. Необходимо установить 55 освещение в кабинете Ленина. Устанавливают целых три часа. С той «религией художественной добросовестности» (выражение А. В. Луначарского), которую исповедовали основатели МХАТ. Пробуют разные варианты. Особенно долго возятся с финалом картины. С помощью постепенно убывающего, локального освещения хотят вычертить силуэт Ленина, склоненного над рукописью. Чтобы сцена наполнилась воздухом ночи, особой тишиной предрассветных часов, точно рассчитывают все оттенки света. Высвечивают лицо, лоб Ленина, наклон его головы.
Подле Немировича-Данченко кто-то шепнул: «Бедный актер — три часа томится в гриме». Немирович-Данченко обернулся: — Зато это поможет Грибову вжиться в роль. Он будет не позировать, не копировать фотографии Ленина, не наигрывать гениальничанье и вдохновенную озаренность, а чувствовать величие мыслей Ленина. Пока мы поисками света занимаемся, пусть привыкает к кабинету Ленина, привыкает работать за его письменным столом. Без нас Алексей Николаевич три часа в гриме сидеть не стал бы. А сейчас у него есть время жизненный груз, «второй план» роли в эту сцену принести; физическое самочувствие ночи без сна передать; внутренними монологами заполнить молчание и паузы, — есть полная возможность проверить все звенья сценического мастерства, без которого актер, что солдат без оружия.
Так талантливый педагог, режиссер-идеолог умел любую репетицию подчинять насущным требованиям советского искусства.
* * *
«Кремлевские куранты» — одна из последних режиссерских работ Немировича-Данченко.
Жизнь его была долгой, большой, но и ее не хватило на то, чтобы осуществить все замыслы, планы, начинания.
Незаконченной осталась постановка «Пиковой дамы» Чайковского, неосуществленным — цикл шекспировских спектаклей — «Гамлет», «Король Лир», «Антоний и Клеопатра».
Немирович-Данченко уже погружался в «океан скорби» Гамлета, вел репетиции с актерами, ночами обдумывал макет декораций к «Гамлету», сделанный В. В. Дмитриевым…
В режиссерских заметках к «Королю Лиру» называл Лира «рабом лести». «Правитель, не разбирающийся в лести, на каждом шагу может оказаться несправедливым и нести за это кару», — писал он, подчеркивая политический, а не только морально-этический характер будущего шекспировского спектакля.
Особенно поглощала его мысль о постановке «Антония и Клеопатры». Уже в фантазии мерещилось сражение двух миров — Рима и Египта, плен любви, в который попали Антоний и женщина, о какой будут говорить две тысячи лет. «Две стихии вступают в нем самом [в Антонии] в борьбу, в конфликт, в столкновение: мужчина и гражданин. Охваченный страстью 56 к женщине уже “на повороте наших лет” и в то же время призванный и призываемый к исполнению высшего своего долга гражданского», — так излагал Немирович-Данченко свой замысел.
Болезнь и вскоре пришедшая смерть помешали этим режиссерским намерениям. А в них была заключена мина, которая могла подорвать как постылую фальшивую романтику, так и приниженно-бытовой подход к Шекспиру. «Пришло время к Шекспиру подойти нам, стремящимся к психологическому вскрытию, — говорил Немирович-Данченко, приступая к репетициям “Гамлета”. — Но мы должны быть насыщены той страстностью, с какой писал Шекспир. И тогда Шекспир покажется для нашего поколения новым». О том, что такое трагедия страстей, шла речь и в беседе Немировича-Данченко о «Пиковой даме» Чайковского: «Не играть страстей, не представлять их, а ими жить!»
30 марта 1943 года после беседы о «Пиковой даме» в Музыкальном театре он слушал вечером «Пиковую даму» в Большом театре. Слушал с напряженным вниманием, смотрел на сцену, но видел там уже не то, что видели все, а контуры своего, чуждого оперной пышности спектакля — Петербург, гранит, памятники, белые ночи и драматический эпизод обыкновенных людей, до одержимости охваченных страстями…
Репетируя «Последнюю жертву» А. Н. Островского, «Последние дни» М. А. Булгакова, он вздымал мысль к высотам вдохновения. Казалось, ничто еще не предвещало близкого прощания с жизнью. Как-то незадолго до смерти, на репетиции «Пиковой дамы», слушая музыку Чайковского в финале картины «У графини», тихо сказал: — Умру — я бы хотел, чтобы эти два-три такта сыграли. Самый настоящий фюнебр — похоронное, погребальное. … И снова принимался за работу — искусство стареть не смеет!
* * *
Немирович-Данченко ограждал театр от порчи, от легких дорог без риска и жертв, от суетной моды и прозаической самоуспокоенности. «Когда дух поэзии отлетает от кулис, от администрации, от выходов на сцену, отлетит и от спектакля», — заявлял он, требуя, чтобы пресекалось все, что мешает Художественному театру создавать спектакли, достойные его славы.
Понятие мастерства для него было неотделимо от чистоты, устойчивости, последовательности эстетических принципов. Театр в целом и все работающие в нем твердо должны знать, чего они хотят и что отрицают. Уходя из жизни, он посвятил Музыкальному театру свою рукопись «Лицо нашего театра» — прекрасный свод творческих заветов и предостережений.
Человек, годами воспитывавший в людях сцены сознание 57 творческого и трудового долга, более всего дорожил этикой советского актера и режиссера.
В письме к своему ученику, оперному режиссеру П. С. Златогорову он напоминал, что нравственное право «владеть душами людей, преданных искусству», завоевывается непрестанным духовным самоусовершенствованием.
Первая глава в книге, которую он оставил в черновиках и набросках, не случайно называлась «Личность актера». По его убеждению, лишь хороший гражданин и чистый человек, чуждый мещанству и обывательщине, имеет право называться советским артистом. Такой артист смело идет навстречу возвышенным мыслям и чувствам: даже так называемые громкие слова будут правдой, если верить в них искренне…
На сцене нельзя об огромном, общественно важном, торжественном говорить так же, как о пустяках и мелочах. Нужно по-прежнему ценить простоту, презирать безвкусную театральщину, литературщину, но не уподоблять образный язык литературы затрапезному житейскому говору. Боязнь красивости не должна убивать красоту! Не бояться пафоса, патетики, поэтического подъема!
Немирович-Данченко ратовал за сближение скульпторов и композиторов, живописцев и актеров, литераторов и режиссеров, в чьих произведениях отражается творческая мощь страны.
Его увлекали не только успехи социалистической культуры, а все дело социализма. В своей государственной и общественной деятельности он был неутомим. Выступая с речью на заседании Президиума ЦИК СССР, обращаясь по радио к народу — к «саперам великого строительства», встречаясь с рабочими — героями труда, беседуя с писателями, композиторами, режиссерами периферии, он говорил о «подвижнических буднях» нашего прекрасного Советского Союза.
Творческие открытия были для него высшей человеческой радостью. Неистощимый интерес к жизни своего народа, умение слушать пульс современности — непременным условием творчества. Он советовал В. В. Дмитриеву пересмотреть уже принятые этюды и макеты декораций «Половчанских садов», забыть о невольно вспомнившихся «Оливковых деревьях» Ван-Гога. (Сад на холсте Ван-Гога далек половчанским садам, олицетворяющим Родину, социализм. Тревога и смятение пейзажа Ван-Гога чужды светлой, мажорной драме Л. Леонова.) На новом эскизе В. В. Дмитриева появился освещенный солнцем совхозный сад, раскинувшийся на сотни гектаров. Ровно насаженные ряды рыжевато-коричневых яблонь, отягощенных спелыми плодами. Образ советской земли, украшенной трудом советского человека.
Достижения прогрессивного театра XX века связаны с новаторскими преобразованиями Немировича-Данченко. Искусство, лишенное идейности, он считал чем-то бессмысленным, пошлым, ненужным, а главное — бессовестным. Зарубежные коллеги, чурающиеся 58 политики, казались ему опасно ограниченными чудаками. Человек доброй совести, он ненавидел фашизм, фашистов; не понимал людей, уклоняющихся от борьбы за счастье и мир на земле.
Идейные и эстетические принципы выдающегося режиссера эпохи социализма отстаивают и защищают теперь многочисленные его ученики, продолжатели, последователи. К нему и поныне, как к живому союзнику и единомышленнику, обращаются те, кто отличает форму оригинальную, талантливую от претенциозного оригинальничанья.
Годы не охладили интереса к его художественным исканиям. Они будут всегда дороги тем, кто трудится во славу советского искусства сегодня, тем, кто придет завтра.
Л. Фрейдкина
59 ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
ВЛ. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО
1858 – 1943
60 Все даты летописи (до 1 февраля 1918 г.) приводятся по старому стилю.
Некоторые даты устанавливаются предположительно, по совокупности фактических данных и по сопоставлению с другими документами.
При упоминании документов указываются места их хранения, за исключением режиссерских планов, дневников, стенограмм репетиций, записных тетрадей и записных книжек Немировича-Данченко, находящихся в его архиве (Музей МХАТ).
Названия некоторые архивов даются в сокращениях:
Архив А. М. Горького — Архив Горького. Институт мировой литературы имени А. М. Горького.
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.
Архив Н-Д — Архив Немировича-Данченко. Музей МХАТ.
Архив К. С. — Архив Станиславского. Музей МХАТ.
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина — Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина6*.
Выходные данные печатных источников сообщаются при первом упоминании.
Все материалы летописи печатаются по новой орфографии. Сохраняются лишь особенности пунктуации Немировича-Данченко, имеющие стилистическое значение.
Опущенные при публикации куски текста обозначаются многоточием.
В квадратные скобки взяты пропущенные слова и слова, поясняющие текст публикуемого документа.
61 1858 – 1877
Рождение Вл. И. Немировича-Данченко. Семья.
Смерть отца. Тифлисская гимназия. Увлечение Гоголем. Чтение журнала
«Современник». Влияние беллетристики и критики 60-х годов. Дружба с
А. И. Южиным. Первые литературные опыты. Начало увлечения театром.
Участие в любительских кружках. Посещение итальянской оперы. Московский
университет. На спектаклях Малого театра. Московский Артистический кружок. Роль
Жадова в «Доходном месте». Начало журналистской работы. Рецензия о комедии
А. Н. Островского «Последняя жертва»
1858
Декабрь 11
Владимир Иванович Немирович-Данченко родился в маленьком грузинском городке Озургеты, близ Поти. Отец его, Иван Васильевич Немирович-Данченко, — украинец, военный. Мать, Александра Каспаровна Ягубова, — армянка, уроженка Кавказа. Старший брат Василий — известный писатель; брат Иван — актер (псевдоним Мирский); сестра Варвара — актриса, игравшая в Киевском русском драматическом театре Н. Н. Соловцова.
1859
Вместе со всей семьей переезжает в имение отца — Стародуб, Черниговской губернии.
1863
Смерть отца. «Отец мой, брат Иван и слуга Николка были в бане и все трое там угорели. И когда спохватились, то отец был мертв, а Иван и Николка были в обмороке… И у меня осталась в памяти картина лежащего на диване отца, на другом диване — брата Ивана, который еще не пришел в себя, и на кресле между ними — мать, плачущая и кормящая в это время самого младшего сына, Михаила». (Рукопись. Архив Вл. И. Немировича-Данченко. Музей МХАТ, № хранения 7253)7*.
62 Переезжает с матерью в Белый Ключ (возле Тифлиса), а затем в Тифлис. «Рос я в Тифлисе… жил сравнительно очень небогато. В моем распоряжении был только угол в комнате с большим окном». («Автобиография». См. Приложения к книге Вл. И. Немирович-Данченко, Избранные письма, «Искусство», 1954, стр. 468)8*.
1867 – 1868
Начало увлечения театром. «Я живу около театра с 10-летнего возраста. Когда я был во втором классе, мы, т. е. я и моя мать, жили на квартире, как раз против сада, в котором строился тифлисский летний театр… Я все свои интересы и игры сосредоточил среди стропил, балок и мусора, окружавших строившийся театр. Я наполнял маленькую квартиру матери разговорами о театре». (Из письма к С. В. Флерову-Васильеву от 24 июня 1899 г. Там же, стр. 152).
«Я хорошо помню, что начал увлекаться театром и литературой с 9 лет. Я помню все театральные представления, виденные мною в этом возрасте, помню книги, которые тогда чуть не выучивал наизусть. Преимущественно увлекали меня драматические произведения. Я не мог равнодушно видеть диалога — Пушкин в драматической форме, “Маскарад” Лермонтова, Островский в первой части своей деятельности и “Гамлет” — эти вещи я хорошо знал уже в раннем детстве», («Автобиография», Там же, стр. 467 – 468).
1868
Много читает. О рассказе Тургенева «Муму» потом вспоминал: «Когда уже в зрелом возрасте я перечитывал этот рассказ, я не мог хорошо понять, почему он произвел такое потрясающее впечатление на меня, 10-летнего мальчика». (Черновой автограф от 5 сентября 1933 г. Архив Н-Д, № 7322).
1869 – 1870
Начинается дружба с Сашей Сумбатовым (позднее артист и драматург А. И. Южин-Сумбатов).
«Ни с одним из товарищей, кроме Вл. И. Немировича, я не сошелся — и не жалею». (А. И. Южин-Сумбатов, Записи, статьи, письма, «Искусство», М., 1951, стр. 46).
63 Первый театр Володи Данченко — карточный театр на подоконнике: «Карточные короли, дамы и валеты, загнутые там, где помещается их одна голова и с проволокой над другой, — ходили по моей сцене и изображали героев всевозможных пьес, какие я только видел, читал или просто о которых слыхал… Я клал перед собой школу нот, оставшуюся в доме от первых уроков сестры, стучал палочкой и, дирижируя и играя сам, как делают дирижеры маленьких оркестров, распевал увертюры и вальсы… давал звонки, поднимал занавес и играл. … Особенно часто играли у меня мои короли, дамы и валеты “Пир во время чумы”, “Каменного гостя” и пьесы Гоголя и Островского». (Из письма к С. В. Флерову-Васильеву от 24 июня 1899 г. Избранные письма, стр. 152).
Читает статьи об актерах Малого театра. «За 2 тыс[ячи] верст от столицы я знал уже Садовского, Шумского, Федотову и т. д.». («Автобиография». Там же, стр. 468).
1871
Лето
Предоставленный самому себе, попадает под влияние улицы. «Играл в орлянку и “кочи” (бараньи косточки). … Театр свой на подоконнике забросил и в этот единственный год плохо учился. После пятерок перешел на сплошные тройки.
… И потом как-то сразу все переменилось. И квартиру мы переменили, отстали от меня и уличные приятели. В течение лета, в знойную жару ко мне ежедневно приходил товарищ… чтобы нагнать пропущенное, приходил издалека, с Авлабара — милый Перешивалов. А вскоре я уже получил и урок, ходил учить мальчика за 15 рублей в месяц». (Рукопись. «Первые театральные воспоминания». Архив Н-Д, № 7256).
Осень
Первый самостоятельный заработок. Дает уроки гимназистам младших классов. «Я с 13 лет зарабатывал каждый день своего существования и оставался независим». (Из письма к К. С. Станиславскому от 7 ноября 1914 г. Там же, № 1693).
1871 – 1872
В четвертом классе гимназии сочиняет драму в пяти действиях «из французской жизни» «Бедняк Ноэль Ромбер», водевиль «Свадебная прическа» и пьесу с куплетами.
64 1873
«Издает» классный литературный журнал «Товарищ» и пишет для него историческую повесть. Привлекает к участию самых способных и серьезных учеников. Один из них переводит для журнала отрывок из поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре» («Барсова шкура»). Между классным журналом Данченко и классным журналом Сумбатова разгорается дискуссия на литературные темы.
«В гимназических спорах о Тургеневе и Гоголе он всегда горячо ратовал “за Гоголя”, хоть и увлекался вместе с товарищами тургеневскими “Записками охотника”, романом “Отцы и дети”». (В. Я. Виленкин, Вл. И. Немирович-Данченко, издание Музыкального театра имени народного артиста СССР Вл. И. Немировича-Данченко, 1941, стр. 13).
«Наш журнал просуществовал недолго. Вышло что-то 7 или 8 номеров. … О нем прослышал наш учитель русской словесности… Он посвятил журналу один из своих классов и не только жестоко и беспощадно высмеял нас, но и запретил заниматься этими “глупостями”. Это был очень грубый и нечуткий человек, не любивший и даже вряд ли понимавший свой ответственный предмет. … Большинство [из] нас были в близких отношениях с другим преподавателем русской словесности, неким Горяевым9* — человеком, оставившим во мне самые теплые воспоминания гимназического возраста». («Автобиография». Избранные письма, стр. 469).
1874
Ходит с матерью слушать оперы Беллини, Доницетти, Россини, Моцарта. Бывает на фортепианных и симфонических концертах: «Впечатление приятной, заволакивающей грусти… От самой сущности музыкальной стихии, ее лирических волн». (Вл. И. Немирович-Данченко, «Первые театральные воспоминания», «Новый мир», 1943, № 1).
Лето
Как учитель-репетитор входит в семью известного режиссера А. А. Яблочкина. Часто встречает в доме Яблочкина актера Малого театра О. А. Правдина. «Дом, наполненный актерскими волнениями, закулисными словами… Это взращивало тягу к театру». (Вл. И. Немирович-Данченко, «Воспоминания о первых театральных впечатлениях». Черновой набросок. Архив Н-Д, № 7255).
Получает доступ за кулисы. «Помню, я однажды присутствовал на его [Яблочкина] репетиции. Была такая драма — 65 “Испорченная жизнь” Чернышева. Главную роль играл молодой актер Журин… Врезалось мне в память, как Яблочкин заставлял Журина повторять главную сцену множество раз, да во весь голос и всеми нервами, — сцену-монолог, — то заражая Журина своей энергией, то объясняя ему психологическое содержание, то просто показывая по-актерски. Такая режиссура была тогда новостью, во всяком случае, явлением необычным». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, «Искусство», 1952, стр. 367).
Участвует в любительском спектакле в качестве помощника режиссера.
Осень – зима
Встречается с братом Василием Ивановичем Немировичем-Данченко, когда тот после выхода в свет его романа «Соловки» («Вестник Европы», август — сентябрь 1874 г.) приезжает в Тифлис. «Я, мой другой брат (умерший) и сестра расстались с Василием, когда мы были совсем маленькими». («Автобиография». Избранные письма, стр. 467).
1874 – 1875
Читает Белинского, Чернышевского, Писарева, журнал «Современник», найденный в библиотеке отца. «Мы с тобой развивались под влиянием беллетристов и особливо критиков 60-х годов». (Из письма Вл. И. Немировича-Данченко к А. И. Южину-Сумбатову от 27 августа 1891 г. Там же, стр. 61 – 62).
1875
Вместе с Сашей Сумбатовым играет в любительском спектакле «Мастерская русского живописца» В. А. Соллогуба и «Девушка себе на уме» П. И. Григорьева.
Живет в бедности, так как с трудом достает уроки.
1876
Зима
Учится в восьмом классе гимназии, по вечерам дает уроки в младших классах.
«Между гимназией и жизнью лежала какая-то пропасть». (Вл. И. Немирович-Данченко, «Обещанные воспоминания о первой классической Тифлисской гимназии». Архив Н-Д, № 7274).
66 Весна – лето
На выпускном экзамене пишет сочинение «Пушкин и Гоголь».
По случаю окончания гимназии едет с товарищами в Гори на «большой день веселья». (Там же).
«Нас, выпускников гимназии, как-то совсем почти не коснулась волна политических движений. Помню еще только, что один из воспитанников реального училища… принес мне однажды небольшую толстую книгу и сказал, что я непременно должен с ней познакомиться. Это было первое издание “Капитала” Маркса на русском языке». (Вл. И. Немирович-Данченко, «Сценическая юность», «Заря Востока» от 18 декабря 1941 г.).
Август
Приезжает в Москву.
Август 26
Подает прошение на имя ректора Московского университета: «Окончив курс наук в Тифлисской гимназии, прошу Ваше превосходительство о разрешении зачислить меня в число студентов физико-математического факультета вверенного Вам университета. Владимир Немирович-Данченко». (Журнал «Советское студенчество», 1941, № 2).
Осень
Учится на физико-математическом факультете Московского университета. Становится восторженным посетителем галерки Малого театра. Находится под впечатлением игры Г. Н. Федотовой. «Когда я увидел Федотову в первый раз в 1876 году в “Мертвой петле” Николая Потехина, я как бы сразу влюбился». (Вл. И. Немирович-Данченко, предисловие к книге Георга Гояна «Гликерия Федотова», «Искусство», М.-Л., 1940, стр. 7).
1877
Зима
Посещает занятия физико-математического и юридического факультетов. (Проходит два курса юридического факультета.)
Встречает И. С. Тургенева на заседании Общества любителей российской словесности.
Июль
Приезжает на каникулы в Тифлис. В «жаркие ночи тифлисского лета» рассказывает Александру Сумбатову о Малом театре, его актерах и спектаклях. «В противоположность 67 мне [Немирович] отличался необыкновенно сильно обостренным критическим задором». (А. И. Южин-Сумбатов, Записи, статьи, письма, стр. 35).
Август
В Тифлисе играет в пьесе Н. И. Чернявского «Гражданский брак», поставленной любительским кружкам, роль младшего Новосильцева. Играет также в драме И. В. Самарина «Перемелется — мука будет» (Ганю) и в комедии В. А. Дьяченко «Современная барышня».
Радость первого сценического успеха в драме И. Е. Чернышева «Испорченная жизнь». Актер Л. И. Градов-Соколов уговаривает Немировича-Данченко идти на профессиональную сцену.
Осень
Учится на втором курсе университета. Принимает участие в спектаклях московского Артистического кружка. Играет Жадова в «Доходном месте».
Октябрь 1
Начало журналистской работы. Первая статья в «Русской газете» (№ 61): «Наши провинциальные театры. (Упадок драматического искусства. — Несостоятельность столичных трупп. — Таланты в провинции. Зависимость провинциальных актеров от антрепренеров. — Выход из этой зависимости посредством “société des artistes”10*. — Труппа харьковская, орловская, виленская, киевская, société в Тифлисе и труппа ростовская)». «Драматическое искусство до сих пор облекается в столице в канцелярскую одежду… Большая часть актеров… почувствовала то зло, которое приносит им служба у антрепренера. Под ярмом антрепренеров актеры… должны играть всякую дребедень». (Подпись — Вл. Н-Д).
Ноябрь 8
Был в Малом театре на первом представлении новой комедии А. Н. Островского «Последняя жертва».
Ноябрь 12
В «Русской газете» (№ 89) напечатана рецензия Вл. И. Немировича-Данченко «Последняя жертва»11* (без подписи).
68 1878 – 1887
Студент Московского университета. Статья о
«Бесприданнице» — защита идейной русской драматургии. Осуждение эпигонских
пьес В. Крылова, К. Тарновского и др. Критика переводной
романтической драмы. Рецензии о дебютах О. О. Садовской и
К. Н. Рыбакова. Статьи о М. Н. Ермоловой,
Г. Н. Федотовой, М. И. Писареве,
П. А. Стрепетовой. Мысли о «Дикарке» Островского. Мечта о народном
театре. Открытие памятника А. С. Пушкину. Протест против гнета
цензуры. Характеристика М. Г. Савиной. Противопоставление русской
сценической школы французской (о Саре Бернар и Гликерии Федотовой). Критика
мейнингенцев. Оценка Сальвини и Росси. Статьи о «Талантах и поклонниках»
Островского, с «Деле» Сухово-Кобылина. Первые пьесы Немировича-Данченко. Первые
рассказы и повести.
1878
Зима
Учится в университете. Шлет театральные корреспонденции в «Петербургский листок».
Лето
Приезжает на студенческие каникулы в Тифлис. Играет в любительском спектакле Жадова («Доходное место» Островского).
Лето – осень
Подписывает контракт с антрепренером театра Ростова-на-Дону — Казанцевой. Готовит одновременно роли Чацкого и Молчалина. Потом меняет принятое решение. «Дважды собирался оставить университет и посвятить себя артистической деятельности. Но сама судьба препятствовала мне». («Автобиография». Избранные письма, стр. 470).
Ноябрь 10
Смотрит первое представление «Бесприданницы» Островского в Малом театре.
Ноябрь 13
В заметках о «Бесприданнице» Н. П. Кичеев и Вл. И. Немирович-Данченко спорят с реакционной критикой. «Новая драма Островского оставляет за собой многое из написанного 69 им до сих пор». («Будильник», № 45. «Сцена и кулисы». Подпись — Никс и Кикс12*).
Ноябрь 20
Напоминает, что в «Бесприданнице» изображена жизнь «общества ничтожного, себялюбивого, развращенного… Почему наша пресса долгом своим считает разыграть роль двуликого Януса каждый раз, когда речь идет о новой пьесе Островского. … Все эти Хариты Игнатьевны, Паратовы, Кнуровы живут и вертятся меж нами. Это — живые люди». («Будильник», № 46. «Сцена и кулисы». Подпись — Никс и Кикс).
Ноябрь 27
Упрекает пьесу И. В. Шпажинского «Майорша» в «угоде сцене, грубому эффекту и картинности». («Будильник», № 47. «Сцена и кулисы». Подпись — Никс и Кикс).
Декабрь 4
Пишет о пьесе А Трофимова «В золоченой клетке»: «Лучший акт комедии — первый, в котором домашняя обстановка мелкого чиновника обрисована с поразительной реальностью». («Будильник», № 48. «Сцена и кулисы». Подпись — Никс и Кикс).
1879
Январь – декабрь
Вместе с Н. П. Кичеевым ведет отдел «Будильника» — «Сцена и кулисы».
Февраль 12
Из заметок о спектакле Малого театра «На пороге к делу» Н. Я. Соловьева: «Сценки г. Соловьева являются правдивыми и симпатичными в высшей степени, несмотря на некоторую слащавость развязки». («Будильник», № 7. «Сцена и кулисы». Подпись — Никс и Кикс).
Март 5
Из отзыва о бенефисе М. Н. Ермоловой в «Уриэле Акосте»: «Играют такую трагедию чуть ли не с 4-х репетиций!» («Будильник», № 10. «Сцена и кулисы». Подпись — Никс и Кикс).
70 Апрель 16
«Когда же, наконец, настанет на Руси время, что и актеры ее будут принадлежать — по праву — к интеллигенции русской». («Будильник», № 15. «Сцена и кулисы». Подпись — Никс и Кикс).
Июль
Работает секретарем редакции либеральной газеты «Русский курьер». Печатает в ней рецензии и еженедельные обозрения о драматическом театре.
Август 13, 27
В «Будильнике» (№ 32 и 34) подводит итоги прошедшего сезона в Малом театре.
Сентябрь 8
В «Русском курьере» (№ 10) появляется заметка Немировича-Данченко о дебюте А. А. Плещеева в Малом театре. Подпись — Вл.
Сентябрь 12
В «Русском курьере» (№ 14) — рецензия «Г-жа Никулина в “Майорше”»: «Это — артистка вдохновения и минуты. Она не делает роли». Подпись — Вл.
Сентябрь 17
Критикует организацию дебютов и порядок репетиций в Малом театре: «Вы не знаете, как в Малом театре идут репетиции, назначенные для дебютанта, т. е. репетиции пьес не новых? Дебютант должен вести свою роль вовсю (во весь голос), а г[оспода] артисты, играющие с ним, бурчат свои роли себе под нос, изредка подавая тон (снисходительный тон). Дебютант большей частью не знает до спектакля совсем, как будет вести сцену тот или другой актер». («Будильник», № 37. «Сцена и кулисы». Подпись Никс и Кикс).
Сентябрь 23
Был в Малом театре (дебют О. О. Садовской, исполнявшей роль Евгении в комедии Островского «На бойком месте»).
Сентябрь 26
Из рецензии: «Она [О. О. Садовская] известна московской публике по клубным сценам, на которых играла преимущественно роли комических старух. Игра ее всегда отличалась правдивостью и неподдельным комизмом. … По исполнению она явилась совсем хорошей Евгенией». («Русский курьер», № 28. Подпись — Вл.).
71 Октябрь 12
Пишет об О. О. Садовской в роли Варвары в «Грозе»: «Эта роль, как выражение цельного типа, неудачная в ее репертуаре». («Русский курьер», № 44. Подпись — Вл.).
Октябрь 18
Из впечатлений о Г. Н. Федотовой в роли Катарины («Укрощение строптивой»): «Госпожа Федотова ведет эту роль тонко, реально, с замечательною отделкой деталей». («Русский курьер», № 50. Подпись — Вл.).
Октябрь 19
Из статьи Немировича-Данченко в «Русском курьере»: «Виктор Гюго принадлежит таким о бравом к тем художникам, которые позволяют себе ради эффекта жертвовать правдой.
… “Мария Тюдор” могла иметь большой успех во время романтического направления драмы, но с новым направлением и новыми требованиями она не может иметь успеха». («Русский курьер», № 51. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
Октябрь 22
Заметки «Бенефис Живокини» напечатаны в «Будильнике», № 42. Подпись — Кикс.
Октябрь 24
Смотрят в Малом театре трагедию Шекспира «Гамлет» с участием А. П. Ленского (Гамлет) и М. Н. Ермоловой (Офелия). (См. «Русский курьер» от 31 октября 1879 г., № 63. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
Октябрь (до 29)
Слушает оперу «Демон» в Большом театре. («Будильник», № 43. «Сцена и кулисы». Подпись — Никс и Кикс).
Октябрь 31
Противопоставляет реализм русской национальной драмы мелодраматическим европейским пьесам: «Эти типы [купец-лабазник, армейский офицер старого закала, грубый, необразованный провинциальный чиновник] не вымерли и живут между нами, потому гораздо приятнее увидать на сцене реальное изображение их, чем слушать “раздирательные переводные драмы”». («Русский курьер», № 63. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
Пишет о том, что так называемые выигрышные роли портят актеров: «Актер привыкал выезжать на этих [смешных] фразах и бросал работать». (Там же).
72 Ноябрь 2
Был в Малом театре на представлении «Дикарки».
Ноябрь 14
Подробно анализирует «Дикарку», доказывая, что «водевильный исход» «Дикарки» помешал А. Н. Островскому и Н. Я. Соловьеву написать «пьесу идеи». («Русский курьер», № 77. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
Был на бенефисе О. А. Правдина в Малом театре.
Ноябрь 26
Рецензия о «Разбойниках» Ф. Шиллера в Артистическом кружке напечатана в «Русском курьере», № 89. Подпись — Вл.
Ноябрь 30
В Малом театре на первом представлении новой пьесы А. Н. Островского «Сердце не камень» (бенефис Н. И. Музиля).
Декабрь 8
Вышла статья Немировича-Данченко о комедии А. Н. Островского «Сердце не камень»: «Как ее приняла публика и кто в этом виноват? — Реальное изображение жизни в комедии. — Поэтическая нитка ее. — Что нового в “темном царстве” подметил А. Н. Островский? — Исполнение пьесы». («Русский курьер», № 101. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
Декабрь 15
В обзоре «Драматический театр» пишет о комедии А. И. Сумбатова «Громоотвод»: «Пожелаю кн. А. И. Сумбатову строже относиться к своему труду и следить за тем, что вокруг него делается, не схватывая только внешнее освещение фактов». («Русский курьер», № 108. Подпись — Вл.).
1880
Январь 11
Был в Малом театре на бенефисе Г. Н. Федотовой.
Январь 18
Статья в «Русском курьере» (№ 17) о комедии Шекспира «Много шуму из ничего» на сцене Малого театра. («Драматический театр». Подпись — Вл.).
73 Январь 23
Пишет о том, что М. И. Писарев «замечательно хорош» в пьесе А. Н. Островского «Грех да беда на кого не живет» (театр Солодовникова). («Русский курьер», № 22. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
Январь 28
Называет М. И. Писарева лучшим исполнителем репертуара Островского. («Будильник», № 5. «Сцена и кулисы». Подпись — Никс и Кикс).
Февраль 4
В «Будильнике» (№ 6) — заметки об оперном театре, а концерте Русского музыкального общества. («Сцена и кулисы». Подпись — Никс и Кикс).
Февраль 11
«Г[осподин] Хохлов выступил в “Демоне”. Пел он, как и всегда, — хорошо, играл… об игре г. Хохлова действительно лучше не говорить после того, как мы видели в этой же роли г. Корсова». («Будильник», № 7. Подпись — Никс и Кикс).
Слушает чтение А. Ф. Писемского и А. Н. Островского на вечере в Артистическом кружке, устроенном в пользу Грибоедовской премии13*.
Февраль 15
«Обидно только за вкус нашей театральной массы, которая восторгается пустыми, избитыми эффектами. При существовании народного театра подобного явления не было бы». («Русский курьер», № 45. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
Февраль 22
Критикует оформление и костюмы спектакля «Горе от ума» в Малом театре14*. («Русский курьер», № 51).
Февраль 29
Из впечатлений о бенефисе М. Н. Ермоловой в трагикомедии Шекспира «Мера за меру»: «Талант ее развивается с каждым годом». («Русский курьер», № 58. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
74 Февраль – май
Вместе с Н. П. Кичеевым пишет еженедельные фельетоны об оперных и драматических спектаклях в журнале «Будильник». («Будильник», № 9 – 20).
Март 21
Смотрит в театре Солодовникова «Лес» Островского с участием Андреева-Бурлака (Счастливцев) и Писарева (Несчастливцев). Советует ввести в спектакль новые мизансцены. («Русский курьер», № 78. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
Апрель 3
Пишет о дебютах провинциальных актеров на московской сцене: «Если наш театр еще и пользуется хорошею репутацией, то только благодаря артистам, а дирекции решительно все равно, как бы спектакли ни шли». («Русский курьер», № 91. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
Апрель 4
«Вопрос — может ли теперь иметь место на сцене “Горькая судьбина”, — мне кажется, должен быть решен в утвердительном смысле. … а наша жизнь вовсе не ушла вперед так далеко, чтобы крепостничество, самодурство и взяточничество казались нам только историческим воспоминанием». («Русский курьер», № 92. «Драматический театр»: «Театр Солодовникова. “Гамлет” и “Доходное место”. — Г[осподин] Чарский. — Бенефис Г[осподина] Писарева: “Горькая судьбина”». Подпись — Вл.).
Июнь 3
Ставит вопрос об изменении системы бенефисов в Малом театре, о недостаточном и неравномерном материальном обеспечении артистов; подводит итоги истекшего театрального сезона. («Русский курьер», № 149. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
Июнь 6
Присутствует на открытии памятника А. С. Пушкину.
Июнь
Знакомится с Анной Петровной Керн. Бывает у нее. «Это была милая маленькая старушка». (Из стенограммы репетиции «Бориса Годунова» 14 января 1936 г. Музей МХАТ).
75 Июль 27
Не соглашается с «Петербургской газетой» в оценке труппы Малого театра: «Автор названной заметки имеет очень смутное понятие об амплуа артисток и об артистках, имена которых он упоминает». («Русский курьер», № 202).
Июль 31
Статья в «Русском курьере» (№ 206) о «любителях», об их отношении к профессиональному театру, о значении «срепетовки», правильной раздачи ролей, о режиссере любительского спектакля. Подпись — Вл.
Август 29
Пишет в «Русском курьере» (№ 235) о дебюте К. Н. Рыбакова в Малом театре. («Драматический театр». Подпись — Вл.).
Сентябрь 2
С начала нового сезона возобновляет работу в «Будильнике», вместе с Н. П. Кичеевым ведет отдел «Сцена и кулисы»: «Опять Никс и Кикс вместе? — обрадуется читатель, заглянув в афишу сегодняшнего нумера “Будильник”. Ну, вот и разлюбезное дело! Орудуйте, господа, как вы орудовали и в прошлые годы: не кланяйтесь авторитетам, когда они не заслуживают поклонов, не брезгуйте бедными “посредственностями”, когда и они пробуют в грязь лицом не ударить, — давите без всякого сожаления закулисных пауков и режьте правду-матку, в измене которой до сих пор не удалось уличить вас ни одному газетному брехуну, ни одному непризнанному таланту, ни одному из сильных театрально-чиновничьего мира!» («Будильник», № 35. Подпись — Никс и Кикс).
Сентябрь 5
Приходит в Малый театр, чтобы посмотреть игру К. Н. Рыбакова в роли Василия в «Каширской старине»: «Рыбаков — актер очень талантливый, но еще молодой… в сцене прощания с Марьицей на поле у г[осподина] Рыбакова слышалась в голосе слезливость, нытье — один из существенных его недостатков.
… Г[оспо]жа Ермолова (Марьица) была на этот раз особенно в ударе и играла настолько хорошо, что подобного исполнения ею этой роли я не помню… Но что было в полном смысле слова ужасно плохо — это хор, певший в последнем действии и опять под не имеющий ни малейшего смысла аккомпанемент оркестра». («Русский курьер» от 8 сентября 1880 г., № 244. Подпись — Вл.).
76 Сентябрь 11
«Очевидно, публика отнеслась сочувственно к открытию нового частного театра15*. Дай бег, чтобы артисты сумели поддержать это хорошее дело, лишенное всяких коммерческих расчетов и начатое с исключительною целью дать Москве театр с образцовым репертуаром, в который не войдут пошлые и банальные переделки К. Тарновского и ему подобных, имеющих такой обширный простор для своей деятельности на казенной сцене. Все, что губит сцену и портит вкус публики, делая театр ареной для зрелищ, должно быть изгнано отсюда совершенно». («Русский курьер», № 247. Подпись — Вл.).
Вечером был в «Театре близ памятника Пушкина» на спектакле «Дикарка» с участием А. Я. Гламы-Мещерской.
Сентябрь 12
«Нужно, чтоб исполнители, пользуясь тою канвой, которую дал автор, вложили очень много жизненности, игры, создавая типические физиономии. При таком условии комедия [“На всякого мудреца довольно простоты”], в которой, в сущности, не много сценического движения, может смотреться с большим интересом». («Русский курьер», № 248. Подпись — Вл.).
Сентябрь 18
«В последнее время общественная жизнь оживилась. Ряд перемен во внутреннем управлении, ряд гуманных нововведений вызвал розовые надежды на хорошее, близкое будущее16*. Общество энергично и сочувственно откликается на каждый новый шаг, печать говорит смелее, — все, что носит отпечаток самодурства, мелкого эгоизма, самоуправства, принимает гласную форму и вследствие этого сделалось более доступно искоренению». («Русский курьер», № 254. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
77 В этой же статье Немирович-Данченко критикует порядок ведения дела в Малом театре, его репертуар: «Малый театр не потерял еще своего значения только благодаря артистам его, которые спасают пьесы своим единодушием, общим юном, который они строго поддерживают».
Ставит вопрос о взаимоотношениях рецензента и актера: «Что такое рецензент для актера? Это — не “судья” его и тем менее — не враг его. Рецензент — товарищ актера. … Отчего театральный рецензент в большинстве случаев не вызывает доверия со стороны актера? Именно оттого, что на рецензента начали смотреть как на судью, а в число этих “судей” часто попадают люди без всякого на то права. Полнейшее отсутствие знания сцены, ее условий, совершенное отсутствие подготовки делали то, что приговоры этих судей бывали нелепы. И, естественно, вызывали протест со стороны актера, — протест, проявившийся, наконец, в форме совершенного равнодушия актера ко всему тому, что о нем пишут… Всякие личные отношения должны быть забыты, — остаются люди, работающие для одного и того же дела». (Там же).
Сентябрь 21
«Вместо живых лиц на сцене ходят карикатуры, заимствованные из современных сатирических журналов». (Из рецензии о комедии «Успех»17*, поставленной в бенефис Живокини, в Малом театре. «Русский курьер», № 257. Подпись — Вл.).
Сентябрь 23
Вышла рецензия Немировича-Данченко о спектакле «Эмилия Галотти» Лессинга в «Театре близ памятника Пушкина». («Русский курьер», № 259).
Сентябрь 27
В «Театре близ памятника Пушкина» смотрит «Свадьбу Кречинского» Сухово-Кобылина.
Сентябрь 30
Рецензия о «Свадьбе Кречинского» напечатана в «Русском курьере», № 266. Подпись — Вл.
Октябрь 8
В обзоре «Драматический театр» пишет о том, что драматург 78 Виктор Александров «мало заботится о тесном сближении литературных достоинств со сценическими. … Обвинение должно заключаться… в том, что он ради них [сценических эффектов] жертвует правдой… Тот автор не для искусства работает, который обдумывает сначала эффекты, а потом характеры и столкновения их. Он работает для дешевых аплодисментов. Автор тогда достигнет своей цели, когда он сумеет сделать интересным на сцене то, что литературно, когда его эффекты явятся естественным следствием известного столкновения характеров. Правда и типичность интересных фактов должны соединиться с сценическим движением». («Русский курьер», № 274. Подпись — Вл.).
Октябрь 16
Из статьи о спектаклях Артистического кружка: «Повторяю. Репетиций, больше репетиций, иначе недурное дело будет загублено». («Русский курьер», № 282. Подпись — Вл.).
Октябрь 21
Вышла рецензия Немировича-Данченко о «Борисе Годунове» Пушкина в Малом театре. («Русский курьер», № 287. Подпись — Вл.).
Октябрь 31
В «Театре близ памятника Пушкина» смотрит «Маскарад» Лермонтова с М. И. Писаревым в роли Арбенина.
Ноябрь 3
Не соглашается с тем, что драматурги намеренно сглаживают тяжелое впечатление, производимое жизненной правдой, и доказывает, что цель сценического искусства — «заставить публику полюбить правду, жизнь на сцене.
… Современная критика требует, чтоб автор не ограничивался изложением по образу и подобию знаменитого “протокола” г[осподина] Эмиля Золя; она требует от автора гуманного отношения к жизни, освещения приводимых фактов, требует, чтобы при указании на порок автор не ограничивался холодной, сухой, хотя бы и фотографическою передачей его, а освещал бы эту передачу лучшими идеями своего времени… В пьесах г[осподина] Шпажинского мы встречаем традиции шестидесятых годов — традиции лучшего прошлого нашей литературы». («Русский курьер», № 300. «Драматический театр»: «Новая пьеса И. В. Шпажинского “Как ни быть, лишь бы жить”. — Беглый взгляд на деятельность И. В. Шпажинского вообще». Подпись — Вл.).
79 Ноябрь 6
«Спешу дать читателю отзыв о первом выходе высокоталантливой артистки, а в ушах только и слышится: “Маменька, что вы со мной сделали?”18* Преследует меня эта фраза и не дает возможности отрешиться от тех мыслей, которые навеяны ею, отказаться от самого себя, чтоб обратиться только в репортера. Сильное, грандиозное впечатление!» («Русский курьер», № 303. «Первый выход Полины Антипьевны Стрепетовой». Подпись — Вл.).
Ноябрь 8
Пишет о недостатках драмы А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева «Светит, да не греет», сыгранной в бенефис М. П. Садовского в Малом театре. («Русский курьер», № 305. «Бенефис г[осподина] Садовского (6 ноября)». Подпись — Вл.).
Ноябрь 13
Напечатана статья в «Русском курьере» о драме «Светит, да не греет», поставленной Малым театром и Артистическим кружком; об инсценировке «Иудушки Головлева» на сцене «Театра близ памятника Пушкина». («Русский курьер», № 310. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
Ноябрь 14
Был в Малом театре на первом представлении новой пьесы А. Н. Островского «Невольницы» (бенефис Н. И. Музиля).
Ноябрь 17
Из рецензии Немировича-Данченко о «Невольницах»: «Новая пьеса бедна и по мысли, и по содержанию, и по интересу действующих лиц». («Русский курьер», № 314. «Бенефис г[осподина] Музиля». Подпись — Вл.).
Ноябрь
Приезжает в Петербург, чтобы посмотреть в Александринском театре драму А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева «Светит, да не греет», вызвавшую полемику между петербургскими и московскими рецензентами.
Декабрь 2
Сравнивает спектакль «Светит, да не греет» в Малом и Александринском театрах. Находится под впечатлением 80 «превосходной игры» М. Г. Савиной в роли Реневой и В. Н. Давыдова в роли Дерюгина. Приходит к выводу, что «Светит, да не греет» сыграли лучше в Петербурге, чем в Москве. Отрицательного отношения к пьесе не меняет. («Русский курьер», № 329. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
«В труппе Малого театра много пробелов, но он тем не менее сильнее всех русских театров и причина его падения не в “силах”, а в той распущенности и тех беспорядках, которые царят в управлении труппой; нет руки, которая бы заправляла делом». (Там же).
Декабрь 5
Пишет, что у П. А. Стрепетовой в «Грозе» в роли Катерины «лишь в одном пятом акте проявилась вся сильно любящая, глубоко страдающая, поэтическая натура светлого явления “в темном царстве”». («Русский курьер», № 332. Подпись — Вл.).
Декабрь 7
Приходит к заключению, что А. И. Сумбатов и во второй своей пьете «Дочь века» стоит на ложной дороге рутинных и шаблонных эффектов. («Русский курьер», № 334. Подпись — Вл.).
Декабрь 13
Критикует пьесу И. В. Шпажинского «В забытой усадьбе», поставленную Малым театром, за «отсутствие простоты и нарушение художественного смысла». («Русский курьер», № 340. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
Декабрь 24
Пишет, что пьеса А. И. Пальма «Наш друг Неклюжев» имеет «общественное и воспитательное значение», так как автор «критически относится к общественному пороку»… «В комедии “Старый барин” на двух молодых людях тоже можно усмотреть знамение времени»19*. («Русский курьер», № 351 «Драматический театр». Подпись — Вл.).
«Займется ли артист одною внешней стороною роли или выразит внутреннюю — и то и другое будет одинаково неудовлетворительно. Полное, органическое сочетание того и другого может дать лицо, выведенное автором». (Там же).
81 1881
Январь 7
Был в «Театре близ памятника Пушкина» на представлении драмы В. Гюго «Анджело» с участием П. А. Стрепетовой. «Роль Тизбы вообще не соответствует складу дарования П. А. Стрепетовой». (Из рецензии в «Русском курьере» от 9 января 1881 г., № 8. Подпись — Вл.).
Январь 22
Пишет, что пьеса А. Потехина «Вакантное место» двадцать два года не допускалась на сцену за то, что в ней критикуются лица, «которые призваны управлять всей губернией». Ставит вопрос о цензурных притеснениях и запретах. Доказывает, что такие пьесы отучат массу от «рабского поклонения власть имущим». «… Разве не лучше заставить массу работать головой, развивать в массе критическое отношение ко всему тому, что ее заставляют делать, чем доводить до пресмыкания… Не лучше ли дать массе сознание ее духовной силы для того, чтобы из нее выходили люди с крепким умом и сильным характером, а не рабы, которым не должно сметь свое суждение иметь?.. Одно желание всеобщего “умиротворения” не может привести к хорошим результатам; необходимо и разумное указание на средства к поднятию нравственного и умственного уровня массы, а цензурные стеснения — одно из средств диаметрально противоположного характера». («Русский курьер», № 21. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
Февраль 6
Снова ставит вопрос о цензурных притеснениях, не дающих драматургам возможности работать для сцены «по совести»20*. «Своими стеснениями цензура много отняла у русского общества талантливых произведений». («Русский курьер», № 36. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
Март 6
В «Русском курьере» (№ 63) критикует постановку «Месяца в деревне» Тургенева в Малом театре: «Несмотря на купюры, комедия смотрелась в Малом театре утомительно. Но это происходило вовсе не от того, что она мало сценична. В узком смысле слова сценичности, редкая хорошая пьеса имеет это достоинство. Сценичны пьесы Виктора Александрова, 82 Тарновского, Николая Потехина, Дьяченко и большинства их подражателей, но какую роль играют эти пьесы в репертуаре русского театра? … Но в ней [комедии “Месяц в деревне”] нет решительно ничего, чтобы могло придать ей долю общественного интереса. Все развитие комедии посвящено фабуле и даже в деталях мало окраски общественной жизни пятидесятых годов.
… В большинстве случаев артисты Малого театра не разговаривают на сцене, а более или менее хорошо читают». («Драматический театр». Подпись — Вл.).
Апрель 30
В «Театре близ памятника Пушкина» смотрит «Свои люди сочтемся» А. Н. Островского в первоначальной (доцензурной) редакции пьесы. На спектакле присутствует автор.
Май 2
Из статьи о П. А. Стрепетовой в роли Марьи Андреевны («Бедная невеста» А. Н. Островского): «Артистка, безусловно, пренебрегает всякой аффектировкой: ее лицо искажается некрасиво, в ее голосе слышатся резкие надтреснутые ноты, в ее жестах нет ни малейшего расчета на красоту: перед вами голая правда во всех ее ужасных подробностях и вы начинаете страдать вместе с Марьей Андреевной и глубоко ненавидеть пошляка Мерича». («Русский курьер», № 118. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
Май 4
В рецензии о бенефисе В. Н. Андреева-Бурлака сопоставляет две редакции пьесы А. Н. Островского «Свои люди сочтемся», первоначальную и измененную цензурой: «По первоначальной редакции пьеса заканчивается обращением Подхалюзина к публике, в котором он заявляет, что открывается магазин, куда и приглашает почтеннейшую публику. Несмотря на оригинальность такого финала, он нисколько не противоречит истине. Художник в последний раз дотронулся кистью до фигуры Подхалюзина, и подленькая, бездушная личность бывшего приказчика сделалась от этого последнего штриха полнее и правдивее». («Русский курьер», № 120. «Театр и музыка». Подпись — Вл.).
Май 15
Пишет о М. Г. Савиной в «Дикарке» Островского: «Эта артистка незаменима в ролях только легкой комедии и драмы, но отнюдь не имеет в своем даровании элементов, необходимых для создания сильных характеров». («Русский курьер», № 131. Подпись — Вл.).
83 Май 26
«Борис по Пушкину и по Толстому» — такова тема очередного обозрения Немировича-Данченко в «Русском курьере»: «Я не ошибусь, если скажу, что у Толстого личность Бориса анализируется с более широкой точки зрения, чем у Пушкина. Я не говорю ни о стиле стиха, ни о силе речи и вообще тех чисто литературных достоинствах, в которых трагедия Толстого не может сравниваться с трагедией Пушкина, я только говорю о той исторической точке зрения, которую избрал Толстой. Пушкин все свое внимание обратил на борьбу страстей в Борисе, возводящую царя до героя трагедии… У Толстого он твердо говорит, что совесть его не отягчена преступлением. Оно искупается его заботами о государстве». («Русский курьер», № 142. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
Июнь 18, 19
Напечатан первый рассказ Вл. И. Немировича-Данченко «Драма на почтовой станции». («Русский курьер», № 165, 166. Подпись — В. Н.).
Июнь 26
В связи с гастролями М. Г. Савиной в московском «Эрмитаже» пишет: «Но нельзя же опираться на мнение той части публики, которая предпочитает грубую игру тонкому, художественному исполнению. Такая часть публики долго еще будет составлять большинство и не в одной Москве, а хотя бы и в том же Петербурге…» («Русский курьер», № 172. Подпись — Вл.).
Июль 24
Не принимает натуралистической манеры чтения Андреева-Бурлака (Андреев-Бурлак читал «Записки сумасшедшего» Гоголя). «При самом бесподобном исполнении перед вами будет сумасшедший, доведенный до исступления… Это — искусство?» («Русский курьер», № 201. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
Сентябрь – ноябрь
В связи с тем, что издание «Русского курьера» на несколько месяцев приостановлено цензурой, поступает на службу в отделение Тульского земельного банка.
Пишет свою первую комедию «Шиповник».
Осень
Из письма Немировича-Данченко к Южину: «Ленский о тебе отзывается прекрасно. Беседовал я о тебе с Мар[ией] Ник[олаевной] Ермоловой. Она тоже отзывается о тебе 84 хорошо21*; но предполагает, что ты гораздо лучше в характерных молодых людях, чем в героических». (Архив А. И. Южина (Сумбатова). Центральный гос. архив литературы и искусства СССР22*, фонд 878).
Октябрь 1
Был в Малом театре на представлении пьесы А. И. Сумбатова-Южина «Листья шелестят».
Ноябрь (конец)
Смотрит спектакли с участием французской актрисы Сары Бернар: «Дама с камелиями», «Фру-Фру» и «Адриенна Лекуврер». (См. рецензию «Гастроли Сары Бернар», «Русский курьер» от 2 декабря 1881 г., № 211. Подпись — Вл.).
Декабрь 3
Снова пишет о гастролях Сары Бернар: «Одни восторгаются артисткою до того, что называют ее последним словом сценического искусства; другие считают ее одною из зауряднейших актрис, бьющих на эффект, часто ходульных и не заслуживающих внимания». («Русский курьер», № 212).
Декабрь 9
«Но может быть г[оспо]жа Сара Бернар принадлежит именно к числу тех артистов, которые щеголяют только техникой, как Росси? Тысячу раз нет… Надо принять во внимание, что она французская артистка… Мы требуем от артиста простоты и реальности изображения, но в известных пределах, которые мы называем пределами художественности, и потому говор на распев и рисовка, не свойственные нам в жизни, для нас кажутся неестественными. Но мерить г[оспо]жу Сару Бернар на свой аршин мы не имеем права, иначе мы никогда не скажем правды». («Русский курьер», № 218. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
Декабрь 12
«Теперь если автор подумает обратиться к мужику, он или ударится в нелепую сентиментальность, или застрянет с своей рукописью в цензурном шкафу». (Из статьи о пьесе П. П. Гнедича «На хуторе». «Русский курьер», № 221. Подпись — Вл.).
85 Декабрь 19
Напечатана рецензия о «Бешеных деньгах» А. Н. Островского в «Театре близ памятника Пушкина». («Русский курьер», № 228. Подпись — Вл.).
Вечером в Малом театре смотрит премьеру «Талантов и поклонников» А. Н. Островского. «Наконец-то хорошая пьеса!.. Она лучше “Невольниц”, лучше “Сердца не камень”». (Из рецензии «Бенефис г[осподина] Музиля». «Русский курьер» от 21 декабря 1881 г., № 230. Подпись — Вл.).
Декабрь (после 20)
Сравнивая Сару Бернар с Г. Н. Федотовой, пишет о сценическом перевоплощении Г. Н. Федотовой: в четырех ролях — «четыре Федотовы». («Будильник», № 49. «Сцена и кулисы». Подпись — Никс и Кикс).
Декабрь 23
Опубликована большая статья (два газетных подвала) о «Талантах и поклонниках» на сцене Малого театра. («Русский курьер», № 232. Подпись — Вл.).
1882
Январь 5
Вышла рецензия о «Наследниках Рабурдена» Э. Золя. («Русский курьер», № 4. Подпись — Вл.).
Январь 6
«Наша буржуазия всегда смотрела и всегда будет смотреть на театр как на дорогое удовольствие, которое можно доставить детям два раза в год, а именно — в большие праздники». («Русский курьер», № 5. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
Январь 11
Из статьи о пьесе А. Н. Островского «Таланты и поклонники»: «Падение культа чистого искусства, разврат — как неизменный спутник современного “таланта” и победа золота над всем: над любовью, разумом, дружбой, честью, — вот основная, скорбная идея новой комедии А. Н. Островского». («Будильник», № 2. «Сцена и кулисы». Подпись — Никс и Кикс)
86 Январь 13
Из статьи о М. Т. Иванове-Козельском в роли Гамлета: «В продолжение всей трагедии он является человеком, а не героем. В самых патетических местах он удивительно прост. … К сожалению… в игре его видно гораздо больше внимания к каждой мелочи, чем к общей целостности изображения, отчего его Гамлет напоминает мозаику без общей гармонии красок». («Русский курьер», № 12. «Гамлет» на «Пушкинской сцене». Подпись — Вл.).
Февраль 3
Пишет о том, что запрещение спектаклей на два месяца из-за поста лишает артистов провинциальных театров куска хлеба. («Русский курьер», № 33. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
«Драматическая цензура донельзя стесняет драматическую литературу, которая является поэтому не только не удовлетворяющею требованиям читающей массы, но и не дающею никакого материала для работы артистам… Лучшие драматические писатели, как А. Потехин, не пишут для сцены, не имея возможности ни проводить в них [в пьесах] своих любимых идей, ни знакомить публику с интересными образами, ни вообще воспитывать ее… Артисты разменивают свое дарование на мелкую монету в ожидании тех условий, при которых они имели бы возможность воспитывать публику, а не оставаться ее игрушкой…». (Там же).
Март 3
В статье «Театральный вопрос» говорит о падении антрепризы в провинции и предлагает актерам объединяться в коллективные товарищества. «Для [антрепренера] его материальные интересы занимают первое место». («Русский курьер», № 60. Подпись — Вл.).
Апрель 4
Смотрит в Малом театре «Дело» Сухово-Кобылина, названное по требованию цензуры «Отжитое время».
Апрель 6
В статье о «Деле» Сухово-Кобылина пишет: «Как систематично и безапелляционно хоронила цензура от общества лучшие моменты для развития в нем сознания окружающего зла и критического отношения к действиям власть имущих. Как незаслуженно убивала она деятельность людей, подобных г[осподину] Сухово-Кобылину?
… [Пьеса] несомненно заслуживает внимания по правдивости в положениях и характерах, логичности в последовательности 87 и реальной, без малейшей идеализации, постановке вопроса…». («Русский курьер», № 92. «Малый театр. “Отжитое время”, драма Сухово-Кобылина». Подпись — Вл.).
Апрель 8
Заметка о Т. Сальвини в роли Отелло: «Вчера, 7 апреля, в Большом театре состоялось первое представление Т. Сальвини… Исполнение Отелло можно поистине назвать гениальным. Дальше этой границы, не отличающей игры от жизни, вряд ли может идти сценическое искусство». («Русский курьер», № 94. Подпись — Вл.).
Апрель 10
Сравнивает итальянских трагиков Росси и Сальвини: Росси «не пренебрегает картинностью положений, придуманным эффектом, хотя бы этот эффект и не являлся прямым следствием предыдущих обстоятельств. Проще сказать — для г[осподина] Росси правда в игре не составляет первого условия.
… В продолжение всех пяти актов он [Сальвини] ни на одно мгновение не переставал быть Отелло, ни на одну минуту не позволял зрителю помнить об актере, играющем на сцене». («Русский курьер», № 96. «Представления Т. Сальвини. “Отелло”». Подпись — Вл.).
Апрель 11
Статья о Сальвини в роли Гамлета: «Большей частью актеры придают ей [сцене с Офелией] презрительный тон. Сальвини же относится к Офелии с глубоким сожалением». («Русский курьер», № 97. «Гамлет». Подпись — Вл.).
Апрель 14
«Простота в игре Сальвини, составляя именно естественность разговорной речи и непринужденность всех приемов, в то же время не нарушает яркости красок». («Русский курьер», № 100. «Драматический театр». Подпись — Вл.).
Май 9, 11, 15, 19
Напечатаны четыре рецензии в «Русском курьере» (№ 125, 127, 131, 135) о спектаклях с участием П. А. Стрепетовой.
Июнь 9
Заметка о дебюте г-жи Кланг в немецком театре («Разбойники» Шиллера): «Она обладает довольно эффектной внешностью для героини трагедии, но в высшей степени заражена недостатками немецкой декламаторской школы и 88 потому на зрителя, замечающего уже в драматическом искусстве движение в пользу реализма, производит не особенно хорошее впечатление». («Русский курьер», № 156. Подпись — Вл.).
Осень
Приходит в Малый театр, чтобы встретиться там с Г. Н. Федотовой и выслушать «приговор» своей первой пьесе «Шиповник».
Сентябрь 10
Пишет о спектаклях с участием М. Т. Иванова-Козельского: «Сколько нервной силы! Сколько простоты и уменья не быть скучным! Ведь у нас, ты знаешь, актер вообще или фальшивит, или перепростит уж до того, что спать хочется. Меры он не знает!» («Будильник», № 36. «Первый выход г. Иванова-Козельского в “Русском театре”». Подпись — Владь.).
Октябрь 3, 10, 17
«Шиповник» — сцены в трех действиях — напечатан в журнале «Будильник» (№ 39, 40, 41). Подпись — Владимир Иванов.
Октябрь 5
Первое представление пьесы Немировича-Данченко «Шиповник» в Малом театре. В спектакле заняты: Г. Н. Федотова — Золотницкая; М. П. Садовский — Золотницкий; И. В. Самарин — Недомеков; М. А. Решимов — Братчик; Н. И. Музиль — Пустоглазов; С. П. Акимова — Скипидарова; И. П. Уманец-Райская — Любимова; П. Я. Рябов — конторщик.
Октябрь 7
В «Русском курьере» (№ 276) появилась рецензия о спектакле «Шиповник», осуждающая пьесу. («Театр и музыка». Без подписи).
Декабрь 16
В последний раз в 1882 году выходит газета «Русский курьер». Издание газеты приостанавливается на три месяца.
Декабрь 17
Премьера новой комедии Немировича-Данченко «Наши американцы» в Малом театре.
Декабрь 27
Рецензия о спектакле Малого театра «Наши американцы» в «Русских ведомостях».
89 Декабрь (конец)
Посылает письмо М. Г. Савиной и А. А. Потехину по поводу постановки «Наших американцев» в Александринском театре, сообщает о «полууспехе» пьесы в Малом театре. («Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 460).
1883
Январь – февраль
Спрашивает Н. Ф. Сазонова: «Как вы думаете, могу ли я рассчитывать на постановку “Американцев” в Петербурге». Сообщает о желательном для него распределении ролей. (Из письма к Н. Ф. Сазонову. Там же, стр. 460).
Февраль 16
Сыграл в Туле в большом зале Дворянского собрания роль Золотницкого в своей комедии «Шиповник». (В спектакле принимали участие А. И. Южин, И. П. Уманец-Райская и другие актеры Малого театра).
Февраль
Придумывает шуточные, характеристики московским актерам. (См. «Будильник», № 7. Подпись — Владь).
Март (начало)
В связи с возвращением Ленского в Малый театр пишет: «А. П. Ленский стал одним из лучших артистов труппы». («Будильник», № 9. «Из театрального дневника». Подпись — Владь).
Март 17
Выходит первый номер «Русского курьера», но Немирович-Данченко уже больше не сотрудничает в этой газете. Театральный отдел переходит к Петру Кичееву. Много лет спустя Немирович-Данченко рассказывал, что издатель газеты купец Ланин «резко переменил курс и создавшие газету один за другим бросили ее». (Из воспоминаний о В. А. Гиляровском. Рукопись, помеченная 5 ноября 1928 г. Архив Н-Д, № 7311).
Весна
Приносит свою пьесу «Темный бор» М. Н. Ермоловой, впервые знакомится с ней. «Как сейчас вижу Ермолову, сконфуженную какую-то, точно всегда извиняющуюся за то, что у нее есть свое мнение. Она говорила, что в пьесе очень многое понравилось, если она поспорит, то с какими-нибудь частностями… играть будет с удовольствием». (Из лекции 90 Немировича-Данченко о М. Н. Ермоловой. Стенограмма. Архив Н-Д).
Июль – август
Находится в Ярцеве, Смоленской губернии, на фабрике Хлудова и продолжает там работу над пьесой «Темный бор».
Август (начало)
«Сколько мне известно, постановка этой пьесы [“Наши американцы”] интересует Савину и отчасти Сазонова. … из Ваших писем я заключаю, что Вы не относитесь к моей пьесе враждебно и ничего не имеете против ее постановки»23*. (Из письма к А. А. Потехину24*. «Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 461).
Август 7
Очерк Немировича-Данченко «На развалинах дворянства» опубликован в «Русском курьере», № 142. Эпиграф: «Мы лучше наших пращуров. Но лучше не сами по себе, а потому, что мы отцы детей наших, которые несомненно будут лучше и наших пращуров, и нас» (Щедрин).
1884
Январь
В «Будильнике» (№ 2) напечатаны шуточные «Воспоминания о театральных деятелях 1883 года». Подпись — Кикс.
Март (начало)
В журнале «Радуга», № 1, помещен рассказ «Картина Ольги Саджинской». Подпись — Вл. Немирович-Данченко.
Март – май
В журнале «Радуга» (№ 5, 6, 7, 10, 11, 12) выходит повесть Немировича-Данченко «Банкоброшница (Из жизни на фабрике)».
Май 17, 24
Фельетон Немировича-Данченко «Петруччио и Катарина» напечатан в журнале «Развлечение» (№ 19 и 20).
Июль 5 – сентябрь 27
Повесть Немировича-Данченко «Фарфоровая куколка» печатается в журнале «Развлечение» (№ 26 – 38).
91 Ноябрь 5
Драма Немировича-Данченко «Темный бор» дозволена к представлению цензурой.
Ноябрь (до 21)
Присутствует на репетициях своей драмы «Темный бор» в Малом театре. «Отношение к моей пьесе как артистов, так и начальства было безукоризненно. Начальство не отказывало ни в каких расходах: сделали роскошную декорацию бора, прекрасный павильон в 3-м акте и т. д. Актеры целые дни толковали, советовались, предлагали друг другу разные детали и вообще отнеслись к пьесе с большим возбуждением». (Из письма к А. А. Потехину от 24 ноября 1884 г. «Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 462).
Ноябрь 21
Первое представление драмы «Темный бор» в бенефис актера Малого театра Н. Е. Вильде.
Ноябрь 24
Рецензия о спектакле «Темный бор» в «Русских ведомостях» (№ 326): «Драма г[осподина] Немировича-Данченко отличается серьезными литературными достоинствами. В ней есть наблюдательность; характеры и быт действующих лиц обрисованы довольно рельефно. Драма полна движения… В драму введено несколько совершенно ненужных лиц… Эти вводные лица в 3-м акте без всякой надобности ведут какие-то мало интересные разговоры о несвоевременности отмены крепостного права, о правах дворянства, о земстве…». (Подпись — Я. Г.).
Пишет письмо А. А. Потехину по поводу «Темного бора»: «В последней сцене драмы Ермолова производит огромное впечатление: публика встает с места… Кроме Ермоловой особенно хорошим исполнением отличались Ленский (учитель), Садовская (бедная помещица) и Садовский (сын ее). Остальные роли играли: Вильде (Мамадышев), Уманец-Райская (дочь бедной помещицы), Южин (инженер), Медведева (гостья), Музиль (посаженый отец), Васильева (лавочница) и Макшеев (шут)25*. … Южин даже вызывал аплодисменты за монологи». («Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 462).
Ноябрь 29
Посылает в Александринский театр сокращенный экземпляр пьесы «Темный бор».
92 1885
Январь 21
В Русском драматическом театре в бенефис С. П. Волгиной идет драма в пяти действиях «Банкрот во Франции», «переделанная для русской сцены г. Вл.». (Программа спектакля и литографское издание пьесы хранятся в Архиве Н-Д).
Март 28 – 29
Выступает с открытым письмом «По поводу “Юлия Цезаря” у мейнингенцев» («Театр и жизнь», № 89), упрекает актеров и режиссеров Мейнингенского театра в идеализации характеров, несовместимой с реализмом, в том, что они неправильно передают «внутренний смысл этой наиболее величественной трагедии Шекспира. … Благодаря богатству внешних красот мейнингенцы сумели дать поистине широкую картину римской жизни. Но и только. … Картины, группы, громы и молнии — все это бесподобно, а ни один характер не выдержан…
… Если бы на исполнение мейнингенского труппою “Юлия Цезаря” Москва взглянула, как на превосходную внешнюю передачу тех сценических красот, которыми богата трагедия, то я бы не просил вас о напечатании моего письма, но, к сожалению, Москва афиширует эту труппу, как такую, которая цельно и необыкновенно точно передает бессмертное творение Шекспира».
Лето
Переделывает вместе с А. И. Сумбатовым-Южиным его пьесу «Громоотвод» в драму «Соколы и вороны».
Сентябрь
В журнале «Наблюдатель» (№ 9) опубликована драма «Темный бор» (стр. 1 – 80).
Сентябрь 6
Премьера «Темного бора» в Александринском театре.
Сентябрь 8
Рецензия о «Темном боре» в «С.-П. ведомостях» (№ 246).
Октябрь 27
Отрицательный отзыв о «Темном боре» в «Русских ведомостях» (№ 296). («Петербургские наброски». Подпись — Буква).
93 Ноябрь 8
В бенефис актера П. Ф. Солонина в театре Корша была поставлена пьеса «Соколы и вороны» А. Сумбатова-Южина и Вл. Немировича-Данченко.
Ноябрь 12
Рецензия о пьесе и спектакле «Соколы и вороны» в «Русских ведомостях» (№ 312). (Без подписи).
1886
Январь 23, 30
Первые главы повести Немировича-Данченко «Карасюк» (памяти Ивана Сергеевича Тургенева) напечатаны в журнале «Развлечение» (№ 3 – 4).
Май 13
Написал рассказ для журнала «Эпоха»26*. Первоначальное название «Dolce far niente»27*. Договорился с издателем Метцелем об издании пяти своих произведений отдельной книжкой: «Идеалы любви» (с измененным названием), «Карасюк», «Dolce far niente», «Фарфоровая куколка» и маленький очерк, давно напечатанный, «У развалин монастыря». (Из письма к Южину. Архив А. И. Южина. ЦГАЛИ).
Май
«Последние дни мая меня объявили женихом и протаивали Екатер[ину] Николаевну». (Там же).
Июнь (до 19)
В письме к А. И. Южину: «Ты пишешь, отрывок “Карасюка” написан мертво. Из этого отрывка более ста строк вырвано цензурой. Следующая глава задержана вовсе — вот уже два номера прошло — не выходит. Будет мертво». (Там же).
Июнь
Живет в Алтуфьеве. «Пишу пьесу28*. … Свадьба моя — около 25 августа». (Там же).
Июнь 26
В «Развлечении» (№ 24) вышла последняя глава повести «Карасюк».
94 Август 17
День свадьбы.
Август – сентябрь
Живет в Петербурге.
Сентябрь 5
В «Русских ведомостях» (№ 243) напечатана статья об оперном спектакле «Руслан и Людмила» в Мариинском театре. Подпись — Вл.
Сентябрь (после 5)
Из письма к Южину: «Мы целые дни неразлучны и никуда не рвемся. Веселая, живая, умница, она29* удивительно поддерживает мою бодрость». (Архив А. И. Южина. ЦГАЛИ).
Сентябрь 13
Из резолюции Литературно-театрального комитета о пьесе Немировича-Данченко «Без положения»: «Не принимается к представлению на сцене императорских театров. 13 сентября 1886 г.».
Ноябрь 20
В «Новостях дня» (№ 320) напечатана статья о новой комедии Немировича-Данченко «Лихая сила»30*, поставленной в театре Корша в бенефис Н. П. Рощина-Инсарова.
Ноябрь 23
В «Новостях дня» (№ 323) появилось следующее опровержение: «По поводу слухов, что новая пьеса Немировича-Данченко “Лихая сила” переделана автором из его же пьесы “Без любви”31*, которая будто бы не одобрена Литературно-театральным комитетом, нас просят сообщить, что комедия “Без любви” никогда не появлялась в свет, так как она была запрещена к представлению драматическою цензурою».
Ноябрь 26
Из рецензии о «Лихой силе»: «Новое произведение выделяется тем, что затрагивает совершенно иной, менее разработанный мир нашего интеллигентного богатого купечества. Действие комедии, как объясняет сам автор, происходит на большой фабрике.
95 … Положения действующих лиц в двух первых действиях полны неподдельной правды, естественности и жизни.
… Начиная с 3-го акта… выступают псевдодраматические положения, мертвые фразы, мелодраматические сцены. 4-й акт — сцена, когда Суворич собирается покончить жизнь самоубийством, — искусственность и деланность.
… Удивляешься, как автор, по-видимому решившийся (два первых действия) быть оригинальным и новым, мог ввести этот обветшалый драматический атрибут в свое произведение, очень интересное и правдивое по завязке». («Русский курьер», № 326).
1887
Январь
Рассказ Немировича-Данченко «Упрямый ребенок» напечатан в первом номере журнала «Радуга».
Июль
«Мы ездили верст за 45 к соседям, где в большом ремесленном училище ставился спектакль в пользу его. Я был режиссером. Играли “Соколы и вороны”, работали, как пара добрых волов. Фурор был полный. Приезжали к спектаклю за 65 верст, платили по 2 р. за то, чтоб стоять. Пьеса шла гладко, а в некоторых ролях даже артистически. … Я играл Тюрянинова32* отлично. … Я… хотел отбить горлышко шампанского и порезал себе руки, а потом окровавленный играл “Несчастье особого рода” (с Котей33* в главной роли)». (Из письма Немировича-Данченко к Южину от 31 июля 1887 г. Избранные письма, стр. 50 – 51).
Лето
Пишет новую комедию «Счастливец».
Сентябрь 26
В письме к А. П. Ленскому анализирует роль художника Богучарова в комедии «Счастливец». (См. Избранные письма, стр. 52).
Октябрь (до 23)
Участвует в репетициях «Счастливца» на сцене Александринского театра. «Ал[ексей] Антип[ович] [Потехин] дает мне carte blanche34* не только на выбор, но и на заказ 96 новых декораций, предлагает ставить пьесу, как мне угодно… Воспользуюсь». (Из письма к Южину).
И в другом письме к Южину: «Савина не присутствовала, ибо она больна. Завтра она опять не будет. По этому случаю я сегодня первый и третий акт ставил четыре часа, а завтра эти два акта буду ставить пять часов». (Архив А. И. Южина. ЦГАЛИ).
Октябрь 23
Премьера «Счастливца» в Александринском театре с участием М. Г. Савиной, К. А. Варламова, В. П. Далматова.
Октябрь 27
Премьера «Счастливца» в Малом театре с участием Н. М. Медведевой, Г. Н. Федотовой, Н. А. Никулиной, А. И. Южина и К. Н. Рыбакова.
Октябрь 31
Статья о «Счастливце» в «Русских ведомостях» (№ 300): «После хорошо написанного и прекрасно исполненного второго акта автор вместе с исполнителями был неоднократно вызван. … После же четвертого… публика оставалась холодною…» (Подпись — Н. Г.).
97 1888 – 1898
Знакомство с А. П. Чеховым. «Последняя воля»
Вл. И. Немировича-Данченко в Малом и Александринском театрах. Оценка
«Иванова» и «Лешего» Чехова. Статьи о «Медведе» и «Дуэли» Чехова. Начало
режиссерской работы — участие в постановке своих пьес («Новое дело»,
«Золото», «Цена жизни»). Режиссерские указания к «Новому делу». Роман «На
литературных хлебах». Встреча с П. И. Чайковским. Статья о «Плодах
просвещения», поставленных К. С. Станиславским. Театральный педагог.
Оперное либретто «Алеко». Рассказы и очерки
Вл. И. Немировича-Данченко. Романы и повести «Драма за сценой», «В
степи», «Губернаторская ревизия». На первом Всероссийском съезде сценических
деятелей. Проекты упорядочения дела в Малом театре — докладные записки
Пчельникову. Встреча с К. С. Станиславским. Основание Московского
Художественного общедоступного театра. Роман «Пекло». Работа с И. М. Москвиным
над ролью царя Федора. Режиссура «Чайки».
1888
Год знакомства с А. П. Чеховым: «Я вспоминаю о Чехове неотрывно от той или другой полосы моих личных, писательских или театральных переживаний. Мы жили одной эпохой, встречали одинаковых людей, одинаково воспринимали окружающую жизнь, тянулись к схожим мечтам, и потому понятно, что новые краски, новые ритмы, новые слова, которые находил для своих рассказов и повестей Чехов, волновали меня с особенной остротой. Мы как будто пользовались одним и тем же жизненным материалом и для одних и тех же целей, потому, может быть, я влюбленно схватывал его поэзию, его лирику, его неожиданную правду, — неожиданную правду!
И затем нас одинаково не удовлетворял старый театр. Меня острее, потому что я больше отдавался театру, его — глубже, потому что он страдал от него, страдал самыми больными писательскими переживаниями непонятости, разочарованности, сдавленной оскорбленности.
Вот почему воспоминания о Чехове скрещиваются во мне с воспоминаниями о тех моих собственных путях, которые вели к рождению Московского Художественного театра…». (Вл. И. Немирович-Данченко, Из прошлого, «Academia», 1936, стр. 2).
98 Январь – февраль
В художественно-литературном журнале «Россия» (№ 1 – 7) печатается «Мой маленький роман». Подпись — Вл. И. Немирович-Данченко.
Май – июль
На гастролях в Киеве, Курске, Харькове, Одессе, Тифлисе Г. Н. Федотова играет в пьесе Немировича-Данченко «Счастливец».
Лето
Работает над новой пьесой «Последняя воля».
Сентябрь
Читает пьесу в Литературно-театральном комитете, после чего вносит в нее изменения.
Октябрь 26
В «Русских ведомостях» (№ 295) напечатана статья Немировича-Данченко о драме И. В. Шпажинского «В старые годы» (без подписи)35*: «Сценическое представление, в котором двадцатые годы, восковые свечи, крепостные и т. д. — являются только декорацией, намалеванной без всякой внутренней необходимости… Весь мрак своеволия, возмутительно несправедливых привилегий богатого перед бедным — все это исчезло и осталась одна розовая дымка».
Октябрь 28
Из статьи Немировича-Данченко о гастролях Е. Н. Горевой: «Перед нами была только актриса с шаблонными приемами провинциальной премьерши, опытная и знающая, какое место в роли должно вызвать аплодисменты… Школы нет». («Русские ведомости», № 297. Без подписи).
Ноябрь 6
«Русские ведомости» (№ 306) сообщили о том, что Г. Н. Федотова выбрала «Последнюю волю» Немировича-Данченко для своего бенефиса.
В письме к Чехову: «Милейший Антон Павлович! Завтрашний вечерок у нас расстроился. Позвольте в другой раз рассчитывать на Вас. Как я вижу, Вас надо силой приручать. Как же! Мы с Вами проговорили с час, и Вы спрятали 99 от меня, что написали еще пьеску “Лебединая песня”… Лучше вместо того, чтобы посвящать ее “тому, кто попросит”, устройте ее в Малый театр. Если Вы сами не любите предлагать себя, дайте мне экземпляр. Я познакомлю с нею и сведу Вас с кем нужно». («Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 91).
Ноябрь (до 18)
В письме к Южину: «“Софью”36* заворачиваю в бумагу и отсылаю Черневскому37* от твоего имени. Прочел внимательно. Давно не запомню ничего бездарнее. Крылов не только не обдумывал и не переживал, он даже просто не уяснил себе событий!..». (Архив А. И. Южина. ЦГАЛИ).
Ноябрь 18
Критикует историческую драму «Правительница Софья» в «Русских ведомостях» (№ 318) за то, что авторы игнорируют «народные смуты», «стрелецкий бунт с знаменитым Хованским» и интересуются лишь падением Софьи. (Статья без подписи).
Ноябрь – декабрь
Приглашает Чехова «потолковать» о делах Общества драматических писателей.
Ноябрь
За две недели до репетиций «Последней воли» наметил мизансцены спектакля и сообщил их режиссеру Александринского театра Ф. А. Федорову (Юрковскому).
Декабрь 7
Премьера «Последней воли» в Малом театре (бенефис Н. И. Музиля).
Декабрь 10
Рецензия о пьесе Немировича-Данченко «Последняя воля» в «Русских ведомостях» (№ 340): «Пьеса имела успех благодаря художественной игре исполнителей и тому материалу, который представлен в их распоряжение автором. Это — не комедия интриги (весьма несложной), а комедия характеров по преимуществу». (Без подписи).
Декабрь
Статьи в «Русском курьере», «Новостях дня», «Неделе», «Еженедельном обозрении» о «Последней воле» в Малом театре.
100 Декабрь (конец)
Получил письмо от М. Г. Савиной о репетициях «Последней воли» в Александринском театре.
Декабрь 30
«По-моему, “Иванов” имел еще успех. Его загубило любимое Вами здание в Богословском переулке»38*. (Из письма к А. П. Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 92).
1889
Январь 1
Встречается с А. П. Чеховым.
Январь 2
Из статьи Немировича-Данченко о трагедии «В Шильонском замке» А. Ф. Федотова: «В эту эпоху, отмеченную в истории энергичным проявлением народной самостоятельности, в разных местах Германии и Швейцарии появлялись мощные фигуры борцов за религиозную и политическую свободу. Художественное увлечение кем-нибудь из таких народных героев вполне понятно, и трагедия из такой эпохи должна была бы возбудить большой интерес… если бы в ней чувствовалось истинное идейное одушевление, а не простое стремление написать так называемую “костюмную пьесу”». («Русские ведомости», № 2. Без подписи).
Выезжает в Петербург в связи с постановкой «Последней воли» в Александринском театре. «Пробуду там до 10-го, если пьеса моя шлепнется, и гораздо дольше, если она будет иметь успех». (Из письма к Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 92).
Январь 3 – 6
Принимает участие в репетициях «Последней воли» в Александринском театре.
Смотрит «Татьяну Репину» А. С. Суворина с участием М. Г. Савиной. «Пьеса не нравится нам». (Из письма к Южину. Избранные письма, стр. 55).
Январь 639*
Из Петербурга пишет Южину: «В Александринском театре 101 при всем том искусство не живет, а так, изредка является погостить, чисто как у Корша, только с более крупными силами. Пьес ставят неимоверно много. Одна другую давят. Репетиции делают так: в 10 1/2 “Последняя воля”, а в 2 — “Ульяна Вяземская”, — не угодно ли?» (Там же, стр. 55 – 56).
Январь 11
Премьера «Последней воля» в Александринском театре в бенефис М. Г. Савиной.
Январь 12
После премьеры Немирович-Данченко пишет Южину: «Сами мы не можем ясно разобраться во вчерашнем спектакле… Савина бесподобно дала лицо. Были поистине блестящие подробности… были у нее места, приводившие меня в восторг, хотя и совершенно неожиданные для меня… Варламов говорил десятки монологов, принадлежащих, вероятно, всем авторам… Давыдов хорош. Далеко до Рыбакова, но хорош… При всем том, я бы больше желал ставить пьесу не в бенефис Савиной, так как вчера я был на двадцатом плане с моей пьесой»40*. (Архив А. И. Южина. ЦГАЛИ).
Январь 19
Немирович-Данченко критикует пьесу А. С. Суворина «Татьяна Репина» за ее реакционную тенденциозность. Подробно описывает игру М. Н. Ермоловой в роли Татьяны Репиной. («Русские ведомости», № 19. Без подписи).
Январь
«Последнюю волю» играют в театрах Казани, Ярославля, Владимира.
Март 6
Из статьи «Товарищество актеров»: «Театральное дело в провинции вступило в новый фазис. Характернейшей чертой этой новизны является идея артистической ассоциации… До тех пор, пока не исчезнет совершенно устаревшее бродяжничество актера из города в город… до тех пор немыслим подъем драматического искусства в провинции». («Русские ведомости», № 64. Подпись — Н. Д.).
102 Март 13
Заходит Чехов, не застает дома и оставляет оттиск своей пьесы «Иванов»41* с надписью: «Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко от уважающего автора». (Музей МХАТ).
Март 16
Пишет письмо Чехову: «Досадно мне было вот как, Антон Павлович, что Вы не застали меня дома. Спасибо за “Иванова”. Прочел и вник, но —. Простите за откровенность. Что вы талантливее нас всех — это, я думаю, Вам не впервой слышать и я подписываюсь под этим без малейшего чувства зависти, но “Иванова” я не буду считать в числе Ваших лучших вещей42*. Мне даже жаль этой драмы, как жаль было рассказа “На пути”. И то и другое — брульончики43*, первоначальные наброски прекрасных вещей.
Как жаль, что мы живем на разных концах Москвы! Если будете в наших краях, заезжайте». («Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 93).
Март 22
В Нижнем Новгороде исполняется «Последняя воля» с участием Г. Н. Федотовой.
Март 26
На собрании членов Общества русских драматических писателей в Петербурге Немирович-Данченко избирается членом комитета. («Петербургская газета», № 83).
Апрель 10
В Москве на собрании членов Общества русских драматических писателей и оперных композиторов выбраны в комитет: Вл. И. Немирович-Данченко (74 голоса), И. М. Кондратьев (68 голосов), И. В. Шпажинский (68), А. П. Чехов (61), В. А. Александров (43). (Н. И. Гитович, Летопись жизни и творчества А. П. Чехова, М., Гослитиздат, 1955, стр. 228).
Июнь 8
«Кажется, я свою новую пьесу назову “Ростовщики”». (Из письма к Южину. Избранные письма, стр. 53).
Октябрь 24
Южин приглашает к себе А. П. Чехова, Вл. И. Немировича-Данченко 103 и В. А. Александрова, чтобы обсудить новый устав Общества русских драматических писателей и оперных композиторов.
Ноябрь 6
Из письма Немировича-Данченко к Чехову: «Хотел сам заехать к Вам вчера, да не успел. А много хочется наговорить по поводу “Лешего”. Ленский прав, что Вы чересчур игнорируете сценические требования, но презрения к ним я не заметил. Скорее — просто незнание их. Но я лично не только не принадлежу к горячим защитникам их, а, напротив, питаю совершенное равнодушие». (Избранные письма, стр. 54).
Ноябрь
Комедия Немировича-Данченко «Новое дело» принята к постановке в Малом театре. (Журнал «Артист», № 3, хроникальная заметка).
Ноябрь 9 – 12
Напечатаны статьи Немировича-Данченко о французском актере Коклене-старшем. («Русские ведомости», № 310 – 313. Подпись — Д.).
Ноябрь
Пишет небольшой «отрывок» «В меблированных комнатах» и посылает его в Петербург к редактору журнала «Север» П. П. Гнедичу: «В “отрывке” нет интриги, нет сюжета в узком смысле этого слова. Это как бы уголок самой будничной жизни, день из нее»44*. (Из письма к Гнедичу. «Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 463).
Получил предложение от актрисы и антрепренерши Абрамовой45* «заведовать репертуаром ее театра». Отказался, так как «успел убедиться, что ее дело шатается, испорчено и ни к чему не приведет… Через три дня предложение возобновилось на новых условиях — с гарантией денежной обеспеченности, с предоставлением мне полной власти в театре и т. д. Я снова отказался». (Там же).
«Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко от сердечно расположенного к нему автора» — надпись Чехова на оттиске повести «Скучная история». (Музей МХАТ).
104 Ноябрь 17
В «Русских ведомостях» (№ 318) Немирович-Данченко пишет: «Для нашего поколения [интерес к “Эрнани” Гюго], конечно, значительно поблек; для нас на первый план выступают недостатки “Эрнани” как драмы; к тому же в переводе невозможно передать всю чарующую силу стиха французского поэта». (Подпись — Д.).
Ноябрь 27
Чехов пишет А. Н. Плещееву: «Мне кажется, что сей Немирович очень милый человек и что со временем из него выработается настоящий драматург. … с каждым годом он пишет все лучше и лучше. Нравится мне он и с внешней стороны: прилично держится и старается быть тактичным. По-видимому, работает над собой». (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 14, М., Гослитиздат, 1950, стр. 443).
Ноябрь 28
Был на спектакле Общества искусства и литературы — «Самоуправцы» А. Ф. Писемского, с участием К. С. Станиславского.
Ноябрь 29
Из «Художественных записей» К. С. Станиславского: «Через графиню Головину слышал, что писатель Владимир Иванович Немирович-Данченко хвалил меня в роли Имшина». (К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 5, стр. 133).
Приглашает Чехова посмотреть в театре Абрамовой пьесу Ладыженского для того, чтобы Чехов мог составить суждение о театре. (Из письма к Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 94 – 95).
Декабрь 27
Из письма Чехова к А. С. Суворину: «Сегодня идет “Леший”. IV акт совсем новый. Своим существованием он обязан Вам и Влад. Немировичу, который, прочитав пьесу, сделал мне несколько указаний, весьма практических». (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 14, стр. 459).
1890
Январь
Смотрит пьесу Чехова «Леший» в театре Абрамовой: «Поставлена пьеса была старательно, но… все было от знакомой сцены, а хотелось, чтобы было от знакомой 105 жизни». (Вл. И. Немирович-Данченко, Из прошлого, стр. 36).
Февраль 3
Из статьи Немировича-Данченко «“Федра” на сцене Малого-театра» в «Русских ведомостях» (№ 33): «Покойный А. Н. Островский… был против постановки “Марии Стюарт”… Знаменитый драматург, всегда лелеявший мечту о национальном театре, высказывал в этом случае опасения за русского актера.
… Очевидно, что в публике, ищущей эстетических наслаждений, проявляется потребность сильного духовного подъема. Если бы при таком запросе первый русский театр ограничивался изображением обыденности, если бы он всецело посвятил себя жанру, подчас мелкому, с его хотя бы и художественными, но ничтожными подробностями, — то он очень скоро очутился бы далеко позади требований времени, круг его влияния сузился бы и, обветшалый, он должен был бы уступить место первому же новому предприятию, которое откликнулось бы на новые требования. … А. Н. Островский был прав относительно артистов несложившихся.
… Молодое искреннее чувство волей-неволей должно быть стеснено тем искусственным пафосом, каким в значительной степени дышит вся трагедия. Это не Шекспир с его сильной, но простой речью.
… Но может ли повредить “Федра” такой сложившейся артистке, как г-жа Ермолова?.. Что больше всего делает честь артистке — это та жизненность, та человечность, та трагическая простота, которую она вложила в создание Федры». Подпись — Д.
Апрель 15
Вместе с А. И. Южиным приезжает в Тулу, чтобы посмотреть комедию Л. Н. Толстого «Плоды просвещения», поставленную любителями в зале тульского дворянского собрания. (Н. Н. Гусев, Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого, Гослитиздат, 1958, стр. 756).
Май
Весь май пишет роман «На литературных хлебах» в усадьбе Нескучное, Екатеринославской губернии (Нескучное — имение жены Вл. И. Немировича-Данченко).
Июнь 15
Пишет Чехову на Сахалин: «Я хочу даже ободрить Вас. Ваша поездка возбуждает большие ожидания…» («Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 95).
106 Июнь – июль
Перерабатывает «Новое дело» (вторая редакция пьесы): «Неимоверно провозился над “Новым делом” — к добру ли, к худу ли — скажете Вы, судьи. Припомнил все упреки, какие слышал, взвесил их, вдумался, разобрался в материале и поработал. Трудиться — так уж так, чтобы совесть была совершенно чиста». (Из письма к Южину, август 1890 г. Архив А. И. Южина. ЦГАЛИ).
Лето
Набросал повесть для «Новостей дня» («Барин»). Наметил план и обдумал небольшую пьесу для частного театра «Игрушка» («Жизнь — игрушка»). Задумал роман «Лавры» или «Дилетанты». Закончил рассказ и отослал его в редакцию газеты «Русские ведомости»46*. (Там же).
Ездил в село Александровка, Екатеринославской губернии, и там в концерте в Гнединском ремесленном училище «разыграл» вместе с женой «Медведя» Чехова и поставил «Предложение»: «Чехов должен быть доволен мной. Я его пропагандирую Необыкновенно талантлив и сценичен этот Чехов. Эти шутки — такие прелестные жанровые картинки…». (Там же).
«Прочел “Войну и мир”. Что за талантище! Было ли что-нибудь подобное в русской литературе». (Там же).
Сентябрь
Принимает участие в репетициях «Нового дела» в Малом театре, которые проходят или на сцене театра или на квартире у Г. Н. Федотовой.
Октябрь
В «Артисте» (№ 10) напечатаны рассказ Немировича-Данченко «У могильного креста» и его комедия «Новое дело».
Октябрь 30
Премьера комедии «Новое дело» в Малом театре.
Ноябрь 1
Похвала «Новому делу» в «Новостях дня» (№ 2637): «Основная мысль автора, что богатства наши… уходят к иностранцам… защита народных богатств от иностранцев… Вопросы политико-экономические, трактуемые со сцены в четырехактной комедии, возбуждали в зрителе постоянно возрастающий интерес. … Мы горячо приветствуем свежесть и искренность 107 мысли, прямоту постановки вопроса… прекрасную обработку фабулы, положительно художественную отделку деталей, мастерство в быстром и чрезвычайно красивом развитии действия». Подпись — Рок.
Резкая статья Ив. Иванова о «Новом деле», больно задевшая Немировича-Данченко. «Этой верности природе и, следовательно, правде мы не видели ни в событиях, ни в людях пьесы… содержание пьесы нельзя признать ни интересным, ни богатым по внутреннему смыслу». («Русские ведомости», № 301).
Ноябрь
Вышла статья о «Новом деле» в журнале «Артист» (№ 11).
Декабрь 25
«На чужбине» — «рождественский этюд» Немировича-Данченко напечатан в «Новостях дня», № 2691.
Действие рассказа происходит в Париже. Воспроизведен разговор старого больного писателя Ивана Сергеевича с молодым литератором:
«— Так вот что я хотел вам сказать, — начал Иван Сергеевич. — Я додумался, чего недостает в вашей повести и что в ней лишнего. Недостает любви к родине, а лишнее — результат этого недостатка — тенденциозность. Вы меня понимаете?
— Да, но… любовь к родине — это… — Он запнулся…
— Без этой любви вы никогда не будете народным писателем… Русская литература заинтересовала Францию только с тех пор, как она стала самостоятельной, народной. То же произошло и с русским художеством.
… Проводить идеалы… Если их присутствие в вашей душе несомненно, если они не сочинены вами, вы их проведете помимо вашей воли. Если же они не свойственны вам, от вашего произведения будет пахнуть мертвечиной».
В финале рассказа Иван Сергеевич пишет письмо своему другу, в Россию: «Поклонитесь от меня дому, моему молодому дубу. Родине моей поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу…».
1891
Январь
П. И. Чайковский, с которым Владимир Иванович встретился в кабинете управляющего Малым театром, просит написать либретто для своей оперы: «Интимнее, с небольшим 108 количеством действующих лиц, глубоко психологическое. А меня все тянут на большие помпезные сюжеты».
Владимир Иванович сказал Чайковскому, что его оперу «Черевички» он слушает с самым большим удовольствием. «Петр Ильич подскочил и начал говорить, что это самая его любимая опера. Потом мы с ним вспоминали первый выпуск “Евгения Онегина” на школьном консерваторском спектакле под управлением Н. Рубинштейна. И потом еще помню, что я высказывал недоумение, как можно, чтобы Евгений… вдруг брал сильное форте на фа своей арии “Я вас люблю любовью брата”. И опять Петр Ильич взволновался: “Ну вот, ну что мне делать? Чу посмотрите клавир, у меня фа нижнее и пьяно, а певцу непременно подавай форте для аплодисментов. Что я с этим могу поделать?”» («Встреча с Чайковским». Машинопись с авторской правкой. Архив Н-Д, № 7240).
В «Режиссерских указаниях» к «Новому делу» («Артист», № 12) советует «руководствоваться не столько объяснением mise en scène47*, сколько растолкованием данных характеров и их отношения к общей концепции пьесы».
Февраль 8
Смотрит «Плоды просвещения», поставленные К. С. Станиславским в Обществе искусства и литературы.
Февраль 10
Статья Немировича-Данченко о «Плодах просвещения» — «Интересный спектакль» — напечатана в «Новостях дня» (№ 2737): «Любительский спектакль с прекрасной, ровной игрой… Я утверждаю, что никто и никогда не видел такого образцового исполнения у любителей… Комедия тр. Л. Н. Толстого “Плоды просвещения” была разыграна с таким ансамблем, так интеллигентно, как не играют хоть бы у Корша… Станиславский., талантливый и умный любитель. Много тонких и характерных подробностей вложил он в роль самого Звездинцева». Подпись — Гобой.
Февраль 11
Из статьи «Варшавская драма», об убийстве артистки Висновской: «“Cabotine”48* — актриса с ног до головы, актриса в жизни еще больше, чем на сцене. Ради популярности она не остановится ни перед чем». («Новости дня», № 2738. Подпись — Инкогнито).
109 Февраль 12
Рассказ «Она не омела плакать» напечатан в «Новостях дня» (№ 2739). Подпись — Вл. Ив. Немирович-Данченко.
Февраль 16
Сообщает, что «Предложение» Чехова впервые пойдет на сцене Малого театра в бенефис Южина: «Странно, что пьесы этого талантливого писателя странствовали до сих пор только по частным театрам». («Новости дня», № 2743. Подпись — Гобой).
Февраль 20
Из статьи в «Новостях дня» (№ 2747) по поводу речи адвоката Ф. Н. Плевако: «Трудно артисту стереть общественные предрассудки, но он добьется этого, он уже добивается». Подпись — Инкогнито.
Февраль 21
В письме к Е. П. Гославскому анализирует его пьесу «Солдатка»: «Второй акт — выше всяких похвал. Напоминаю Вам о доверии к моей искренности. Типы продолжают развертываться, деревня рисуется ярко и цельно в своей обыденщине. Здесь что ни фраза, то характерная бытовая и психологическая подробность. Это все не выдумано, не сочинено, это все — сама жизнь.
… Увы! Я должен говорить о четвертом акте. Он мне все-таки не нравится… С цензурой надо быть очень осторожным. Нет ли у Вас каких-нибудь связей? У нас в цензуре не любят народных пьес». (Архив семьи Гославских).
Февраль 22
На гастролях в Петербурге Г. Н. Федотова выступает в пьесе Вл. И. Немировича-Данченко «Счастливец».
Февраль 24
Объявление в «Новостях дня»: новая книга Вл. И. Немировича-Данченко «На литературных хлебах» поступила в продажу.
Февраль 25
Дарит свою книгу «На литературных хлебах» Чехову с надписью: «Антону Павловичу Чехову от искренно расположенного к нему автора».
Февраль 28
«Николенька» — рассказ Немировича-Данченко вышел в «Московской иллюстрированной газетке»49*, № 48.
110 Март 10
Рассказ Немировича-Данченко «При жене» напечатан в «Московской иллюстрированной газетке», № 57.
Март 11
Слушает оперу «Лукреция Борджиа» с участием знаменитых итальянских певцов Анджело Мазини и Марчеллы Зембрих.
Март 12
В статье «Немножко правды» критикует сценический шаблон в игре итальянских певцов: «Трагическая походка, трагические жесты, трагические восклицания! Кинжал, тысяча смертей! Как бы удивительно ни пели певцы, я не могу… не следить за развитием драмы в опере». («Новости дня», № 2767. Подпись — Гобой).
Вечером слушает оперу «Кармен» с участием А. Борги и Н. Фигнер. «А. Борги ни на один миг не выходит из своего сценического положения… необыкновенно выразительный и захватывающий страстностью тип Кармен… Ее судьба отмечена трагической чертой…». (Из статьи «На современный вкус», «Новости дня» от 13 марта 1891 г., № 2768. Подпись — Гобой).
Март 13
«Мы требуем умного и интересного либретто. В этом отношении “Кармен” особенно современна. Все это в ярких красках, но без романтической напряженности, которая шокирует наше стремление к реальности в старых итальянских операх, и без той угловатой простоты, которая заставляет нас скучать в театре!
… Даже красивые голоса и умение пользоваться ими не доставят нам полного эстетического наслаждения, если при этом нет хорошей игры… Опера не концерт». (Там же).
Март 14 – 15, 19, 25, 27
Статьи Немировича-Данченко об итальянской опере печатаются в «Новостях дня»: «Сон театрала», «Спор», «Чудная греза», «Из вокальной гастрономии» (в двух номерах). Подпись — Гобой.
Март 17
Рассказ «Письмо» выходит в «Московской иллюстрированной газетке», № 64. Подпись — Влад. Немирович-Данченко.
Март 25
Восторгается Франческо Таманьо в опере Верди «Отелло»:
«Я решительно не знаю, с чем сравнить феноменальный дебют 111 Таманьо. Он обладает таким mezzo-voce, какое можно услыхать только у Мазини… Играет он Отелло очень хорошо». («Новости дня», № 2780. «Из вокальной гастрономии». Подпись — Гобой).
Март 27
«Хорошее заключается в том, что они [итальянские певцы] горячо преданы опере. Они работают, берегут свои голоса, заботятся о своем музыкальном развитии. Дурное — в необыкновенной узости интересов. Мне кажется, что с развитием того сближения оперы с драмой, о котором я как-то говорил, певец… станет интеллигентнее». («Новости дня», № 2782. «Из вокальной гастрономии». Подпись — Гобой).
Апрель 3
«Богатые люди вот уже три недели живут в театрах и понемножку начинают скучать. Они платят по 50 руб. за ложу и не чувствуют в душе радости даже на синенькую. Бедняк один раз заплатит 5 руб., а переживает наслаждений на пятьдесят. Он счастлив, он бредит слышанным. Между тем как люди с приевшимся вкусом только критикуют.
В “Искателях жемчуга”… еще нет оригинальной гармонии, интересной оркестровки, но опера богата мелодиями. Г[осподин] Мазини за весь этот сезон ни разу не пел с таким одушевлением… Наслаждение, которое он доставляет своей лирической арией в первом действии, ни с чем не сравнимо… На этот раз особенных похвал заслуживает хор. Он занимает в “Искателях жемчуга” много места и подчас положительно напоминал нам хор Большого театра». («Новости дня», № 2789. «Избаловались». Подпись — Гобой).
Апрель 11
«Я назову три выдающихся спектакля, о которых мы не забудем много лет: “Отелло” — Таманьо и Кашман [Яго], “Кармен” — Борги и Фигнер, и “Травиата” — Зембрих, Мазини и Котоньи. … Он [Таманьо] весь, с своим феноменальным голосом, мощной фигурой, с простотой движений — всей своей богатой природой захватывает слушателя, как что-то стихийное.
… Подчеркивать детонировки в пении Таманьо — это все равно, что в произведениях Льва Толстого замечать впереди всего неровность стиля.
… А Борги передает сцену гаданья Кармен с такой чувственной силой, что в эту минуту слушатель уже не сомневается в роковой судьбе Кармен.
… Зембрих, Мазини и Котоньи в “Травиате” представляли замечательное трио чистого, красивого пения». («Новости дня», № 2797. «В последний раз». Подпись — Гобой).
112 Апрель 12
Из статьи «Грядущие силы» о спектаклях Театрального училища Малого театра: «Когда я смотрю учеников, меня мало интересуют их успехи в технике сценического искусства. Это дело наживное. Я ищу, прежде всего, искренности и серьезного художественного фундамента… Задачи профессора драматических курсов подметить особенность сценического дарования ученика и дать ему настоящее направление, т. е. научить вдумываться в изображаемые характеры, указать, как ученик должен приниматься за роль». («Новости дня», № 2798. Подпись — Гобой).
Апрель 13
«Судьба “Нового дела” имеет для меня огромное значение. Это — первая пьеса, с которой я рассчитываю выйти на серьезный литературный путь». (Из письма к А. Е. Молчанову. Избранные письма, стр. 56).
Май 19
В «Московской иллюстрированной газете» (№ 125) напечатан рассказ Немировича-Данченко «Своя честь».
Май 28
Выезжает на лето из Москвы в Нескучное.
Июнь 2
В «Московской иллюстрированной газете» (№ 139) — рассказ Немировича-Данченко «Крепкое слово».
Июнь 7
Из письма к А. Е. Молчанову: «Вы сумели подсказать мне то, что я чувствовал все время относительно распределения ролей. У нас в имении около 20 десятин сада. Ручаюсь Вам, что каждая дорожка знает мои сомнения на этот счет. … Нужны репетиции и внимательное отношение ко всему, что актер может найти между строк.
… Варламов — громадный талант. Но… Столбцов прежде всего барин. В этом весь смысл пьесы. Он не делец, потому что он барин… барин вымирающий, кончающий тем, что пойдет к купцу на содержание… Я не вижу Варламова… Я не люблю Сазонова, как актера… Он обладает известным шаблоном и горячностью. Ни того, ни другого мне не нужно… Третьим важным лицом является Людмила.
Да разве я могу иметь что-нибудь против Савиной? … Но я боюсь ее. Она мне отравит все репетиции. Она любит только роли, доминирующие в пьесе. Сидеть целый акт молча, как во втором, — да она меня съест! И поделом. Каково же будет 113 мое положение?.. Она меня уничтожит одними своими глазищами!»50* (Избранные письма, стр. 58 – 60).
Июнь 23
Рассказ «Актриса» напечатан в «Московской иллюстрированной газете», № 160. Подпись — Влад. И. Немирович-Данченко.
Июль 15
Едет в Гнединское ремесленное училище (Александровка, Екатеринославской губернии): «Ездили вы когда-нибудь южной степью? Не ночью, той малороссийской ночью, о которой так вдохновенно писал Гоголь и которая так пленительна на полотне Куинджи. Нет, днем в знойный, полуденный жар… Это трудное путешествие. Степь ширится кругом на десятки верст. Скошенный хлеб лежит жидкими и жалкими копицами — небольшими кучками, разбросанными на десяток сажен друг от друга. Выжженная солнцем солома торчит из земли, как скверно справленная щетка… по другую сторону дороги тянется “отдыхающее” поле… Вдали виднеется группа косарей. Разве в этой степи прокормишь скот сеном? Откуда его взять? Под арбой из “рядна” устроено что-то вроде палатки. Тут ползают дети. Бабы работают вместе с мужиками». (Из очерка Немировича-Данченко «Образцовая школа». «Московская иллюстрированная газета» от 4 августа 1891 г., № 202).
Август 4
В очерке «Образцовая школа» пишет: «Сколько сил бьется в России без применения, сколько средств тратится попусту, на вздорные затеи…
114 И как отрадно станет на душе, когда перед тобой вдруг вырастет дело, вот вроде этого училища, и пахнет от него упорным трудом, сознанием громадной идеи профессионального образования, содержательностью жизни… Доживет ли наше поколение до того времени, когда училища, подобные Гнединскому, расплодятся по всей России и когда каждая деревушка будет иметь не дилетанта-ремесленника, а мастера». (Там же).
Август – сентябрь
По рекомендации Южина начинает педагогическую работу в драматических классах Филармонии. Пресекает подражание готовым образцам, призывает учеников к «творчеству от жизни». Учит жить, а не играть на сцене.
Сентябрь 6
В статье о драматурге В. С. Лихачеве сочувственно отзывается о его проекте: «Режиссерское главенство в театре должно быть соединено с главенством литературным». («Новости дня», № 2944. Подпись — Гобой).
Сентябрь 7
Осуждает проявления шовинизма во Франции по отношению к «знаменитому музыкальному реформатору Вагнеру» (во время представления «Лоэнгрина» толпа у театра кричала: «Vive la France!»51*, «Долой Вагнера!»).
«… Художественная правда одна, а нет правды немецкой или правды французской. Временно нацию может охватить вопрос о “реванше”, — я в эти политические тонкости не вхожу, — но искусству нет до него никакого дела». («Новости дня», № 2945. «Партийность в искусствах». Подпись — Инкогнито).
Сентябрь 10
«На провинциальных сценах царит изумительное невежество, во всех смыслах. Провинциальный актер не литературен до последней степени… Поднять этот уровень могут школы». (Из статьи «Школы» в «Новостях дня», № 2948. Подпись — Гобой).
Сентябрь 16, 18
В двух номерах «Московской иллюстрированной газеты» (№ 245, 247) печатается рассказ «Хороший случай». Подпись — Влад. И. Немирович-Данченко.
Сентябрь 17
«Мольер в Москве» — заметка из «Театрального альбома» в «Новостях дня», № 2955. Подпись — Гобой.
115 Сентябрь 21
«Н. С. Тихонравов, Н. И. Стороженко, Алексей Н. Веселовский и Влад. И. Немирович-Данченко назначены в Театрально-литературный комитет». («Новости дня», № 2959).
Сентябрь 24
«Артисты и критики» — заметки из «Театрального альбома»: «Критика никогда не удовлетворяет артистов, и жалок тот рецензент, кто хочет нравиться им и боится своего собственного мнения». («Новости дня», № 2962. Подпись — Гобой).
Сентябрь 28
«Это сближение театра с литературой — залог счастливого будущего». (Из статьи «Театрально-литературный комитет». «Новости дня», № 2966).
Октябрь 6
Критикует пьесу Зудермана «Честь» за то, что рабочие в ней изображаются невежественными, аморальными, с низкими понятиями о чести. («Новости дня», № 2974. «Честь». Подпись — Гобой).
Октябрь 7
«Островский, может быть, даже больше, чем Гоголь, выступил революционером в области драматической литературы». («Новости дня», № 2975. «Старое по-новому». Подпись — Инкогнито).
Октябрь 8
«Нас увлекает в драмах Ибсена… поразительное понимание того душевного разлада и сомнений, которыми болеет современный человек». («Новости дня», № 2976. «Старое по-новому» (статья вторая). Подпись — Инкогнито).
Октябрь 12
Заметка «С. В. Яблочкина» напечатана в «Новостях дня», № 2980. Подпись — Гобой.
Октябрь 14
В связи с возобновлением «Гамлета» в Малом театре пишет: «Театральная публика верит, что в новой постановке… Офелия не будет петь под музыку романс Варламова “Моего вы знали ль друга”, который до сих пор поют многие провинциальные актрисы.
… Явись к нам теперь русский “Гамлет” 50-х годов, с горделивой осанкой принца крови, с мощной фигурой и зычным басом, потрясающим стены театра хохотом при словах “Оленя 116 ранили стрелой”, — он не будет иметь никакого успеха. — Нет, ты мне растолкуй, правильно ли я понимаю монолог “Быть или не быть”, объясни мне, как смотреть на Гамлета, как на мямлю с флюсом или как на человека решительного? … Дайте мне трагедию в целом, чтобы я чувствовал общий колорит, все образы, какими они жили в душе поэта, все подробности столкновений, каждое движение души». («Новости дня», № 2982. «Гамлет». Подпись — Инкогнито).
Октябрь 15
Пишет о П. П. Гнедиче: «По своим литературным взглядам он принадлежит к новейшей школе реалистов». («Новости дня», № 2983. «П. П. Гнедич». Подпись — Гобой).
Октябрь 27
Из статьи Немировича-Данченко «Бодрые песни»: «Вы непременно почувствуете эту жажду “бодрых песен” в самом обществе… Образ борца, энергичного, не падающего под ничтожными ударами столкновений и обстоятельств, — если только он правдив — захватит вас… Нас ободряет вид юности, в которой чувство долга выше личного счастья». («Новости дня», № 2995. Подпись — Инкогнито).
Ноябрь 5
Премьера «Нового дела» в Александринском театре в бенефис К. А. Варламова.
Ноябрь 14 – декабрь 23
Повесть «Вихрь» печатается в «Новостях дня». Подпись — Влад. И. Немирович-Данченко.
Ноябрь 16
«Оперное либретто должно быть так же полно движения и интереса, как и драма». («Новости дня», № 3015. «Театральный альбом». Подпись — Гобой).
Ноябрь
В «Русской мысли» (книга XI) выходит статья (без подписи) о повести Немировича-Данченко «На литературных хлебах». «Мысль повести ясна и симпатична: честное служение литературе не допускает уступок и компромиссов» (стр. 473 – 475).
Декабрь 1
Рассказ «Румяна» напечатан в «Московской иллюстрированной газете», № 321. Подпись — Влад. И. Немирович-Данченко.
117 Декабрь 25
Рассказ Немировича-Данченко «Для детей» напечатан в «Московской иллюстрированной газете» (№ 345).
Рассказ «У Марьиной рощи (Быль)» вышел в «Новостях дня» (№ 3054). Подпись — Влад. И. Немирович-Данченко.
«Доброму товарищу Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко от автора А. Чехова на добрую память 25/XII – 91» — надпись на книге Чехова «Дуэль». (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 20, стр. 333).
Декабрь
«Новое дело» ставят театры Одессы, Харькова, Казани, Новочеркасска и другие.
1892
Январь 13
Последняя глава повести «Вихрь» напечатана в «Новостях дня» (№ 3072).
Январь
«Новому делу» присуждена Грибоедовская премия. («Артист», № 19. «Хроника», стр. 209).
Февраль
В журнале «Театральная библиотека» (№ 10) опубликована комедия Немировича-Данченко «Счастливец» с авторским описанием реквизита.
Февраль 16
Из статьи Немировича-Данченко «“Дуэль” Чехова»: «Все они [критики] начинают с ламентаций об обманутых надеждах. Всякий считает долгом уронить слезу на талант Чехова, якобы остановившийся в развитии. … Что бы он ни выпустил в свет, наши критики принимают с разочарованной гримасой. И — помяните мое слово — они также проглядят его лучшую вещь, как проглядели зарождение его успеха… Не трудно заметить, что его последнее произведение — лучшее из всего, что им до сих пор написано». («Новости дня», № 3106. Подпись — В. Н.).
Февраль
«Не верьте двоедушным и только наполовину одобрительным рецензиям: “Дуэль” — лучшее из всего, что вы до сих 118 пор написали». (Из письма к Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 97).
Март 22
К. С. Станиславский и актеры Малого театра играют в Рязани пьесу Немировича-Данченко «Счастливец».
Март 23
Из письма С. В. Рахманинова к Н. Д. Скалой: «Опера называется “Алеко”. Либретто заимствовано из поэмы Пушкина: “Цыгане”, и составлено Влад[имиром] Немировичем-Данченко. Либретто очень хорошо сделано. Сюжет чудный. Не знаю, будет ли чудная музыка!» (С. В. Рахманинов, Письма, М., Гос. муз. изд-во, 1955, стр. 65).
Март
Готовит вместе с Южиным выпускные спектакли Филармонического училища: «Доходное место», «Василиса Мелентьева» Островского и «Надо разводиться» В. Сарду.
Продолжает занятия на первом курсе Филармонического училища по выработанной им программе52*. Не удовлетворяется «читкой», добивается слияния актера с ролью. «Все читка, — пишет он об одной из своих учениц, — живой речи не слышу, не думаю, чтобы из нее вышла интересная актриса». (Архив училища. Музей МХАТ).
Апрель
Дает характеристики учащимся первого курса. «Очень не хочется, — пишет он о Шульц, — чтобы оставалась в школе. Накрашена, намазана, походка какая-то подозрительная. В чтении, сравнительно недурном, есть уже дурная рутина. По опыту знаю, что такие ученицы неисправимы и выходят в актрисы, каких много и какие вредят искусству в его благородном развитии». (Там же).
Апрель 8
Рассказ Немировича-Данченко «Весною» напечатан в «Московской иллюстрированной газете» (№ 96).
Май 22
Выезжает с женой в Крым.
Июнь
В Нескучном. Работает над новой пьесой. «… Иногда мне кажется, что я понимаю больше, чем могу, а сделал уже все, что могу. Тогда состояние духа у меня самое угнетенное. Стоило из-за того, что я сделал, начинать писать для сцены!
119 Самолюбие это или что другое, уж не знаю, не задумывался, а только скверно тогда на душе. И потом, писать бы то, что легко дается. Так нет же! Вскоре по приезде я выкинул из пьесы все, что мне казалось фальшивым, и сюжет сложился как-то быстро, просто, симпатично, но уж очень легко. В месяц бы, кажется, написал великолепно. И что же? Со второго дня тоска взяла. Нужно очень время тратить на пустяки! … Повторяю, что у меня выйдет — не знаю. Самую фабулу я опростил до последней степени. Стало быть, весь интерес — на глубине анализа. В то же время слишком хорошо понимаю, что для сцены нужно писать так, чтобы публику захватило. Вот тут-то и недоверие к себе. То кажется, что не могу, а то — что еще как могу!» (Из письма к Южину от 30 июня 1892 г. Избранные письма, стр. 64).
Июнь 7
Рассказ «Хорошая девушка» напечатан в «Московской иллюстрированной газете», № 156. Подпись — Вл. И. Немирович-Данченко.
Июль (после 15)
«Можешь себе представить, что я только-только начал писать пьесу (отвергнув прошлогоднюю совершенно)… Я все мечтаю написать лучше той, которую все равно напишу… Я написал 1/4 большого романа (и уже отправил его в Московскую иллюстрированную газету) под названием “Мимо жизни”… Кроме того написал 4 рассказа и уже напечатал их (все там же)». (Из письма к Южину. Архив А. И. Южина. ЦГАЛИ).
Лето
Пишет программу для третьего курса Филармонического училища и посылает ее Южину: «Жду с нетерпением твоих замечаний относительно программы занятий на 3-м курсе». (Там же).
Август 25
«Против Корнеля в Малом театре я всегда буду. … Кому он нужен, кому дорог, кому интересен этот Корнель? Для нынешней публики ставить Корнеля — значит умышленно отводить ее глаза от того, над чем она действительно должна размышлять, пустой, внешней, декоративной забавой…
Мы спорим вот уже 7 лет все о том же». (Из письма к Южину. Избранные письма, стр. 66).
Сентябрь 1
Встречается в Москве с А. И. Южиным, рассказывает ему содержание новой драмы, которую хочет назвать «Старый 120 дом». Об этой встрече — запись в дневнике Южина: «Я заметил себе, что у меня с ним вначале несколько натянутый тон. Нет прежней шутливости и легкости отношений. Говорили обо всем до 10 часов вечера». (А. Южин-Сумбатов, Записи, статьи, письма, стр. 80).
Сентябрь 2
В антракте спектакля «Северные богатыри» Ибсена заходят за кулисы к А. П. Ленскому. Спорит с ним о роли Литературно-театрального комитета. (Там же).
Сентябрь
Начинает занятия на втором курсе Филармонического училища. Добивается развития:
«А. Внешних данных — лица, его выразительности, фигуры, природной грации, гибкости и т. д.
Б. Дикции: голоса, красоты и силы звука, умения владеть им, чистоты и отчетливости произношения, благородства и разнообразия интонаций.
В. Тона: художественного вкуса, верности тона, жизненности, простоты, легкости, богатства фантазии, отсутствия тривиальности, разнообразия, травильной интерпретации роли и наблюдательности.
Г. Темперамента: яркости окраски, силы ощущения настроений и заразительности его, экспрессии передачи.
Д. Сценизма». (Архив училища. Музей МХАТ).
Сентябрь 15
В «Московской иллюстрированной газете» (№ 256) появилась первая глава романа Немировича-Данченко «Мимо жизни».
Октябрь
В «Артисте» (№ 23) напечатана новая комедия Немировича-Данченко «Елка».
Октябрь – ноябрь
В «Артисте» (№ 23 и 24) печатается повесть «С дипломом».
Ноябрь 11
Получил письмо из Мелихова от Чехова. Отвечает ему: «Наконец-то!.. Я Вас ищу два месяца, тоскую по Вас». («Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 97).
Ноябрь 16
Просит А. П. Ленского играть роль Бибикова в «Елке»53*.
121 Декабрь 1
Читает «Палату № 6» А. П. Чехова.
Декабрь
Ведет генеральные репетиции «Женитьбы Белугина» в Филармоническом училище. Просит Южина «непременно быть… Необходимо, чтобы ты подробно объяснил ученикам все их недостатки». (Избранные письма, стр. 68).
Декабрь 12
Из письма к Чехову: «Итак, в среду, в шесть часов выезжаю… Это значит, — ночь говорим? И чудесно. Предвкушаю это удовольствие. “Палата № 6” имеет успех огромный, какого у Вас еще не было». («Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 99).
Декабрь 14
Был на премьере «Марии Шотландской» Бьёрнсона-Бьёрнстьерне в Малом театре.
Декабрь 25
Рассказ «Домовой» (с портретом Немировича-Данченко) — в «Новостях дня», № 3418. Подпись — Вл. И. Немирович-Данченко.
Декабрь 29
В «Московской газете»54* (№ 359) напечатана 17-я глава романа «Мимо жизни».
1893
Январь 9
Первая глава второй части романа «Мимо жизни» — в «Московской газете» (№ 9).
Январь
Посещает спектакли Театрального училища Малого театра, поставленные А. П. Ленским.
Зима
Посмотрев в Малом театре спектакль «Волки и овцы», пишет А. П. Ленскому, исполнявшему роль Лыняева: «Так надо 122 играть настоящую комедию: легко, свободно, полно смысла, типично, точно! Это истинно — художественно». (Избранные письма, стр. 70).
Февраль 27
На 7-й главе второй части обрывается роман «Мимо жизни». «Московская газета» прекращает свое существование.
Март
Приглашает А. П. Ленского на экзаменационные спектакли второго курса Филармонического училища: «Мне очень дороги были бы твои замечания. И именно по поводу первого спектакля учеников, которым предстоит переход на 3-й курс». (Избранные письма, стр. 71).
Март 28
Рассказ «Сестра» вышел в «Новостях дня», № 3510. Подпись — Влад. И. Немирович-Данченко.
Апрель
Сравнивает две редакции своей пьесы «Новое дело»: «Моя пьеса в первой редакции была точно так же полна подробностей о разработке каменного угля и ее пользе для края. Но уже и в первой редакции я твердо ставил себе задачу: весь проект нового дела должен быть только канвой для обрисовки характеров и их столкновений… Главное же мое внимание должно быть устремлено на лица и их типические особенности… Надо было рассовать все частности дела так, чтобы на первом плане были чисто житейские отношения между лицами и чтобы скучная фактическая сторона не утомляла зрителя». (Из письма к А. А. Луговому. «Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 470 – 471).
Апрель 25, 28, май 11
В статье «Театральные школьники» пишет о задачах театрального образования в России: «Школа должна существовать… В таланты, взращенные на почве провинциальных театров, все изверились». Характеризует А. П. Ленского как лучшего преподавателя драматического искусства в России, хвалит его ученицу Е. Д. Турчанинову. («Новости дня», № 3537, 3540, 3553. Подпись — «В»)
Апрель 27
Впервые в Большом театре поставлена опера С. В. Рахманинова «Алеко» (либретто Вл. И. Немировича-Данченко).
123 Май 20 и 21
Участвует в заседаниях Литературно-театрального комитета и в Комиссии по литературным премиям.
Июль 6
«В данное время я всей душой и всеми помыслами в театральной атмосфере. Давно мне не хотелось так написать хорошую пьесу, как в это лето». (Из письма к Южину. Архив А. И. Южина. ЦГАЛИ).
Июль 13
В письме к Южину: «Все, что я писал в продолжение двух прежних лет, отодвинуто, а пишу я пьесу новую, задуманную внезапно55*… Ввиду этого, я дорожу временем, как никогда. Кроме того, ради той же пьесы, мне придется съездить кое-куда для справок по некоторым впечатлениям и настроениям.
… Сюжет пьесы для меня не нов. Года три назад я его обдумывал, но, во-первых, не решался почему-то браться за него, а во-вторых, не имел “модели”, а в этот день — 7 июня — счастливый или несчастный, покажет будущее, — внезапно натолкнулся на такую “модель”.
… Из нашего летнего бюджета вылетело 200 целковых… Правда, не они предназначались на поездку к вам, тем не менее вы поймете, что в нашей скромной жизни минус 200 руб. если и не опрокидывает все расчеты, то все-таки заставляет съежиться». (Там же).
Июль – октябрь
Пишет пьесу «Золото».
Октябрь 20
Баллотируется в действительные члены Общества любителей российской словесности при Московском университете. (Приложение к сборнику «Почин», М., 1896).
Ноябрь 6
«Завтра в 8 час. вечера читаю свою пьесу… Зову Ленского с Нечаевой, Гославского, Куманина, Александрова, Потапенко с Сергеенкой, дядю, Веру, Машу». (Записка к М. Н. Сумбатовой-Южиной. ЦГАЛИ).
Ноябрь 17
Московское психологическое общество избирает Немировича-Данченко действительным членом. (Архив Н-Д, № 6862).
124 Декабрь 1
«Москвичи и итальянцы» — статья Немировича-Данченко об итальянской опере. («Новости дня», № 3757. Подпись — Гобой).
Декабрь 4
Пишет о французском актере Февре в «Тартюфе». (См. статью «Недоразумение», «Новости дня», № 3760. Подпись — Гобой).
Декабрь 8
Слушает итальянскую певицу Адель Борги в «Кармен».
Декабрь 9
«Ошибусь ли я, если скажу, что “Кармен” — глубокая, идейная драма, а Борги достигает в ней высоты первоклассной драматической артистки?» («Новости дня», № 3765. «Дневник журналиста». Подпись — Инкогнито).
Декабрь 11
Пишет П. П. Гнедичу, что ставит в Филармоническом училище его пьесу «Стоячие воды». «Недавно делал генеральную репетицию. И Боборыкин смотрел». (Избранные письма, стр. 75).
Декабрь 17
В связи с выступлением итальянского певца Маттиа Баттистини в опере «Эрнани» пишет: «Я лично не люблю этой оперы. Да простят мне поклонники Гюго, я не люблю даже драмы “Эрнани”. За исключением всей сцены перед гробницей Карла Великого, остальные части пьесы наводят на меня скуку.
… Долг чести — качество великое, но не условным сценическим произведениям, с их ложной приподнятостью тона, пробуждать это чувство». («Новости дня», № 3773. «Лед тронулся». Подпись — Гобой).
Декабрь 25
В рассказе «Отдых» пишет о рабочем сталелитейного завода, работавшем в бессемеровском цехе по 12 часов в сутки и попавшем в рождественские праздники на «отдых» в острог. Девушка, от лица которой ведется рассказ, говорит: «Я теперь так охвачена желанием устроить возвращение Николая на родину!.. Или Вы опять скептически улыбаетесь? Велика, мол, польза спасти одного из десятков тысяч! Ведь этим, мол, не заставишь заводчиков заботиться о силах и здоровье рабочих! Не знаю. Разрешать социальные вопросы я не бралась. 125 Я знаю только то, что мне подсказывает сердце, и счастлива только тогда, когда мои поступки живут в ладу с совестью». («Новости дня», № 3781. Подпись — Вл. И. Немирович-Данченко).
Декабрь 31
Сообщает Чехову, что приедет к нему в Мелихово 3 января поздравить с Новым годом.
1894
Январь 2
Чехов пишет А. С. Суворину из Мелихова: «Сегодня жду Немировича-Данченко, драматурга». (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 16, стр. 112).
Январь 5
«Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко на память о сердечно преданном ему авторе. А. Чехов. Мелихово, 94 5/I» — надпись на книге Чехова «Палата № 6». (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 20, стр. 334).
Январь
Вместе с К. Н. Рыбаковым готовит выпускные спектакли в Филармоническом училище: «Гроза» Островского и «Тартюф» Мольера.
Февраль 5
На заседании Общества любителей российской словесности читает второй акт своей пьесы «Золото».
Февраль
Подает П. М. Пчельникову56* проект о переустройстве Малого театра. «Вопрос очень интересный и захвативший меня». («Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 472).
Март
Хочет уйти из Литературно-театрального комитета, но боится, что тогда «театр очутится в руках книжников». (Из письма к П. П. Гнедичу. Там же, стр. 471).
«Засел за свою пьесу (не трогал ее с ноября)». (Там же).
126 Апрель 5, 6
Экзаменационные спектакли Филармонического училища, подготовленные Вл. И. Немировичем-Данченко и К. Н. Рыбаковым.
Июнь – июль
Живет в Нескучном. Переделывает и заканчивает роман «Мимо жизни», печатавшийся в «Московской иллюстрированной газете». (Новое название романа — «Мгла»)57*. Приступает к роману «Старый дом» («Мертвая ткань»). Работает над пьесой «Золото». «Пришел к убеждению, что требуется переделать часть первого и весь четвертый акт». (Из письма к Южину. Архив А. И. Южина. ЦГАЛИ).
Сентябрь 1
Отправляет пьесу «Золото» в Александринский театр. Просит Н. Ф. Сазонова играть в ней роль Николая Кочевникова: «Ваш отказ повлиял бы на меня удручающим образом. … Она [пьеса] может оказаться скучноватой, но не глупой и не антилитературной». («Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 472).
Октябрь (начало)
Статья о театральном образовании «Театр и школа» вышла в журнале «Артист», № 42. Подпись — Вл. И. Немирович-Данченко.
Октябрь (до 20)
«“Золото” здесь [в Петербурге] уже вылетело на афишу… Первая репетиция прошла горячо, но ко второй получена была первая печальная депеша из Ливадии58*… Сам наследник59* пользуется здесь нелестной репутацией кутилы и зашибалы». (Из письма к Южину. Архив А. И. Южина. ЦГАЛИ).
Октябрь 20
Премьера «Золота» в Александринском театре отменена из-за смерти Александра III.
Ноябрь, декабрь
Вышел в свет сборник «Слезы» (М., 1894) из десяти рассказов и повестей Вл. И. Немировича-Данченко: «Детский праздник» (был переделан из одноактной пьесы «Елка»), «С дипломом», «Вихрь», «Письмо», «Актриса», «Последний вечер», «Своя честь», «Надя», «Сестра», «Весною».
127 Декабрь
После репетиций «Золота» пишет о режиссуре и актерах Александринского театра: «Ал. Антипович [Потехин] бывал чаще Крылова, но поменьше занимался. Крылов помогает в mise en scène больше, зато не произносит ни одного звука относительно верности или неверности тона. Это ему чуждо. Федоров же по-прежнему сидит в глубине и философствует, потом вдруг сорвется с места и начнет развивать вопрос о том, в чем преимущество Аристотелевой теории перед пряжкой на ботинке Людовика XVII. Актеры же по-прежнему видят задачу свою только в выучке роли и каждую минуту имеют наготове банальные интонации и шаблонные приемы». (Из письма к Южину. Архив А. И. Южина. ЦГАЛИ).
Декабрь (до 24)
М. Г. Савина не соглашается с развязкой пьесы «Золото» — с тем, что Валентина выходит замуж60*.
Декабрь 24
Из письма к М. Г. Савиной: «Я задал себе вопрос: почему я не могу найти выхода из положения Валентины? … Реального правдивого выхода для нее быть не может.
… В монастырь идти? Валентина и там видит ложь. Уйти куда-то, в пространство — значит, внушить недоверие к возможности существования таких лиц. … Как только Валентина объявила, что выходит замуж, так она моментально полетела сверху вниз. … Постепенно ей становится так стыдно, как еще не было никогда. Она убила в себе свой идеал». (Избранные письма, стр. 86 – 87).
Декабрь
После генеральной репетиции «Золота» пишет Ермоловой: «Дорогая Мария Николаевна! Мне хочется написать Вам, что каков бы ни был исход представления “Золота”, я уже испытал величайшее наслаждение, какое только может выпасть на долю хоть и маленького, но вдумчивого и искреннего писателя. Может быть, пьеса не будет иметь успеха, и тогда на смену моим теперешним чувствам явятся другие, помельче, — будет задето мое самолюбие, наступят разочарования в самом себе, исчезнут надежды двухлетнего труда. Тогда я не так сильно буду испытывать ту радость, какою охвачен благодаря Вам, теперь, сейчас». (Там же, стр. 87).
128 1895
Январь 2
Премьера пьесы «Золото» в Малом и Александринском театрах.
Январь 8
«Никак не ожидал, что П[етербург] так ласково примет пьесу. Москва была холоднее. Зал разогрелся только после 3-го д[ействия]. А мы ждали большого успеха во 2-м. Играли грузно и тягуче, но хорошо. А главное, очень разобиделись господа Кочевниковы61*, из которых, в сущности, и состояла публика». (Из письма к П. П. Гнедичу. «Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 473).
Январь
В журнале «Артист» (№ 45) напечатана пьеса «Золото».
Февраль 11
Просит Чехова поскорее прислать рассказ «Супруга» для сборника «Почин», издаваемого Обществом любителей российской словесности.
Февраль 12
К. С. Станиславский и М. П. Лилина смотрят «Золото» в Малом театре.
Март 20
Чехов дарит свою книгу «Повести и рассказы»: «Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко на память о моем сердечном расположении к нему. Антон Чехов, 95 20/III». (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 20, стр. 335).
Март
«Высокоталантливому Антону Павловичу Чехову от автора» — надпись Немировича-Данченко на книге «Старый дом» («Мертвая ткань»). (Издание журнала «Русская мысль», М., 1895).
Апрель
Экзаменационные спектакли Филармонического училища на сцене Малого театра, осуществленные Немировичем-Данченко совместно с А. А. Федотовым.
129 Апрель 27
«Не ответил на Ваше милое письмо о “Слезах”, не поблагодарил за книгу. … “В усадьбе” — классическая пьеса, уверяю Вас. Делает подавляющее и громадное впечатление. Даже среди Ваших рассказов это из лучших». (Из письма к Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 100).
Май 8
Вместе с женой приезжает к Чехову в Мелихово.
Май 13
Выезжает из Москвы.
Май
«Прибывши к Карышеву62*, мы были заарестованы ввиду приезда губернатора… Много любопытных наблюдений по моей части. Я с ним странствовал по волостям и наблюдал ревизию… Гуляя с губернатором впервые в поле, я его “щупал”63*… Он [Мартынов] преображенец, не окончивший курс Моск. университета. Не любит дворянских тенденций, терпеть не может попов, охотник хорошо побеседовать». (Из письма к Южину от 16 июня 1895 г. Архив А. И. Южина. ЦГАЛИ).
Июнь
Живет в Нескучном. «Теперь я пишу рассказ, потом напишу еще рассказ, а потом — хочу сделать первую редакцию пьесы»64*, (Там же).
Июнь 16
«У нас есть маленькая теплая радость: на усадебной земле, при (въезде к нам, строится школа имени покойного отца Кати»65*. (Там же).
Август
Получает письмо от А. П. Ленского с «добрым отзывом».
О повести «Драма за сценой» (первоначальное название «Артисты»). Отвечает ему: «Автору приятно, когда он понят. … Я именно враг тех внешних и лживых красок, которыми полны все вещи из актерского мира, кроме “Леса” и “Талантов” Островского.
… Принялся за пьесу. Пишу сравнительно с прежним быстро, но беллетристическая работа начала уже забаловывать меня. Не можешь представить, до чего это легче. Повесть пишешь, 130 ничтоже сумняшеся, с легким сердцем и гладким челом, по 1/2 печатного листа в день, катишься по гладкой поверхности. Тут же все сплошь рытвины и ухабы. Ох, так ли? Ах, слабо! Нет, надо проверить рисунок, а потом уж класть краски, кажется, тут вранье. А как это пойдет к 3-му действию? Это скомкано, это размазано, здесь надо сильнее, эта мысль банальна и потому пролетит мимо слушателя. А поймет ли это актер? Этот конец не эффектен. Не надо ли экономнее поступить с действием? Чистые роды.
Зато насколько приятнее добиваться желаемого!» (Избранные письма, стр. 88 – 89).
Август – сентябрь
В «Русской мысли» (книги 8 и 9) печатается повесть Немировича-Данченко «Губернаторская ревизия»66*.
Октябрь 1
Возобновляет занятия в Филармоническом училище.
Октябрь 1
Посылает письмо редактору «Русского богатства» Н. К. Михайловскому о своей повести «Драма за сценой»67*: «Я взял маленькую труппу в уездном городишке, не лишенную нескольких истинных талантов, и рассказал, каким путем эти 8 – 10 человек доходят до буквального голода. Любовный роман идет само собой. Он несколько щекотлив по положениям, хотя, по моему убеждению, наиболее типичен. … Я старался поставить все главнейшие вопросы духовной жизни этого своеобразного мирка». (Избранные письма, стр. 90).
Октябрь 6
Чехов пишет: «Вчера, на ночь глядя, прочел Вашу “Губернаторскую ревизию”. По тонкости, по чистоте отделки и во всех смыслах это лучшая из всех Ваших вещей, какие я знаю… Знание жизни у Вас громадное…» (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 16, стр. 268 – 269).
Ноябрь 2
Только что вышедшую книгу «Остров Сахалин» Чехов дарит с надписью: «Милому Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко от автора». (Музей-квартира Вл. И. Немировича-Данченко).
Ноябрь (до 30)
Уезжает в Нескучное в связи с открытием народной школы.
131 Декабрь
Готовит выпускные спектакли Филармонического училища: «Праздничный сон — до обеда», «Воевода» Островского и «Жорж Данден» Мольера. Роли Бальзаминова и Дандена поручает ученику третьего курса И. М. Москвину68*. Ставит «Нору» Ибсена, в которой будущая актриса и режиссер Художественного театра Н. Н. Литовцева играет Нору69*, а И. М. Москвин — Ранка.
Чехов прислал рукопись «Чайки», потом приехал, чтобы выслушать мнение о ней: «… Я подробно и долго разбирал пьесу. Я сидел за письменным столом перед рукописью, а он стоял у окна, спиной ко мне, как всегда заложив руки в карманы, не обернувшись ни разу, по крайней мере, в течение получаса и не проронив ни одного слова. Не было ни малейшего сомнения, что он слушал меня с чрезвычайным вниманием, а в то же время как будто так же внимательно следил за чем-то, происходившим в садике перед окнами моей квартиры… Было ли это от желания облегчить мне высказываться свободно, не стеснять меня встречными взглядами, или, наоборот, это было сохранение собственного самолюбия?» (Вл. И. Немирович-Данченко, Из прошлого, стр. 58).
Советует Чехову изменить финал первого действия «Чайки», в котором неожиданно выясняется, что Маша является дочерью Дорна.
В «Русском богатстве» (№ 12) статья Н. К. Михайловского «Литература и жизнь» о творчестве Вл. И. Немировича-Данченко, о его романе «Старый дом»: «В нашей литературе есть двое гг. Немировичей-Данченко: один, Василий, — чрезвычайно плодовитый, блестящий, писания которого переполнены яркими красками, кричащими образами и сценами, гиперболическими выражениями, невозможными происшествиями, и другой, Владимир, — далеко не столь цветной, но зато гораздо более серьезный, вдумчивый и правдивый».
1896
Январь 19
Премьера «Елки» в Малом театре.
Февраль 25
На сцене Малого театра идут экзаменационные спектакли: «Праздничный сон — до обеда» и «Нора», поставленные Немировичем-Данченко. 132 Знаменитая артистка Малого театра Н. М. Медведева хвалит исполнение Норы — Н. Н. Литовцевой. (См. письмо П. Д. Боборыкина к Немировичу-Данченко от 8 августа 1896 г. Архив Н-Д, № 3326/2).
Март 2
«Жорж Данден» Мольера исполняется на сцене Малого театра учениками Немировича-Данченко.
Март 15
Участвует в заседании учредителей Литературно-художественного кружка.
Апрель – май
Пишет очерки «Москва в мае 1896 года. Письма о коронации. От нашего специального корреспондента Влад. И. Немировича-Данченко». («Нива», № 19 – 23).
Май 20
Очерк о «катастрофе на Ходынском поле» — «Ходынка»: «18 мая… должны были раздаваться угощения. В ситцевом платочке мешок с орехами, пряник, сайка, колбаса и кружка с гербом. … В эту коронацию таких мешочков приготовлено 400 тысяч.
… Давка началась с ночи. Уже к трем часам там были задавленные…
От Москвы приближались новые толпы… Массу охватила боязнь, что стоящие впереди разберут подарки… Воздух все сильнее и сильнее оглашался криками и стонами сдавленных. Самые задние ряды хлынули вперед, опрокидывая других в овраг, во рвы… По головам тех, кто находился в ямах и рвах, побежали, топча их каблуками; падавшие хватали за ноги и в отчаянии кусали бежавших по ним, стараясь уцепиться и роняя их на себя. Произошла свалка полумиллионной толпы.
… Один передает, что голова его и плечи находились под трупами, а по спине и ногам колотили тысячи каблуков. Двое клялись, что с четырех часов утра до момента катастрофы они двигались вместе с “упокойником”, погибшим стоя, сдавленным их плечами, причем они не имели возможности отодвинуться “на палец”, чтобы “выслобонить” его… Тут не было выбора: либо тому погибать, либо ему… До поздней ночи трупы развозились по участкам. В иных сараи до того были заполнены ими… в груде на высоте нескольких аршин ничего 133 не было видно, кроме ног… Для многих вырыты большие, братские могилы». («Нива», № 22).
Июнь (до 18)
Следит за официальными статьями о Всероссийской промышленной и художественной выставке: «Доходила ли когда-нибудь печать до такой наглости, невежества и разврата?» (Из письма к Южину от 18 июня 1896 г. Архив А. И. Южина. ЦГАЛИ).
Июнь 18
«А я уже успел окончательно надумать и чуть начать пьесу, за которую примусь, впрочем совсем, только написав рассказ листов с пять (“Нива”). На днях окончу его». (Там же).
Июнь – ноябрь
Пишет новую пьесу «Цена жизни»: «Писал я ее с невероятным напряжением, настолько сильным, что давал себе слово больше не писать пьес». (Из письма к Чехову от 22 ноября 1896 г. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 103).
Июль 2
«Относительно репертуара я утверждаю, что Малый театр должен быть академией, в которой нет места 4/5 наших пьес». (Из письма к П. М. Пчельникову. Избранные письма, стр. 94).
«Пьеса, принятая на императорскую сцену, по-моему, должна быть в ее репертуаре. Не год, не два, а до тех пор, пока она не потеряла, окончательно своего литературного смысла… Не думаю, чтобы Вы признавали “поставщичество”, изобилие новинок и спешность их постановки». (Из письма к Е. П. Карпову. Там же, стр. 95 – 96).
Октябрь 17
Провал «Чайки» в Александринском театре.
Октябрь 23
«Милый друг, Владимир Иванович, — пишет Чехов, — если можно, пришли мне… “Мглу”, “Губернаторскую ревизию”, “Драму за сценой”… конечно, с автографами. “Драмы за сценой” я еще не читал. Из твоих книг у меня есть только “На литературных хлебах”, “Старый дом” и “Слезы”. Пьес нет ни одной». (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 16, стр. 372 – 373).
134 Октябрь – ноябрь
Уезжает на месяц из Москвы, чтобы закончить пьесу «Цела жизни»: «Здесь мне отлично. Тихо так, что слышен лай собак за 3 версты. Ничто меня не отвлекает от работы. Благодаря этому я в данное время нахожусь в самом радужном состоянии духа, что, как ты знаешь, полезно и для самой пьесы». (Из письма к Ленскому. Избранные письма, стр. 97).
Ноябрь 8
Посылает оттиски «Цены жизни» А. Е. Молчанову и просит: «Ради создателя, устройте, чтобы цензура не вздумала хозяйничать в ней». («Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 476).
Ноябрь 11
В письме к Чехову: «Прости, что так долго не отвечал Тебе. Все хотел или засесть за большое письмо, или хоть выслать книги. Но в заботах о пьесе, школе, Комитете и т. п. — все некогда.
… Давно о тебе ничего не знаю, и это меня гложет. Не читал даже ни одной заметки о “Чайке”. Слышал, что она не имела успеха или, точнее сказать, имела странный неуспех, и искренно больно мне было. Потом мои предположения подтвердились. Сумбатов был в П[етер]бурге и присутствовал на 4-м представлении. Он говорит, что в таком невероятном исполнении, в таком непонимании лиц и настроений пьеса не могла иметь успеха. Чувствую, что ты теперь махнешь рукой на театр, как это делали и Тургенев и другие.
… У меня начинает расти чувство необыкновенной отчужденности от П[етербур]га с его газетами, актерами, гениями дня, пошляческими стремлениями под видом литературы и общественной жизни». (Избранные письма, стр. 98).
Ноябрь
Савина пишет Немировичу-Данченко о «Цене жизни»: «Пьеса мне “ужасно” нравится, исключая четвертого акта, который мне кажется после новых, сильных и эффектных трех, приставленным». (Избранные письма. Приложения, стр. 471).
Просит А. П. Ленского встретиться с декоратором А. Ф. Гельцером в связи с постановкой «Цены жизни».
Ноябрь 22
Отвечает на письмо Чехова: «Может быть, у тебя и серьезно есть недоброе чувство против меня за то, что я несколько лет подбивал тебя писать пьесу. Но я остаюсь при убеждении, которое готов защищать как угодно горячо и открыто, 135 что сцена с ее условиями на десятки лет отстала от литературы и что это скверно и что люди, заведующие сценой, обязаны двигать ее в этом смысле вперед». (Избранные письма, стр. 99).
«Я чувствую себя перед тобой слишком маленьким и ты подавляешь меня своей талантливостью». (Там же).
Ноябрь 24
Чехов посылает Таганрогской библиотеке «Мглу» и «Губернаторскую ревизию» и просит предупредить, «чтобы Владимира Ивановича Немир[овича]-Данченко не смешивали с его братом Василием. Их надо отличать так же, как Антона Чехова от Александра, Владимира Короленко от Лавра»70*. (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 16, стр. 399).
Декабрь 10
«Собираюсь последовать Вашему совету и прочесть пьесу Толстому». (Из письма к П. А. Сергеенко. Избранные письма, стр. 102).
Декабрь 12
Премьера «Цены жизни» в Малом театре в бенефис Ленского. После премьеры сидел с участниками спектакля в ресторане до шести часов, дожидаясь утренних газет. Был «мрачен, неудовлетворен до последней степени, несмотря на огромный успех… Винил себя в том, что в четвертом действии все кончается хорошо, благополучно, что не так, не так кончена пьеса»71*. (Из беседы Немировича-Данченко с актерами МХАТ 2 апреля 1936 г. Стенограмма. Музей МХАТ).
Декабрь 15
В. Н. Давыдов пишет Немировичу-Данченко о «Цене жизни»: «Пиесу Вашу я прочел… от первых трех актов я в восторге! Как всегда, Вы и новы в них и интересны; характеры главных лиц ярки, выдержаны, отрадно над ними работать… но, простите, четвертый акт слаб… Почему напало на всех такое евангельское смирение и всепрощение, мне непонятно». (Избранные письма. Приложения, стр. 474).
Декабрь
Принимает участие в подготовке Всероссийского съезда сценических деятелей. Намеревается сделать доклад о театральных школах.
136 Отказывается от Грибоедовской премии, присужденной «Цене жизни», в пользу чеховской «Чайки».
«“Губернаторская ревизия”… одно из лучших и наиболее удавшихся произведений Вл. И. Немировича-Данченко и по богатству красок провинциальной жизни, и по отделке деталей, и по обрисовке характеров, и по психологическому анализу». (А. Скабичевский, «Владимир Иванович Немирович-Данченко», «Новое слово», 1896, декабрь, кн. 3, стр. 169).
1897
Январь
Находится в Петербурге в связи с постановкой «Цены жизни» в Александринском театре.
Январь 16
Премьера «Цены жизни» в Петербурге в бенефис Савиной.
Январь 21
Вернулся в Москву, получил телеграмму от М. Г. Савиной об успехе второго представления «Цены жизни».
Февраль
По-прежнему увлеченно работает в Филармоническом училище. Отмечает наиболее способных учениц второго курса: О. Книппер, М. Савицкую, Е. Мунт72*. У Книппер «жизненный яркий тон, несомненное присутствие темперамента и непринужденность на сцене». Добивается, чтобы сильный темперамент Савицкой был направлен не на «горячность», а на выражение жизненно драматических настроений. (Архив училища. Музей МХАТ).
Февраль 15
В театре Корша на литературно-музыкальном вечере в пользу нуждающихся студентов Московского университета читает отрывок из своей повести «Драма за сценой» (К. С. Станиславский выступал в этот вечер с чтением «Скупого рыцаря»).
Март 9 – 23
Участвует в заседаниях I Всероссийского съезда сценических деятелей. (Председатель отдела вопросов о цензе, нормировке, вознаграждении и материальном обеспечении актеров. Председатель оперного подотдела.)
137 Март 15
Выступает на юбилейном вечере памяти А. Н. Островского, устроенном Обществом любителей российской словесности. По отзывам газет, его речь — «умное, прекрасно произнесенное слово». (Речь об А. Н. Островском опубликована в журнале «Театр и искусство», 1897, № 12).
Март 18
Выступает на съезде с речью о театральной критике и театральных школах.
Март 22
Составляет и оглашает на съезде резолюцию оперного подотдела: «… Съезд признает современное положение русского оперного дела в России не удовлетворяющим истинным художественным требованиям». («Новости дня», № 4955).
Апрель 4
К. С. Станиславский присутствует на экзаменационном спектакле Филармонического училища (класс Вл. И. Немировича-Данченко).
Май (начало)
Пишет Чехову: «Читал с огромным напряжением “Мужиков”. Судя по отзывам со всех концов, ты давно не имел такого успеха». («Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 104).
Благодарит Чехова за сборник «Пьесы» и приглашает его на июль в Нескучное. «Какой был бы праздник!» (Там же).
Май 6
Из Нескучного отвечает на письмо театрального критика С. Флерова-Васильева, задумавшего перевести «Цену жизни» на итальянский язык для Элеоноры Дузе. (См. Избранные письма, стр. 102).
Июнь 3
В докладной записке П. М. Пчельникову ставит вопрос о реорганизации Малого театра, о комплектовании труппы, о строгом выборе современного репертуара, о режиссерском управлении, о характере и порядке репетиций, о необходимости иметь главного режиссера, двух вторых режиссеров, двух их помощников. (См. письмо к Е. П. Карпову. «Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 479).
Июнь
Живет в Нескучном. Задумывает новую пьесу.
138 Июнь 7
Сообщает Станиславскому, что будет в Москве между 21 и 26 июня.
Июнь 22
В Москве, в ресторане «Славянский базар», встречается со Станиславским. Они обсуждают программу создания нового театра. «В момент, когда мои сотоварищи по Обществу искусства и литературы, потеряв терпение в ожидании создания постоянного театра, готовы были разойтись в разные стороны, случилась знаменательная встреча с Вл. И. Немировичем-Данченко.
То, о чем я мечтал и не мог привести в исполнение, было выполнено Владимиром Ивановичем. Основался Художественный театр». (К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 5, стр. 384).
«Было решено, что мы создаем народный театр — приблизительно с теми же задачами и в тех планах, как мечтал Островский». (К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 1, стр. 186).
Июль 12
Пишет Станиславскому из Ялты: «Мы взяли верный тон и возбуждаем огромное доверие». Рекомендует в труппу Художественного театра своих учеников — Москвина, Петровскую и Кошеверова. (По окончании Филармонического училища они играли в провинциальных театрах). («Ежегодник МХТ» за 1949 – 1950 гг., стр. 77).
Июль 18
«В течение лета я, несмотря на множество обещаний, не написал ни строки беллетристики. Качусь на рельсах только по направлению к театру». (Из письма к Е. П. Карпову. Избранные письма, стр. 104).
«Недели две посвятил Московскому Малому театру. Все грехи его свел в систему и подал Пчельникову нечто вроде проекта “упорядочения дела”… В который раз убеждаюсь, что ему решительно все равно, хорошо идет дело или дурно». (Там же).
Июль 21
«Что, если правительство не разрешит или затянет разрешение “Акционерной компании общедоступных театров и аудиторий”?» (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1525).
Август 2
«Им бы [антрепренерам] только поскорее начать эксплуатацию, 139 мы же хотим прежде всего убежденности в том, что с художественной стороны дело уже назрело… Знаю прежде всего Вас лично как бесподобного режиссера и вполне сложившегося актера… Вы успели доказать, что в том, за что беретесь, стоите на высоте строгих требований.
… Меня в этом деле манит общественная, просветительная сторона, а не антреприза для наживы. Дело в том, что с этой стороны, со стороны общественных и художественных стремлений, я вполне уверен в себе и нашел человека, в котором тоже уверен, — Вас…
Замечу еще, что, все думая и думая, я все больше и больше склоняюсь к общедоступным театрам, а не просто к художественному театру». (Из письма к Станиславскому. «Ежегодник МХТ» за 1949 – 1950 гг., стр. 82 – 90).
Август 9
«Я буду 1-го в Москве и раньше никак не могу. Нам необходимо иметь день, большой день для свидания». (Из письма к Станиславскому. Там же, стр. 92).
Август 21
«Затевается “Акцион[ерная] комп[ания] общедоступных театров и аудиторий”. Устав уже набросан. Труппу готовить будем я и Алексеев (Станиславский)… Дело уже, что называется, на мази». (Из письма к Е. П. Карпову. Избранные письма, стр. 105).
Сентябрь
Приступает к занятиям в Филармоническом училище.
Осень (?)
Выходит отдельным изданием повесть Немировича-Данченко «В степи» (издание Д. П. Ефимова, Москва).
Октябрь 11
В письме к П. М. Пчельникову снова ставит вопрос о реформе Малого театра. (См. Избранные письма, стр. 106 – 108).
Ноябрь – декабрь
Смотрит спектакли Общества искусства и литературы, поставленные Станиславским.
Декабрь 5
Ермолова дарит Немировичу-Данченко свой портрет с надписью: «“Не мораль, не теоретический разум, а чувство должно учить нас с вами”. “Цена жизни”.
140 Пусть же этим великим, всепрощающим чувством любви будут проникнуты и все ваши будущие произведения, а для меня пусть останется навсегда то хорошее чувство дружбы, которое связывало нас с Вами в течение многих лет». (Музей-квартира Вл. И. Немировича-Данченко).
Декабрь 31
«Вся система классов в этом году изменена мною. Дан огромный простор самостоятельной работе… Выделяются из оканчивающих Книппер, Мейерхольд, Мунт». (Из письма в Н. Н. Литовцевой. Избранные письма, стр. 109).
1898
Январь 12
Представляет в городскую думу доклад о Московском) общедоступном театре73*. В этом докладе доказывает, что «Москва, обладающая миллионным населением, из которого огромнейший процент состоит из людей рабочего класса, более, чем какой-нибудь из других городов, нуждается в общедоступных театрах… Репертуар должен быть исключительно художественным, исполнение возможно образцовым, и вся разница между дорогим театром и народным заключается только в большей или меньшей доступности, в большей или меньшей дешевизне и количестве мест.
… Художественность исполнения пьесы зависит вовсе не от талантливой игры нескольких участвующих в ней артистов, а прежде всего от правильной, разумной интерпретации всей пьесы, от ее общей художественной постановки». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 64 – 66).
Январь 15
Делает доклад о Художественно-общедоступном театре на публичном собрании постоянной комиссии при Русском техническом обществе (См. «Новости дня» от 16 января 1898 г.).
Январь 28
Поздравляет Станиславского, поставившего «Потонувший колокол» в Обществе искусства и литературы с огромным успехом. «Я видел пока только 2 действия, но и они произвели на меня такое громадное впечатление, какого я давно не испытывал в театре». («Ежегодник МХТ» за 1949 – 1950 гг., стр. 97).
Февраль 7
Станиславский смотрит спектакль «Трактирщица», поставленный 141 Немировичем-Данченко в Филармоническом училище (роль Мирандолины исполняла О. Л. Книппер, роль маркиза Форлипополи — В. Э. Мейерхольд).
Март 8
Узнав о том, что открывается новый императорский театр, пишет В. П. Погожеву: «… чем успешнее пойдет дело Нового театра, тем труднее будет мне и Алексееву работать в предприятии, от которого мы теперь, несмотря ни на что, не отступим, что бы это нам ни стоило». (Архив Н-Д, № 10485).
Март 27
Успех спектакля «Последняя воля», поставленного Немировичем-Данченко. «Только в 3-м акте исполнители слишком “паузили”… Главный руководитель драматических курсов училища был вызван и награжден шумными рукоплесканиями и лавровым венком». («Новости дня»).
Апрель 25
«Мы (с Алексеевым) создаем исключительно художественный театр… Из соврем[енных] русских авторов я решил особенно культивировать только талантливейших и недостаточно еще понятых; Шпажинским, Невежиным у нас совсем делать нечего. Немировичи и Сумбатовы довольно поняты. Но вот тебя русская театральная публика еще не знает. Тебя надо показать так, как может показать только литератор со вкусом, умеющий понять красоты твоих произведений — и в то же время сам умелый режиссер. Таковым я считаю себя. Я задался целью указать на дивные, по-моему, изображения жизни и челов[еческой] души в произведениях “Иванов” и “Чайка”. Последняя особенно захватывает меня…»74*. (Из письма к Чехову, Избранные письма, стр. 110).
«Наш театр начинает возбуждать сильное… негодование императорского. Они там понимают, что мы выступаем на борьбу с рутиной, шаблоном, признанными гениями и т. п. И чуют, что здесь напрягаются все силы к созданию художественного театра. Поэтому было бы очень грустно, если бы я не нашел поддержки в тебе». (Там же, стр. 111).
Апрель
К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко приглашают 142 в Художественный театр художника-декоратора В. А. Симова.
Май 4
«Теперь я буду заниматься: a) денежной стороной дела и перепиской по поводу ее, b) “Чайкой”, c) “Эллидой”… d) На всякий случай “Свадьбой Фигаро”, e) “Федором” и беллетристикой». (Из письма к Станиславскому. «Ежегодник МХТ» за 1949 – 1950 гг., стр. 101 – 102).
Май (начало)
В литературных приложениях к журналу «Нива» № 5 за 1898 год напечатан рассказ Немировича-Данченко «Бахчевник».
Май 12
«Даешь ты нам “Чайку” или нет. … Если ты не дашь, то зарежешь меня, так как “Чайка” — единственная современная пьеса, захватывающая меня как режиссера… Если хочешь, я до репетиций приеду к тебе переговорить о “Чайке” и моем плане постановки». (Из письма к Чехову. Избранные письма, стр. 111).
Май 16
«Ловлю тебя на слове. Так вот приезжай, пожалуйста! … за удовольствие повидаться с тобой и потолковать я готов отдать тебе все свои пьесы». (Из письма Чехова к Немировичу-Данченко. А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 17, стр. 266).
Май 21
Из письма к А. П. Ленскому: «Мы с тобой конкурируем несколько лет на школах. И если сторонники Императорской школы относились к Филармонической, игнорируя ее, то и друзья последней отвечали Императорской тем же. И у тебя и у меня есть и приверженцы и излишне услужливые друзья, способные только сеять вражду, — однако это не мешало нам, не охладевая к своим работам, находить в них же полную и чрезвычайно почтенную общность… от конкуренции брали только то, что способствовало улучшению дела». (Избранные письма, стр. 113 – 114).
Май 31
«В “Чайку” вчитываюсь и все ищу тех мостиков, по которым режиссер должен провести публику, обходя излюбленную ею рутину». (Из письма к Чехову. Там же, стр. 117).
143 Июнь 5
«“Федора”75* мы с женой на днях читали громко и ревели, как два блаженных. Удивительная пьеса! Это бог нам послал ее. Но как надо играть Федора!! … Я не знаю ни одного литературного образа, не исключая и Гамлета, который был бы до такой степени близок моей душе. Я постараюсь вложить в актеров все те чувства и мысли, какие эта пьеса возбуждает во мне… Это как раз та пьеса, на которой мы можем и должны слиться воедино. Это — или наша самая большая заслуга, или наше бесславие». (Из письма к Станиславскому. «Ежегодник МХТ» за 1949 – 1950 гг., стр. 103, 104).
Июнь 11
Первая глава романа Немировича-Данченко «Пекло» напечатана в «Одесских новостях» (№ 4308).
Июнь (до 38)
Приезжает в Екатеринослав, чтобы «освежить кое-какие сведения о заводах для романа». Вечерами смотрит спектакли, в которых играет А. Л. Вишневский, рекомендованный Г. Н. Федотовой в Художественный театр: «Он [Владимир Иванович] начал допытываться, почему я на сцене то делаю, почему это… Он оставался еще несколько дней, смотрел меня в нескольких ролях и после каждого спектакля приходил беседовать со мною…»76*. (А. Л. Вишневский, Клочки воспоминаний, Л., «Academia», 1928, стр. 28).
Июнь 19
«Я уверен в материальном успехе дела при всех неудачах, — так верю сильно в Ваше уменье, Ваш вкус и любовь к этому делу.
… Федор — Москвин, и никто лучше него77*… Он и умница и с сердцем… и симпатичен при своей некрасивости. … Москвин, Москвин». (Из письма к Станиславскому. Избранные письма, стр. 118).
Июнь 21
«Если театр посвящает себя исключительно классическому 144 репертуару и совсем не отражает в себе современной жизни, то он рискует очень скоро стать академически мертвым.
… [В “Чайке”] бьется пульс русской современной жизни, и этим она мне дорога». (Там же, стр. 119, 121).
«Мое с Вами “слияние” тем особенно ценно, что в Вас я вижу качества художника par excellence78*, которых у меня нет. Я довольно дальновидно смотрю в содержание и его значение для современного зрителя, а в форме склонен к шаблону, хотя и чутко ценю оригинальность. Здесь у меня нет ни Вашей фантазии, ни Вашего мастерства». (Там же).
Июнь 24
Пишет Станиславскому в связи с предполагаемой постановкой «Эллиды» Ибсена: «Вы — идеальный Незнакомец. Воображаю в этой роли Ваш грим, тон, жесты, фигуру. Это было бы чудесным колористическим пятном в пьесе».
Намеревается включить в репертуар Художественного театра «Позднюю любовь» Островского79*. Думает о «Бесприданнице», «Горячем сердце», «Богатых невестах». (Архив Н-Д, № 1534).
Получил письмо от Ленского: «Прощай! Набирайся сил, и да помогут Вам Аполлон с семью музами. Дирекция охотно уступит эту компанию, так как она у нас болтается без дела… Если ко всему этому прибавить, что мы на каждый вечер будем обеспечены полным комплектом полицейского и жандармского нарядов, — чего же еще можно пожелать для искусства?!» (Избранные письма, стр. 123).
Июнь 25
Отвечает Ленскому: «“… печально гляжу я” на будущее самого дорогого в Москве учреждения — Малого театра.
… На многих пьесах видны следы “политики экономии”, — ни авторских не платить, ни декораций не писать, ни костюмов не шить. А рядом с этим, как мне доподлинно известно, устройство одной царской ложи в Новом театре по смете обойдется 60 тыс. рублей». (Там же, стр. 124 – 125).
Июнь 26
«Общее настроение очень повышенное», — сообщает Станиславский Немировичу-Данченко и дает подробную характеристику молодой труппе Художественного театра. («Ежегодник МХТ» за 1949 – 4950 гг., стр. 125 – 131).
145 Июнь 30
Выезжает в Крым заканчивать роман «Пекло».
Июль 1
Южин пишет: «Дорогой Воля… Но знаю, что, несмотря ни на какие недоразумения, я сильно тебя люблю и очень давно, что меня к тебе тянет, что я сплошь и рядом поступался очень дорогим для меня именно из-за этой любви». (Избранные письма. Приложения, стр. 488 – 489).
Июль 6
«Пекло» — ром[ан] из заводской жизни. … Думал печатать его в «Рус[ской] мысли», но Гольцев и Лавров сказали, что половину его вырежут, тогда — благо, подвернулся случай — я решил печатать его где-нибудь тихонько по фельетонам80*… Пока цензура довольно милостива. … К сожалению, я сам так увлекся театром, что не могу отдаться роману как следует и местами «мажу». (Из письма к Чехову. Избранные письма, стр. 126).
Июль
Роман «Пекло» печатается в «Одесских новостях».
Июль 11
Из Ялты пишет Станиславскому: «С нетерпением жду срока своего возвращения. Нетерпение это даже мешает мне писать роман…». (Архив Н-Д, № 1539).
Июль 16
«Всецело захватывает меня в настоящее время — мой Театр. В моей деятельности еще никогда не было такого решительного и такого рискованного шага. Любая моя пьеса могла провалиться или иметь успех, и это не “Кричало” бы так, как будет кричать успех или провал Театра. Ни одного труда я не проводил с таким напряжением всех моих духовных сил, как дело этого Театра». (Из письма к Южину. Избранные письма, стр. 128).
Июль 24
Возвращается в Москву. Приезжает в Пушкино, где идут репетиции первых спектаклей Художественного театра.
Июль 30
«А когда же ты ко мне?» (Из письма Чехова к Немировичу-Данченко. 146 А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 17, стр. 289).
Июль – август
В связи с постановкой «Царя Федора Иоанновича» ходит вместе с актерами в дом бояр Романовых на Варварке, в церковь Василия Блаженного, в Кремль.
Август 5, 6
Ведет репетиции «Царя Федора» в Пушкино81*.
Август 6
Глава из романа «Пекло» напечатана в «Одесских новостях». (Последующая глава появилась лишь 24 ноября 1898 г.).
Август
В сторожке дворника в Пушкино работает с Москвиным над ролью царя Федора. «Он сидел за простым кухонным столом, — вспоминал Москвин, — а я стоял, прислонившись спиной к русской печке, при свете маленькой жестяной лампочки»82*.
После нескольких занятий произошло «чудо»: Москвин, которого Станиславский был вынужден заменить другим исполнителем, так сыграл Федора, что «до слез всех обрадовал».
Август 15
«Успех “Чайки” — вопрос моего художественного самолюбия, и я занят пьесой с таким напряжением, какое у меня бывает, когда пишу сам». (Из письма к Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 108).
Август (до 21)
«Первая беседа [о “Чайке”] затянулась у меня с артистами на 4 с лишком часа, и то только о двух первых актах (кроме общих задач)…
Я всегда начинаю постановки с беседы, чтобы все артисты стремились к одной цели». (Из письма к Чехову от 21 августа 1898 г. Набранные письма, стр. 131).
«… И был один такой красивый у нас день: не было ни у меня, ни у него [Станиславского] репетиций, ничто постороннее нас не отвлекало, и с утра до позднего вечера мы говорили о Чехове. Вернее, я говорил, а он слушал и что-то записывал. 147 Я ходил, присаживался, опять ходил, подыскивал самые убедительные слова… подкреплял жестом, интонацией, повторениями. А он слушал с раскрытой душой, доверчивый». (Вл. И. Немирович-Данченко, Из прошлого, стр. 155).
Август (до 24)
Репетирует девять сцен «Царя Федора Иоанновича» «в полтона, но с сохранением темпа», а затем «все 9 сцен во весь тон». (Из письма к Станиславскому от 24 августа 1898 г. «Ежегодник МХТ» за 1949 – 1950 гг., стр. 137).
Август 24
В письме к Чехову: «Никогда я не был так влюблен в твой талант, как теперь, когда пришлось забираться в самую глубь твоей пьесы». (Избранные письма, стр. 132).
Ночью пишет Станиславскому, что Москвин в роли царя Федора «растет с каждой репетицией и теперь так сжился с ролью, что может начать виртуозничать». Сообщает об изменениях в пьесе, произведенных цензурой. («Ежегодник МХТ» за 1949 – 1950 гг., стр. 137).
Август 25
Приступает к занятиям в драматических классах Филармонического училища.
Август (конец)
Выезжает в Харьков в связи с предполагаемыми весенними гастролями Художественного театра.
Август 30
«Передайте Москвину, что я сердечно за него радуюсь и благодарен Вашему чутью, угадавшему настоящего исполнителя для этой роли, и Вашей работе, создавшей нам, бог даст, будущую знаменитость нашего театра. Как бы хорошо, если бы Вы поскорее принялись с Москвиным за последний акт». (Из письма Станиславского к Немировичу-Данченко. «Ежегодник МХТ» за 1949 – 1950 гг., стр. 142).
Сентябрь 2
Получает от Станиславского режиссерский план «Чайки» (три действия) и пишет ему: «Вы позволите мне кое-что не проводить на сцену? Многое бесподобно, до чего я не додумался бы. И смело, и интересно, и оживляет пьесу. Но кое-что, по-моему, должно резать общий тон и мешать тонкости настроения, которое и без того трудно поддержать…
“Чайка” написана тонким карандашом и требует, по-моему, при постановке необыкновенной осторожности. … Например, 148 при исполнении пьесы Треплева надо, чтобы лица вели себя в полутонах. Иначе публика легче пойдет за слушающими, чем за Треплевым и Ниной. Треплев и Нина должны здесь доминировать с своим нервным, декадентски мрачным настроением над шаловливым настроением остальных лиц. Если же случится наоборот, то произойдет именно та неловкость, которая провалила пьесу в П[етер]бурге.
Не подумайте, однако, что я вообще против всего смелого и резкого в подобных местах. Я понимаю, что смена впечатлений только усилит эффект мистически-трагический. Я только боюсь некоторых подробностей. Ну, вот хоть бы “кваканье лягушек” во время представления пьесы Треплева. Мне хочется, как раз наоборот, полной таинственной тишины. Удары колокола где-нибудь на погосте — другое дело. Иногда нельзя рассеивать внимание зрителя, отвлекать его бытовыми подробностями…
… Мне трудно было вообще переделать свой план, но я уже вник в Ваш и сживаюсь с ним». (Из письма к Станиславскому. Избранные письма, стр. 133).
Просматривает декорации В. А. Симова к спектаклю «Царь Федор Иоаннович».
Сентябрь 4
В письме к Станиславскому: «Вчера я успел попасть на 4-е и 5-е д[ействия] “Ревизора” у Ленского. Театр оч[ень] хорошенький, но… для комедии велик83*.
… Играли “Ревизора”, как всегда у Ленского, чисто, умно, ровно, но скучно». (Избранные письма, стр. 137).
Советует Станиславскому играть роль Дорна в «Чайке»: «Его [Дорна] покой — это колористическое пятно на всей нервной пьесе. Он умен, мягок, добр, красив, элегантен. У него нет ни одного резкого и нервного движения. Его голос раздается какой-то утишающей нотой среди всех этих нервных и изломанных звуков пьесы.
… По этому рисунку нельзя Дорну балансировать на качалке, как Вы наметили во 2-м д[ействии].
Вчера я поставил 1-е действие, прошел его два раза — в полутонах, вырабатывая Вашу mise en scène. Как я и писал Вам, многое выходит великолепно. Но не скрою от Вас, что кое-что меня смущает. Так, фигура Сорина, почти все время сидящая спиной на авансцене, — хорошо. Но так как этот прием исключительный, то больше им пользоваться 149 нельзя. Иначе этот сценический прием займет во внимании зрителя больше места, чем следует, — он заслонит многое более важное в пьесе84*. … Если им злоупотреблять, он начнет раздражать». (Там же, стр. 135 – 136).
Сентябрь (до 9)
«Сумбатов, очевидно, режиссерство понимает только как подсказывающего mise en scène, тогда как мы входим в самую глубь тона каждого лица отдельно, и — что еще важнее — всех вместе, общего настроения, что в “Чайке” важнее всего». (Из письма к Чехову. Там же, стр. 138).
Сентябрь 9
Вечером на репетиции «Чайки», проходившей в Охотничьем клубе на Воздвиженке, впервые присутствовал Чехов. Вел репетицию Немирович-Данченко.
Сентябрь 10
«Ваше замечание о том, чтобы в I акте, во время представления пьесы Треплева, второстепенные роли не убивали главных, я понимаю вполне и соглашаюсь с ним. Вопрос, как этого достигнуть… Вы знаете и чувствуете Чехова лучше и сильнее, чем я… Очень благодарю также и за набросок Дорна… Ох, как я его боюсь!» (Из письма Станиславского к Немировичу-Данченко. «Ежегодник МХТ» за 1949 – 1950 гг., стр. 150 – 1151).
Сентябрь 12
«Ваша mise en scène вышла восхитительной. Чехов от нее в восторге. Отменили мы только две-три мелочи, касающиеся интерпретации Треплева. И то не я, а Чехов». (Из письма к Станиславскому. Избранные письма, стр. 140).
Сентябрь 27
«Сейчас закрыл книгу на рассказе “О любви”. “Крыжовник” хорошо. … хорошо, потому что есть и присущий тебе колорит, как в общем тоне и фоне, так и в языке, и еще потому, что очень хороши мысли». (Из письма к Чехову. Там же, стр. 144).
«Суворин, как ты и предсказывал, оказался… Сувориным. Продал нас через неделю. На твоих глазах он восхищался 150 нами, а приехал в Петербург и махнул подлую заметку»85*. (Там же).
Сентябрь
Репетирует «Чайку».
Октябрь 14
Получает письмо от Ленского: «Милый Володя. В художественный успех вашего дела безусловно верю». (А. П. Ленский, Статьи. Письма. Записки, «Искусство», 1951, стр. 22).
Первое представление «Царя Федора Иоанновича» в день открытия Московского Художественного театра.
Октябрь 20
«Упорным, общим трудом всем нам удастся внести в сценическое искусство свежую струю и поднять театральное дело, падение которого ни для кого не составляет тайны». (Из письма к Ленскому. Избранные письма, стр. 145).
Октябрь 21
«Этот Ваш успех еще раз лишнее доказательство, что и публике, и актерам нужен интеллигентный театр». (Из письма Чехова к Немировичу-Данченко. А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 17, стр. 335).
Ноябрь 5
«Дела наши идут отлично, хотя газеты и начали уже кусаться, ну да что же делать. Очень уж много у них пошляков». (Из письма к Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 113).
Ноябрь
Репетирует «Счастье Греты» Э. Мариотта. Не замечает недостатков этой мелодраматической пьесы86*. «Очень сильная 3-актная драма во вкусе так называемой “норвежской” литературы. 151 Тут есть и du Ибсен и du Толстой. Молодую девушку выдали замуж ради материального благополучия, и она не может пережить весь ужас принадлежности чужому ей человеку, убегает и почти сходит с ума. Пьеса написана со вкусом и характерно. Постановка — три павильона. Костюмы современные». (Из письма к Станиславскому от 22 июня 1898 г. Архив Н-Д, № 1532).
Декабрь 10
В последний раз на страницах газеты «Одесские новости» появляется глава из романа «Пекло». Роман остается незаконченным.
Декабрь 18
«Только что сыграли “Чайку”, успех колоссальный… Мы сумасшедшие от счастья». (Телеграмма Чехову. Избранные письма, стр. 145).
«Я счастлив, как никогда не был при постановке собственных пьес». (Из второй телеграммы Чехову. Там же, стр. 146).
Декабрь 18 – 21
Из письма к Чехову о репетициях «Чайки»: «Мы, режиссеры, т. е. я и Алексеев, напрягли все наши силы и способности, чтобы дивные настроения пьесы были удачно интерсценированы. Сделали 3 генеральные репетиции, заглядывали в каждый уголок сцены, проверяли каждую электрическую лампочку. Я жил две недели в театре, в декорационной, в бутафорской, ездил по антикварным магазинам, отыскивал вещи, которые давали бы колористические пятна». (Там же, стр. 146).
В том же письме о премьере «Чайки»: «До публики дошло… все то, что составляет тебя и как художника и как мыслителя». (Там же, стр. 146 – 147).
Декабрь 25
«Этюды» Немировича-Данченко «Каменный бог», «Астроном», «Богомолка» напечатаны в «Одесских новостях» (№ 4495).
Декабрь 31
«Второе и третье представления [“Чайки”] сыграли… с тем же успехом». (Телеграмма Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 116).
152 1899 – 1906
Режиссура чеховских спектаклей. Творческое содружество с
К. С. Станиславским. Мысли о пьесе Г. Гауптмана «Одинокие».
Первая встреча с А. М. Горьким. Режиссерский план пьесы
Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». Поездка в Нижний Новгород для
ознакомления с пьесой «Мещане». Общественно-политическая линия в режиссуре
Вл. И. Немировича-Данченко накануне революции 1905 года. Искания
нового сценического стиля для пьесы Горького «На дне». Режиссура «Юлия Цезаря».
Неверная оценка «Дачников» и временный разрыв с Горьким. Смерть Чехова.
Режиссерский план и постановка «Иванова». Интерес к пьесе М. Метерлинка
«Монна Ванна». Отношение к Студии на Поварской. Режиссерский план «Горя от
ума». Премьера «Детей солнца» в дни подготовки к вооруженному восстанию
1905 года. Успех гастролей Художественного театра в Европе. Режиссура
«Бранда».
1899
Январь 6
Из письма Чехова к Немировичу-Данченко: «Сестра в восторге от Художественного театра. Кстати: Художественный театр — это хорошее название…» (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 18, стр. 17).
Январь 16
Московское охранное отделение вызывает на допрос Немировича-Данченко по обвинению в устройстве четырех утренних спектаклей для рабочих.
Из заявления Вл. И. Немировича-Данченко на имя обер-полицмейстера: «В главе же 5 моей брошюры87* говорится об отдаленном стремлении… выделить, когда дело театра широко развилось бы, своего рода филиальные отделения уже для народных спектаклей; мысль эта, конечно, могла бы осуществиться лишь через несколько лет. Но, не переставая думать об этом, я хотел сделать легкую попытку в форме предоставления возможности попасть в наш театр на несколько утренних праздничных спектаклей рабочим, хотя бы в небольшом количестве. Больше всего меня… занимал в этом случае вопрос о том, как слушает и как принимает ту или другую пьесу простой рабочий».
153 «После рапорта обер-полицмейстера московскому генерал-губернатору Вл. И. Немирович-Данченко был занесен в число неблагонадежных и имя его в дальнейшем нередко упоминалось в полицейских документах, с непременным добавлением, что он являлся инициатором спектаклей для рабочих». (С. В. Щирина, «Дело № 722», «Театр», 1959, № 9).
Январь 17
«Как Вам написать о нашем Театре? … До полнейшего удовлетворения слишком далеко… Планов, проектов так много, и они каждый день растут». (Из письма к Н. Н. Литовцевой. Избранные письма, стр. 149).
Январь 20
От имени Художественного театра приветствует Н. М. Медведеву в день ее 50-летнего юбилея: «Просим, как о милости, уделить частицу Вашего покоя и занести Ваши драгоценные наставления на страницы этого альбома под названием “Заветы Надежды Михайловны Медведевой молодым артистам”». (Там же, стр. 151).
Февраль 3
«Я 21 месяц не имел пяти дней полного безмятежного отдыха! Были 3 – 4 дня в дороге, а то все время работа, работа, работа! И настоящая, полная радость, настоящее счастье испытал только… полсуток, — после “Чайки”. Полсуток потому, что на другой же день отмена целого спектакля повергла меня снова в заботливое настроение… Непременно напиши новую пьесу нам Да заранее поговори со мной, чтоб я мог жить ею вместе с тобой». (Из письма к Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 116).
Март 26
«Сейчас был у меня Владимир Иванович Немирович-Данченко. Он хотя и состоит членом театрального комитета, но давно уже там не был88*. Он слышал от Веселовского и Ивана Ивановича Иванова, что твою пьесу “Дядя Ваня” одобрили для представления на Малой сцене, но с тем, чтобы ты ее изменил… и тогда снова отдал бы ее на утверждение… Он в своем театре поставит ее без переделки, потому что находит ее великолепной… Ответь ему, пожалуйста. Он очень взволнован». (М. П. Чехова, Письма к брату А. П. Чехову, М., Гослитиздат, 1954, стр. 115).
154 Апрель 6
Состоялся экзаменационный спектакль, поставленный Немировичем-Данченко в Филармоническом училище. («Воспитанница» Островского и второй акт из «Золота»).
Май (до 7)
Записка Немировича-Данченко Чехову: «Решено завтра читать “Дядю Ваню” у меня. В час — завтрак, а потом мы уединимся и будем читать. К часу жду». (Н. И. Гитович, Летопись жизни и творчества А. П. Чехова, стр. 566).
Май
Задает Чехову вопросы, связанные с режиссерским замыслом «Дяди Вани»: «Насколько сознательна работа Войницкого для профессора? Бросил ли он ради этого свою карьеру? … Как Соня относится к отцу?» («Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 118).
Июнь
Живет в Нескучном. Занят составлением репертуара и плана работ театра.
Июнь (до 9)
Распределяет роли в «Плодах просвещения». Читает «Столпы общества» Ибсена. «Пьеса хорошая, не больше того… Идеи “Столпов общества” немножко стары, чтобы проповедовать их серьезно и глубокомысленно». (Из письма к Станиславскому от 9 июня 1899 г. Архив Н-Д, № 1549).
Июнь
Отложил начатую пьесу, так как убедился, что не может отказаться от изображения студенческих беспорядков и ареста студента: «Ввиду действительно бывших студенческих беспорядков… и обострившихся цензурных условий по этому вопросу, пьесу теперь могут не разрешить». (Из письма к Станиславскому от 30 июня 1899 г. Там же, № 1551).
Принимает решение переделать в пьесу свою повесть «Губернаторская ревизия»89*: «Меня прельщает новизна в том, чтобы привести на сцену весь чиновничий и полицейский уезд, каким я его вижу». (Из письма к Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 118).
Пишет Е. П. Гославскому о том, что в его драме «Свободный художник» быт русских современных художников рисуется без ложной идеализации и мишурности. «Вы знаете правило, правило неизменное для драматурга: каждая новая фраза должна двигать пьесу вперед. У Чехова, как бы он ни 155 был неловок как драматург, есть одно большое сценическое достоинство: он в следующем акте никогда не повторяет того, что было сказано с достаточной полнотой в предыдущем. Это дает возможность режиссеру сделать его пьесу сценичною». (Архив семьи Гославских).
Июнь – июль
«Ярко реальная школа, выдержанный стиль эпохи — вот та новая нота, которую мы стремимся дать искусству. Не Киселев, а Левитан. Не К. Маковский, а Репин. Говорят, мы должны сыграть в сценическом русском деле роль передвижников относительно академии. … Так оно и хотелось бы». (Из письма к П. Д. Боборыкину. Избранные письма, стр. 158).
«Я считаю Алексеева очень большим режиссерским талантом. С фантазией, превосходящей всякие ожидания. С огромной памятью жизненных наблюдений». (Там же).
«Меня грызет желание поставить тургеневский “Месяц в деревне”». (Там же, стр. 156).
Июль 10
Предполагает включить в репертуар «Лизистрату» Аристофана и «Мертвые души» Гоголя в переделке А. Потехина.
Под впечатлением романа «Воскресение» пишет Л. Н. Толстому: «Я не припомню, когда еще я читал что-нибудь так, как будто и не читаю, а сам хожу и вижу этих людей, камеры, комнаты, фортепьяно, ковры, мостовую и т. д. … Это уж не иллюзия жизни, а она сама, это жизнь». (Избранные письма, стр. 159 – 160).
Июль 18
Приезжает в Москву и отправляется в мастерскую В. А. Симова, чтобы поторопить его с декорациями для «Смерти Иоанна Грозного».
Июль 23
«Сегодня у меня был трудный день: два часа подробной беседы с Осиповым90* о полном отсутствии денег. Он мягко улыбался, был любезен до приторности и не только не помог, но точно мысленно рад моему затруднению, а я… у меня готовы были слезы брызнуть из глаз от душевного напряжения и обидной, необходимой сдержанности и тактичности. В душе у меня что-то стонало, ныло, кричало, а я сохранял вид корректности и почтительности. Ушел я от него ни с чем, кроме тяжелого стука в виски… Но спустя час я встряхнулся и, мысленно намечая себе дальнейший план действий, бодро глядел 156 вперед. Думая о Вас, я испытывал к Вам чувство старшего брата». (Из письма к Станиславскому. «Ежегодник МХТ» за 1949 – 11950 гг., стр. 158).
Июль 26
«Наша контора, должен сознаться, была поставлена по-любительски… Завтра заказываются бланки для каждодневных рапортов: 1) кассы, 2) помощника режиссера о репетициях, 3) пом[ощника] реж[иссера] о спектаклях, 4) заведующего народными сценами… 5) заведующего участием учеников… 6) заведующего музыкальной частью… и 7) инспектора театра (по зданию и т. д.). Каждый из них должен ежедневно давать отчет о прошедшем дне. Значит, малейший промах я сейчас же вижу»91*. (Из письма к Станиславскому. Избранные письма, стр. 162).
Июль 30
В письме к Станиславскому: «“Одинокие люди”. Прочел. Пьеса бесподобная.
… Одинокие души потому одиноки, что они отрицают существующее. … Есть дивные сцены, требующие особенно тщательной философской и психологической разделки. Таковы в особенности все сцены Анны, наиболее интересной фигуры в общественном значении, как человека будущего…
Совершенно верно, что могут играть и Книппер и Желябужская92*. По внешности, мне кажется, Желябужская больше подходит. В такой внешности больше стали, больше уверенности, что эта девушка пойдет на сильные подвиги. … Анна должна находить себе подражательниц. Публика должна сказать: “Да, трудно быть такою, но надо”. … Леман — немолодая, энергичная, очень бедная. Характерно, что у нее останавливаются революционеры, вроде Брауна или Анны. В случае революции эта баба будет первая убита жандармами. В общей идейности пьесы — лицо важное». (Там же, стр. 167 – 170).
Август 8
А. П. Чехов пишет М. П. Чеховой из Москвы: «Третьего дня был Немирович, был Мейерхольд». (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 18, стр. 201).
Август 17
«Я приступаю к mise en scène, которую по актам буду Вам сдавать. Но Вы мне обещали кучу разных подробностей, хотя бы не собранных в план. Это очень важно. Один Ваш 157 намек даст мне целую сцену… Из названия “Одинокие люди” второе слово надо отбросить.
… Моя пьеса стоит на месте. Я весь в театре. Закончил и кассирский вопрос». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1558).
Август 23
Из письма к Е. П. Гославскому по поводу второй редакции его пьесы «Свободный художник»: «Автор не овладел вообще тем эпическим спокойствием, которое одно, только оно одно, имеет притягательную силу над зрителем. Сам автор неспокоен. Пусть его лица беснуются сколько угодно, но сам автор должен быть хладнокровным оператором. Этого нет». (Архив семьи Гославских).
Август 26
Выезжает из Крыма в Москву.
Август 28
«Приехал Влад[имир] Ив[анович] и открыл министерский кабинет, пошли разговоры, исповеди». (Из письма Книппер к Чехову от 29 августа 1899 г. «Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер»93*, т. 1, М., изд. «Мир», 1934, стр. 65).
Август 31
Был на спектакле «Козьма Захарьич Минин-Сухорук» в Новом театре: «Ты поверишь, что я сумел оценить все подробности твоей фантазии и труда, которые отлично осуществились». (Из письма к режиссеру спектакля А. П. Ленскому от 1 сентября 1899 г. Избранные письма, стр. 173).
Сентябрь 21
Репетирует «Дядю Ваню»: «Лица горят, глаза блестят, шпильки из головы летят, и такое чувство, что никто не в состоянии остановить нас». (Из письма Книппер к Чехову. «Переписка», т. 1, стр. 79).
Сентябрь
«Мы налаживаем всю пьесу без Астрова, с Немировичем. Проходим отдельными сценами, много беседуем, нянчим ее, как нянчили “Чайку”». (Там же, стр. 82).
Октябрь (начало)
«Все сцены без Астрова мы уже сладили настолько, что сегодня я даже отменил репетицию: нам делать нечего, без 158 Астрова». (Из письма к Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 120).
Октябрь (середина)
Работает с К. С. Станиславским над ролью Астрова, просит его пересмотреть трактовку отдельных сцен и отказаться от излишних деталей: «Я не хочу платка на голове от комаров, я не в силах полюбить эту мелочь. … эта подробность не рекомендует никакого нового направления. Бьюсь об заклад, что ее отнесут к числу тех “излишеств”, которые раздражают, не принося никакой пользы ни делу, ни направлению, ни задачам Вашим». (Из письма к Станиславскому. Избранные письма, стр. 176).
Октябрь 22
В антракте спектакля «Травиата» заходит за кулисы к Л. В. Собинову (Л. В. Собинов просил помочь приготовить партию Ромео в опере Гуно «Ромео и Джульетта»). «Ну, что же, будем готовить Ромео. Я нарочно пришел посмотреть Вас, чтобы узнать, к чему Вас тянет, как Вы любите и как страдаете, чтобы сообразно с этим повернуть и Ромео». (Из письма Л. В. Собинова. Цит. по статье Н. Д. Волкова «Творческий путь Л. В. Собинова». Сборник «Л. В. Собинов. Жизнь и творчество», Музгиз, 1937, стр. 49).
Октябрь 23
«Работа у нас действительно идет горячая. Всего было. И спорили и даже немножко ссорились. Главная же возня за все последние дни была в декорационной и бутафорской. Доводили меня до совершенного бешенства, когда я хлопал по столу, кричал, стонал, выл, выгонял из театра, брал новых лиц». (Из письма к Чехову. Избранные письма, стр. 179).
Октябрь 27
«Я смотрел спектакль [“Дядя Ваня”] даже не как режиссер, а как основатель театра, озабоченный его будущим… передо мной открывается много-много еще забот». (Там же, стр. 182).
Октябрь 29
Через два дня после премьеры «Дяди Вани» пишет письме О. Л. Книппер, в котором анализирует исполнение роли Елены Андреевны. (Архив Книппер-Чеховой).
Ноябрь 19
Вместе со Станиславским репетирует «Одиноких» Гауптмана. Жалуется Чехову на усталость, на заботы, связанные с буднями театра.
159 Ноябрь 24
«В твоем письме звучит какая-то едва слышная дребезжащая нотка… Ой, не утомляйся, не охладевай! Художественный театр — это лучшие страницы той книги, какая будет когда-либо написана о современном русском театре. Этот театр — твоя гордость…» (Из письма Чехова к Немировичу-Данченко. А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 18, стр. 266).
Декабрь 15
М. Н. Ермолова пишет Л. В. Средину: «Не удивляйтесь… если я покину Малый театр и, может быть, даже перейду к Алексееву. Немирович очень меня зовет». («Письма М. Н. Ермоловой». М.-Л., Всероссийское театральное общество, 1939, стр. 101).
1900
Январь 24
Спорит о чеховской драматургии с Л. Н. Толстым, пришедшим на спектакль «Дядя Ваня». (См. вступительную статью, стр. 24).
Февраль 7
Возвращается из Петербурга, куда ездил в связи с предполагавшимися гастролями Художественного театра.
Февраль
Был на юбилее В. М. Лаврова94*: «21 год я слышу одно и то же, одно и то же!! Ну, хоть бы что-нибудь, хоть бы по форме изменилось в этом обилии намеков на правительство и в словах о свободе». (Из письма к Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 128).
Февраль (середина)
Тяготится вмешательством С. Т. Морозова в художественные дела театра: «Начинал с Вами наше дело не для того, чтобы потом пришел капиталист, который вздумает из меня сделать… как бы сказать?.. секретаря что ли?» (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1571).
«Сборы замечательные. … Но, увы, это всего 976 руб. Досадно мало! И еще досаднее, что это заставляет часто ступать на путь компромиссов, в виде особых соглашений с Морозовым, 160 который настолько богат, что не удовольствуется одной причастностью к театру, а пожелает и “влиять”»95*. (Из письма к Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 128).
В этом же письме к Чехову: «Чувство жалости к людям, которое меня сильно охватывало лет 8 – 10 назад, снова забирает меня. Одно время я было стал бодрее… а теперь это, чувство переходит у меня как бы в философскую систему».
Февраль
Готовит выпускной спектакль в Филармоническом училище — «Новобрачные» Бьёрнсона-Бьёрнстьерне.
Февраль (конец)
Беседует с В. И. Качаловым, принятым в труппу; намерен ввести его в драму «Одинокие» на роль Иоганнеса и поручить ему роль Мизгиря или Берендея в «Снегурочке» Островского.
Март (начало)
«Когда-то я слыл за человека, умеющего хорошо распределять роли. Поэтому попробуйте вникнуть.
Два дня, вернее две ночи, все думал о распределении “Снегурочки”… Идеальная Купава, как она написана у Островского, должна была быть Никулина96*. Чем больше вчитываюсь в пьесу, тем сильнее смеюсь Купаве… резкий контраст Снегурочке. Насколько Снегурочка светится мягким лиризмом, настолько Купава вся горит огнем. Она заливается горючими слезами, брызжет темпераментом и, несомненно, комична своей непосредственностью». (Из письма к Станиславскому. «Ежегодник МХТ» за 1949 – 1950 гг., стр. 177 – 178).
Апрель 2
Выезжает в Севастополь.
Апрель 5
Приезжает в Ялту, чтобы подготовить гастроли Художественного театра.
161 Первая встреча с А. М. Горьким в Ялте: «Было уже совсем темно… Шагом двигались мы по Нагорной улице и оглядывали каждую дачу направо и налево, стараясь угадать, которая из них может быть дача Чехова. … Вдруг из темноты выдвинулась фигура в рабочей блузе, в матросском плаще, в мягкой шляпе, в высоких сапогах. Я остановился, остановилась и эта фигура и пристально начала в меня всматриваться. Я спросил, не знает ли он, где тут дом Чехова, на что получил тотчас же точный ответ. С сильным нижегородским акцентом на ó; мягким баском. Мне и в голову не пришло, что это был Горький… Осталась только во мне странная струйка впечатления, что этот человек смотрел на меня так, как будто рассматривал с некоторым интересом. Когда я приехал к Чехову, первое что он сказал: — А тут только что был Горький. Он все тебя ждал…». (Предисловие Немировича-Данченко к книге Николая Эфроса «“На дне”, пьеса Максима Горького в постановке Московского Художественного театра», М., Госиздат, 1923, стр. 12).
Апрель 6
Впечатления от знакомства с А. М. Горьким: «При внешнем спокойствии какой-то громадный запас нерастраченных сил… При скромности хорошего вкуса — стихийная вера в себя или, по крайней мере, в свое миропонимание97*… очаровательная, сразу охватывающая лаской, улыбка». (Там же, стр. 15).
Апрель 10 – 13
Гастроли Художественного театра в Севастополе.
Апрель 16 – 23
Спектакли Художественного театра в Ялте. У Чехова ежедневно собираются А. М. Горький, И. А. Бунин, А. И. Куприн, С. Я. Елпатьевский, С. Г. Скиталец, Е. П. Чириков, Б. А. Лазаревский, К. С. Станиславский, Вл. И. Немирович-Данченко и некоторые артисты Художественного театра. (М. Ф. Андреева, «Поездка в Крым» в сборнике «А. П. Чехов. Забытое и несобранное», М., 1940).
Получает от Горького первый том его рассказов с дарственной надписью: «Старшему брату по перу Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко, создающему в России новый, действительно художественный театр.
162 Удивляюсь вашей энергии и уму — искренно, почтительно преклоняюсь пред вами. Дай вам Бог силы и бодрости духа в вашем великом, исторически важном деле. М. Горький». (Музей-квартира Вл. И. Немировича-Данченко. См. фотокопию в книге Вл. И. Немировича-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 117).
Апрель 30
Критикует новую пьесу П. Д. Боборыкина «Дамы». (Избранные письма, стр. 190 – 192).
Май
Чехов дарит Немировичу-Данченко золотой жетон с надписью: «Ты дал моей “Чайке” жизнь. Спасибо!» (См. фото в книге Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 92).
Июнь (начало)
Немирович-Данченко просит Д. Н. Мамина-Сибиряка выслать пьесу.
Июнь
В Нескучном. «А из писательской колеи я как-то совсем выбился. Мне трудно приступать, трудно взвинчивать воображение…». (Из письма к Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 131).
Июнь 11
В связи с намерением И. М. Москвина выступить в театре антрепренера М. М. Бородая пишет ему: «Я не имел никаких солидных резонов отказать Вам играть роли, пройденные со мной или в театре. Но, как Ваш первый учитель, решительно советую Вам отказаться играть что-либо, кроме Федора. Других ролей, кроме Брауна, Вы не повторяли сто лет, Карандышева Вы не испробовали, зачем же Вам портить свою репутацию, которая, наверное, отлично сложится Федором?» (Избранные письма, стр. 193).
Июнь 23
Работает над планом новой пьесы, позднее названной «В мечтах».
Июль 10
«Я начал писать… Как всегда, сначала вразброд, отдельными сценами, из разных актов, для того чтобы почувствовать основные тоны и поставить каждое действующее лицо на его собственные ноги. Написано множество листов, но цельных актов еще нет». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1572).
163 Июль 12
«А как я могу сказать, что надо делать для постановки “Свободного художника”, когда я не в силах уловить, к какому впечатлению надо стремиться, какая мысль или какое чувство или какое настроение должны доминировать при установке перспективы? … Я могу разбираться при постановке, только если нашел основную нить, основной тон». (Из письма к Е. П. Гославскому. Архив семьи Гославских).
Июль
Пишет статью о пьесе Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся».
Июль 24
«Работать над пьесой я устал, она, еще неоконченная, начала мне надоедать. А что еще хуже и что всегда бывает при утомлении, начала переставать нравиться». (Из письма к Станиславскому. «Ежегодник МХТ» за 1949 – 1950 гг., стр. 180).
Июль (конец)
Работает над режиссерским планом пьесы Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». Просит К. С. Станиславского разрешить новый вариант декораций первого действия: «Эта декорация не сразу выдумана мною. Она у меня мелькнула в несколько ином виде еще в Москве, когда норвежец показывал нам свой альбом. Потом, среди лета, я несколько раз вспоминал. Недавно составил себе план… Без парка я как-то чувствую себя связанным. Кроме того, дорожу этим боковым балконом. Так удобно вести всю первую половину акта! Трудно будет сделать эти большие, красивые деревья, чтобы они имели рельеф, но уж об этом я позабочусь…
Группа обывателей гостиницы вся уже намечена». (Из письма к Станиславскому. Избранные письма, стр. 193 – 194).
Август 1
В 9 часов утра приезжает в Москву. В 11 встречается с секретарем дирекции. В 12 часов созывает режиссерский совет. В 2 часа беседует с декоратором К. Ф. Вальцем. В 2 часа 30 минут — с С. Т. Морозовым. В 5 обедает вместе с Г. С. Бурджаловым, чтобы «обокрасть его насчет Норвегии» для ибсеновских постановок («Когда мы, мертвые, пробуждаемся», «Доктор Штокман»)98*.
Август 3
Приступает к ежедневным репетициям пьесы Ибсена 164 «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». Вечером участвует в репетиции «Снегурочки».
Август 9
Станиславский одобряет первый акт режиссерского плана «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». «Присланный Вами план меня очень порадовал. Он сделан с хорошей фантазией, но в нем есть некоторые непрактичности». (Из письма к Немировичу-Данченко. «Ежегодник МХТ» за 1949 – 1950 гг., стр. 186).
Август
Ведет репетиции пьесы Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». Противопоставляет художника Рубека тем буржуа, которые толкнули его на компромисс, сделали его мертвым, опустошенным. (См. режиссерский план «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». Рукопись. Музей МХАТ).
Август 14
Для художников-декораторов Симова и Вальца составляет подробное описание всех «мелочей» в ибсеновской пьесе: «какой камень как должен лежать, какой он высоты, ширины, длины и проч.». (Избранные письма, стр. 200).
«Первый [акт] сладили. Влад. Ив. бодро, энергично занимается, это очень хорошо — не затянем пьесу». (Из письма Книппер к Чехову. «Переписка», т. 1, стр. 159 – 160).
Август (между 15 и 31)
Горький сообщает Чехову, что он разорвал «в мелкие клочки» рукопись своей пьесы «Мещане». «Мне очень неприятна эта неудача. И не столько сама по себе, сколько при мысли о том, с какой рожей я встречу Алексеева и Данченко». (М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 28, М., Гослитиздат, 1954, стр. 127).
Август 21
В письме Немировича-Данченко к Станиславскому: «Со вторым актом “Мертвых” я застрял. Вот уже больше недели репетируем, а двигаемся очень медленно. Ай-ай-ай, какой это трудный акт! Не помню такого трудного акта нигде. Два дуэта наполняют весь акт.
… И вот я не только на репетициях, но и вне репетиций ломаю голову, напрягаю всю фантазию, чтобы помочь им [актерам]… Макет 3-го действия готов.
Очень хорош. Симов отменно схватил настроение холодного утра в горах. Масса воздуха, несмотря на то, что 165 сцена загромождена скалами, и воздуха, именно близкого к снежным вершинам». (Избранные письма, стр. 203 – 205).
В том же письме говорит, что на сцене никогда не нужно «бояться скуки, раз чувство и мысль развиваются правильно».
Август (после 23)
В письме к А. А. Санину касается вопросов этики во взаимоотношениях режиссера и актера: «Вы знаете меня, Александр Акимович, знаете весь склад моих убеждений, знаете, что вся моя общественная деятельность проникнута одним стремлением: очищения человека от того жестокого, от того озверелого, что он носит в себе как беспощадный, дрянной дар природы». (Архив Н-Д, № 1414).
Август (конец)
Участвует в отдельных репетициях «Доктора Штокмана».
Сентябрь 1
Уезжает в Варшаву к матери и больной сестре. (См. М. П. Чехова, Письма к брату А. П. Чехову, стр. 159).
Сентябрь
В Москве.
Сентябрь 24 – 29
Встречается с А. М. Горьким, приехавшим в Москву.
Сентябрь
В «Русской мысли» напечатана статья о драме «Когда мы, мертвые, пробуждаемся», в которой Немирович-Данченко полемизирует с декадентами-символистами, доказывая, что «именно в этой пьесе Ибсен является настоящим поэтом-реалистом… реалистом возвышенных образов». («Русская мысль», № 9, стр. 183 – 196).
Октябрь (начало)
«Очень мне понравился в этот приезд умница Данченко. Я прямо рад, что знаком с ним. Я рассказал ему мою пьесу, и он сразу, двумя-тремя замечаниями, меткими, верными, привел мою пьесу в себя. Все исправил, переставил, и я удивился сам, как все вышло ловко и стройно. Вот молодчина!» (Из письма Горького к Чехову. М. Горький, Собр. соч., т. 28, стр. 133).
Горький намерен посвятить драму «Мещане» Немировичу-Данченко. (Там же, стр. 136).
Октябрь 11
Приезжает к Л. Н. Толстому в Ясную Поляну: «На меня 166 все эти посещения Льва Николаевича ради того, чтобы посмотреть, как он живет, всегда производили отталкивающее впечатление.
Тут же газеты заговорили, что Толстой написал новую пьесу… Как во время прогулки, так и во время игры в шахматы, мы, разумеется, беседовали… Он, вообще, смотрит на свои произведения, в которых не проводит коренных философских взглядов, как на развлечение. “Плоды просвещения” Называет шуткой. … В Ясной Поляне почти каждый день бывают гости. За несколько дней до меня гостил Максим Горький и я даже привез сделанный графиней фотографический снимок, на котором Горький снят с графом. Что ж мне вам еще сказать? … И как передать, откуда явилось во мне чувство чудесного, разумного покоя, не оставлявшее меня в течение всего дня. Рядом с этим удивительнейшим человеком как-то совершенно отлетает все мелкое, лишнее». («День в Ясной Поляне», «Новости дня» от 14 октября 1900 г., № 6250. Из беседы Немировича-Данченко с репортером С. К.).
Октябрь 16
Запись в дневнике Л. Н. Толстого: «Немир[ович]-Данч[енко] б[ыл] о драме. А у меня к ней охота прошла»99*. (Л. Н. Толстой, Полное собр. соч., т. 54, М., Гослитиздат, 1935, стр. 48).
Октябрь 28
Чехов и Горький приходят в Художественный театр на спектакль «Чайка». После третьего акта Немирович-Данченко подает Чехову лавровый венок с надписью: «Высокоталантливому другу дирекция и артисты Художественно-общедоступного театра». (Н. И. Гитович, Летопись жизни и творчества А. П. Чехова, стр. 637).
Ноябрь 28
Премьера «Когда мы, мертвые, пробуждаемся».
Декабрь (начало) (предположительно)
В письме к Станиславскому: «Мне хочется сказать Вам, что едва ли найдется еще человек, который так, как я, чувствовал бы всю широту благородства Вашей природы, Ваше чистое отношение к делу, не засоренное мелочностью, Ваше деликатное отношение к тончайшим душевным струнам тех, с кем Вы работаете. … Вы часто напоминали мне лучшие дни 167 нашей близости, той близости, из которой вырос наш театр и все, что в нем есть хорошего.
Вот это я хотел сказать Вам, что бы ни произошло впереди». (Избранные письма, стр. 205).
Декабрь 6
«Вл. Немирович-Данченко и К. Алексеев (Станиславский), директора театра, очень хорошие люди и будут очень рады Вам». (Из письма Чехова к академику Н. П. Кондакову. А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 18, стр. 419).
Декабрь 8
Заходит к М. П. Чеховой, чтобы получить второй и третий акты «Трех сестер».
Декабрь 12
Ведет репетицию «Трех сестер».
Декабрь 22
Выезжает в Ментону (юг Франции) к своей сестре, умирающей от туберкулеза.
Декабрь 27
Приезжает в Ниццу, чтобы повидаться с А. П. Чеховым. «А он [Немирович-Данченко] по обыкновению хороший человек, и с ним нескучно». (Из письма Чехова к О. Л. Книппер от 28 декабря 1900 г. А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 18, стр. 436).
1901
Январь 2
Поздравляет А. П. Чехова с Новым годом и обещает приехать к нему в Ниццу 3 января.
Январь 11
Возвращается в Москву. Приступает к репетициям «Трех сестер». «Проходили 2 раза третий акт. Немирович смотрел и многое, кажется, изменит. Станисл[авский] делал на сцене страшную суматоху, все бегали, нервничали, Немирович, наоборот, советует сделать за сценой сильную тревогу, а на сцене пустоту и игру неторопливую, и это будет посильнее». (Из письма О. Л. Книппер к Чехову. «Переписка», т. I, стр. 276 – 277).
Январь 12
Ведет репетиции «Трех сестер». «Конст[антин] Серг[еевич] проработал над пьесой очень много, дал прекрасную, 168 а местами чудесную mise en scène, но к моему приезду уже устал и вполне доверился мне». (Из письма к Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 133).
«Владим[ир] Иванов[ич] возвратился и принял большое участие в репетициях». (Из письма А. Л. Вишневского, к Чехову. Гос. библиотека СССР имени В. И. Ленина, отдел рукописей).
Январь 15
О репетициях «Трех сестер» О. Л. Книппер пишет Чехову: «Спорный пункт с Немировичем — 3-й акт — покаяние Маши. Мне хочется вести третий акт нервно, порывисто… Немировичу же хочется… чтобы Маша, несмотря на все, была полна этой любви, и кается не как в преступлении». («Переписка», т. I, стр. 282 – 283).
Январь 18
«Сегодня вечером я с Немировичем хорошо занялась Машей, все себе уяснила, укрепила и люблю эту роль страшно». (Там же, стр. 287).
Январь 22
Из письма Немировича-Данченко к Чехову о репетициях «Трех сестер»: «Фабула развертывается, как в эпическом произведении, без тех толчков, какими должны были пользоваться драматурги старого фасона, — среди простого, верно схваченного течения жизни…
Разница между сценой и жизнью только в миросозерцании автора, вся эта жизнь, жизнь, показанная в этом спектакле, прошла через миросозерцание, чувствование, темперамент автора. Она получила особую окраску, которая называется поэзией». (Избранные письма, стр. 206 – 207).
Посылает Чехову телеграмму в Ниццу. Просит разрешения сделать купюры в монологах «Трех сестер» в финале пьесы.
Январь 29
Из письма О. Л. Книппер к Чехову: «Сегодня днем беседовали о генеральной, вечером я прошла всю роль начисто с Немировичем». («Переписка», т. I, стр. 302).
Январь 31
Премьера «Трех сестер».
169 Февраль
Выезжает в Петербург в связи с гастролями Художественного театра.
Февраль 19
Начало спектаклей в Петербурге: «… билеты немедленно рвут на части. Своими глазами видел толпу 200 человек в 11 часов вечера накануне продажи». (Телеграмма Чехову, «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 135).
Февраль 20
В. И. Ленин спрашивает в письме к матери М. А. Ульяновой: «Что это за новая пьеса Чехова Три сестры? Видели ли ее и как нашли? Я читал отзыв в газетах. Превосходно играют в “Художественном — общедоступном” — до сих пор вспоминаю с удовольствием свое посещение в прошлом году…». («Ленин о культуре и искусстве», М., «Искусство», 1956, стр. 375).
Февраль 25
Редакция журнала «Жизнь» устраивает встречу с труппой МХТ.
Март 1
Из Петербурга шлет телеграмму Чехову: «Сыграли “Трех сестер”, успех такой, как в Москве… Играли чудесно, ни одна мелкая подробность не пропала». (Избранные письма, стр. 209).
Март
Организует спектакли в пользу курсисток и студентов.
Март 4
День «бурной кровавой манифестации у Казанского собора100*. Казалось, вечером молодежи будет не до театра… Там было много товарищей, раненых, избитых, свезенных в больницы, арестованных; общее настроение было насыщено политикой». (Вл. И. Немирович-Данченко, Из прошлого, стр. 250 – 251).
Союз взаимопомощи русских писателей чествует труппу МХТ. «Немирович отлично отвечал — просто, умно и интересно». (Из письма Книппер к Чехову. «Переписка», т. I, стр. 346 – 347).
170 Март (середина)
В Москве участвует во II съезде сценических деятелей.
Март 28
В Севастополе. Приглашает Чехова приехать к нему.
Апрель 2
Из письма к Чехову: «Ты пишешь, что охотно арестовал бы меня и на два месяца. Я и сам охотно арестовался бы. Да ничего не поделаешь! Придется… съездить в Москву… А писать так хочется! Да и необходимо, для театра же необходимо.
… В конце концов я остаюсь при решительном убеждении, что ты должен писать пьесы. Я иду очень далеко: бросить беллетристику ради пьес. Никогда ты так не развертывался, как на сцене. Но я дал бы один совет насчет движения в пьесе. Не “действия”, а движения». («Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 138 – 139).
Апрель 9
В Москве.
Апрель (после 20)
Снова возвращается в Крым: «Вчера был у меня Немирович, мягкий, но не в духе и, как мне показалось, постаревший за последнее время. Он сильно хочет писать». (Из письма Чехова к Книппер от 24 апреля 1901 г. А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 19, стр. 77).
Апрель 26
Чехов пишет из Ялты, что он часто встречается с Немировичем. (Там же, стр. 78).
Май 3
Чехов дарит Немировичу-Данченко свои «Повести и рассказы» с надписью: «Милому другу Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко. 3 мая 1901 г. в Ялте». (Там же, т. 20, стр. 344).
Май 22
Добивается открытия сценических классов при МХТ и «с грустью» оставляет Филармоническое училище.
Май (конец)
«Весь май я так отдавался театру, как давно уже этого не было». (Из письма к Чехову от 16 июня 1901 г. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 141).
171 Май 31
Вместе со Станиславским заканчивает репетиции «Дикой утки» и «Микаэля Крамера».
Июнь 1
«Вчера 31-го мы закончили репетиции. Устали! Я не могу еще уехать, так как не выяснился вопрос о постройке театра101*. Уеду или сегодня, — будет означать, что дело о постройке рухнуло еще на год, — или дней через 10, — будет означать, что дело пошло». (Из письма к Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 140).
Июнь 16
В письме к Чехову из Нескучного: «Я совсем отвык писать… перо отучилось писать так, как требует мысль и образ. Трудно его разгорячить, так оно стало холодно и рассудочно… С тех пор, как я приехал в деревню, я выкурил уже 400 папирос, а у меня все еще нет ни одного законченного акта»102*. (Там же).
«Отношения у меня с Алексеевым лучше, чем когда-нибудь…». (Там же, стр. 140 – 141).
«Здесь очень жарко, но хорошо. Ночи очень хороши. Лунно, тепло, прохладно. Лунные ночи на юге — выше этого не знаю». (Там же).
Июль 16
«А я около трех лет не писал ничего и около пяти — пьес. Писать как следует начал только в это лето около половины июля и почувствовал, что это так трудно, как будто я всю жизнь был только режиссером (Аграмовым). … Словом, я едва закончил два акта — большие, большие, длинные, длинные… а попадающиеся под руку критические статьи все говорят о сжатости драматической формы, даже утонченной сжатости современной драмы. И я когда-то стремился к этому!» (Из письма к Южину. Архив А. И. Южина. ЦГАЛИ).
Июль 24
«Никуда я не уезжал. Мало того, за два месяца только 15 июля, благодаря приезду Каменского, лодырничал. Все остальное время в беспрерывной работе». (Из письма к Книппер. Архив О. Л. Книппер-Чеховой).
Июль 27
«Нельзя пьесу писать урывками. Когда я отстаю от написанного на несколько месяцев, — оно мне надоедает и я не 172 могу приниматься за него снова. … из набросанных в прошлом году двух актов в пьесу не вошло более 10 фраз! Сейчас я погружен в последний акт»103*. (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1582).
Август
На репетициях «Дикой утки» Ибсена.
Август 28
«Завтра Влад. Ив. читает свою пьесу. Волнуется, кажется, сильно… А право страшно за Влад. Ив. Подумай, если пьеса не понравится… каково ему?» (Из письма О. Л. Книппер к Чехову. «Переписка», т. I, стр. 434).
Сентябрь 15
В письме Горького к Чехову: «Драму пишу во всю мочь и чувствую, что она не выходит у меня. Дал слово Немировичу прислать ему в конце сентября и хочу слово сдержать». (М. Горький, Собр. соч., т. 28, стр. 176).
Сентябрь 28
Приезжает к А. М. Горькому в Нижний Новгород для ознакомления с драмой «Мещане». «… Три дня я его, ждал и чувствовал себя мальчишкой, волновался, боялся и вообще дурацки вел себя. А когда начал читать пьесу, то делал огромные усилия, для того, чтоб скрыть от Немировича-Данченко то смешное обстоятельство, что у меня дрожал голос и тряслись руки. Но — сошло!» (Из письма Горького к К. П. Пятницкому от 1 – 2 октября 1901 г. Там же, стр. 180).
Сентябрь 29
Из Нижнего Новгорода сообщает Чехову: «Пьеса отличная достойна Горького. Последний акт будет немного переделывать». («Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 141).
Сентябрь – октябрь
Пишет записку О. Л. Книппер: «Милая Ольга Леонардовна! Мне надо с Вами поговорить по поводу моей пьесы, внимательно и вдумчиво, — стало быть, довольно долго. Сделайте так, чтобы Вы и Антон Павлович были сегодня вечером дома. Я приду». (Архив О. Л. Книппер-Чеховой).
173 Октябрь 12
«Милому моему другу и товарищу Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко» — надпись А. П. Чехова на своей фотографии. (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 20, стр. 345).
Ноябрь 1
Немирович-Данченко намеревается прочесть рассказ Чехова на утреннике в пользу нуждающихся учеников школы Он просит Чехова написать новый рассказ. (Из письма Книппер к Чехову. «Переписка», т. 2, стр. 30).
Ноябрь 8
«Знаешь — из-за нашей вечеринки чисто товарищеской Трепов104* вызывал Немировича и хотя разрешил подобные сходки, но просил, чтобы его уведомляли, кто там будет из посторонних». (Там же, стр. 51).
Ноябрь 24
Присутствует на вечере в честь 50-летия литературной деятельности беллетриста и драматурга А. А. Потехина.
Декабрь 3
Просит драматический отдел Главного управления по делам печати разрешить к постановке в МХТ пьесу Горького «Мещане». (Представляет первую редакцию пьесы). («Летопись жизни и творчества А. М. Горького», выпуск 1, М., АН СССР, 1958, стр. 355).
Декабрь (середина)
Ждет от Горького пьесу, просит Чехова: «Черкни ему, пожалуйста, чтоб выслал как можно скорее». (Из письма к Чехову. Избранные письма, стр. 211).
Готовится к постановке «Мещан»: «Я сам пересмотрел три квартиры, из которых две — разжившихся маляров. Кроме того, поручил… собирать внешний материал мещанской жизни». (Там же).
Декабрь 21
Премьера пьесы Немировича-Данченко «В мечтах» в МХТ.
Декабрь 25
В прессе отрицательные отзывы о пьесе. После разговора с Немировичем-Данченко Книппер пишет Чехову: «Ему, верно, очень нехорошо на душе… Написал бы ты ему». («Переписка», т. 2, стр. 178 – 179).
174 Декабрь 28
Немирович-Данченко читает пьесу «Мещане» труппе Художественного театра. «Часто прерывали чтение взрывы хохота». (Там же, стр. 186).
Декабрь 28
Первая беседа с исполнителями о «Мещанах». Вступительное слово Немировича-Данченко.
Декабрь 30
Уезжает в Ниццу.
1902
Январь
В Ницце. «Три раза был в театре, в скверном театре, смотрел идиотский карнавал… красивую bataille des fleurs105*, ничего не делал, ни о чем не думал». (Из письма к Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 142).
Январь 21
Вернулся в Москву, принялся за дела.
Январь (после 21)
На репетициях «Мещан».
Январь 26
«Сегодня Влад[имир] Ив[анович] очень хорошо и толково занимался 1-м актом Мещан, нашел ошибки в толковавши, все выяснил, и теперь налаживается». (Из письма Книппер к Чехову. «Переписка», т. 2, стр. 283).
Январь 27
Генеральная репетиция первых двух актов «Мещан».
Февраль 22
На литературном утре памяти Гоголя читает отрывки из «Мертвых душ».
Февраль 24
Окончание спектаклей в Москве.
Февраль
Отъезд на гастроли в Петербург.
Март
В Петербурге добивается разрешения спектакля «Мещане». 175 (Вл. И. Немирович-Данченко, «Тринадцать театральных нянек». Рукопись. Архив Н-Д, № 7273).
Март (до 26)
«И вот однажды, дня за два до представления “Мещан”, на местах капельдинеров, отбиравших билеты, оказались городовые». (Там же).
Март 26
Премьера «Мещан» в Петербурге: «Театр был полон полиции и переодетой и мундирной» (Из письма Книппер-Чеховой к Чехову. «Переписка», т. 2, стр. 413).
Апрель (начало)
Проводит первую беседу с участниками спектакля «Столпы общества» Ибсена.
Апрель
В Севастополе. Работает над режиссерским планом пьесы «Столпы общества».
Апрель 10
В Ялте. Встречается с Чеховым: «Я его, очевидно, очень оживил, поговорили до полуночи». (Телеграмма к Книппер-Чеховой. Избранные письма, стр. 211).
Апрель 11
Приезжает в Олеиз к Горькому, который прочитал ему два акта «На дне».
Май
Репетирует «Столпы общества»: «Прошло репетиций 8 – 9. Занимаюсь пока я один, Бурджалов мне помогает… Давно, очень давно не помню таких плодотворных репетиций. По 4 часа без малейшего перерыва энергия не ослабевает. И однако, первый акт настолько сложен (в нем занято 16 – 17 лиц), что мы только-только срепетировали его вчерне. О красках, колорите, творчестве фигур еще не приходится очень думать… Пока, так сказать, добиваемся верного сценического и психологического рисунков. Зелены наши актеры…» (Из письма к Книппер-Чеховой. Архив О. Л. Книппер-Чеховой).
В другом письме: «Знаете, Скирмунт106* арестован. И сколько ни добивались узнать причины, — единственная та, что 176 у него останавливался Горький. Что делают! Как подгоняют катастрофу!»
Май 29
«Милый Алексей Максимович! Надеюсь, Вы поверите, что если я все время не обмолвился ни словечком, то из этого не следует, чтоб я не сочувствовал Вам во всех Ваших мытарствах последнего времени. Всей душой!» (Из письма к Горькому. Архив А. М. Горького).
Май 31
Приходит к Чехову, приехавшему в Москву. «В гостиной Немирович и Вишневский читают пьесу, Ольга лежит и слушает, я не знаю пьесы, и потому мне скучно». (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 19, стр. 286).
Июнь 9
Намеревается ставить пьесу Бьёрнсона-Бёрнстьерне «Жертва политики»107*. «Это превосходная вещь, литературное произведение высшего качества… Глазное лицо — министр… Поэтому имейте за границей в виду мысль о министрах и депутатах, так сказать их внешний вид». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1585).
Июнь (после 9)
Получил от Ю. К. Балтрушайтиса перевод пьесы Метерлинка «Монна Ванна»: «Пьеса написана в духе романтизма, не свойственного нашему театру, каким он был до сих пор… И самое главное, — я не вижу исполнителей ни у нас, ни в другом театре. И при всем том я не могу отделаться от чувства досады, что мы не будем ставить эту пьесу. … Она романтична и тем не менее очень современна. Героизм — реальный и удивительно понятный нам… Она постановочная… — и в то же время она удивительно интимна. … Для современной публики она дороже всего Шиллера и Гюго, потому что ближе по духу и совершеннее по форме». (Из неотправленного письма к Станиславскому от 4 – 5 июля 1902 г. Там же, № 1586).
Июнь 18
Под впечатлением «Бездны» Л. Андреева пишет Горькому: «Андреев… измышляет сюжеты… он больше выдумывает, чем наблюдает (кроме природы, которую хорошо чувствует).
… У Вас все понимаю и верю Вашим рассказам…». (Избранные письма, стр. 213).
177 В письме к Книппер-Чеховой об Л. Андрееве: «Он смел, но его смелость и даже дерзость — не всегда смелость таланта, часто это только смелость легкомыслия. Если он не почувствует этого сам, — из него выработается неприятный и вредный художник». (Там же, стр. 214).
Июнь 22 или 23
Горький сообщает Немировичу-Данченко, что он закончил пьесу «На дне жизни» и просит его приехать в Арзамас. «Для пьесы у меня есть несколько снимков с натуры, достану еще несколько и вышлю Вам. Снимков ночлежки — нет, только типы…». (М. Горький, Собр. соч., т. 28, стр. 261).
Июнь 25
Дарит Горькому свою пьесу «В мечтах». Надпись: «Глубокоуважаемому Алексею Максимовичу Пешкову от любящего его всем сердцем автора В. Н-Д. 25 июня».
Июль (начало)
Пишет «Записку членам Товарищества МХТ» о задачах Художественного театра: «Мы хотим вести общество за собой… Наш театр должен быть большим художественным учреждением, имеющим широкое просветительное значение, а не маленькой художественной мастерской, работающей для забавы сытых людей». (Избранные письма, стр. 223).
Протестует против стремления пайщиков сделать театр «модным»: «Оно вредное, потому что оно приведет нас к ужасному результату, когда в начнем театре форма совершенно задушит содержание и вместо того, чтобы вырос большой Художественный Театр с широким просветительным влиянием, мы обратимся в маленький художественный театр, где разрабатываются великолепные статуэтки для милых, симпатичных, праздношатающихся москвичей». (Из неотправленного письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1587).
Июль (до 20)
Благодарит Горького за «ласковые строки» о пьесе «В мечтах»108*. «Хочу Вам сказать, что я даже довольно долго колебался, посылать ли ее Вам. По отзыву большинства, пьеса 178 мне не удалась совсем… Личное мое чувство — никогда не было такое изъязвленное, как с этой пьесой». (Из письма к Горькому. Архив А. М. Горького).
Июль (между 17 и 25)
В письме Горького к Чехову: «Очень хочется быть на репетициях, прошу Вл[адимира] Ив[ановича] и Кон[стантина] Сер[геевича] похлопотать об этом у моск[овского] ген[ерал]-губернатора». (М. Горький, Собр. соч., т. 28, стр. 265).
Июль
Ходатайствует перед московским обер-полицмейстером, о том, чтобы Горькому разрешили приехать в Москву.
Из письма Немировича-Данченко к Книппер-Чеховой; «В Любимовке109* славно. А у меня она слилась с сильными впечатлениями “Пушкинского” лета. И когда я вспоминаю любимовскую еловую аллею под мягким августовским солнцем, или этот балкончик, на котором я зяб до рассвета над широкими и горячими театральными планами и отрывался только, чтоб прислушаться, как ночную тишину прорезывал звон церковного сторожа или гудок паровоза, — тогда мне кажется, что в то лето начался закат моей молодости и я спешил с жадностью упиться ею». (Архив О. Л. Книппер-Чеховой).
Июль (до 27)
Закончил режиссерский план «Столпов общества» Ибсена.
Июль 27
«Пьеса Горького не запрещена цензурой, он ее еще даже не представлял. Он ее опять переделывает». (Из письма Немировича-Данченко к В. В. Лужскому. Архив Н-Д, № 1004).
Узнает, что В. Ф. Комиссаржевская ушла из Александринского театра, и намеревается пригласить ее в Художественный театр.
Июль
Установлены обязанности Немировича-Данченко в театре: «Художественный директор, сносится с внешними властями по делам театра, председательствует в репертуарном совете и докладывает Правлению по поводу постановки новых пьес, приискивает пьесы для репертуара, сносится с литературным миром по делам театра, контролирует и советует при постановке всех шести новых пьес репертуара в литературно-художественном отношении, самостоятельно, как режиссер, должен 179 поставить одну из шести новых пьес». (Условия между пайщиками 1902 – 1905 гг. Архив внутренней жизни театра. Музей МХАТ, № 5213).
Июль – август
Ходатайствует перед цензурой о разрешении поставить «Власть тьмы» «в художественно-реальном изображении, так как до сих пор русская деревня изображалась на сцене в слишком условно-театральных формах, отдалявших ее даже от того изображения, какое она находила в художественной литературе». (Неоконченный черновик, машинопись. Архив внутренней жизни театра. Музей МХАТ, № 5403/27).
Август 9
Выезжает к Горькому в Арзамас для ознакомления с пьесой «На дне жизни». Советует Горькому назвать ее «На дне».
Август 18
Из Любимовки Книппер-Чехова пишет Чехову: «С Немировичем сидели наверху, слушали, как безнадежно идет дождь, раскладывали пасьянсы, болтали». («Переписка», т. 2, стр. 447).
Август 21
Проводит первую беседу о пьесе «На дне» с труппой. Вечером посещает вместе с художником В. А. Симовым и писателем В. А. Гиляровским ночлежки Хитрова рынка. (См. письмо к Горькому. Избранные письма, стр. 227).
Август 22
Чтобы уловить настроение первого действия горьковской пьесы, рано утром посещает ночлежку Хитрова рынка.
Август 25
В письме к Чехову анализирует пьесу С. А. Найденова «Жильцы». (См. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 146).
Выезжает на несколько дней в Петербург хлопотать о разрешении пьесы «На дне»: «Пришлось ехать в Петербург отстаивать чуть не каждую фразу, скрепя сердце делать уступки и, в конце концов, добиться разрешения только для одного Художественного театра». (Предисловие Немировича-Данченко к книге Николая Эфроса «“На дне”, пьеса Максима Горького в постановке Московского Художественного театра»).
Август 27
Пишет Горькому о том, что только после посещений ночлежки он понял и почувствовал в полной мере реальность 180 пьесы «На дне»: «Передо мной развертывается громадная и сложная картина и накипает ряд глубоких вопросов, по которым до сих пор моя мысль только скользила. Так сказать, она еще не поддавалась Вам всецело… Теперь многое мне становится понятнее и сильнее жжет меня». (Избранные письма, стр. 229).
Август 28
Вместе со Станиславским репетирует «Власть тьмы» Л. Н. Толстого.
Сентябрь 6
От имени Художественного театра посылает телеграмму Л. Н. Толстому по случаю 50-летия его литературной деятельности: «Мы преклоняемся перед Вами, как преклоняются перед неутомимым работником, который не перестает будить нашу мысль и совесть…». (Избранные письма, стр. 230).
А. М. Горький читает свою пьесу «На дне» труппе МХТ.
Сентябрь 13
В письме Книппер-Чеховой к Чехову о репетициях «На дне»: «Разбирались в 1-м акте, сегодня уже горячо поработали… Владимир Иванович ведет пьесу. Константин Сергеевич пока отсутствует эти дни»110*. («Переписка», т. 2, стр. 501).
Сентябрь 16
«Была на репетиции. Владимир Иванович беседовал с каждым отдельно; каждый проходил свою роль в тон». (Там же, стр. 508 – 509).
Сентябрь 19
Ведет репетиции первого и второго актов «На дне».
Сентябрь 13 – 21
Проходит с ученицей школы В. А. Петровой роль Сони в «Дяде Ване» Чехова.
Октябрь 25
Открытие сезона МХТ в новом помещении. Идут «Мещане» Горького.
181 Осень
Вместе с К. С. Станиславским ставит «На дне»111*. Пишет ему о том, что для исполнения роли Сатина нужны новые приемы, новая речь, не изощренная паузами, беглая, легкая. «То, чего я добивался от Москвина и от тона всей пьесы, в равной мере относится и к Вам. Сделаю такой пример: что если бы монолог о праведной земле пришлось говорить Вам?112* Ведь Вы бы его расчленили на несколько частей — и переиграли бы. И он не донесся бы до зрителя так легко. А в этой бодрой легкости вся прелесть тона пьесы… играть трагедию (а “На дне” — трагедия) в таком тоне — явление на сцене совершенно новое». (Избранные письма, стр. 231).
Ноябрь
Репетирует «На дне». «Тон для Горького найден был мною, как сейчас помню, в 3-м действии на монологах Луки — Москвина, а после в 4-м действии на монологах Сатина»113*. (Из письма к Н. Е. Эфросу, 1922 – 1923 гг. Архив Н-Д, № 2061).
Ноябрь 30
Репетирует «На дне». Выслушивает замечания А. М. Горького по репетиции третьего акта. (Из письма Книппер-Чеховой к Чехову. Архив О. Л. Книппер-Чеховой).
Декабрь 1
А. М. Горький смотрит в первый раз пьесу Вл. И. Немировича-Данченко «В мечтах» на сцене Художественного театра.
Декабрь 4
О репетициях «На дне» Немирович-Данченко пишет А. А. Санину: «С некоторой переменой в ролях, кажется, дело налаживается». (Архив Н-Д, № 1424).
Декабрь б
Репетирует четвертый акт «На дне».
Декабрь 12, 13
Утром и вечером репетирует «На дне». На репетиции присутствует Горький. «Дело как будто наладилось… Для всей 182 пьесы выработали мы тон новый для нашего театра, — бодрый, быстрый, крепкий, не загромождающий пьесу лишними паузами и малоинтересными подробностями. Зато ответственности на актерах больше». (Из письма Немировича-Данченко к Чехову. Избранные письма, стр. 232).
Декабрь 14
Репетирует «На дне». «Влад. Ив. прочел нотацию всей труппе, очень толковую и очень внушительную». (Из письма Книппер-Чеховой к Чехову. Архив О. Л. Книппер-Чеховой).
Декабрь 15
Генеральная репетиция «На дне».
Декабрь 16
Просит цензора разрешить в третьем действии горьковской пьесы появление полицейского офицера и городового.
Декабрь 18
Утро. «Жду сегодня очень большого успеха, не единодушного, но шумного. … Темп, наконец, схвачен хорошо — легкий, быстрый, бодрый. Симов дал прекрасную декорацию 3-го действия. Сумел задворки, пустырь с помойной ямой сделать и реально и поэтично». (Из письма Немировича-Данченко к Чехову. Избранные письма, стр. 233).
Вечер. Премьера «На дне».
Вместе со всей труппой присутствует на ужине, устроенном А. М. Горьким после премьеры. «Все были довольны, веселы, с легкой душой. Говорил только Владимир Иванович, но не торжественно, а шутливо, просто копируя Горького, так как тот поручил ему говорить». (Из письма Книппер-Чеховой к Чехову. Архив О. Л. Книппер-Чеховой).
Декабрь 19
«Вл[адимир] Ив[анович] нашел настоящую манеру играть (произведения) пьесы Горького. Оказывается, надо легко и, просто докладывать роли. Быть характерным при таких условиях трудно, и все оставались самими собой, стараясь внятно подносить публике удачные фразы роли». (Из письма Станиславского к Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 220).
Выезжает в Петербург, чтобы получить разрешение цензуры на постановку «Столпов обществах».
183 Декабрь 20 или 21
Горький пишет К. П. Пятницкому: «Успех пьесы [“На дне”] — исключительный, я ничего подобного не ожидал… Вл. Иван. Немировича[-Данченко] — так хорошо растолковал пьесу, так разработал ее — что не пропадает ни одного слова… Я только на первом спектакле увидел и понял удивляющий прыжок, который сделали все эти люди, привыкшие изображать типы Чехова и Ибсена. Какое-то отрешение от самих себя». (М. Горький, Собр. соч., т. 28, стр. 277).
Декабрь 22
Приступает к прерванным репетициям пьесы Ибсена «Столпы общества».
Декабрь 25
Скрывается от праздничной суеты, визитов в гостинице при мужском монастыре, недалеко от Троице-Сергиевской лавры. Обдумывает репертуар будущего года.
Декабрь 26
Посылает Чехову список пьес, намеченных к постановке в Художественном театре, и просит его дать «умный совет о репертуаре». («Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 149).
1903
Январь 6
Смотрит В. Ф. Комиссаржевскую в «Монне Ванне» Метерлинка.
Январь 9
Ведет репетицию «Столпов общества». «Все были вялые, скучные и Владимир Иванович раскостил всех, всем влетело. Теперь подтянутся». (Из письма Книппер-Чеховой к Чехову. Архив О. Л. Книппер-Чеховой).
«Влад. Ив. хлопочет о прибавке артистам». (Там же).
Январь 11
Грибоедовская премия присуждается пьесе «В мечтах». «Несмотря на все эти внешние признаки успеха, я твердо помнил, что пьеса не удалась». («История моей драмы “В мечтах”». Архив Н-Д, № 7261).
Январь 17
«Наш театр должен в смысле сценического (а если можно — и драматургического) искусства идти впереди других театров». (Из письма Немировича-Данченко к Чехову. Избранные письма, стр. 235).
184 Февраль 7
Вечером, дома у Станиславского, репетирует отдельные сцены из «Столпов общества».
Февраль 9
Сдает генеральную репетицию «Столпов общества» и уезжает на три дня в Петербург для подготовки весенних гастролей Художественного театра.
Февраль 10 – 12
В Петербурге. «Воздух около Суворина действительно пакостный.
И какой это плохой театр! … В который раз я убеждаюсь, что единственный театр, где можно работать, сохраняя деликатность и порядочность отношений, — это наш. Единственный в мире…
И чем больше я ссорюсь с Алексеевым, тем больше сближаюсь с ним, потому что нас соединяет хорошая, здоровая любовь к самому делу». (Из письма к Чехову от 15 февраля 1903 г. Избранные письма, стр. 239).
Февраль 12
Предполагает на время петербургских гастролей МХТ пригласить В. Ф. Комиссаржевскую для участия в «Чайке»114*.
Февраль 14
В бенефис Е. В. Гельцер смотрит в Большом театре балет «Лебединое озеро».
В четвертом часу ночи читал рассказы Чехова. «Хохотал в подушку, как дурак, когда прочел “Месть”. И ночью еще проснулся и смеялся». (Из письма к Чехову от 15 февраля 1903 г. Избранные письма, стр. 239).
Февраль 15
В том же письме: «Все друг с другом видаются, разговаривают о чем хотят. А я начинаю репетицию в 12 час, когда все сходятся, и кончаю в 4, когда все спешат домой. А вечером меня теребят декорации, бутафория, звуковые и световые эффекты и недовольные актеры.
… Чувствую тоскливое тяготение к близким моей душе мелодиям твоего пера. Кончатся твои песни, и — мне кажется — окончится моя литературно-душевная жизнь…
Мне кажется, что ты иногда думаешь про себя потихоньку, 185 что ты уже не нужен. Поверь мне, поверь хорошенько, что это большая ошибка.
… Какое это будет радостное событие — твоя пьеса, хотя бы это был простой перепев старых мотивов…
… А пока мы заняты “Столпами”. Какая это мука — не верить в красоты пьесы, а внушать актерам веру в них. Цепляюсь за каждую мелочь, чтобы поддерживать энергию работы». (Там же, стр. 237 – 238).
Февраль 23
«На генеральной Владимир Иванович прислал мне сказать… чтобы из 24-х рук я на сцену захватила бы только одну пару». (Из письма Книппер-Чеховой к Чехову. Архив О. Л. Книппер-Чеховой).
Февраль 24
Премьера «Столпов общества».
Март (начало)
Снова уезжает в Петербург: «… Как случится вот провести несколько часов с такими людьми, как суворинцы, точно тебя грязью обдает и вонью». (Из письма к Чехову. Избранные письма, стр. 239).
Март
В Москве. Ведет репетиции в школе МХТ, сдает два ученических спектакля. «Семь лет я добивался “школы при театре”, сколько возбуждал против себя ненависти, протестов, недоверия. Теперь торжествую». (Там же, стр. 240).
Получил от Горького подарок — экземпляр пьесы «На дне» с надписью: «Половиною успеха этой пьесы я обязан вашему уму и сердцу, товарищ». (Музей МХАТ. См. фотокопию в книге Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 113).
Просит Чехова передать Горькому, что очень дорожит его подарком. «Хотя не могу не сказать, что надпись сделана со свойственной ему расточительностью… Я не заслужил этой надписи». («Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 156).
Март 26
«Симов поставил сегодня очаровательную декорацию I акта “Дяди Вани”. Вот-вот отсохшие желтые листья уже прозрачного сада упадут и Вы услышите, как падает каждый листик. … И потом, Симову удалось открыть даль в бок сцены!» (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1592).
186 Март 28
Во время фотосъемок спектакля «На дне» надевает костюм ночлежника и снимается со Станиславским — Сатиным и со всей ночлежкой. (Фото в Музее МХАТ).
Апрель 1
Уезжает с Художественным театром в Петербург.
Апрель 5
«Заходила к Немировичам: … Влад. Ив., затихший, скучный, все с шахматами сидит. Я его вытащила, прошлись, потом по набережной прокатились». (Из письма Книппер-Чеховой к Чехову. Архив О. Л. Книппер-Чеховой).
Апрель 8
На спектакле «Дядя Ваня»: «Весь вечер испытывал истинно-художественную радость». (Из телеграммы к Чехову. Архив А. П. Чехова. Гос. библиотека СССР имени В. И. Ленина, отдел рукописей).
Апрель 15
Читает «Росмерсхольм» Ибсена Станиславскому, Лужскому, Вишневскому, Книппер.
Апрель 20
Произносит вступительное слово на литературном утре, посвященном А. П. Чехову, в театре Пассажа в Петербурге: «У каждого писателя — свои мечты, свое чувствование жизни, свой стиль. Сохранить все это — задача театра… В так называемых “чеховских настроениях” отразилась широкая полоса провинциальной жизни русского интеллигентного человека… Режиссер… должен быть прежде всего поэтом, а потом уже мастером своего искусства… Чехов с своими драмами едва ли не дальше всех русских писателей отошел от той условной формы, в которую окончательно выродилась драма на Западе. Не даром же западные критики всегда обвиняют русских драматургов в плохой сценической технике!.. Не есть ли это явное указание на то, что русский театр идет своим путем, вырабатывает для сцены свои формы…». («Инсценировка чеховских настроений», «Литературный вестник», т. V, кн. 3, издание Русского библиологического общества, 1903).
Апрель (до 26)
Из письма к В. Ф. Комиссаржевской: «Говорят, я принадлежу к мечтателям. Вероятно. Однако к таким, которые довольно упрямо добиваются осуществления своей мечты. Одно 187 из моих, очень давних, мечтаний — Ваше присутствие в труппе Художественного театра». (Избранные письма, стр. 241).
Май
Готовится к постановке «Юлия Цезаря».
Май 31
Уезжает вместе с художником В. А. Симовым в Венецию, Рим, Неаполь собирать материалы для постановки «Юлия Цезаря»: «Подышать и пофантазировать среди развалин». (Из письма к В. А. Симову от 11 февраля 1933 г. «Театр и драматургия», 1933, № 1).
Июнь (начало)
В Риме. Испытывает «подъем духа». Под знойным солнцем с утра на Форуме: «Зарылись в работу — на месте и дома — и нашли удивительно интересную точку зрения, оригинальные перспективы, детали своеобразные и исторически верные…
Я убеждаюсь, что великий Кронек115* был в Риме не больше как от поезда до поезда». (Из письма к Станиславскому. Избранные письма, стр. 243 – 245).
Июнь 10
«Переход от обломков древнего Рима на площадях и в музеях к собору Петра способен перевернуть все миросозерцание человека». (Из письма к Книппер-Чеховой. Архив О. Л. Книппер-Чеховой).
Июнь (до 15)
«Последний вечер в Риме провели в театре. Итальянские актеры вообще чуть ли не самые лучшие по нервности и простоте. … Играла чудесная по нервному темпераменту актриса Gramatica и отличный актер. Актриса вроде Заньковецкой, но еще посильнее… Постановка пьесы самая жалкая». (Из письма к Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 157).
Июнь
Три дня пробыл в Помпее, в антикварных лавках, потом — в Неаполе: «Иностранцы без пролития крови, а одним пролитием денег завоевали всю страну, и она теперь весь режим своей жизни устроила для приезжающих иностранцев. Отвратительное зрелище!» (Там же, стр. 158).
Июнь 21
В Венеции сводит воедино материал, собранный для постановки 188 «Юлия Цезаря». «А Венеция очаровательна и по тишине и по колориту». (Там же).
Июнь 29
Возвращается в Москву.
Июнь 30
В Художественном театре. Проверяет, как идут приготовления к постановке «Юлия Цезаря».
Июль 6
В Нескучном. Работает над режиссерским планом «Юлия Цезаря».
Июль 11
Просит вызвать электротехника и расспросить его, как он выполняет задания, связанные с появлением тени Цезаря. Напоминает Я. И. Гремиславскому о том, что к 17 августа должны быть готовы 142 парика. (Из письма к Лужскому, Архив Н-Д, № 1006).
Июль 23
Пишет Лужскому: «Я еще не подошел к Антонию… Больше всего я доволен у себя — картиной у Цезаря… Вообще я пишу мизансцену, как целый трактат. Тут самая полная психология и беспрестанные выдержки из истории». (Избранные письма, стр. 247 – 248).
Июль 25
«Все, что до Сената, сделал очень тщательно и собираюсь многое насильно навязать исполнителям, — до того убежденно писал. Между прочим, и с ролью Брута116*… Нахожу Брута удивительно симпатичным образом, знаю его тон, лицо, движения. Кажется, справился даже с монологами117*…
Весь тон и темп второго акта, в особенности у Брута, у меня совершенно иной, чем у Вас118*… И вот тут-то я и попрошу совсем, бесконтрольно, пойти за мной». (Из письма к К. С. Станиславскому. Там же, стр. 250).
Июль
Хлопочет перед министерством государственных имуществ о нуждах крестьян Екатеринославской губернии.
189 Июль – август
Работает над режиссерским планом сцены «Форум» в «Юлии Цезаре»: «Я сижу на Форуме. Еще два дня работы, — надеюсь кончить. Примерное распределение репетиций набросал. При великолепном марше можно не изменять 26-му сентября. Но при великолепном марше!» (Из письма к Лужскому. Архив Н-Д, № 1007).
Август 7 – 17
Утром и вечером репетирует «Юлия Цезаря» (массовые сцены и отдельные роли).
Август (после 6)
Встречается с А. М. Горьким, приехавшим на несколько дней в Москву.
Август 17
«В самых репетициях есть несколько новая окраска — больше системы и, может быть, неизмеримо против прежнего меньше напрасных проб и шатаний из стороны в сторону… С Константином Сергеевичем мы очень дружны и отлично наладили совместную работу». (Из письма к Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 158 – 159).
О пьесе С. А. Найденова «Деньги» пишет Чехову. «Если бы это было написано очень талантливо, то вышла бы одна из слабых пьес Островского, а пока это ниже пьес покойного Федотова». (Там же, стр. 159).
Август
Из 140 экзаменующихся в школу МХТ приняли 6. Наметили план занятий. Ввели правило: «Роль, сыгранная в театре, заменяет отрывок. Всего в школе должно быть приготовлено от 36 до 42 отрывков. Из них Немировичем 12». (Архив Музея МХАТ).
Август (конец)
Генеральная репетиция первого акта «Юлия Цезаря».
Сентябрь 2
Чехов пишет Немировичу-Данченко: «Если ты, как пишешь, уйдешь в Малый театр, то не обрадуешься. Ведь ты отвык уже и от Рыбакова и от Лешковской и как бы они ни играли, тебе все будет казаться нескладным и угловатым. Нет, уж держись своего театра». (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 20, стр. 129).
190 Сентябрь 15
Из письма Чехова к М. П. Лилиной о «Вишневом саде». «Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс, и я боюсь, как бы мне не досталось от Владимира Ивановича». (Там же, стр. 131).
Сентябрь 28
Ведет репетицию «Юлия Цезаря». По словам Книппер-Чеховой, добивается «простоты и величавости». (Из письма к Чехову. Архив О. Л. Книппер-Чеховой).
Сентябрь (конец)
С утра до поздней ночи перед премьерой «Юлия Цезаря» проводит так называемые монтировочные репетиции: устанавливает декорации, освещает их, осматривает, проверяет время антрактов. Хвалит Симова за декорации комнаты Цезаря.
Октябрь 2
Прочитав в газете «Новости дня» заметку Н. Е. Эфроса «Рим», пишет ему письмо, в котором раскрывает свой замысел «Юлия Цезаря»: «Ни в каком случае не “душа Брута” является центром трагедии… распад республики, вырождение нации, гениальное понимание этого со стороны Цезаря и естественное непонимание этого со стороны ничтожной кучки “последних римлян”…
И это было главной задачей театра. Нарисовать Рим упадка республики и ее агонию». (Избранные письма, стр. 253 – 254).
Премьера «Юлия Цезаря».
Октябрь (после 2)
«В постановку “Юлия Цезаря” я положил ровно полгода жизни, беспрерывной работы и очень напряженной. Знание сценической техники, психологии театра и опыт обращения с персонажами — все это было для меня, что перо для писателя, кисть для художника и т. д. И в этой области я не теряю самокритики. Пользовался же я этими средствами под напором тех образов, картин, звуков и т. д., которые сложились в моей душе от двух сил: “Юлий Цезарь” Шекспира и эпоха Юлия Цезаря по истории. Этот сложившийся в моей душе мир, свой, особенный, самостоятельный, и руководил моим сценическим опытом при постановке. … Вот почему Ваше письмо наполняет меня высокой и гордой радостью». (Из письма к И. И. Иванову. Архив Н-Д, № 7940).
191 Октябрь 18
Получил рукопись «Вишневого сада». Бросил репетицию и стал читать пьесу. Телеграфирует Чехову: «Новь в твоем творчестве — яркий, сочный и простой драматизм. Прежде был преимущественно лирик, теперь истинная драма». («Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 161).
Октябрь 20
Читает «Вишневый сад» труппе: «Читал Вл[адимир] И[ванович] в буфете. Читал очень хорошо». (Л. М. Леонидов, Воспоминания, статьи, беседы, переписка, записные книжки, «Искусство», 1960, стр. 115).
Октябрь 23
Из письма Чехова к Немировичу-Данченко: «А мне очень бы хотелось побывать на репетициях, посмотреть». (А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 20, стр. 162).
Октябрь 27
«Мысленно вживается» в пьесу «Вишневый сад», начинает работать с художником Симовым.
Октябрь 29
«Я Вас люблю, высоко ценю и работать с Вами мне хорошо, но когда мне кажется, что Вы попадаете под влияния, противные всей моей душе, я становлюсь недоверчив, во мне обижается все, что дорого мне». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1596).
Октябрь 30
«Вчера он [Потапенко] заходил ко мне. Как опустился! И какой усталый скептицизм!» (Из письма к Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 163).
Ноябрь 2
«А ты напрасно говоришь, что ты работаешь, а театр все-таки — “театр Станиславского”. Только про тебя и говорят, про тебя и пишут, а Станиславского только ругают за Брута. Если ты уйдешь, то и я уйду. Горький моложе нас с тобой, у него своя жизнь». (Из письма Чехова к Немировичу-Данченко. А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 20, стр. 173).
Ноябрь (до 6)
«Я бы уже приступил к пьесе119*, если бы меня не замучивали скучные работы, — во-первых, все текущие дела, которые, 192 как никогда еще, навалились на меня, во-вторых, “Одинокие”, в-третьих — школа». (Из письма к Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 164).
Ноябрь 7
«Я на ночь читаю твои сочинения, выпускаемые “Нивой”… Недавно прочел в первый раз “Душечку”. Какая прекрасная штука! “Душечка” — это не тип, а целый “вид”». (Из письма к Чехову. Избранные письма, стр. 260).
«В 12 1/2 у меня урок. В 2 часа другой урок. В 3 репетиция двух сценок из “Одиноких”. В 4 заседание правления. В то же время надо прослушать задки “Одиноких” и принять человек 10 никому не нужных людей. Вот тебе мое утро». (Там же).
Ноябрь 9
«В общем тоне мы идем все вперед. Вырабатывается тот талантливый, культурный полутон, который дороже всяких ярких криков, шумов, излишней горячности, аффектации». (Из письма к Чехову. Там же, стр. 261).
Ноябрь 15
Проводит с исполнителями беседу о «Вишневом саде».
Ноябрь 18 – 24
Вместе со Станиславским репетирует «Вишневый сад».
Ноябрь 19
«Теперь работа идет так: вчера и сегодня — вел репетицию 1 акта Вл[адимир] Ив[анович], а я писал следующие акты». (Из письма Станиславского к Чехову. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 231).
Ноябрь 24
«Сегодня произошел большой скандал в университете. Вл. Ив. поехал туда читать пьесу120*… Студенты, обижен[ные] тем, что им дали мало билетов, ворвались до начала заседания, выломали двери и заняли все места. Приехавшей публике не хватило мест. Заседание отменили…». (Там же, стр. 232).
Ноябрь
В школе МХТ ставит первый акт «Иванова».
193 Ноябрь – декабрь
В письме к Станиславскому: «Гораздо правильнее было бы, если бы я весь с головой ушел в “Вишневый сад”, а Вас. Вас. [Лужский] весь с головой в школу». (Архив Н-Д, № 1597).
1904
Январь
Репетирует четвертый акт «Вишневого сада».
Январь 16 или 17
В Большом театре слушает оперу «Демон» с участием Ф. И. Шаляпина.
Январь (до 17)
Накануне премьеры пишет Книппер-Чеховой о роли Раневской: «… Надо будет помнить больше всего о двух контрастах роли, или, вернее, души Раневской: Париж и вишневый сад. Внешняя легкость, грациозность, brio всего тона, — это проявлять во всех случаях, где скользят мелочи, не забирающиеся в глубь души. И ярче — смешки, веселость и т. д. С такой же яркостью резкий переход на драму.
… Отчего Вас беспокоит, что “нет слез”? Драма будет в контрасте, о котором я говорю, а не в слезах, которые вовсе не всегда доходят до публики. Вот! В. Немирович-Данченко», (Архив О. Л. Книппер-Чеховой).
Январь 17
Во время премьеры «Вишневого сада» посылает Чехову записку: «Спектакль идет чудесно». Просит его приехать. После третьего акта, во время чествования Чехова, произносит речь: «Сегодня ты именинник, по народной поговорке “Антон дня прибавил”. С твоим приходом в наш театр у нас сразу “дня прибавилось”». («Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 168; «Русское слово», 1904, № 10).
Январь (после 17)
Пишет Л. М. Леонидову о роли Лопахина («Вишневый сад»): «… Если играть не роль только, а образ, а этого живого человека, и не играть его, а все глубже, ярче и тоньше создавать, то спектакль никогда не потеряет для актера интереса. В каждом спектакле можно за какой-то фразой находить новую черточку характера и заботиться о передаче, о воплощении ее, не меняя рисунка и мизансцены. Вживаться глубже во все черты этого сложного характера и все дальше и дальше уходить от приемов театра, чтобы в конце концов получалось лицо, не похожее на Леонидова, хотя и созданное Леонидовым». (Избранные письма, стр. 262).
194 Февраль 24
«У Владимира Ивановича масса дела: вырабатывает новый устав, работает в школе… едет в Петербург устраивать сцену для Цезаря». (Из письма Книппер-Чеховой к Чехову. Архив О. Л. Книппер-Чеховой).
Март 12
Выезжает в Петербург.
Март 14
Из Петербурга приезжает к Горькому в Сестрорецк, чтобы послушать его пьесу «Дачники». «Пьесу он на днях окончит. Читал мне много из пьесы. Некоторое понятие я составил. Она еще сырая. Придется ему, вероятно, переписывать. Но много интересного уже есть. Хороши женские образы… А потом он сейчас же хочет приступить ко второй пьесе. Думает к осени быть вооруженным сразу двумя. Разговор у нас с ним был совершенно откровенный вовсю… Сначала мне было у него очень скучно, потому что оба мы чувствовали стену между нами, а в присутствии третьего лица (у него был гость) не могли эту стену разрушить. Но когда остались одни, — разговорились и, наконец, сбросили все “занавесочки”. Я уехал от него ночью с последним поездом я буду видеться в среду, — он приедет в Петербург. Расстались мы очень дружно». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1600).
Март (между 16 и 21)
«Немирович — был, читал я ему отрывки из пьесы, он очень хвалит, но я ему не верю. Длинно и скучно». (Из письма Горького к Е. П. Пешковой. М. Горький, Собр. соч., т. 28, стр. 307).
Март 17
В день именин А. М. Горького встречается с ним в Петербурге, в доме К. П. Пятницкого. (Из письма Горького к Пешковой. А. М. Горький, Письма к Е. П. Пешковой. «Архив А. М. Горького», т. V, Гослитиздат, 1955, стр. 107).
Март 18
«Скажи Немировичу, что звук во II и IV актах “Вишн[евого] с[ада]” должен быть короче, гораздо короче и чувствоваться совсем издалека»121*. (Из письма Чехова к Книппер-Чеховой. А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 20, стр. 251).
195 Март 24
«Леонид Андреев ворчал на Художественный театр, на “Юлия Цезаря” и проч.». (Там же, стр. 256).
Март 26
«Владимир Иванович орудует вовсю», — пишет Книппер-Чехова Чехову о репетициях «Юлия Цезаря» в Петербурге122*. (Архив О. Л. Книппер-Чеховой).
Март
Из секретного донесения обер-полицмейстера Трепова: «Директор Художественного театра Владимир Иванович Немирович-Данченко… был одним из инициаторов устройства в своем Художественном театре так называемых “утренников”, в видах привлечения на них рабочих. Впоследствии эти утренники послужили сближению рабочих с интеллигенцией с пропагаторской [пропагандистской] целью». («Дело о запрещении публичных лекций и литературных чтений». «Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. II, стр. 544).
Апрель 2
После представления «Вишневого сада» в Петербурге посылает телеграмму Чехову: «Общее настроение за кулисами покойное, счастливое и было бы полным, если бы не волнующие всех события на Востоке»123*. (Избранные письма, стр. 264).
Апрель 6 – 7
На собрании членов Товарищества ставится вопрос о режиссуре Станиславского и Немировича-Данченко и выносится решение: «Необходимо, чтобы… непременно оба участвовали в постановке… волнения, споры и муки не должны останавливать этого порядка, так как только через такие муки проявляется творчество». (Протокол собрания Товарищества МХТ. Музей МХАТ).
Апрель 18
Горький читает свою пьесу «Дачники» труппе Художественного театра.
Апрель 20
«Через день после чтения г[осподин] Горький сказал мне, что за лето он окончит пьесу и пришлет ее мне к 15 августа, 196 прибавив, что если бы он сам остался недоволен этой пьесой, то у него уже задумана другая, причем тут же в беглых чертах рассказал мне ее замысел… Что произошло потом, я не знаю. Кажется, г[осподин] Горький решил, что я не понял “Дачников”». (Черновой набросок карандашом от 18 ноября 1904 г., по-видимому, предназначенный для прессы. Записная тетрадь 1904 – 1911 гг.).
Апрель – май
Посылает Горькому подробную рецензию о «Дачниках». Упрекает его в «озлобленном», «пристрастном», «тенденциозном» изображении интеллигенции. «На кого он [Горький] так обозлился, что написал пьесу, до такой степени озлобленную, что не может быть и речи об “уважай человека”?
… Если бы автор был безупречно объективен, беспристрастен, он бы иначе рисовал картину, его выводы звенели бы в пьесе помимо его воли. Но он пристрастен…
… Все это лишь материал для пьесы… хочется, чтобы автор очистил пьесу от банальностей». (Архив А. М. Горького, письмо без даты).
Из ответного письма Горького о «Дачниках»: «Внимательно прочитав Вашу рецензию на пьесу мою, я усмотрел в Вашем отношении к вопросам, которые мною раз навсегда, неизменно для меня решены, — принципиальнее разногласие. Оно неустранимо, и потому я не нахожу возможным дать пьесу театру, во главе которого стоите Вы». (Черновик. Архив А. М. Горького).
Май (до 10)
Слушает поэта К. Д. Бальмонта — его перевод пьес М. Метерлинка: «Там внутри», «Слепые», «Непрошенная».
Май 12
Е. Чириков в письме к Немировичу-Данченко рассказывает о работе над своей пьесой «Иван Мироныч». (Первоначальное название — «Замужем»), (Архив Н-Д, № 6255/3).
Май 20
В последний раз видится с Антоном Павловичем Чеховым, который на прощание советует ему обязательно писать пьесу. (Черновик письма Немировича-Данченко к Горькому, июль 1904 г. Архив Н.-Д, № 680).
Май 26
В Нескучном. «Прекрасные, мирные, лирические картины, тихая жизнь, полная радостей природы, лирических звуков мира, — все это уже не производит впечатления тех радостей, какие испытывал: мысль о том, что там, где-то, на 197 Востоке льется кровь — отравляет все». (Из записной тетради 1904 – 1911 гг.).
«Тунеядство вообще скверно, но тунеядство в военное время — преступление. … То, что называют “подъемом духа” в военное время, глубоко и достойно почтения, если это — подъем работоспособности, подъем творческих сил, подъем стремления к расцвету сил страны. Если же это только патриотическая гордость, то она сводится к чванству за чужой счет и похожа на чванство титулованных тунеядцев.
Говорят, война не популярна, ее создали дипломаты, чиновники. Пусть так! Надо будет заставить их дорого заплатить за потерю сильных храбрецов, отцов и братьев, за трату огромных капиталов страны. Но сначала завоюйте право заступаться за тех, кого вовлекла эта война… Фанфаронство, патриотическая болтовня не дают вам это право. Вы его можете получить только напряжением ваших сил, вашей трудоспособности». (Там же).
Май (после 26)
В черновых набросках к пьесе «Курган» названы Николай II, Плеве, Витте. «Витте ловкий и практический, опирающийся на власть, как на единственную возможность поддержать свое благополучие».
В перечне действующих лиц: «Свободный художник; Убежденный мещанин; Мещанин, хватающийся за свою корку хлеба, жалкий, несчастный и противный; Деятель — фарисей и лицемер; Тунеядец и др.». (Там же).
Май 30
Запись: «Цыгане — антиподы мещан. … Цыгане, мещане, земля и пессимист — элементы для драмы хорошие. Дело в деревне». (Там же).
Май 31 – июнь 20
Каждый день делает наброски к будущей пьесе. Среди записей — рассуждения о земле и деревне, заводах, дельцах.
Июнь 1
«На днях ко мне приходили крестьяне всем сходом, человек 70, благодарить за одно дело, которое я справил для них в Петербурге (в министерстве государственных имуществ), и расспросить о войне, — что она, какая, зачем, к чему приведет и т. д.». (Из письма к Книппер-Чеховой. Архив О. Л. Книппер-Чеховой).
Июнь 4
«Писать я еще, конечно, не пишу. Дай бог если начну в конце июня. Но в образах пьеса складывается интересная.
198 Есть и поэтический подъем, и философская, историческая и социальная точки зрения. И даже намечаются три роли прекрасные, т. е. уже чуются лица. А это ведь самое важное, чтоб чуялись лица, — до тех пор и думать писать нельзя. Надо мне будет для пьесы кое-куда проехать, чтобы подышать ее воздухом. Недалеко где-нибудь найду жизненные мотивы». (Там же).
Июнь 14
Запись: «Четыре пьесы:
Новороссийская с украинским оттенком — Земля или Курган;
Ниццская драма124* — Угасшая правда, что ли — Клевета;
Крымская — “Одна” или “Последняя привязанность”;
Московская — “Игрушка”.
Какую писать?» (Из записной тетради 1904 – 1911 гг.).
Июнь 20 – 21
В Мариуполе.
Июнь 23
Снова в Нескучном.
Июнь 27
«Пробую писать». (Из записной тетради 1904 – 1911 гг.).
«А сезон, — чем больше приближается время, тем больше он пугает меня». (Из письма к Книппер-Чеховой. Архив О. Л. Книппер-Чеховой).
Июнь (конец)
Из неоконченного и неотправленного письма к Горькому: «Каждый раз, когда вспоминаю минувший сезон, испытываю точно ссадину на сердце — это Ваше отношение к нам за последнее время. “К нам” — это значит Худож[ественный] театр. Ваше недружелюбие как-то слилось с резким охлаждением Саввы Тимофеевича125*. Откуда пошло все это, — от Вас ли, от него ли, или от неудовлетворенности Марьи Федоровны126*, разобрать нет возможности.
199 … В последние дни я чаще возвращаюсь ко всем этим воспоминаниям: начинаю больше думать о предстоящем сезоне. Думаю, — Вы скоро переделаете Ваших “Дачников”, или напишете новую пьесу. Интерес огромный. Какова бы ни была Ваша пьеса, — в ней будут блестящие сцены, образы, мысли. Театру, который займется этой пьесой, достанется славная, живая работа. И нам Вы можете ее не дать! За что?!
… Вы и Художественный театр должны срастись в одно целое. Значение его, достойное Вашего имени, Вы никогда не отрицали, даже по окончании нынешнего сезона.
Вы обязаны держаться этого театра и работать для него до тех пор, пока он не свернул с своей, чисто-художественной, дороги, или пока деятельность его не обесславлена поступками, противными Вашей душе». (Черновик. Архив Н-Д, № 679).
Июнь 30
«Вчера весь день опять сомнения, мучения, — рассеянность мысли. Как приобрести “стойкость замысла”, сосредоточенность на одном плане?! От “Учителя”127* ушел… Получился какой-то Бальмонт или Аренский… все начало казаться плохим…». (Из записной тетради 1904 – 1911 гг.).
«Кончившийся художник очень использовано мною же в Мертвой ткани и отчасти в Литературных хлебах. Этот мотив надо отбросить». (Там же).
Июль 1
В письме к Книппер-Чеховой: «Пьеса моя не двинулась ни на шаг. Колебания, сомнения, отсутствие “стойкости замысла” — все это мучает меня изрядно». (Архив О. Л. Книппер-Чеховой).
Июль 3
Получает телеграмму о смерти Чехова: «Badenweiler 15, 8, 12 Anton Pawlowitsch plötzlich an Herzshwäche gestorben. Olga Tschechoff»128*.
«Пришло это ужасное, ошеломляющее известие о смерти Антона Павловича, — известие, так взбудоражившее меня, что, мне кажется, я уж никогда не буду таким, каким был до сих пор». (Из письма к Горькому, середина июля 1904 г. Черновик. Архив Н-Д, № 680).
200 Июль 10
Был на панихиде по А. П. Чехову. Позднее писал Горькому; «Когда я Вас увидел на панихиде 10-го, у меня явилось сильное желание побыть с Вами, поговорить. По меня опять удержала мысль, что это — сентиментально и что хотите ли Вы этого сами… Но пусть! Пусть Вы знаете, что я часто думаю о Вас с чувством, в котором гораздо больше теплоты, чем это кажется с виду, и с такой болью, которой Вы и не подозреваете». (Там же).
Июль (после 10)
Перестал писать свою пьесу и решил ставить «Иванова».
Июль (до 13)
Смотрит декорации В. А. Симова к спектаклю «У монастыря». «Суреньянца подстегнул129*. То, что я видел (куски), показались мне холодны». (Из письма к Станиславскому от 13 июля 1904 г. Избранные письма, стр. 266).
Июль 13
«Но может быть, еще и Горький вернется. Хочу писать ему письмо». (Там же).
Июль 19
Выезжает в Ялту.
Июль 25
«Смерть Чехова обнаружила такую любовь к нему русского общества, о какой мы и не подозревали. Никогда при жизни его не ставили на ряду с Пушкиным, Толстым и выше Тургенева, а теперь это почти единодушно». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1602).
Июль (конец)
«Война? Представьте себе, что, следя за нею очень внимательно, я начинаю верить, что к открытию нашего сезона мы будем уже беспрерывными победителями. А это очень возрадует дух общества». (Там же, № 1603).
«Что касается Горького, то если он напишет пьесу — она будет у нас, — я в это верю». (Там же).
Август 6
Возвращается в Москву.
Август 11
«Помните, я Вам рассказывал, что написал письмо Горькому? 201 Спрашивал его о положении пьесы и в конце уверял, что мое отношение к нему остается неизменным.
Получил ответ, приблизительно такой: “Пьесу я решил сначала напечатать, а потом пусть ее играют все, кто хочет. А что до Вашего уверения в том, что Ваше отношение ко мне остается неизменным, то позволю себе сказать Вам, что мне всегда было важно и интересно мое отношение к людям, а не отношение людей ко мне. А. Пешков”.
Я с трудом пережил это оскорбление». (Из письма к Книппер-Чеховой. Архив О. Л. Книппер-Чеховой).
Август (после 11)
Письмо к Горькому: «Алексей Максимович! Придет время и Вы убедитесь, что оскорбили меня, без всякого с моей стороны повода, и пожалеете об этом. Или же я приду к убеждению, что Вы не стоили того, чтоб я так мучительно принял Ваше письмо. В настоящую же минуту я бессилен отстранить Вашу обиду. Вызывать Вас на объяснение, — Вы не пойдете, да теперь уж и очевидно, что оно ни к чему не привело бы, а ударить Вас словами так, как Вы меня ударили, — я не умею. Вл. Немирович-Данченко». (Черновик. Архив Н-Д, № 678).
Август 15
Из письма Чирикова к Немировичу-Данченко: «Получил Ваше письмо и рукопись. Просто изумлен нелепостью цензурных придирок!.. Отнимают возможность работать на легоньком литературном поприще». (Архив Н-Д, № 6255/2).
Август 21
В режиссерских набросках к постановке пьесы Чехова «Иванов» характеризует политическую обстановку 80-х годов: «И пошли запрещения, ссылки, гнет над всеми, кто пытался еще громко высказываться. Наступило то, что в истории общественной мысли России называется реакцией. С другой стороны широкая русская жизнь развернула явления революционные, куда ушли все нетерпимые, пришедшие к убеждению, что добром ничего не поделаешь. … С другой стороны — люди, ловящие рыбу в мутной воде, расплодившиеся Разуваевы, Колупаевы не только в мужицкой среде, но и в интеллигентной и, наконец, люди надломленные, типом которых является чеховский Иванов». (Из записной тетради 1904 – 1911 гг.).
Сентябрь 10
«“Там внутри”130* репетирую. Толпу приготовлю Вам двояко: 202 обще-реальную (как и написано131*), т. е разные фигуры, будут они на сцене кто выше, кто ниже и будут принимать участие, — ну, словом, по обыкновению. И совсем иначе, по-метерлинковски. В последнем случае, до конца пьесы она только успеет приблизиться и совсем не будет участвовать в финале. Престо с ухода старика, ее видно, она движется как медленно волнующееся море; вся медленно вправо, вся медленно влево, вся вправо, вся влево (немножко трудно, говорят, голова кружится). Так она двигается. При этом каждый тихо говорит “Отче наш”, отчего происходит легкий ропот и несколько человек тихо поют похоронную молитву. … Признаться, мне реальная толпа изрядно надоела132*, — оттого я это и придумал Но может быть, это никуда не годится». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1605).
Сентябрь – октябрь
Ставит «Иванова». «Пьесу надо было ставить с невероятной быстротой. Мизансцены, которые надо создавать в течение полных, свободных 5 – 6 дней на акт, мне приходилось лепить, урывая утра или вечера, — это меня раздражало.
… Я должен был вести репетиции, когда Качалову играть Иванова не хочется, Конст[антин] Серг[еевич] уехал в Крым, Бабакиной нет, Боркин не клеится, Саша не ладится, Лебедев сух и холоден!
… При таких условиях репетировать — значит по три раза в день раздражаться или впадать в уныние.
… я, может быть, первый, самый первый из тех, кто заботится о том, чтобы наш театр не стал шаблонным». (Из письма к Книппер-Чеховой. Архив О. Л. Книппер-Чеховой).
Октябрь 2
Запись в день премьеры трех метерлинковских одноактных пьес: «Мне хочется предсказать исход спектакля. … Театр виноват, что он не только не облегчил, а еще затяжелил пьесы и громоздкостью постановок, не согласной с духом поэта, требующим воздушности… и темпом, слишком замедленным, и малой истинной вдохновенностью, легко зажигающей — у актеров. Легче и интенсивнее! — такой лозунг, мне кажется, не раздавался во время репетиций». (Из записной тетради 1904 – 1911 гг.).
203 Октябрь 19
Премьера «Иванова». «Я, как режиссер, испытывал удовлетворение только в 3-м действии, которое лилось у меня из души». (Из письма к Станиславскому от 8 – 10 июня 1905 г. Архив Н-Д, № 1614).
Октябрь 24
Из Петербурга посылает телеграмму Станиславскому о том, что нужно ставить «Авдотьину жизнь» Найденова: «Пьеса будет талантливым и художественным протестом против стоячей лужи и стремлением к свету необразованной женщины». Видит связь пьесы с «современными настроениями общества»133*. (Там же, № 1607).
Октябрь 26
Возвращается в Москву.
Октябрь – ноябрь
Поддерживает Станиславского в его намерении поставить инсценировки рассказов Чехова («Миниатюры»): «“Мертвое тело” очень хорошо в смысле лиризма декорации. … “Унтер Пришибеев-” прямо великолепно. Цензура почеркает кое-что, но это ничего. … “На чужбине” тоже отлично… но мелко, мимолетно. Хорошо среди 4 [четырех] рассказов. “Хамелеон” не успеете декорацию сделать и проч. “Мечты” не выйдет, по декорации». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1610).
Декабрь
На репетициях пьесы П. М. Ярцева «У монастыря» спорит с актерами, которые «тянут на узкий, мелкий реализм». Стремится «слить тонкую, изящную характерность с тоном лирического стихотворения. Я не мог торжествовать победу. Ни пьеса этому не помогла134*, ни времени не было достаточно…» (Из письма к Станиславскому от 8 – 10 июня 1905 г. Там же, № 1614).
Декабрь 21
На премьере пьесы Ярцева «У монастыря» испытывает «художественную неудовлетворенность». (Там же).
Декабрь 21 – 22
Вводит Н. Н. Литовцеву в спектакль «Иванов» (роль Сарры). «Эти две репетиции дали мне так много». (Н. Н. Литовцева, «Из прошлого Московского Художественного театра», «Ежегодник МХТ» за 1943 г., стр. 388).
204 1905
Январь 9
Из записей Немировича-Данченко о первой русской революции: «Революция… Японская война показала всю гниль правительства. Бессмысленная по задачам, неподготовленная, разорительная, она обнаружила воровство и неумение… Сражались только по долгу перед родиной, перед отечеством. Кончилась она, вот и пошла революция. Тут уж недовольство так сильно, что правительство ничего не может поделать… Правительство сошлет в Сибирь 10, а на их место выходит 100. Правительство — этих 100, а на их место 200.
Уже лет 30 идет пропаганда среди рабочих. Книжки запрещенные. Беседы. Попадались, их ссылали, а шли другие. Вот рабочие уж подготовились. Тут они стали сильнее. 9 января прошлого года и Гапон. Рабочие в Петербурге. Вот и пошли забастовки.
… Испугалось и правительство. Государь потерялся. Взял Витте. Уступки Витте. Мир и первая конституция не удовлетворили никого». (Набросок карандашом. Датируется 1906 г. по фразам: «9 января прошлого года» и «слухи о разгоне Думы», т. е. до 9 июля 1908 г. Архив Н-Д, № 7266).
Январь (до 28)
Репетирует пьесу С. Найденова «Блудный сын».
Январь 28
Премьера пьес Найденова и Чирикова: «Фигура Ивана Мироныча в замечательном исполнении Лужского приобрела почти историческое значение. Она отражала целую эпоху и Чириков исполнением артиста поднимался почти до Гоголя»135*.
205 (Из выступления Вл. И. Немировича-Данченко на «творческом понедельнике» МХТ 17 марта 1919 г. Музей МХАТ136*).
Январь 30
Запись в режиссерском дневнике Станиславского: «Немирович читал вслух “Призраки” мне, Симову и Колупаеву…
Заговорили с Владимиром Ивановичем о распределении ролей. Кто Освальд? Москвин?.. После долгих разговоров пришли к заключению, что Москвину надо сказать, чтоб он с самого начала роли был нервен и помнил, что в его душе засела драма: он знает о своей болезни». (К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 5, стр. 258).
Январь 31
Вместе с К. С. Станиславским, В. А. Симовым, И. М. Москвиным, Н. А. Колупаевым и другими рассматривает материал, собранный для постановки «Призраков» Г. Ибсена137*.
Февраль 11
Из режиссерского дневника Станиславского («Привидения»): «… Была беседа. Разбирали характеристики действующих лиц, хотели по-немировически докопаться до всех мелочей, но я остановил. Довольно на первое время для актера общих тонов роли, так сказать, основного колорита ее… Я замечал, что, когда режиссирует Немирович и досконально на первых же порах докапывается до самых мельчайших деталей, тогда актеры спутываются в сложном материале и часто тяжелят или просто туманно рисуют образ и самые простые и прямолинейные чувства.
… Потом пошли на сцену. Немирович (узнавший уже mice en scène пьесы) читал мои ремарки, в то время как актеры читали громко свои роли и записывали переходы и мои замечания». (К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 5, стр. 268 – 270).
Февраль 12
На репетиции «Привидений» объясняет актерам режиссерский план Станиславского. (Там же).
Март
Вместе с другими деятелями МХТ подписывает письмо протеста против увольнения Н. А. Римского-Корсакова из консерватории: «Но чем бы ни пытались оправдаться лица, осмелившиеся Вас уволить, весь несмываемый позор этого поступка падет на них же. … И мы верим, что недалек тот 206 день, когда волна общественного самосознания вырвет судьбы родного искусства из рук непризнанных вершителей и вручит их Вам и подобным Вам: истинным художникам и истинным гражданам». (М. Янковский, Римский-Корсаков и революция 1905 года, М.-Л., Гос. муз. изд-во, 1950, стр. 52):
Март 24
Избирается председателем общего собрания Русского театрального общества («Театральная Россия», 1905, № 13).
Март 31
Премьера «Привидений» Ибсена.
Апрель
Находится в Петербурге с Художественным театром.
Май 5
Присутствует на первом сборе Театра-студии138*, слушает речь К. С. Станиславского, который говорит, что в стране пробудились общественные силы, что театр не имеет права служить только чистому искусству: «он должен отзываться на общественные настроения… быть учителем общества». (К. С. Станиславский, Статьи. Речи. Беседы. Письма, «Искусство», 1953, стр. 175).
Об этой речи Станиславского Немирович-Данченко писал ему: «Вы были очень крупный человек, и я глубоко, всей своей мужской душой зрелого человека, любовался Вами, — на такого хочется смотреть снизу вверх». (Архив Н-Д, № 1614).
Выступает на совещании сценических деятелей и драматических писателей, посвященном защите театра от цензурных притеснений: «Мои столкновения с драматической цензурою в течение более двадцати лет привели меня к следующим выводам: … она легко разрешает к представлению все, что мелко, пошло, ограничено, что не возбуждает ни сильной мысли, ни сильного чувства, а к таким драматическим произведениям, ев которых в ярких образах поднимаются важнейшие вопросы жизни… драматическая цензура никогда не проявляла дружелюбия… Поэтому на сцене важнейшие мотивы жизни отсутствуют, а типы, допущенные цензурою, являются фикциями… Студент не может говорить о студенческих волнениях, родитель его не может говорить об опасности для юноши поплатиться за свои благородные увлечения, рабочему 207 цензура не позволит говорить о рабочем вопросе, крестьянину — о малоземельи и т. д.». («Театральная Россия», 1905, № 37).
Май 8 – 22
Работает над режиссерским планом «Горя от ума». Собирает литературный материал, ездит по особнякам и имениям.
Май 22
Окончил режиссерский план первого акта «Горя от ума». «Очень много времени отнимает у меня Фамусов, которого я никак не могу схватить». (Записка к Станиславскому от 25 мая 1905 г. Архив Н-Д, № 1620).
Май 29
Горький из Куоккалы сообщает Станиславскому, что «Дети солнца» будут готовы через неделю, и приглашает его приехать вместе с Владимиром Ивановичем послушать пьесу: «Приезду Вашему будем рады, места у нас много. Берите с собой и Владимира Ивановича. Делая серьезное дело — нужно уметь устранять все, что могло бы помешать наилучшему осуществлению задач — так?» (Приписка А. М. Горького в письме М. Ф. Андреевой к Станиславскому. Фотокопия. Музей МХАТ, № 4858).
Июнь (начало)
Из неотправленного письма к Станиславскому: «В последние два года из нашей же школы начали нестись желания нового движения в театре, тот же “Мир искусства” в истрепанных экземплярах валялся год-два на Малой сцене, о Бёклине, Штуке, о Гамсуне и Д’Аннунцио не прекращались разговоры, я же выкарабкал “Драму жизни” (благодаря Адурской), я же заговорил с Мейерхольдом о том, что пережил, когда ставил “Монастырь”, и о надоевшем натурализме, — все это прошло мимо Вас, не задевало Вас. И вдруг все это в устах Мейерхольда оказалось новым словом». (Архив Н-Д, № 1613).
Июнь 8 – 10
«Без ярких, истинно поэтических образов театр осужден на умирание. Чеховские милые, скромно лирические люди кончили свое существование. Вы это блестяще увидите на “Чайке”139*. Это будет успех знакомых мелодий, успех “Травиаты”, когда накануне шел “Князь Игорь”, а завтра должен идти “Зигфрид”. А истинную поэзию я вижу в 208 Бранде и Агнес, в Эллиде, несомненно — в “Джиоконде”, в “Аглавен и Селизетт” и т. д. … Я очень давно не горел таким истинно художественным исканием…
Мейерхольд, которого я знаю с первого курса… теперь мне кажется просто одним из тех поэтов нового искусства, которые стоят за новое только потому, что обнаружили полное бессилие сделать что-нибудь заметное в старом». (Из письма к Станиславскому. Там же, № 1614).
Июнь 17
Работает над режиссерским планом «Горя от ума». Видит в Фамусове «убежденного крепостника». «Нахожу отдельные черты… общего тона не могу уловить». (Из письма к Лужскому. Избранные письма, стр. 268).
Июль 8
Приезжает в Кисловодск.
Июль
Пишет режиссерские комментарии к третьему действию «Горя от ума».
Июль 14
«Всего лучше было бы, если бы А[лексей] М[аксимович] сам прочел пьесу труппе»140*. (Из письма к Станиславскому. Избранные письма, стр. 270).
Июль 15
Узнает о забастовке на Владикавказской железной дороге.
Июль 20
Пишет Лужскому о режиссерских экспериментах Вс. Э. Мейерхольда в Театре-студии: «Что в Пушкине сейчас идет наполовину пустое баловство, — я в этом ни минуты не сомневаюсь. А. Конст[антин] Серг[еевич] говорит, что по рапортам, которые он получает оттуда, там кипит хорошая работа». (Архив Н-Д, № 1012).
Июль 21
«Сижу над мизансценой и проверкой, текста [“Горя от ума”].
… Мне хотелось бы, чтоб Вы прослушали и много из моего “толкования” и — в особенности — те новости в тексте, которые я ввожу на основании проверки и музейной рукописи (по изданию Якушкина). Мизансцена — это огромный труд, здесь не только планировка обстановки и актерских 209 “мест”, здесь и характеристики, и психологические отступления, и экскурсы в эпоху, и социально-литературные толкования». (Из письма к А. Н. Веселовскому. ЦГАЛИ).
Июль 22
«Управление дороги ведет себя возмутительно, а забастовщики корректно, твердо и умно. … Сегодня объявлен последний срок выселения забастовщиков из общественных квартир. Объявлено, что не желающих выселиться добровольно заставят силой. Управление дороги, видимо, жаждет революционных беспорядков или в самом деле чувствует себя сильным». (Из письма к Южину. Архив А. И. Южина. ЦГАЛИ).
Август 2
Приезжает в Москву. Вносит некоторые поправки в декорации Симова к первому и второму действиям «Горя от ума».
Август 2 – 3
Просит Горького прочитать труппе Художественного театра пьесу «Дети солнца». (Черновик телеграммы. Архив Н-Д, № 681).
Август 3
Поручает Симову подготовить макет декорации третьего действия «Драмы жизни» К. Гамсуна.
Август 5
В связи с возобновлением «Чайки» осматривает вместе с художниками Симовым и Колупаевым декорации первого и второго действий.
Август 8
Горький читает труппе Художественного театра пьесу «Дети солнца».
Август 8 или 9
Немирович-Данченко вносит небольшие добавления в текст «Детей солнца», о которых Горький пишет: «Хорошо. Автор». (Архив Н-Д, № 59).
Август 9
Проводит беседу о «Детях солнца» в присутствии А. М. Горького.
Вечером на репетиции «Драмы жизни».
Август 10
Беседует с художником Н. А. Колупаевым об оформлении спектаклей «Горе от ума» и «Чайка».
210 Август 11
«Константин Сергеевич [этот день] посвятил “Студии”. Лужский с Симовым поехали в Рязань за материалом для “Детей солнца”. Я — делал план работ». (Из записной тетради 1905 – 1906 гг.).
Август 13
Утро. На репетиции «Драмы жизни».
Вечер. Устанавливает декорации «Чайки».
Посмотрев работу Вс. Э. Мейерхольда в Театре-студии, пишет Станиславскому: «Если же бы Вы показали мне то, что я вчера видел, раньше, до того, как Вы спрашивали у меня совета, как Вам поступить, — я бы сказал: чем скорее Вы покончите с этой грубейшей ошибкой Вашей жизни, тем будет лучше и для Худож[ественного] театра и для Вас самого, даже для Вашего артистического престижа…». (Избранные письма, стр. 271).
Август 14
Утро и вечер. Горький второй раз читает «Детей солнца» исполнителям.
Август 16
Вечером вместе со Станиславским приезжает в Иваньково к Лужскому, чтобы начать режиссерскую работу над первым действием «Детей солнца».
Август 17
«К. С. с Калужским [В. В. Лужским] мизансценирует 1-е действие “Детей солнца”. Я готовил макет 3-го действия “Чайки”». (Из записной тетради 1905 – 1906 гг.).
Август 18 – 20
Репетирует «Детей солнца»: «Искание тонов». (Там же).
Август 21 – 22
Вечером ведет репетиции отдельных сцен «Чайки» с новыми исполнителями.
Август 21 – 31
Вместе со Станиславским репетирует «Детей солнца».
Август 25
Намечает план беседы с учащимися, принятыми в школу Художественного театра: «Театр принадлежит поэзии. На 211 сцене, как ни в одном искусстве, — задача культивировать личность». (Из записной тетради 1904 – 1911 гг.).
Сентябрь
Станиславский пишет режиссерский план («мизансцену») «Детей солнца», Немирович-Данченко работает с исполнителями.
Сентябрь 3
«Утром Горький прочел “Варвары” (вне театра)». (Из записной тетради 1905 – 1906 гг.).
Вечером Немирович-Данченко репетирует третье действие «Детей солнца». «Репетиция в тонах и темпе, с остановками, переделками мизансцены в частностях, с подробностями характеристик. В присутствии автора». (Из дневника репетиции. Музей МХАТ).
Сентябрь 4
После репетиции «Детей солнца» пишет Станиславскому: «Горький был на репетиции, сидел рядом со мною и часто говорил свои замечания. Возможностью высказывать их был очень доволен. … Замечания он делал, так сказать, психологически-литературные. Против всевозможных вставок и переделок мелкого разбора ничего решительно не имеет. Очень протестует только против пульверизатора141*, говоря, что такая трусость делает Протасова не только смешным, но и глупым. Чем заменить, — пока еще не знаю». (Архив Н-Д, № 7223).
Сентябрь 5
Ведет репетицию третьего действия «Детей солнца» в присутствии Горького: «Мизансцену кое-где меняли. Кое-где сократили паузы.
К сожалению, чувствую этот акт только вечером, — кончать при лампах (Антоновна могла бы вносить одну лампу и зажигать другую вместо убирания стаканов чая). Днем очень нелепы все эти разговоры. Финал вызывает странные споры, какие-то непонятные142*.
212 Сейчас вечером будем репетировать 2-е действие. Его с тех пор, как Вы прорепетировали, на сцене не трогали — только за столом». (Там же, № 7224).
Сентябрь 6
«Вчерашняя репетиция (2-е действие) — одна из тех, когда хочется “взять шапку и палку и идти, идти куда глаза глядят”. Или когда думаешь, что театр не стоит таких жертв…
Вы хотели уйти от банальностей автора и покрыть их “жизнью двора” и “завтраком”. Но это заводит в такие дебри натяжек и неудобств, что выйти из них можно только или с Вашей же помощью или путем новой мизансцены, т. е. исправленной.
Автор ведет себя очень мягко и мило. Я предупреждал его, чтобы он не обрушивался на то, что ему покажется неподходящим. И он не обрушивался. Однако путем замечаний, даже с явным оттенком любовного отношения к Вам, отрицал все детали мизансцены.
Может быть, у меня, в самом деле, острое самолюбие. Но, находясь между его замечаниями, которые в большинстве я не могу не признать резонными, с другой стороны желанием не нарушать Вашей мизансцены, с третьей неловким чувством перед автором, который не хотел моего участия в пьесе, и наконец — мыслью о необходимости решать так или сяк, чтобы не терять времени, — путаясь во всем этом, я — нельзя сказать, чтоб чувствовал себя важно.
Положение и обидное и глупое.
… Буду заниматься только первым и третьим актами, в которых я лишь в пустяках ушел от Вашей мизансцены. И приготовлю эти два акта вчистую. А второй отложу до нашего свидания, прочтя его раза два за столом. А может быть, приготовлю измененную мизансцену и Вам покажу, когда приедете». (Там же, № 7225).
Сентябрь 7
Неудовлетворен репетицией «Детей солнца»: «Плохо. Прошли все, начали снова». (Из записной тетради 1905 – 1906 гг.).
Сентябрь 8
«Вчера прорепетировали 1-е действие.
… В сотый раз я сталкиваюсь с тем, что все точно боятся, что будет скучно и нажимают педали раньше времени. Я давно пришел к убеждению, что яркость исполнения, — как противовес той “бледности”, к которой я якобы склонен, — яркость исполнения, когда нет в основе роли верного тона, хуже всякой бледности и никогда не имеет истинного успеха. Лужский сразу старается оживлять, тогда как вся прелесть Чепурного в спокойствии и внутреннем юморе, в спокойствии, 213 доходящем до полнейшего отсутствия игры. А если этого нет, то никакая яркость не доставит мне радости. Книппер сразу доводит сцену до слез143*. И это преждевременно, я еще не знаю, кто она, что она… Нужно, чтоб каждое лицо было ярко по своей характерности и по жизненности, простоте тона. А если этого актеры не могут достигнуть, то мне становятся безразличными и их старания оживить, и успех или неуспех пьесы — да и весь театр. Высшими точками нашего, реального, искусства кажутся мне: простота, спокойствие и новизна и яркость образов. Никаких искусственных нажимов. Высшее искусство, по-моему, у нас больше всего есть в “Вишневом саде” и в том, как один раз играли “Дядю Ваню” в Петербурге. С этим Вы, конечно, согласны. Расходимся мы только в путях к этому. … “Дети солнца” несомненно написаны так: все идет в чеховских тонах и только пятна — горьковски-публицистические. Это можно соединить». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 7226).
Сентябрь 8 – 9
Утром и вечером репетирует «Детей солнца»: «У нас актеры совсем не умеют работать дома. Очень в этом избаловались. Им не только надо дать мизансцену и помочь в отыскании образа, мало даже совсем показать им, они привыкли, чтоб тут же на сцене с ними добивались так, как бы они работали дома. Чтоб их заражали режиссеры темпераментом, нервами, как бы вкладывали в них свои нервы и свой темперамент.
… И хорошо еще, что понимают это. (Впрочем, до первого успеха, понимают только тогда, когда чувствуют беспомощность с новой ролью)». (Там же, № 7227).
Сентябрь 10 – 12
Утром и вечером ведет репетиции «Чайки» с новыми исполнителями.
Сентябрь 12 – 14
Продолжает работу над «Детьми солнца». На репетициях устанавливает декорации первого действия, пробует гримы.
Сентябрь 14
«С 12 час. на сцене установка декорации, бутафории, света и звуков 1-го и 3-го действий “Детей солнца”. Устанавливал Вл. И. Немирович-Данченко. — Приехал Конст. Серг. Станиславский». (Из дневника репетиции).
Вечером показывает Станиславскому черновую генеральную репетицию первого и третьего действий «Детей солнца»: 214 «По окончании репетиции К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко делали свои замечания». (Там же).
Сентябрь (до 17)
Ходатайствует перед цензурой о разрешении «Детей солнца».
Сентябрь 15
Утром вместе со Станиславским репетирует «Детей солнца». Вечером работает с М. П. Лилиной над ролью Нины Заречной в «Чайке».
Сентябрь 16
Утром ведет репетицию «Детей солнца» (третье действие). Вечером репетирует «Чайку».
«Когда составляющий репертуар (недельный) не считается с тем, в какой мере утомит репертуар того или другого актера — это значит, что ремесленный характер уже ворвался в театр». (Из записной тетради 1904 – 1911 гг.).
Сентябрь 17, 19 – 24
Ведет репетиции «Чайки».
Сентябрь 18
«“Дети солнца”. 3-е действие в полной обстановке. Прошли весь акт с остановками. Репетицию вел Вл. Ив. Немирович-Данченко». (Из дневника репетиции).
Сентябрь 25
«Полугенеральная» 1-го, 2-го, 3-го действий «Детей солнца». «Мизансцена 2-го действия окончательно не принята. Репетиции поэтому остановлены». (Из записной тетради 1905 – 1906 гг.).
В дневнике репетиции «Детей солнца»: «Репетицию вели Вл. Ив. Немирович-Данченко и К. С. Станиславский… Присутствовал автор».
Сентябрь 26
Из дневника репетиции «Чайки»: «Владимир Иванович читал свои замечания по генеральной репетиции 24 сентября. За столом прошли почти всю пьесу.
… Цель: поднять тон некоторых сцен, уничтожить лишние паузы; все начало установлено в гораздо более бодром тоне с меньшим количеством пауз».
215 Сентябрь 27
«Утром вымеряли на сцене новую планировку 2-го действия “Детей солнца”». (Из дневника репетиции).
Сентябрь 28
Вечером ведет репетицию «Чайки». «Присутствовали М. Горький и Е. Н. Чириков». (Из дневника репетиции).
Сентябрь 29
Ведет репетицию «Одиноких». «Кончили в 4 часа, затем до 5 часов Владимир Иванович читал свои замечания». (Из дневника репетиции).
Сентябрь 30
О первом представлении возобновленного спектакля «Чайка»: «Исполнение ровное, чистое, но без настоящего нерва и трепета. Прием очень сухой. Настроение у публики, правда, не театральное вообще, еще подорвано известием о смерти Трубецкого144*». (Из записной тетради 1905 – 1906 гг.).
Октябрь 1
В связи с началом сезона утром ведет репетицию «На дне» (народная сцена третьего действия).
Октябрь 3 – 4
Вместе со Станиславским делают новую планировку второго действия «Детей солнца».
Октябрь 5
Станиславский и Немирович-Данченко репетируют четвертое действие «Детей солнца»: «Установили mise en scène в новой декорации и много раз прошли народную сцену». (Из дневника репетиции).
Октябрь 6 – 14
Вместе со Станиславским ведет репетиции «Детей солнца».
Октябрь 14
«Утром “Дети солнца”, полная генеральная. После 2-го акта погасло электричество. Спектакли и репетиции приостановлены». (Из записной тетради 1905 – 1906 гг.).
Октябрь 14 – 17
Художественный театр прекращает работу и присоединяется к всеобщей забастовке: «14 окт[ября] в 4 часа и в 8 час. 216 вечера и 15 окт[ября] утром — заседания труппы, на которых решено присоединиться с сочувствием к забастовкам, но не объявлять мотивов, так как с этим опоздали». (Там же).
Октябрь 18
«Манифест о свободе». (Там же).
Октябрь 19
Вечером генеральная репетиция «Детей солнца».
Октябрь 20
После забастовки Художественный театр возобновляет свою работу. Идет «На дне» в пользу семей бастовавших рабочих.
Октябрь 21
Вместе с другими деятелями МХТ подписывает письмо протеста против «возмутительного расстреливания народа, возвращающегося с похорон Баумана». (См. статью М. Л. Рогачевского «Художественный театр в эпоху первой русской революции». Сборник «Первая русская революция и театр», «Искусство», 1956, стр. 119).
Октябрь 24
Премьера «Детей солнца»: «Переполох в публике во время сцены бунта в 4-м действии». (Из записной тетради 1905 – 1906 гг.).
«Первое представление [“Детей солнца”] застряло в гуще политических событий». (Вл. И. Немирович-Данченко, Из прошлого, стр. 271).
Октябрь 25
Во время третьего действия спектакля «Дети солнца» репетирует народную сцену четвертого действия, «чтоб смягчить ее». (Из записной тетради 1905 – 1906 гг.).
Октябрь 26
Утром репетирует «Чайку».
Октябрь 28
Утром репетирует «Горе от ума».
Вечером встречается со Станиславским для беседы по постановке «Горя от ума».
Октябрь 31
Читает актерам режиссерский план первого и части второго акта «Горя от ума».
217 Ноябрь 3 – 4
Ведет репетицию «Горя от ума» при участии Станиславского.
Ноябрь 8
Вместе со Станиславским репетирует сцены Фамусова и Чацкого (Фамусов — В. В. Лужский, Чацкий — В. И. Качалов).
Ноябрь 10
Читает труппе пьесу Л. Андреева «К звездам».
Ноябрь 15
Пробная репетиция третьего действия «Горя от ума».
Ноябрь 19
Репетирует роль Фамусова с Лужским.
Ноябрь 19 – декабрь 7
Репетирует «Горе от ума».
Декабрь 7
Утром репетирует «Дети солнца» с новой исполнительницей роли Лизы — Л. А. Косминской. Вечером репетирует «Горе от ума».
Записывает в дневнике: «Забастовка».
Декабрь 9
Вооруженное восстание. Театр прекращает спектакли и его здание превращается в лазарет.
Декабрь 11
Репетирует бал у Фамусова, «пока выстрелы не раздались под самыми окнами театра и не ворвались, наконец, во двор театра… Потянулись мрачные дни осады Пресни, военное положение». (Вл. И. Немирович-Данченко, Из прошлого, стр. 278).
Декабрь 26
Отказывается выполнить приказ генерал-губернатора Дубасова о возобновлении спектаклей после подавления вооруженного восстания.
218 1906
Январь 7
Канцелярия Главного управления по делам печати извещает Немировича-Данченко, что пьеса Л. Андреева «К звездам» «признана неудобною к представлению». (Архив внутренней жизни театра. Музей МХАТ, № 5403).
Январь
Едет в Берлин для организации гастролей Художественного театра.
Февраль 10
Перед открытием гастролей МХТ в Берлине просит И. М. Москвина не затягивать пауз в «Царе Федоре», «конечно, не жертвуя выразительностью!» (Избранные письма, стр. 271).
Февраль 15
Знакомится с немецким писателем Г. Гауптманом. «Он был у нас самым дорогим гостем в Берлине. Но особенно стал близок после того, как он взволнованно, не переставая в 4-м действии вытирать слезы, слушал “Дядю Ваню”. Стало понятно его тяготение к русской литературе». (Вл. Немирович-Данченко, «Художественный театр за границей», «Русские ведомости» от 8 декабря 1913 г.).
Февраль 17
Из статьи «Berliner Tageblatt» о гастролях МХТ: «80 % немецких режиссеров должны бы поучиться у русских, как сценический образ может быть насквозь проникнут правдой без излишних подчеркиваний. Смотрите, как правдиво тут все! Артисты, учитесь здесь играть просто, но так, что ваша игра будет проникать до глубины сердец, учитесь служить замыслам автора, забывая себя, превращаясь на сцене в другого человека, а не просто переодеваясь в другое платье».
Февраль
Встречается в Берлине с Г. Гофмансталем, Л. Барнаем, И. Кайнцем, А. Зонненталем, М. Рейнгардтом и другими представителями немецкой литературы и театра.
Март 15 – 17
Гастроли Художественного театра в Дрездене.
Март 20, 21
Спектакли в Лейпциге.
219 Март 23
В Праге слушает оперу «Проданная невеста» композитора Б. Сметаны, поставленную в честь Художественного театра.
Март 26
В Праге, в газете «Народни листы», опубликовано письмо К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко: «Глубоко кланяемся Вам за то, что Вы нас ознакомили с великолепной чешской оперой в таком превосходном исполнении». (Из статьи Ш. Ш. Богатырева «МХТ и Пражский национальный театр начала века». Рукопись «Ежегодника МХТ» за 1953 – 1958 гг.).
Март 27
После прощального спектакля «На дне» обращается к зрительному залу: «Поездка требует от нас самоотречения и жертв, — ведь мы все уехали с родины в ответственнейший момент ее истории. Но все эти жертвы охотно забываются, когда нас встречают так сердечно и искренно, как у Вас. Примите за все это наш поклон, а с Вами вся Прага». (Архив Н-Д, № 7265).
Март 29
Приезжает в Вену.
Апрель
В журнале «Čезку Svět» («Чешский мир») приводится беседа Немировича-Данченко с известной чешской актрисой Г. Квапиловой: «Война проиграна, революцию постигла неудача и, если бы еще и мы провалились, я никогда не вернулся бы, как Куропаткин145*, на родину». (Архив Н-Д, машинописная копия, № 7265).
Апрель 6
Из Парижа сообщает Станиславскому о том, что гастроли МХТ во Франции не состоятся.
Апрель 11
В Карлсруэ.
220 Апрель 12
В Висбадене. «Самым блестящим спектаклем между Веной и Варшавой оказался спектакль в Висбадене». (Вл. Немирович-Данченко, «Московский Художественный театр за границей». «Русские ведомости» от 22 декабря 1913 г.).
Апрель 13 – 15
Во Франкфурте-на-Майне.
Апрель 16
В Дюссельдорфе.
Апрель 21
В Ганновере.
Апрель (конец)
В Варшаве. «Спектакли в Варшаве имели свою миссию. … Хотелось, чтобы под знаменем искусства сошлись непримирившиеся национальности». (Вл. Немирович-Данченко, «Московский Художественный театр за границей». «Русские ведомости» от 22 декабря 1913 г.).
Май 5
Вместе с Художественным театром возвращается в Москву: «Тем горделивее было наше чувство победы, когда мы возвращались на родину». (Там же).
Май (конец)
Ездит к В. А. Симову в Иваньково и вместе с ним и В. В. Лужским работает «усердно и успешно» над «Брандом». (Сделали 5 макетов). С Лужским беседует о толковании образов, сокращениях, планировке «Бранда». (См. письмо к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1621).
Июнь (начало)
Живет в Ялте. Делает наброски комедии «Красавица». (Комедия осталась незаконченной).
Июнь 9
Приезжает в Нескучное.
Июнь (после 9)
Готовится к постановке «Драмы жизни» К. Гамсуна. Читает роман Гамсуна «Пан»: «Там портрет Терезиты и прекрасно выражены все чувства, ею возбуждаемые. И “Бог жизни”, царящий весной и засыпающий зимой». (Из записной тетради 1906 – 1907 гг.).
Июнь 19 – 30
В Москве.
221 Июнь 21
«Деревня так несравненно обнаружила свой рост за один революционный год…
… Учительница Времьевской школы (Мариупольского уезда) Марья Платоновна Егорова читала крестьянам самые дозволенные книжки… И тем не менее она была увезена, просидела в Мариуполе в тюрьме и теперь по пути в ссылку (прислала письмо с пути) вместе с еще десятью учителями Мариупольского уезда. Явление безбожное — и не знаешь, куда ткнуться, чтобы заступиться за нее… И крестьяне говорят: “За нас пострадала, добра нам желала!”
… Наш екатеринославский крестьянин, вообще молчаливый, заговорил громко. … Теперь только можно ясно увидеть, до чего комичны те, которые беспрерывно утверждали, что крестьянин не подготовлен к выборному правительству. Если бы у меня было время, я набросал бы несколько юмористических фигур, — господ, которые год назад еще твердили: “Сначала научите мужика, а потом давайте ему право выбора”, а теперь стоят с разинутыми ртами перед поразительными результатами… за один год!
… Все [крестьяне], с кем я говорил, сходятся на одном желании — увеличение земли.
… Отношение к монарху — я Вам уже, кажется, писал — более равнодушное, чем могут ожидать те, которые слишком хотят опираться на крестьянский монархизм». (Из письма Немировича-Данченко к П. Д. Долгорукову. Черновик. Архив Н-Д, № 730).
Июль (начало)
В Кисловодске. Готовится к постановке «Бранда» Г. Ибсена: «Бранд — гигант… Но и Бранд — человек. … Ибсен для сценического воплощения толкает исполнителей на путь банальных героических приемов. От нас зависит избегнуть этого и путем скромных жизненных приемов приблизить трагедию к душе зрителя…». (Из рукописи «Требования, подсказанные мне моим личным вкусом. К сведению режиссера». Режиссерский экземпляр «Бранда», № 10317).
Июль 9
Посылает В. В. Лужскому режиссерский экземпляр «Бранда» с произведенными купюрами. Просит передать художнику В. А. Симову открытки с видами Норвегии. Сообщает, что там церковь и дом пастора обычно выкрашены в один цвет. (См. письмо к Лужскому. Архив Н-Д, № 1016).
Июль 10 или 11
«И вот раздался первый звонок — роспуск Думы146*. Не 222 знаю, как где и как у Вас, у нас же Кисловодск сразу поднялся на ноги. В 2 – 3 часа дня было известно о роспуске Думы, а в 8 толпа уже шла с красными знаменами в курзал… Сегодня с утра забастовка, всеобщая…
Идеал открытия [сезона] был бы “Бранд”. Потому что это самая революционная пьеса, какие я только знаю, — революционная в лучшем и самом глубоком смысле слова»147* (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1622).
Август – сентябрь
Ставит вместе со Станиславским «Горе от ума».
Сентябрь 24
Генеральная репетиция «Горя от ума»: «Что такое успех? Я как-то особенно ясно понял это сегодня. Успех — это солнечный свет, заливающий прекрасные предметы искусства. Вы можете с любовью творить их, беречь, но без успеха — они в темной комнате и не сияют радостью, как при ярком солнце, ворвавшемся в окно.
В 3-м действии залп аплодисментов на паузе картины, ее красоты». (Из записной тетради 1906 – 1907 гг.).
Сентябрь 25
Прочел пьесы «Коринфское чудо» А. И. Косоротова и «Бог мести» Ш. Аша.
Сентябрь 26
Премьера «Горя от ума». В записной тетради — впечатления от премьеры: «Публика сдержанна. … Как играли актеры, — так их и приняли: сдержанно, осторожно. В антрактах очень много комплиментов, но чувствую, что они идут от генеральной репетиции, понаслышке. — … После 3-го [действия] жду залпа аплодисментов. Ничего подобного. … Зала холодна ко всей красоте. … Я подавлен. Публика хочет хвалить, но чем-то неудовлетворена. Играют хорошо. 4-е действие принято довольно горячо, но как на всех сценах. … Это не триумф, не шумный успех, даже не крупный успех».
223 Сентябрь 29
Смотрит «Детей солнца» М. Горького с новыми исполнителями.
Октябрь 9
Читает пьесу В. А. Рышкова «Склеп».
Октябрь (после 10)
Получает от С. А. Найденова его новую пьесу «Стены».
Октябрь 18
Смотрит репетицию первого действия «Драмы жизни» на сцене, в декорациях.
Октябрь 19
Читает труппе драму Л. Андреева «Жизнь Человека».
Октябрь
Ведет репетиции «Бранда».
Ноябрь 12
Пишет Станиславскому, что пьеса Чирикова «Легенда старого замка» сделана «очень слабо». (Архив Н-Д, № 1628).
Ноябрь (после 12)
«Отметно, что всех реалистов потянуло на что-то другое. Горький хочет написать какую-то сказку, Косоротов пишет “Коринфское чудо”, Чирикав “Легенду замка”. … Не пойму, зачем Чирикову понадобилось уйти от своего мастерства. Какая жалостливая попытка! Ни истинного, жгучего, хотя бы даже Горьковского, а не Гюго — романтизма! Ни брызжущего остроумия! Ни заразительного темперамента! И характеристики очень банальны, так не изобретательны!» (Из письма к Станиславскому. Там же, № 1629).
Ноябрь – декабрь
Ведет репетиции «Бранда».
Ноябрь 26
А. И. Южин присутствует на репетиции «Бранда».
Декабрь 18
Генеральная репетиция «Бранда». «“Свои” отнеслись до смешного отрицательно ко всему спектаклю». (Из записной тетради 1906 – 1907 гг.).
224 Декабрь 20
Первое представление «Бранда»: «Первая картина удивила внешне; 2-я (фиорд) вызвала дружные аплодисменты и три вызова. 3, 4, 5-я шли, по-видимому, постепенно на decrescendo [декрещендо], 6-я (новая церковь) дала громадный, редкий успех. 7-я — потрясение. Успех колоссальный, а ввиду трудности пьесы — успех очень большого значения». (Там же).
Декабрь 22
«“Бранд”. Успех как и в первый раз, но весь послабже». (Там же).
Декабрь 24
Уезжает в Берлин. «Я решил убежать из Москвы. Вы должны меня понять. Мне надо выспаться, одуматься, “найти самого себя”». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1630).
Декабрь (конец)
Из Берлина пишет В. И. Качалову: «Размышляю здесь о театре и его будущем…
Кураж исчез и из труппы. Мечты обратились в изготовление конфеток для публики первого представления — в мелкий жанр, маленькое изящество, севрские статуэтки…». (Избранные письма, стр. 272).
225 1907 – 1917
Политическая реакция. Проект нового театра. Идейные
противоречия в творчестве Немировича-Данченко в период реакции. Режиссура
«Бориса Годунова», «На всякого мудреца довольно простоты», «Живого трупа»,
«Братьев Карамазовых» и др. Репертуарные ошибки («Бесы», «Екатерина Ивановна»,
«Будет радость»). Подъем революционного движения. Вера Немировича-Данченко в
«боевые силы» народа, желание дразнить «рабски налаженные, буржуазные души».
Постановка «Смерти Пазухина». Возобновление спектакля «На дне». Творческие
метания накануне революции. Великая Октябрьская социалистическая революция.
Участие в первых мероприятиях Советской власти на театральном фронте.
1907
Январь
Возвращается из Берлина в Москву.
Пишет записку К. С. Станиславскому: «Мне совсем не нравится элемент музыки, как он введен в “Драму жизни”. Сама по себе она, может быть, и отличная. Но, во-первых, ее слишком много для драмы, а это… разжижает густоту и силу драматического впечатления. В произведениях, где драматизм положений не составляет основы воздействия на публику, там это и допустимо и, может быть, желательно. Напр., в сказках, феериях. В драме же, где нельзя давать зрителю остывать от одной сцены к другой, — музыка хороша только как фон кое-где. Здесь же, в “Драме жизни”, она врывается самостоятельно и поглощает впечатление, нажитое актерами в предыдущих сценах. Это вызывает эмоции, приятные сами по себе, но совершенно убивающие драматический замысел.
И в Вас, как режиссере, эту склонность к такому обилию музыки я всегда считал недостатком — увлечение побочным элементом в ущерб силе и кипучести драматического движения». (Архив Н-Д, № 1633).
Январь (конец)
В письме к Станиславскому: «Ищу пьес с теми боевыми нотами, которыми звенит наша современная жизнь (и, разумеется, 226 больших художественных достоинств). А “Пелеас”148* и “Месяц в деревне”149* кажутся мне принадлежностью в высшей степени мирных общественных течений, и общество останется глухо к их красотам. В “Горе от ума” есть эта боевая нота. В меньшей степени, но все-таки я слышу ее в “Ревизоре”, в огромной степени — в “Юлиане”150*; затхлостью и содержания и формы веет на меня от “Ричарда II”, скукой — от “Дон Карлоса”…». (Избранные письма, стр. 273).
Февраль 8
Был на премьере «Драмы жизни».
Февраль 9
Пишет Книппер-Чеховой о премьере «Драмы жизни», об исполнении роли Терезиты: «Достоинство Вашей игры, — что, несмотря на такой огромный пробел в роли, Вы все-таки оставляете впечатление прекрасного в общем тоне. А прекрасное у нас в театре меня подкупает и радует всегда так же, как бесит все любительское и — говоря попросту — глупое. Смена этих впечатлений владела мною вчера весь вечер. Вы, Москвин и отчасти Вишневский и Егоров151* утешали и радовали меня, остальное было не серьезно и возбуждало во мне холодное презрение». (Избранные письма, стр. 274 – 275).
Февраль (до 17)
В поисках репертуара читает пьесы «Дух земли», «Пляска смерти», «Ящик Пандоры» Франка Ведекинда.
Февраль 17 – 25
Проводит совещания пайщиков о репертуаре театра: ставить ли в Художественном театре «Прометея» Эсхила, «Царя Эдипа» Софокла, «Эллиду» и «Росмерсхольм» Ибсена, «Эроса и Психею» Ю. Жулавского, «Жизнь Человека» Л. Андреева, «Джиоконду» Д’Аннунцио, «Ящик Пандоры» Ведекинда?
Март 4
Был в Малом театре на прощальном спектакле М. Н. Ермоловой152* («Измена» А. И. Сумбатова).
227 Март (после 4)
Из письма М. Н. Ермоловой к Немировичу-Данченко: «Дорогой Владимир Иванович, в лице Вашем обращаюсь к Художественному театру… Благодарю вас… за ваш чудный адрес, весь проникнутый теплом и светом. И да будет этот свет искусства нашим общим и вечным идеалом!» (Сборник «Мария Николаевна Ермолова», М., «Искусство», 1955, стр. 200).
Март 8
Ведет репетицию третьего действия пьесы Найденова «Стены».
Март 11
В Литературно-художественном кружке на банкете в честь Ермоловой Немирович-Данченко благодарит ее «за постоянное незримое присутствие в работах и созданиях Художественного театра.
… Когда мы вспоминаем другие образы, палящие огнем, проникнутые безграничной любовью к свободе и ненавистью к гнету, нам хочется крикнуть истории наши требования, чтобы в здании с портретами борцов за свободу портрет Ермоловой находился на одном из почетных мест…». (С. Н. Дурылин, Мария Николаевна Ермолова, М., АН СССР, 1953, стр. 466).
Март 12 – 29
Вечерами репетирует «Стены» Найденова.
Март 29
После генеральной репетиции «Стен» пишет жене: «Третье действие — лучшее… Здесь меня очень много, дышит действие моим вкусом и моим духом153*. Стахович нашел, что это прекрасно, а к пьесе он холоден, как к русским грязным дворам, к русской бедности…
В 3-м действии царит Москвин в роли старика-отца». (Архив Н-Д, № 2084).
Апрель 2
От имени дирекции императорских театров (В. А. Теляковского) В. А. Нелидов предлагает Владимиру Ивановичу должность главного режиссера Малого театра. (См. письмо к жене от 3 апреля 1907 г. Там же, № 2088).
Встречается с В. А. Теляковским и говорит ему о необходимости «полной реформы Малого театра». (Там же).
228 Приходит к Станиславскому и сообщает ему о своем разговоре с Теляковским: «— Говорю Вам первому. Предложение идти сейчас в Малый театр я отклонил, но составлять проекты реформы принял154*.
— А зачем Вам это?
— Я не могу от этого отказаться… Я в Худож. театре не творил, по преимуществу, а создавал учреждение, где творят. Если мне говорят — Вы создали театр, создайте теперь государственную академию, — я должен согласиться. Привязанность моя к одному театру, хотя бы и мною самим созданному, не оправдает моего отказа, потому что мельчит идейность моей деятельности». (Там же).
Премьера «Стен» Найденова: «Но сразу почувствовалось, что впечатление не крупного вечера»155*. (Из письма к жене от 4 апреля 1907 г. Там же, № 2089).
Апрель (после 2)
Просит Главное управление по делам печати разрешить постановку «Каина» Байрона в один вечер с «Саломеей» Уайльда.
Апрель 5 – 12
Из письма Станиславского к М. Г. Савиной: «Владимир Иванович сильно занят экзаменами школы, подготовкой поездки в Петербург, составлением труппы и репертуара будущего года». (Архив К. С.).
Апрель – май
В Петербурге с Художественным театром.
Май 12
Петербургская реакционная газета «Русь» в статье о «Бранде» обвиняет Художественный театр в «грубой пропаганде социализма».
Июнь
Приезжает в Нескучное.
Июнь 15
Газета «Слово» сообщила, что дирекция императорских театров предложила Немировичу-Данченко занять место заведующего репертуаром Малого театра.
229 Июнь 19
Готовится к постановке «Каина», читает «Потерянный рай» Д. Мильтона. Пишет Станиславскому, что «Каин» все больше его волнует, что он мечтает вызвать «в Леонидове — Каине трагизм, а Качалова взвинтить на огневого, мечущего молниями Люцифера». (Архив Н-Д, № 1640).
Июнь (после 19)
Готовится к постановке «Бориса Годунова». Опасается как «бряцания романтических струн», так и того, что «реальная школа может загубить дело». (Вл. И. Немирович-Данченко, «Как ставить “Бориса Годунова” и как его играть» Рукопись. Архив Н-Д, № 22).
Июнь 27
В письме к Лужскому характеризует действующих лип «Бориса Годунова».
Июль
«Здесь в Кисловодске дурно. Колоссальный съезд, махровая пошлость, мельхиоровая культура, азиатская грязь… Там [в Нескучном] так успокаиваются нервы и так чудесны тихие, одинокие мечты!» (Из письма к Южину. Архив А. И. Южина. ЦГАЛИ).
Август 1
«Приехал в Москву. В 12 ч. осматривал театр (ремонт). С 2 часов беседовал с Симовым и Лужским о “Борисе Годунове”». (Из записной тетради 1907 – 1908 гг.).
Август 3
В письме к жене сообщает, что был занят распределением ролей в «Борисе Годунове»: «235 действующих лиц!!!
… Конечно, все наиболее интересное принадлежит фантазии Симова, который, как всегда, скромно становится в тени режиссера, — в данном случае Лужского». (Архив Н-Д, № 2090).
Август 4
«Вчера была первая беседа о “Борисе Годунове”. Я немного волновался… но кончилось хорошо… Удалось внушить интерес, подогреть его». (Там же, № 2091).
Вторая беседа о трактовке ролей в «Борисе Годунове». Просмотр макетов Симова и собранного исторического материала.
230 Август 5
«В театре приступили к репетициям. Все те первые шаги, которые в постановке должен сделать Лужский, т. е. подбор материала, черновая мизансцена и т. д., сделаны им, судя по репетируемым двум сценам, хорошо. Даже очень хорошо. С фантазией, темпераментом. Дальше уже эти картины поступают под мое ведение. Для начала репетиций мы взяли одну из сцен Бориса (когда он узнает от Шуйского о появлении Самозванца) и первую сцену Самозванца (прием). И то и другое очень интересно задумано. Лужский не трогает главнейшего, т. е. как играть роли эти, как их толковать». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2092).
После репетиции «Бориса Годунова» поехал с Москвиным на Воробьевы горы, где сидели с ним вдвоем до 10 часов. «А из Москвина хочется сделать что-нибудь замечательное. Надо думать, вникать, искать»156*. (Там же).
«Вчера Румянцев привез из Петербурга отвратительную весть. “Каина” весь синклит Синода единогласно запретил». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1641).
Август 6
Приглашает Л. Андреева к обеду, чтобы побеседовать о его пьесе «Жизнь Человека».
Август 6 – 8
Ведет репетиции «Бориса Годунова». Экзаменует поступающих в школу МХТ.
Август 7
«Я сурово думал о том, что… реакционное настроение в цензуре угрожает Художественному театру… К этому присоединилось отвращение к московскому обществу, кружку, толкотне, политической суете и проч. и проч. Наконец, все сильнее развивающееся во мне желание переменить образ жизни, т. е. сделать его как-то новее что ли, более скромным, более спартанским… И вот проект: покинуть Москву, собрать новых капиталистов для постройки театра в Выборге и играть там лучшие пьесы, запрещенные драматической цензурой (Финляндия свободна)… Эффект, что Художественный театр, стесненный цензурой, уехал творить в Финляндию, будет так велик, общественное значение этого шага будет так значительно. В истории освобождения России мы сыграем блестящую и почетную роль». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2093).
231 Август 9
Из экзаменовавшихся восьмидесяти пяти человек в школу отбирает трех. Вечером проводит приемные испытания сотрудников театра.
Август 11
Утром занимается с И. М. Москвиным (Самозванец) я М. Н. Германовой (Марина Мнишек).
Вечером мизансценирует сцену «Корчма на литовской границе».
Август 13
Вечером репетирует сцену «У фонтана».
Август 14
Утром репетирует с А. Л. Вишневским монолог Годунова «Достиг я высшей власти…». Вечером с А. Л. Вишневским уезжает к Г. Н. Федотовой в ее имение Федоровку на Оке.
Август 15
«… Когда мы приехали к ст[анции] “Ока” и я вышел, меня охватила такая удивительная картина, которую если видеть раз в год, так и то хорошо. Железнодорожная насыпь на высоте, а под нами широкий горизонт лесков, деревень, чудесная Ока — и все это залито солнцем на чистом, безоблачном, утреннем небе. Я не мог оторваться и не понимал, куда надо идти к пароходу. Потом в веренице разного милого, простого люда, ехавшего в Успеньев день к себе в деревню, двинулись по громадному железнодорожному мосту к пристани, где уже белел и свистел нетерпеливо пароходик. … И так плыли под ослепительным солнцем вдоль живописных берегов со старинными историческими церквами часа три. Подплыли к пристани. Нас ждала линеечка на паре. Поехали. Не скоро. Дорога проселочная, размытая дождями. Большую часть пути — шагом. Но утро так восхитительно, зелень так ярка, что чем медленнее, тем лучше.
Приехали. Глик[ерия] Ник[олаевна] еще не вставала… Ждал кофе, ждали комнаты. Вишневский, выпив кофе, пошел купаться, а я — прилечь и полежать. И жаль было отрываться от этого света, наполнившего сад, пруд, цветы, но надо было отдохнуть.
Встал и умылся уже к 12 часам… Идя через большую столовую, слышу уже взволнованный голос Глик[ерии] Ник[олаевны]… А когда я подошел к ней, так она обняла и вдруг громко разрыдалась. “Давно не видела”. Это растрогало и меня и всех…
Чувствует себя отлично, глаза молодые, лицо без морщин (61 год), но еще не ходит, ее возят в креслах». (Из письма 232 к жене от 17 августа 1907 г. Избранные письма, стр. 277 – 278).
Август 16
Вечером прямо с поезда приезжает на заседание дирекции, происходившее на квартире Станиславского: «Здесь бухнулись в театральные разговоры». (Там же).
«Постановили ставить “Жизнь Человека” независимо от разрешения “Каина”». (Из записной тетради 1907 – 1908 гг.).
Август 17 – 18
Ведет репетиции «Бориса Годунова». Мизансценирует сцену «Келья в Чудовом монастыре».
Август (между 14 и 21)
Проводит первое занятие с учениками школы в присутствии Станиславского и всех преподавателей, «чтобы выяснить, что с кем из учеников надо делать». (Из письма к жене от 21 августа 1907 г. Архив Н-Д, № 2099).
Август 20
После репетиции «Бориса Годунова» встречается с Южиным, разговаривает с ним о режиссуре Ленского.
Август 21
Репетирует картины «У Марины» и «Царские палаты». «Как пойдет “Борис Годунов” — сказать трудно, но что-то интересное ладится. Лужский продолжает работать успешно и много. Я очень помогаю и поддерживаю». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2099).
Август 22
Репетирует сцену «Келья в Чудовом монастыре». Вечером беседует о постановке «Жизни Человека» со Станиславским, Сулержицким, Егоровым.
Август 24
Занимается с молодежью в школе МХТ. Вечером репетирует «Бориса Годунова».
Август 26
«Вчера вечером приступил к сцене “фонтана”. О ней раз только имел беседу с Москвиным и Германовой. Вчера репетировал от 7 1/2 до 12 – 4 1/2 часа с большим усердием, но прошли только одну страничку из 8. Ужасно трудная сцена.
… Занимался сценой “У Пимена” три раза, но так трудно добиваться интересных результатов, даже несмотря на то, 233 что одного играет Качалов157*, а другого Москвин158*, — что за три репетиции не пошел дальше двух монологов». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2102).
Август 27 – 28
«Я репетирую по два раза на день… Работа с “Борисом” застряла на трудностях и потому мало радует». (Из письма к жене от 28 августа 1907 г. Там же, № 2103).
Август 28
«Съезд теперь — из крайних правых, гораздо правее самого правительства… Все они стремятся в Думу…», (Там же).
Август 30
«В театре я уже начал работать усиленным темпом в смысле репетиций, которые теперь уже веду я. Лужский уже сдал мне то, что наладил (13 картин — 3 акта)159*.
… Есть вещи очень оригинальные и смелые. Например, первые народные сцены. Они поставлены Симовым и Лужским в небольшие рамки и могут походить на иконописные — с головами толпы. Дело идет к интересной “стилизации”. Каждая картина имеет свою прелесть в замысле. Эффектен польский элемент в пьесе, который и будет главной новостью.
… Польская культура… Не оперная, не из “Жизни за царя”160*, а интимная, со вкусом… с беспрерывной музыкой балов. Таких 4 картины, 3-й акт, с “Сценой у фонтана” в конце. Эта сцена у фонтана — самой безумной трудности, с какой-только мы сталкивались на нашем театре. Надо, чтобы было красиво, романтично, но не напыщенно, без вычур, но не тривиально. И чтоб “волшебный” стих Пушкина играл, как драгоценный камень… Было уже 4 репетиции этой сцены, одна — я заморил их и себя — от 7 до 12 ночи. Но мне верится, что это выйдет блестяще. Для Москвина я придумал вообще образ очень интересный, но огромной трудности. Причем долго боролся за свой образ с тем, который рекомендовали Станиславский, Лужский и Стахович. Одно время мы так и называли для ясности эти два образа: “Вильгельм” — это их образ: Самозванец — бравый, талантливый, энергичный, ловкий актер; другой образ, мой, — называется “Архистратиг Михаил”: светлый, мстительный рок, пронесшийся над головою 234 Бориса, легендарный, воскресший Дмитрий в образе гениального безумца Гришки Отрепьева.
Я влюблен в этот образ, в его безумные глаза при кривой ноздре и бородавках (портрет Самозванца исторический), в его священное призвание — погубить Бориса, построившего свою власть на убийстве161*, в его вдохновенность. Соответственно с этим образом и вся трагедия рисуется не такою реальною, как были “Федор” и “Грозный”, а как бы исторической легендой, поэтической песней о Борисе и Гришке Отрепьеве. Есть тут какая-то новая нота романтизма, которой так удивительно помогают чудесные стихи Пушкина. И тогда уж Пимен — не просто старец, а бывший богатырь, обратившийся в летописца, Курбский — не просто молодой боярин, а витязь из тех, каких рисовал Васнецов, точно Руслан, Ксения — не просто царская дочка, какая-то Мстиславская из “Федора”, а сказочная царевна, Марина — не просто польская девушка, а сверкающая красотой и огневостью честолюбия шляхтянка… Но и Борис — удрученный, затравленный совестью лев. Все это страшно трудно, но отказаться от такого романтического замысла не хочется». (Из письма к жене. Там же, № 2104).
Посылает приветствие Ф. А. Коршу в связи с 25-летием его театра.
«В 5 часов был у Южина и Ленского, но не застал дома. На первый спектакль Комиссаржевской не пошел, на юбилей Корша — тоже. Хотел пойти на открытие Большого театра (“Жизнь за царя”), да ведь будут какие-нибудь демонстрации истинно русских людей. Это скучно». (Там же).
Август 31
На репетицию «Бориса Годунова», которую ведет Немирович-Данченко, приходит Станиславский и делает указания по девятой картине («Царские палаты»).
Сентябрь 1, 2
Ведет репетиции «Бориса Годунова». Уточняет логические ударения пушкинского стиха. Повторяет и разрабатывает девятую картину и сцену «У фонтана» до слов: «Тень Грозного меня усыновила». (Архив Музея МХАТ).
235 Сентябрь 3
Репетирует сцену Шуйского и Пушкина в «Борисе Годунове». Ищет «мест спокойных, стиха и тона Пушкина». Повторяет сцену Бориса и Шуйского.
Сентябрь 4
Репетирует «Бориса Годунова» утром и вечером: «… И для того, чтобы втянуть артистов в самые недра души пьесы и образа, надо и самому “вникнуть” и их втащить. На это уходят часы напряженного внимания… Боишься навязать им искусственность вместе с романтическими образами. Надо уйти от вульгарности, надо сохранить “волшебный” стих Пушкина, надо дать яркие образы, глядящие из глубины веков, — и страшно уйти от простоты. А пойдешь в простоту, — все будет мелко, тривиально162*». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2106).
Сентябрь 5
Утром репетирует шестую и девятую картины «Бориса Годунова». Вечером смотрит в Малом театре комедию Шекспира «Много шуму из ничего»: «Постановка Попова очень изящна, легка, красива, нова для Москвы (Мюнхенская). Пьеса идет в легком быстром темпе, прекрасно срепетована. Общее впечатление немножко скучноватое, но приятное. Однако такое, как будто я побывал не в драмат[ическом] театре, а в балете, т. е. такое легкое. Но и это для данной пьесы хорошо. Гзовская [Беатриче] очень приятная, легкая, поверхностная, но несомненно талантливая актриса. Образом не живет и даже, кажется, не имеет понятия о том, что значит жить образом, но сценично-приятная, заражающая улыбкой. Это не мало». (Из письма к жене от 6 сентября 1907 г. Там же, № 2107).
Сентябрь 7
«С “Борисом” у меня дело волочится медленно и внушает мне опасения… Волнениями за него я переполнен и сплю дня три плоховато». (Там же, № 2108).
Сентябрь 14
«С 11 утра начал осмотр декораций, бутафории, установки света. Потом вел репетицию бала с повторениями. Перерыв был от 5 1/2 до 7 1/2. Окончил работу в театре в 11 ч. ночи». (Из дневника репетиции).
236 Сентябрь 22
С Лужским делает планировку картин «Севск» и «Лес» в «Борисе Годунове».
Сентябрь 24, 25
Репетирует народные сцены в «Борисе Годунове», требует, чтобы актеры жили «по-настоящему». Придумывает способ постепенного нарастания народного гула: не только на сцене, но и за сценой расставляет людей на расстоянии двух-трех шагов друг от друга. «Такая лента людей уходила далеко за кулисы… самый дальний говорил что-либо стоящему впереди себя, этот — следующему и так до конца всей ленты. Для замирания этой же звуковой волны то же самое проделывалось в обратном порядке». (А. А. Мгебров, Жизнь в театре, «Academia», 1929, стр. 218).
Сентябрь 26
Репетирует с оркестром и хором, занятыми в «Борисе Годунове».
Сентябрь 29
Проходит отдельные сцены «Бориса Годунова», вечером планирует третью картину — «Девичье поле» и вместе со Станиславским репетирует сцену «У фонтана» с Москвиным и Германовой.
Сентябрь 30
Установка декораций. Вечером во время генеральной репетиции четвертого акта делает замечания актерам.
Октябрь 1 – 3
Репетирует «Бориса Годунова»: «Декорации не полностью готовы, бутафории почти нет. Отличное впечатление от комнаты Марины, — художественно красивая мизансцена Константина Сергеевича». (Из записной тетради 1907 – 1908 гг.).
Октябрь 10
Премьера «Бориса Годунова». «Успех не ясен. Крепкие аплодисменты после “Корчмы” и “Приема”». (Там же).
Октябрь 11
Приказ градоначальника убрать крестные знаменья в «Борисе Годунове».
Октябрь 12
В своем кабинете, во время спектакля «Борис Годунов», читает актерам «Росмерсхольм» Г. Ибсена.
237 Октябрь 33
Беседа о «Росмерсхольме»: «С одной стороны Кролли, защищающие старые устои… На другой стороне Мортенсгоры. Они… решили… бороться не для того, чтобы погибнуть для людей будущего… Нет, Мортенсгоры сами дорожат своим благополучием. … Это не наши большевики. Это постепеновцы. … В разгар партийной политической борьбы, охватившей городок, в Росмерсхольме живет последний, бездетный представитель Росмеров — Иоганнес. … Мы видим его уже охваченным идеей облагородить человечество». (Из записной тетради 1907 – 1908 гг.).
Видится с М. Н. Ермоловой, пришедшей на спектакль «Борис Годунов».
Октябрь 14
Утром смотрит репетицию пьесы Л. Андреева «Жизнь Человека». «Хорош бал и начало несчастья, остальное плохо». (Из записной тетради 1907 – 1908 гг.).
Октябрь 15
«Никак не могу согласиться с приемом Константина Сергеевича режиссировать, идя не от пьесы, а от недостатков актеров» (Там же).
Октябрь 16 – 18
На Малой сцене репетирует с А. Ф. Горевым роль Эйнара в «Бранде». Сокращает четырнадцатую и восемнадцатую картины в «Борисе Годунове».
Октябрь 19
В Малом театре смотрит «Дельцы» И. Колышко. «Ужасно все! нельзя критиковать. Пашенная — с хорошим нервом». (Из записной тетради 1907 – 1908 гг.).
Октябрь 20
Проводит репетицию «Стен» Найденова.
Октябрь 21 – 23
Репетирует отдельные сцены «Бранда». Смотрит спектакль «Стены».
Октябрь 24
Вводит новых исполнителей во второе действие «Иванова» Чехова. Вечером смотрит «Бранда»: «В первый раз Эйнар — А. Ф. Горев. Восстановлены многие отброшенные с течением 238 времени детали. Новые лица в народе, из которых приятно остались в памяти Мгебров, Савинова и Соловьева». (Из записной тетради 1907 – 1908 гг.).
Октябрь 31
Утром репетирует первое действие «Иванова», останавливаясь на сценах О. Л. Книппер и Л. М. Леонидова. (Там же).
Ноябрь 1 – 5
Ведет репетиции «Иванова».
Ноябрь 5
Дает интервью о театре для прессы.
Ноябрь 6
Смотрит представление «Иванова»: «Хороший спектакль». (Из записной тетради 1907 – 1908 гг.).
Ноябрь 10
На заседании репертуарного комитета читает пьесу Ш. Аша «Бог мести» и делает доклад о пьесе Е. Чирикова «Колдунья».
Ноябрь 11 – 19
Начало репетиций «Росмерсхольма».
Ноябрь 13
Вечером проводит беседу о «Плодах просвещения».
Декабрь 5
Утром репетирует сцену старух в «Жизни Человека».
Декабрь 8
Репетирует четвертое действие «Жизни Человека».
Декабрь 9
Станиславский пишет в дневнике репетиций: «Сцена ста рух, прорепетированная Вл. И. Немировичем-Данченко, и сцена родственников, прорепетированная Москвиным, прошли лучше» (Музей МХАТ, № 184).
Декабрь 12
Премьера «Жизни Человека».
Декабрь 20
Репетирует «Росмерсхольм» (в выгородках).
239 1908
Январь 11
Посетил пятидесятое представление «Бранда». «Маленький праздник за кулисами». (Из записной тетради 1907 – 1908 гг.).
Январь 14
Запись о «Росмерсхольме» в дневнике: «Тот путь работы, который я избрал, — углубления в пьесу, изучения ее сценического нерва, отыскания дикции пьесы и вместе борьба артистов с их избитыми приемами, — такая работа, необходимая, пока пьеса не нащупана, скорее утомляет мозг и нервы, чем искания внешних красок». (Режиссерские заметки. Машинопись с авторской правкой. Архив Н-Д, № 99).
Январь 16
«Большая часть репетиции пошла на сцену Росмера и Ребекки (и то не всю), все с тем же исканием выразить постепенно, психологически детально нарастающий драматизм сцены. И Качалов и Книппер уже улавливают ее нерв и начинают находить отзвук его в своих темпераментах, но еще выпадают из рисунков, из образов… очень трудно заучивается текст… Уже хочется видеть их намеки на краски… Пока все еще рисуем углем очертания, перспективы. Благоразумие требует терпения». (Там же).
Январь 17
«Опять только половина сцены Росмера и Ребекки; часа два с большим напряжением вздымались к образам… Скоро устаем». (Там же).
Январь 19
«Сорванная репетиция “Росмерсхольма” и нервная беседа с Лужским, Леонидовым и Качаловым об интеллигентности…». (Из записной тетради 1907 – 1908 гг.).
Январь 24
На 25-летнем юбилее Южина в Малом театре читает адрес и преподносит юбиляру жетон с изображением чайки.
Январь 25
В Литературно-художественном кружке в честь Южина произносит речь, в которой говорит о «подвигах героизма и самоотверженности» в недавней революции, о том, что «истинное искусство всегда революционно… зерно революции кроется во всяком истинном таланте». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 361).
240 Январь 27
Смотрит возобновленный спектакль «На дне». В антрактах беседует с О. О. Садовской.
Февраль 2
Встречается с Э. Дузе, посетившей спектакль «Бранд».
Февраль – март (до 5)
Репетирует «Росмерсхольм».
Февраль 25
Леонид Андреев дарит Немировичу-Данченко свою пьесу «Царь Голод»163*.
Март (начало)
Снова получает предложение взять на себя руководство Малым театром.
«Немирович официально заявил, что он уходит на императорскую сцену, если, впрочем, будет уверен, что Худ[ожественный] театр будет продолжать жить с одним Константином [Сергеевичем], на что Константин вынул часы и торжественно заявил: “Сейчас 5 часов. Уходите. Но четверть шестого уже и меня не будет в Художественном театре”. После этого они очень долго говорили и дело уладилось. Немирович остался». (Из письма Качалова к Подгорному от 10 марта 1908 г. Архив Н. А. Подгорного. Музей МХАТ).
Март 5
Премьера «Росмерсхольма».
Март 6
Осуждение спектакля «Росмерсхольм» в прессе164*.
«Теперь выяснилось совершенно определенно — и я уж не могу сомневаться в этом, — что вместе с моим уходом 241 из Художественного театра он кончит свое существование. Как бы теперь ни сложилась моя деятельность в нем, я не имею нравственного права совершать это убийство.
Поэтому, дорогой Саша, я должен буду отказаться от того, что начинало уже привлекать меня в Малый театр». (Из письма к Южину. Избранные письма, стр. 281).
Март 7
В письме к В. А. Теляковскому: «Сердечно благодарю Вас за оказанное доверие…
Должен, однако, сказать, что в моей борьбе между желанием поработать для Малого театра и привязанностью к Художественному перспективы Малого театра не очень подбодряли мой выбор в пользу него. Там все-таки так много затхлости, что выкурить ее полумерами вряд ли возможно. По крайней мере радикальная реформа более гарантировала бы успех задачи». (Там же, стр. 282).
Март (после 7)
В письме к А. П. Ленскому желает ему одолеть все «мракобесие казенщины» императорских театров. (Дата письма устанавливается предположительно. Там же, стр. 289).
Март 19
Выступает и председательствует на Всероссийском съезде режиссеров.
Март
«… Думаю о том, какими силами можно было бы вытравить из театра пошлость и невежественность, и рабский дух, охвативший его так же, как он охватил теперь всю Россию». (Из письма к А. А. Стаховичу. Черновик. Архив Н-Д, № 1495).
Апрель – май
В Петербурге с Художественным театром.
Май 3
В дневнике А. Блока запись о драме «Песня судьбы»: «Увлечение Станиславского и Немировича-Данченко». (А. Блок, Соч., в двух томах, т. 2, М., Гослитиздат, 1955, стр. 391).
Июнь (начало)
Приезжает в Нескучное.
242 Июнь 14
Хочет ввести в «Бранда» ранее не игранную сцену избиения Бранда камнями.
Июнь 27
Лужский и Симов приезжают на несколько дней к Владимиру Ивановичу в Нескучное. Заходит речь о пьесе, которую могут сыграть молодые актеры. Владимир Иванович предлагает «Венецианского купца» Шекспира, в котором изображено «вечное гонение нации». Распределяют роли: Порция — Бромлей, Джессика — Коонен, Антонио — Хохлов, Лоренцо — Готовцев, Шейлок — Вишневский. (Из письма к Станиславскому от 5 – 6 июля 1908 г. Архив Н-Д, № 1646).
Июль 5 – 6
В письме к Станиславскому рассказывает, что «штудирует» Достоевского, перечитал все его большие романы: «“Бесы” — очень слабая вещь. “Подросток” — тоже. “Идиота” нельзя иллюстрировать, так как все замечательные места пойдут в чтение и станут скучны. Зато “Карамазовы” чудесны для иллюстрации… А вещь может выйти и колоритная и русская. И Зосиму разрешат». (Там же).
В этом же письме жалуется, что, работая над режиссерским планом «Ревизора» и мысленно играя все роли, не может еще найти внутренний толчок, который окрыляет фантазию.
Июль (середина)
В записной тетради — [перечень действующих лиц из пьесы Г. Гауптмана «Бегство Габриэля Шиллинга».
Июль 21
«У нас в уездной жизни по 20 лет все остается без движения… А удивительно, до чего уезд отстает от столицы. И эту инертность, неподвижность, нелюбознательность принимают за основу своей русской цивилизации и хотят строить на ней свою русскую конституцию». (Из письма к Южину. Архив А. И. Южина. ЦГАЛИ).
В том же письме: «Скучаю и взвинчиваю себя на то, что, подходя к 50 годам, надо жить в почтенной работе. А когда думается, что человек должен всю жизнь “гореть”, то отвечаю себе: и рад бы, да вечем. Постановкой “Ревизора”? Она меня никогда не интересовала. “Синей птицей”? — не моего романа. Десятилетием театра? Да, если бы он был так молод, как еще 4 – 5 лет назад. Но он уже в 10 лет стал тоже почтенным. Мог бы загореться работой с молодежью театра, ню я нужен для старшего возраста и потому молодежь должен уступить вторым режиссерским силам».
243 Август 3 – 5
Проводит первые репетиции «Ревизора» за столом. «Ищет тона для городничего, судьи и Хлопова». (Из дневника репетиций).
Август 5 – 6
Проводит экзамены в школе Художественного театра (из 187 человек принимает трех).
Август 7
Утром репетирует роли Земляники, Анны Андреевны и Марьи Антоновны. Вечером «ищет тона для почтмейстера и судьи». (Из дневника репетиции).
Август 8
Утром репетирует «Ревизора». «В “Ревизоре” — начинаю понемногу находить образы».
Вечером смотрит репетицию «Синей птицы». Находит декорацию «Лазоревого царства», написанную художником В. Е. Егоровым, «очаровательной во всех отношениях». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2116).
Август 12
О репетициях «Ревизора»: «Один Москвин очень растет и помогает в “Ревизоре”». (Там же, № 2120).
Август 12 – 18
Занят репетициями «Ревизора» и «Синей птицы».
Август 18
«Константин [Сергеевич] вносит в “Ревизора” много интересного и талантливого». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2124).
Август 21 – 23
Репетирует первую сцену «Синей птицы» — «У дровосека».
Август 27
Пишет жене о репетициях «Синей птицы»: «Мне кажется, что я угадал верную ноту, схватил юмор пьесы… Юмор, лиризм, поэзия… из этого может выйти прелестный детский спектакль… Сцена “Ночи” ставилась как какая-то романтически-рыцарская. И Книппер должна была изображать величавую “тьму”. А у меня это какая-то брюзжащая хозяйка». (Архив Н-Д, № 2131).
244 Август 28
«Все художественные пути нашего времени ведут к Вашему имени». (Из обращения к Л. Н. Толстому в связи с его 80-летием. Черновик. Музей МХАТ, № 5410/307).
Август 29
Вместе со Станиславским репетирует «Синюю птицу». «В конце концов все-таки Театр доставляет радости хоть изредка. Какая-нибудь удачная репетиция, какая-нибудь достигнутая красота в искусстве, — и все-таки “сердце взыграет”. Не часто, очень не часто, но бывает…». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2132).
Август 30
Был у Южина, который читал ему свою пьесу «Вожди». «Интересная иллюстрация всех общественно-политических течений. Однако цензура вряд ли пропустит ее»165*. (Там же, № 2133).
Август 31
Ведет репетицию и просматривает сценические эффекты «Синей птицы».
Сентябрь 3, 4
Участвует в репетициях «Синей птицы».
Сентябрь 4
«“Франческо да Римини” Д’Аннунцио в Малом театре — провал». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2136).
Сентябрь 5
«С Константином [Сергеевичем] работаем дружно». (Там же, № 2137).
Сентябрь 7
Репетирует сцену «Леса» в «Синей птице».
Сентябрь 14
«Надо еще раз отдать справедливость Константину [Сергеевичу] — весь успех “Синей птицы” будет делом его фантазии и огромного труда. Он только не умел распределиться в работе. … Я положительно недоумеваю, как он, задумав постановку так прекрасно, не мог в течение всего прошлого 245 года увлечь своими идеями исполнителей… Но работает он без устали, даже удивительно, как много у него работоспособности». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2141)
Сентябрь 15
Вечером вместе со Станиславским репетирует сцену «Прощания» в «Синей птице».
Сентябрь 17
В связи с 15-летним юбилеем В. Ф. Комиссаржевской отправляет ей букет от имени театра.
Сентябрь 18
Утром и вечером репетирует сцены из «Синей птицы»: «Царство будущего» и «Во дворце Ночи».
Сентябрь 30
Премьера «Синей птицы».
Октябрь 3
Репетирует «Бранда» Ибсена.
Октябрь 6
Репетирует сцену «Лес» в «Синей птице».
Октябрь 14
В вечер празднования десятилетнего юбилея Художественного театра в докладе говорит о том, что сделано и что еще предстоит сделать: «Наша заветная цель — создать общедоступный художественный театр, и мы надеемся, что наша цель достижима». («Новая Русь» от 15 октября 1908 г.).
Октябрь 18
Делает замечания актерам по репетиции первого акта «Ревизора».
Октябрь 24
Продолжает работу над первым актом «Ревизора».
Октябрь 29
Репетирует сцену Анны Андреевны и Марьи Антоновны. Просит В. А. Симова представить для бутафорских мастерских рисунки к «Ревизору»: стенных часов, стойки для чубуков, «указа» в рамке, углового столика и т. д.
246 Октябрь 31
Ведет репетицию третьего акта «Ревизора».
Ноябрь 6
Проходит все сцены Хлестакова в третьем акте. «Пробовали “пьяный” тон для Хлестакова, подробно выясняли и разрабатывали наиболее трудные места роли». (Из дневника репетиции).
Вечером встречает актеров итальянской труппы де Грассо, пришедших на спектакль Художественного театра «Синяя птица».
Ноябрь 10
Вместе со Станиславским репетирует отдельные сцены «Ревизора».
Ноябрь 12
Осматривает костюмы и бутафорию для «Ревизора».
Ноябрь 14, 15, 16
Репетирует сцены городничего и Хлестакова в третьем и четвертом актах. Заказывает гримы и парики для «Ревизора». Работает над ролью Хлестакова с А. Ф. Горевым.
Ноябрь 17 – 21
Репетирует первый и третий акты «Ревизора». Мизансценирует четвертый акт и немую картину финала.
Ноябрь 18
Вместе со Станиславским репетирует «Ревизора». Обращает внимание Симова на то, что «окна в квартире городничего отворяются внутрь, тогда как на подоконниках стоят цветы на скамеечках». Предлагает в окна вставить стекла, чтобы «актеры случайно не просунули руку сквозь рамы (стекла также изменят звук голосов с улицы в четвертом акте, в сцене с купцами)». Хочет, чтобы город, который виден из окон маленькой гостиной городничего, имел «вид грязный, без садов и без гор, чтобы тюрьма была не губернская, а небольшая, на 20 – 30 человек. Грязный небольшой городок, расположенный по какой-то грязной речонке». (Из дневника репетиции).
В «Русском слове» от 18 ноября 1908 г. (№ 268) напечатано интервью Немировича-Данченко о постановке «Ревизора».
Ноябрь 26
«Разрабатывали тона и мизансцены 3 акта и повторяли начисто весь акт с шумом, проходами прислуги и проч. Выслушивали 247 замечания Владимира Ивановича». (Из дневника репетиции).
Вечером работает с отдельными исполнителями.
Ноябрь 27 – 28
На большой сцене репетирует первый и третий акты «Ревизора». Подробно разрабатывает монолог Осипа, проверяет исполнение ролей Хлестакова и трактирного слуги.
Ноябрь 29
После репетиции «Ревизора» делает замечания исполнителям. Повторяет первую сцену.
Декабрь 2
Ведет репетицию «Ревизора».
Декабрь 3
Вместе со Станиславским репетирует четвертый акт «Ревизора».
Декабрь 4
Утром и вечером подробно останавливается на сценах Хлестакова с Марьей Антоновной и Анной Андреевной в четвертом акте. Ищет мизансцены. Работает с О. Л. Книппер-Чеховой, Л. М. Кореневой, А. Ф. Горевым и И. М. Ураловым.
Декабрь 5
Репетирует сцены чиновников, просителей, женщин, купцов. Останавливается на сценах Хлестакова с Марьей Антоновной и Анной Андреевной.
Декабрь 8
На большой сцене репетирует конец четвертого акта «Ревизора». Вечером просматривает гримы и костюмы купцов и других действующих лиц.
Декабрь 9
Утрам репетировал первую половину пятого акта до выхода гостей, потом «слаживал» весь пятый акт. (Из дневника репетиции).
Декабрь 10
На репетиции «Ревизора» вместе со Станиславским выверяет темп первого акта: «Начало акта идет как было: в тихом темпе. Чтение письма — быстрый темп. После письма — легкая остановка и с “философии судьи” — быстрый темп. Распоряжения городничего — в очень быстром темпе и раскат до легкой паузы перед “а кто здесь судья?..”. Выход почтмейстера — 248 быстро, но не гнать и без пауз. Сцена Бобчинского и Добчинского — быстро также и без пауз. Когда крестятся — легкая остановка и снова быстро… до конца» (Там же).
Декабрь 11
Ведет за столом репетицию пятого акта «Ревизора», анализирует трудные куски в роли городничего, устанавливает ритм реплик при чтении письма, фиксирует характер и нарастание шума перед приходом жандарма.
Декабрь 13
Вместе со Станиславским репетирует «Ревизора».
Декабрь 18
Премьера «Ревизора».
Декабрь (между 19 и 27)
Прочитал в «Театре и искусстве» (№ 52) рецензию Н. Е. Эфроса о «Ревизоре» и написал ему письмо, возражая против того, что критики судят о спектакле по первому представлению, «… он [актер] не может приготовить роль на протяжении одних генеральных репетиций, хоть бы их было 20. Ему надо готовить роль на публике… Чем новее образ, тем менее ясно, как на него будет реагировать публика, тем труднее овладеть темпом роли, тем дольше не произойдет то слияние души актера с новой характерностью, без которого нет готового создания». (Избранные письма, стр. 287).
Декабрь (до 27)
Просматривает отрывок из «Мертвого города» Д’Аннунцио, приготовленный учениками А. Г. Коонен и В. Л. Вендерович: «Что же касается Коонен, то я был поражен серьезностью и глубиной переживания ее роли. Из веселенькой Митили166* стала 20-летней девушкой с серьезным взглядом, устремленным в самые глубины душевной красоты». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1650).
Декабрь 27
Сообщает об «Анатэме» Л. Андреева: «Андреев написал превосходную пьесу. Трагедию. И настоящую». (Там же, № 1651).
Декабрь 31
А. И. Южин пишет воспоминания о детстве, Тифлисской гимназии и своем гимназическом товарище Володе Данченко. (А. И. Южин-Сумбатов, Записи, статьи, письма, стр. 27 – 28).
249 1909
Январь 8 – 19
Проводит заседания правления о репертуаре, о распределении ролей и режиссерских работ.
Январь 13 – 29
Ведет репетиции пьесы К. Гамсуна «У врат царства».
Январь 29
Читает труппе пьесу Л. Андреева «Анатэма».
Февраль
Участвует в репетициях пьесы «У врат царства».
Март 1 – 5
Единогласно избирается председателем на втором Всероссийском съезде режиссеров.
Выступает с докладом «О правах режиссеров». («Русское слово» от 6 марта 1909 г.).
Март – апрель
Гастроли Художественного театра в Петербурге.
Март 30 – апрель 6
В Петербурге делает наброски к пьесе: «Неправда. — Все лгут. Все куют свое личное счастье. … Взлетают и гибнут только очень юные». (Из записной тетради 1904 – 1911 гг.).
Апрель 9
«Был на спектакле в Царском Селе. Какой ужас! Ведь, небось, Константину] Константиновичу 25 лет лгали, никто и никогда не сказал ему, что он скверный актер»167*. (Там же).
Апрель
Пишет статью «Тайна сценического обаяния Гоголя» для «Ежегодника императорских театров» (вып. 2, 1909 г.), в которой высказывает мысль о значении прозы Гоголя для русской драматургии: «Гоголь своими повествовательными сочинениями создавал сценический язык пьес, его остроту, меткость и красочность».
250 Апрель 28
Читает статью о Гоголе на торжественном заседании Общества любителей российской словесности в Москве.
Май 14
Станиславский просит Немировича-Данченко сделать сокращения в тексте «Месяца в деревне».
Май
В режиссерских заметках о «Месяце в деревне» Немирович-Данченко характеризует атмосферу будущего спектакля: «Тихо, тонно, красиво, очаровательно по воспоминаниям, но без порывов, без страстей, без борьбы, без больших идей, без возбуждения, без широких горизонтов… Это буря женского сердца, сердца женщины той эпохи, того воспитания, рвущегося к свободным радостям». (Из записной тетради 1908 – 1909 гг.).
Май (до 16)
Делает наброски к беседе с труппой об «Анатэме»: «Неужели личность актера, его понимания, переживания, вкусы, идеи, то, чем он живет, сведена до заурядного господина, отличающегося от всякого только тем, что у него сценическое лицо, голою, фигура и горячность? Не это ли именно и привело к кризису? Мещанское крохоборство в постановке и отсутствие возвышенного настроения у актера. Наш театр за последние два-три года очень понизился в смысле того идейного колокола, который так громко звучал прежде, когда ставили Гауптмана, “Штокмана” и Горького, и что привлекло к нам все передовые посты. Это случилось по течению. Мы готовили резолюцию, потом испугались и пошли за октябристами. Столыпин, первый абонемент, сохранение дорогой публики168*. Стрех, что она не примет нас революционными, ложный взгляд». (Архив Н-Д, № 12).
Май 16
Проводит беседу об «Анатэме»: «Нам надо выйти из колебаний в исканиях формы…
… если бы захотели уничтожить реализм… то нужно было бы уничтожить весь театр… реализм находится в составе всего русского искусства.
… Мы часто говорили, что реализм становится мелким, но это потому только, что мы сами становимся мелки…
Недостает подъема идейного…
Из двух чаш художественных весов: на одной — чисто 251 внешняя сценическая форма, на другой — проникновение в образ, в идею автора. Выше вторая, так как более пуста первая». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 118 – 120).
Май 19
Вместе с К. С. Станиславским, О. Л. Книппер-Чеховой, А. Г. Коонен, А. Ф. Горевым анализирует третий акт «Месяца в деревне».
Июнь
Отдыхает в Ялте.
Июнь 22
Южин пишет из Киссингена: «Где ты и что ты, Воля? У меня к тебе совершенно братское тяготение. Никакие твои пакости, вроде создания “конкуррррирующего театра” меня от тебя не могут отшибить, и я ловлю себя… на мысли: будь здесь Володя!» (Архив Н-Д, № 5846).
Июль 3
Пишет Станиславскому из Ялты: «Занимался я своей пьесой [“Курган”] с большим аппетитом и углублялся в жизнь и разглядывал человеческую душу, — что в ней прекрасного — в радостях и страданиях, — а что мелкого, ненужного ни культуре, ни богу… Но “воля” отучилась от литературной работы…». (Архив Н-Д, № 1652).
Июль
«Сентиментальное искусство — самое вредное для жизни. Око отучает от героизма, от терпения, выносливости, от борьбы, — от всего, что прежде всего надо для жизни». (Из записной тетради 1904 – 1911 гг.).
Июль 15
Из письма Станиславского к Немировичу-Данченко: «Не пойму, что с Вами! Как будто Вы не в духе — или сильно озабочены театром. Отсутствие ли пьес?.. Не знаю: что Вас беспокоит. Когда Вы такой — я боюсь за театр». (Архив К. С.).
Июль 24
В письме Немировича-Данченко к Станиславскому: «Я не могу сказать, чтоб был не в духе. Конечно, я не могу сказать, чтобы жилось мне как мне хочется, но во мне достаточно жизнерадостности, у меня много мыслей, которые дают мне хорошую пищу на день… но театр меня очень беспокоит». (Архив Н-Д, № 1653).
252 Июль 31
Приезжает в Москву. Удручен тем, что у Симова не готовы декорации к «Анатэме».
Август 1
Проводит заседание правления, занимается ревизией, отчетом, потом дома с Лужским готовится к репетициям «Анатэмы».
Август 2 – 3
Проводит экзамены в школе МХТ, налаживает репетиции «Анатэмы».
Август 4 – 8
Репетирует «Анатэму». Не принимает декораций первой картины, сделанных Симовым. (См. письмо к жене. Архив Н-Д, № 2163).
Август 7 – 8
На экзаменах. «Экзаменационная жатва была, как никогда, ничтожна. Из 200 человек приняли 10 мужчин, несмотря на 12 вакансий, и ни одной женщины, несмотря на 5 вакансий и более 100 экзаменовавшихся». (Там же).
Август 9
Занимается ролью Анатэмы с В. И. Качаловым.
Август 12
«“Анатэма” идет, конечно, очень туго. Но ничего — дозреет!»
Вечером был в саду «Эрмитаж»: «Толпа пестрая, мещански богатая, будто-интеллигентная, наипошлейшая, паразитная. Пробыв 1/2 часа, я уже хотел уходить, но Щукина брат уговорил пойти в театр и послушать Вяльцеву [известную исполнительницу романсов]. Она мне доставила удовольствие, большая артистка». (Из писем к жене. Архив Н-Д, № 2165, 2166).
Август 13 – 20
Занят репетициями «Анатэмы».
Август 19
Из письма Станиславского к М. П. Лилиной: «Пришел к обеду Владимир Иванович. Постарел, спокоен и вял. Пошли подробные отчеты… Поговорили о Германовой и об “Эллиде”. Владимир Иванович говорил хорошо и соглашался 253 со мной… Это дело [постановка “Эллиды”] отложено… В 10 часов Владимир Иванович ушел. Я проводил его пешком». (К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 7, стр. 446 – 447).
В письме Немировича-Данченко к жене о встрече со Станиславским: «… Тон у нас ладный». (Архив Н-Д, № 2167).
Август 20
«Итак — “Анафема” не в порядке. Вчера все собрались, и была беседа с Владимиром Ивановичем. Дельная и толковая». (Из письма Станиславского к Лилиной от 21 августа 1909 г. К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 7, стр. 448).
Август 22
«Каждая репетиция для меня не радость, а насилие. … Пресный я какой-то. Хороший и здоровый, но пресный». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2168).
Август 27
«На репетициях я стал оживленнее, горячее». (Там же, № 2171).
Август 29
«С “Анатэмой” наступила полоса надежд. Я заработал с некоторым увлечением». (Там же, № 2172).
Слушает музыку к «Анатэме», написанную И. Сацем. Вызывает школу, сотрудников, детей для массовых сцен. Говорит, что в пении, звуках, говоре толпы должны чувствоваться человеческая скорбь и страдания.
Август 31
Был в Малом театре на премьере («Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» А. Н. Островского). «Спектакль окончился 5 минут 2-го. Длинный! Длинный, добросовестный, безвкусный и не талантливый… Играли твердо и добросовестно, кроме Правдина, который был возмутителен в Шуйском». (Из письма к жене от 1 сентября 1909 г. Архив Н-Д, № 2174).
Сентябрь 2
Был на генеральной репетиции сказки Е. Н. Чирикова «Колдунья» в театре Незлобина.
Сентябрь (до 28)
В дни репетиций «Анатэмы» спорит с Л. Андреевым, который требует, чтобы на сцене было «геройство», хотя бы картонное, лишь бы геройство. «Мы говорим: геройство должно 254 быть у нас в жизненной и простой передаче». (Ю. В. Соболев, Вл. И. Немирович-Данченко, стр. 88).
Сентябрь
Составляет календарный план спектаклей, учитывая интересы театра в целом и творческую заинтересованность отдельных актеров: «1. Качалову и Вишневскому сыграть в ряд “Анатэму”, не разбиваясь на другие пьесы, сохраняя силы для абонементных спектаклей. 2. Качалову подойти к “Царским вратам”, сыграв 6 раз “Анатэму”. 3. Вишневскому подойти к “Царю Федору” с отдыхами. 4. Накануне “Царя Федора” [сыграть] пьесу не сложную, свободную от сотрудников. 5. “Ревизора” (Книппер) нельзя в один день с чеховскими (Книппер же). 6. Халютина — “Синяя птица” с “Вишневым садом” — тяжело. 7. Москвин — дня два до “Федора” должен быть свободен. 8. Со “Штокманом” (Станиславский) нельзя чеховские. И накануне Станиславский должен быть свободен. 9. Первые два раза “У царских врат” — Лилина, поэтому нельзя близко “Дядю Ваню”. 10. “Горе от ума” поберечь для абонементов… 13. Разнообразить праздничные утра и праздничные вечера… 15. Не пересиливать Лужского». (Из записной тетради 1909 – 1910 гг.).
Октябрь 2
Премьера «Анатэмы».
Октябрь 11
Был на генеральной репетиции пьесы Ю. Жулавского «Эрос и Психея» в театре Незлобина: «Хорошие декорации и костюмы, очень плохие актеры». (Из письма к жене Архив Н-Д, № 2176).
Октябрь 13
Принимает решение ставить пьесу А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты», вызывает Симова для работы над макетами декораций: «По-видимому [Симов] чувствует, что я к нему так неравнодушен и так много прощаю ему». (Там же, № 2177).
Октябрь (после 13)
Характеризует в режиссерском экземпляре время действия пьесы Островского «На всякого мудреца довольно простоты»: «Только что произошла крупная реформа (61 год), где-то появились новые люди, новые мысли, новые слова. Но и сюда ворвутся только слова Городулина. Ничто не изменится. И жизнь сытая, довольная, медлительная может вызвать 255 или эпиграмму или зависть». (Режиссерский экземпляр. Музей МХАТ169*).
Октябрь 15
Узнает о том, что митрополит приехал в Петербург хлопотать о запрещении спектакля «Анатэма»170*. (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2179).
Октябрь 19
Был на представлении пьесы Б. Шоу «Цезарь и Клеопатра» в Малом театре «и пришел в настроение прямо мрачное… При Ленском такой спектакль был бы совершенно немыслим…» (Там же, № 2180).
Октябрь 20
Вечером видится с П. Д. Боборыкиным: «Пустой старикан. Понять человека убежденного и идейного он может, но то, что составляет сущность убежденности и идейности, его все время может удивлять». (Там же, № 2181).
Октябрь 22
Едет в Петербург к премьер-министру Столыпину отстаивать право Художественного театра играть «Анатэму».
Октябрь 25
В интервью «Возвращение к актеру», напечатанном в «Обозрении театров» (№ 885), говорит о реализме, отточенном до символов.
Октябрь 28
Репетирует роль Глумова с В. И. Качаловым171*.
Октябрь 30
«Вчера был в Малом театре на премьере “Бедной невесты”, 256 старая, но прекрасная пьеса Островского. Спектакль был серый, какой-то Коршевский… отлично, лучше всех, играл Сашин. В смысле всяких форм — все было так, как, вероятно, и 50 лет назад… Я сидел рядом с Ермоловой, — она смотрела. Она просила меня аплодировать, — “поддержите”. И сама очень аплодировала». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 7163).
Октябрь 31
Хвалит «Две бесподобных декорации Добужинского» к «Месяцу в деревне».
Вечером Немирович-Данченко, Лужский и художник Егоров беседуют с Юшкевичем о его пьесе «Miserere».
Ноябрь 1 – 2
Устраивает концерт в пользу студентов юристов.
Ноябрь 3 – 6
Участвует в репетициях комедии «Месяц в деревне». Считает, что А. А. Стахович, обучающий актеров светским манерам, передает «светскость пустую, мелкую, внешнюю. И Тургенев у него близок к бездушности высших кругов». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 7167).
Ноябрь 5
Вечером в Малом театре смотрит «Привидения» с участием Ермоловой. «Конечно, Ермолова неизмеримо выше Савицкой по темпераменту. Но по образу, по интерпретации уступает ей. Остужев, которого я недолюбливаю, очень мне понравился. Гораздо лучше Москвина… В общем хороший спектакль». (Там же, № 7170).
Ноябрь 16 – 17
В связи с возобновлением «Царя Федора Иоанновича» проводит генеральную репетицию спектакля.
Декабрь 9
Премьера «Месяца в деревне».
Декабрь (до 11)
«Да, среди современных “богоискателей”, которых мне приходилось встречать, я видел немало таких, которые смотрят на мир глазами ясными, якобы познавшими все. Но… я не верю этим ясным глазам, я не верю их успокоению найденным. Не потому, чтобы они были фарисеи и книжники, а потому, что современная мысль идет дальше, непременно дальше того предела, на котором успокоились эти глаза». 257 (Из чернового наброска об «Анатэме». Архив Н-Д, № 5575/558).
Декабрь 11
В Политехническом музее выступает оппонентом по докладу критика С Яблоновского об «Анатэме».
Декабрь 12 – 13
Московские газеты о выступлении Немировича-Данченко в Политехническом музее: «По мнению Влад. И. Немировича-Данченко, самое ценное и искреннее в пьесе [“Анатэме”] это — “революционно-колокольно звонкий крик о скорби и бедности мира, его мечты о чуде. Чудо это — справедливость”». («Русское слово» от 12 декабря 1909 г.).
«Немирович-Данченко заявил: “Мы хотели, чтобы театр еще раз дал почувствовать обществу, "слишком ставшему сытым", от этой вековечной скорби несчастного человечества”». («Голос Москвы» от 13 декабря 1909 г.).
1910
Январь
Ведет репетиции «На всякого мудреца довольно простоты»: «В наши внутренние задачи входит борьба со всякими сценическими штампами… Извлечь из Островского все, что есть в нем характерного для его литературной индивидуальности и по-настоящему художественного, т. е. поддающегося при сценическом воплощении более глубокому и обобщенному истолкованию»172*. (Н. Е. Эфрос, Московский Художественный театр 1898 – 1923, ГИЗ, 1924, стр. 310).
Январь 10
По распоряжению министра внутренних дел спектакль «Анатэма» запрещен к представлению.
Январь 30
В «Русском слове» (№ 24) — воспоминания Немировича-Данченко о том, как М. Н. Ермолова играла в его пьесах.
Январь 31
Из письма Ермоловой к Немировичу-Данченко: «Какими бы различными путями мы ни шли к храму Прекрасного, мы, 258 наверное, сойдемся, потому что всеми нами руководит любовь к искусству». (Сборник «Мария Николаевна Ермолова», «Искусство», 1955, стр. 218).
Январь – февраль – март
Репетирует вместе с Лужским «На всякого мудреца довольно простоты».
«На меня из всех двухмесячных разговоров во время репетиций произвела впечатление и дала тона одна фраза Владимира Ивановича: “эпический покой Островского”». (К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 5, стр. 519).
Март 8
Дирижирует оркестром на открытом «капустнике» Художественною театра. Исполняет в пародийно-комических тонах отрывок из «Прекрасной Елены» Оффенбаха.
Март 11
Премьера «На всякого мудреца довольно простоты».
Март (после 11)
После премьеры «На всякого мудреца довольно простоты» посылает записку Лужскому, исполнявшему роль Мамаева; «Когда Вы читаете о себе (в дневнике), то хорошо бы прочесть еще несколько строк и на другой странице. А то можно подумать, что Вы не читаете дальше строк о лакее, уже смущенный. … очень хорошо играли Мамаева!» (Архив Н-Д, № 1021).
Март
Начинает работу над постановкой пьесы Юшкевича «Miserere».
Март 22
Решительно возражает против выступлений артистов «на стороне», особенно молодых, «для которых каждая роль, сыгранная наскоро, без опытного руководителя, есть злейший вред. Одна такая роль убивает весь труд наших режиссеров, положенный на этих артистов». (Из обращения к труппе. Архив Н-Д, № 11175).
Апрель
Находится в Петербурге с Художественным театром.
Апрель (конец)
Приезжает в Севастополь. Узнает, что «Новое время» (реакционная газета. — Л. Ф.) «ругнула» его статью о «Горе от ума», напечатанную в «Вестнике Европы». Работает над продолжением 259 статьи173*. (Из письма к жене от 28 апреля 1910 г. Архив Н-Д, № 2188).
Май 9
«Сейчас окончил статью для “Вестника Европы” и завтра приступаю к пьесе». (Там же, № 2190).
Май 13
«Вчера смотрел “Анфису”174*… Играли сильно и густо, т. е. так, как и пишет Андреев. Без особенного вкуса, опять-таки как и пишет Андреев. И вообще, он не для мягкого и благородного Художественного театра, а для темпераментного провинциального». (Там же, № 2193).
Май
Встречаемся в ресторане на Историческом бульваре за ужином с труппой Севастопольского театра антрепренера В. И. Никулина.
Май 22
Приезжает в Москву, занимается делами театра.
Май 28
Выезжает в Нескучное.
Июнь 17
В Карлсбаде. «Прочел я здесь запрещенную драму Мережковского “Павел I” и Горького “Максим Кожемякин”175*, которого в Москве не успел прочесть. Нет, Горький не кончился176*. Этот “Кожемякин” очень хорошая вещь. Чудесная по колориту и, в особенности, по языку». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2152).
Июнь 21
«Вкусы здесь вообще!.. Ужасно bürger’ские как в музыке, которая пресерьезно играет на медных — арии Виолетты или Маргариты, так и во всем: останавливаются толпами перед восковой фигурой в бальном платье в витрине и вообще перед всякими антихудожественными фокусами и картинами». (Там же, № 2155).
Из Карлсбада пишет Станиславскому о предстоящем сезоне, о репетициях «Гамлета», «Тургеневском спектакле»: 260 «Тургенев должен в этом сезоне пройти непременно. Это первый труд Добужинского и ничто не может помешать этому. … Может быть, найдется время для “консультации” с Бенуа о Мольере». (Архив Н-Д, № 1659).
Июнь 25
Встречается с братом Василием Ивановичем Немировичем-Данченко и И. Н. Потапенко: «Говорили о Японии и Америке, о войне, о революции — бывшей и будущей». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2157).
Июнь 27
Был на концерте Иоганна Штрауса: «У него хороший сухой нерв. Он не рисуется, а занят оркестром… 52 человека, а играют, как один инструмент, и в то же время каждый музыкант на виду». (Там же, № 2158).
Июль (середина)
Два дня провел в Одессе, готовился к постановке «Miserere», побывал «в среде еврейской рабочей молодежи», посетил кладбище, заходил в погребок (кабачок), в три свадебные залы, чтобы увидеть свадьбу, «но свадьбы, к сожалению, не было». Встречался с автором пьесы. (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1660).
В том же письме о «Miserere»: «Обаяние таланта. Оригинально. Элегично и красиво… Если б эта элегия заставила глубоко и с ужасом задуматься177*… За границей слышал… что Горький в восторге от пьесы… Я чувствую, что в “Мизерер” я очень необходим, так как там самое 261 важное то, что составляло до сих пор мою силу — большой лиризм».
Июль (до 16)
Пишет, что время «октябризма», реакции в России, проходит и что театр не должен «бежать на запятках», когда «очень скоро — наступят боевые дни». Озабочен тем, что Художественный театр отстает от «боевых нот» жизни. «С этим надо кончить решительно и очень энергично, а то мы “Месяцами в деревне” да “Мудрецами” окончательно уйдем от нашей дороги свободного и художественного театра, от той дороги, где были “Штокман”, “На дне”, “Бранд”, “Мещане” и т. д.
… Есть в обществе живые, бодрые, боевые силы, не боящиеся смотреть в глаза ужасу. И руководители театра, претендующего на передовую роль, не имеют права накладывать на его задачи печать утомления». (Из письма к И. М. Москвину. Архив Н-Д, № 1201).
Июль (до 27)
В письме к Станиславскому снова настаивает на постановке «Miserere»: «“Miserere” рисует эпидемию самоубийств молодежи, которой “нечем жить”. Это страшное, ужасное явление современности. Юшкевич отнесся к нему как поэт, а не моралист. И если театр — художественный, то он должен отнестись к пьесе как поэт, а не моралист. А потом пусть общество ужасается, волнуется и ищет причин такого явления и борется с ними. Боязнь смотреть в глаза ужасу — дело Малого театра, а не свободного Художественного. Иначе какое же право он имеет называться свободным? С “Мизерером” мы только возвращаемся на нашу дорогу, с которой в последние годы свернули, — к “Штокману”, к “Мещанам”, к “Дну”, к “Бранду”, когда мы не боялись бросить в публику идеи, которые казались чудовищными ее мещански настроенным душам». (Архив Н-Д, № 1661).
Июль
Посылает телеграмму К. П. Пятницкому: «Познакомьте нас с новой пьесой Горького»178*. (Из записной тетради 1910 – 1911 гг.).
Июль – август
Инсценирует отдельные главы «Братьев Карамазовых».
Август 1
Приезжает в Москву.
262 Август 4
Узнает, что Станиславский в Кисловодске заболел тифом, отправляет Е. П. Муратову и Н. Ф. Балиева в Кисловодск в помощь М. П. Лилиной.
Август 6
«Решился! Кидаюсь в открытое море и влеку за собой весь театр. Решил ставить “Братья Карамазовы” и открывать ими сезон». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2206).
Август 7
Проводит экзамены поступающих в Художественный театр. Из 300 человек принимает 5: С. В. Гиацинтову, А. Д. Дикого, Ф. В. Шевченко, Г. М. Хмару, Л. И. Дейкун.
Август (до 8)
Просит Лужского режиссировать две картины «Братьев Карамазовых» — «Мокрое» и «Суд»: «Форма — проторенная дорога: простая, реальная постановка и простая, реальная игра. Открытий никаких нет»179* (Из письма к Лужскому. Архив Н-Д, № 1023).
Август (до 13)
Из письма Горького: «Уважаемый Владимир Иванович! Посылаю “Чудаков”, рукопись “Детей” у Сулержицкого. Убедительно прошу прочитать рукопись и ответить мне возможно скорее». (Архив А. М. Горького. Фотокопия в архиве Н-Д, № 3785).
Август 13
«Горький прислал пьесу, очень слабую180*. Жиже, чем “Дети солнца”». (Из письма к жене. Архив Н-Д., № 2213).
Август 17
Начал репетировать «Братьев Карамазовых» на Малой сцене.
263 Август 20
Репетирует «Братьев Карамазовых» (сцену «Обе вместе»). «Я вел репетицию на редкость энергично, веду ее [Гзовскую]181* с хорошим нервом, с искренностью». (Из письма к жене от 21 августа 1910 г. Архив Н-Д, № 2220).
Август 21
«Я немного пугаюсь за Конст[антина] Сергеевича. Если будет воспаление легких, — а у него расширенное сердце». (Там же).
Август 22 – 26
Ведет репетиции «Братьев Карамазовых». Работает с Москвиным над ролью Снегирева (сцена «Надрыв в избе»).
Август 29
«Надо прежде всего отказаться от мысли сохранить фабулу романа, самый сюжет… И остается дать образы… Успеют ли актеры преобразиться в эти образы… Блестеть яркостью и силой будет Москвин в Снегиреве». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2227).
Сентябрь 1
Художник А. Н. Бенуа опрашивает в письме к Владимиру Ивановичу, пойдет ли в МХТ «Тартюф» Мольера. (Архив Н-Д, № 3251).
Сентябрь 2
Работает с Москвиным над ролью Снегирева (сцена «И на чистом воздухе»).
Сентябрь 4
«А репетиции? Все идет на углубление, на утомительную вдумчивость: где могут сливаться индивидуальности актеров с индивидуальностями героев Достоевского, чтоб исполнение было искреннее? Идет самая важная и самая трудная работа. Не на сцене, а за столом. При этом препятствиями являются не только слабая психологичность актеров, но главное — дряблая воля и дряблые нервы. Или общетеатральные штампованные приемы, находящиеся у актеров всегда наготове заменить собою свежее чувство. Но в конце концов работа двигается успешно. Актер, в конце концов, находит радость именно в том, что нащупывает живое чувство и искренность. Таким путем я уже “осмыслил” 12 картин. Из 22. После этого — перевести на сцену уж не так трудно». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2231).
264 Сентябрь 5
«“Карамазовы” могут идти только на прекрасной игре. Вот почему вся работа — с актерами. Качалов… если одолеет необыкновенную для актера задачу — сыграть одному кошмар182*, — то произведет громадный эффект. Один будет играть и за себя и за черта, так как черт — плод его горячечного воображения… Москвин, вероятно, будет великолепен… Коренева — Лиза будет хороша». (Там же, № 2232).
Пишет М. П. Лилиной в Кисловодск: «Была бы так больна моя мать или мой брат — это было бы дальше от меня, меньше придавило бы меня, чем болезнь Конст[антина] Серг[еевича]. С ним у меня, наперекор всему, что между нами бывало, сплелись все важнейшие нити моей души и моей жизни. И, конечно, именно поэтому между нами и было так много недружного, что в нем — все самое важное, чем жива моя душа. … Я 50 лет брат своего брата и сын своей матери, ко разве было между нами столько духовной близости… Он в моей жизни и в моей душе, как я сам. … И никакие общие мерки дружбы, любви, сочувствия не применимы к нам». (Избранные письма, стр. 290).
Сентябрь 9
В письме к Лилиной: «Мне кажется, что то, как я занимаюсь “Карамазовыми”, очень приблизит актеров к теории Константина Сергеевича…
Лично я делаю это очень искренно и убежденно». (Там же, стр. 295).
Сентябрь 16
Работает с Л. М. Леонидовым, В. И. Качаловым и В. В. Готовцевым — исполнителями ролей Дмитрия, Ивана и Алеши Карамазовых183*.
Сентябрь – октябрь
«С Лужским (“Мокрое”) я работал так. 1. Двое суток читал и рисовал, как только мог подробнее, психологию, план и проч. 2. Лужский пошел репетировать на сцену. 3. Когда 265 они освоились и разобрались, я посвятил 6 больших, репетиций за столом. Потом только заглядывал на репетиции не вмешиваясь. Лужский провел без меня еще репетиций 15. Наконец, я принял акт и сделал 5 репетиций. Всего было 43 репетиции, из них 20 со мной». (Из письма к Станиславскому, октябрь 1910 г. Избранные письма, сир. 302 – 303).
Октябрь 12
Премьера «Братьев Карамазовых».
Октябрь 13
Продолжение спектакля «Братья Карамазовы» (вторая часть).
Октябрь 14
Станиславский пишет Немировичу-Данченко: «Хвала Вашему директорскому гению, наполеоновской находчивости, энергии. Любуюсь, горжусь и люблю Вас всем сердцем». (Собр. соч., т. 7, стр. 474).
Получает от Евг. Чирикова его новую пьесу «Шакалы».
Октябрь
После успеха «Братьев Карамазовых» пишет Станиславскому о своем желании инсценировать романы и повести: «Война и мир», «Анна Каренина», «Обрыв», «Дым», «Вешние воды» и т. д. Предполагает сочетать сцены, сыгранные актерами, со сценами, заснятыми в синематографе. Приходит к выводу, что теория «кусков» и «приспособлений» Станиславского «оказывает колоссальные услуга актеру. И до чего душа актера радуется покоем и уверенностью при таком пути!» (Избранные письма, стр. 302)
Октябрь (до 18)
«Если бы вы знали, дорогой К[онстантин] С[ергеевич], как трудно приступать к “Miserere” и Гамсуну!184* Не знаешь, какими словами зажечь актеров». (Архив Н-Д, № 1665).
Октябрь 18 – 19
Начал «по-своему» репетировать «Miserere» Юшкевича в присутствии автора: «… с отыскания внутреннего образа путем заражения», путем слияния актера и автора. (Избранные письма, стр. 302).
Октябрь 20 – 30
Ведет репетиции «Miserere» за столом в присутствии художника В. Е. Егорова.
266 Октябрь 28
На ночь читает «Войну и мир»: «… сомнительно, чтобы это можно было на сцену». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2235).
Октябрь 29
Вместе с актерами слушает музыку композитора И. Саца к спектаклю «Miserere».
Встречается с женой Метерлинка Ж. Леблан и актрисой Г. Режан, приехавшими в Москву, чтобы познакомиться с постановкой «Синей птицы» в МХТ185*. Вечером гости смотрят «Братьев Карамазовых».
Октябрь 30
«Сегодня я нахожусь под впечатлением известия о том, что Толстой в 5 часов утра ушел из даму с доктором и оставил записку семье, чтоб его не искали, что он желает кончить жизнь в уединении и безвестности, что никогда не вернется». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2236).
Ноябрь (начало)
Встречается с художником М. В. Добужинским для работы над тургеневским спектаклем.
Переписывается с А. Н. Бенуа по поводу оформления «Тартюфа» и «Мнимого больного» Мольера.
Ноябрь 5
«Сац с Москвиным привели ко мне замечательного пастуха из Тверской губ. с подпаском. Он играл на “жалейке” (как, помнишь, в конце первого действия “Вишневого сада”?). Он сидел в кабинете, а мы слушали его из столовой… Когда он играет, а подпасок подпевает, то чувствуется луг, поросль, лесок…». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2242)
Репетирует «Месяц в деревне», с В. И. Качаловым в роли Ракитина.
Ноябрь 6 – 12
Ведет репетиции «Miserere» и «Месяца в деревне».
Ноябрь 7
«Менее интересной, более вялой и бессодержательной жизни, чем сейчас в Москве, трудно себе представите. … И 267 не только около нашего театра, где все скучно, но и вообще в Москве. Ничем не прошибешь общего вялого настроения, да и нечем прошибить». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2243).
Ноябрь 8
«Вчера и сегодня у меня очень трудные дни. Утром меня разбудили извещением о смерти Толстого. Предстояло два спектакля — утренний и вечерний.
Полиция приказывала играть. Странное приказание! … Не играли, конечно». (Из письма к жене. Там же, № 2244).
Ставит вопрос перед пайщиками об открытии в Пушкино народной школы памяти Л. Н. Толстого.
Ноябрь 9
В час дня в театре открывает траурное собрание — гражданскую панихиду по Толстому. «На улице, между тем, собралось много народа, желавшего попасть, но 8 городовых с околоточными заперли ворота и не пропускали…
Пропели “Вечную память”, потом Пастернак, художник, только что вернувшийся из Астапова, где провел два последних дня, рассказывал свои впечатления. Потом я рассказал о своих трех встречах с Толстым (когда меня повез к нему Грот, когда Толстой пришел к нам в Чудовский пер. и когда я поехал к нему в Ясную Поляну) и потом набросал значение Толстого и бессмертие его. Говорил я с полчаса. Потом Москвин прочел один его отрывок (с крестьянскими детьми) и наконец… trio Чайковского, знаменитое, на смерть великого артиста… Вышло все просто и глубоко.
… Что сделали эти попы! Хотели поддержать значение церкви отлучением Толстого, — и как уронили церковь!.. А несмотря на все препятствия… все-таки везде служат гражданские панихиды, а от Козловы Засеки до Ясной Поляны идут гражданские похороны при многотысячной толпе. Без духовенства!» (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2245).
Ноябрь 13
«Сильное впечатление вчерашнего дня — рассказы, привезенные из Ясной Поляны Мих. Стаховичем (друг дома) и Сулером (тоже там свой человек). Одно и то же говорят. Нечто ужасное!!!
… Он бежал из дому. Бежал, как король Лир, забыв шляпу (!!), падая где-то в лесу… Бежал, не зная куда». (Там же, № 2247).
Ноябрь 16
В письме Станиславского к Немировичу-Данченко: «Мне 268 надо и хочется излить самые лучшие чувства по отношению к Вам, которые навсегда заложены в моей душе (они-то и заставляют меня временами дуться на Вас и сердиться — от любви)». (Избранные письма. Приложения, стр. 506).
Ноябрь 17 – 29
Ежедневно репетирует «Miserere».
Ноябрь 21
«Теперь вот работаю с “Miserere”. Работаю еще глубже в том направлении, которое чувствую. Я не могу никак сказать, чтоб это было по Вашей теории. Скорее даже совсем не по Вашей теории. И тем не менее особенно ярко чувствую близость к ней. Может быть, я иду только параллельно, может быть, “поверх теории”, но такое у меня чувство, что где-то мы сливаемся, а где именно — не знаю. И во всяком случае, мне кажется, что я готовлю тех, с которыми занимаюсь, для правильного восприятия теории». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1669).
Ноябрь 26
Из письма Станиславского к Немировичу-Данченко: «Надо предпринимать решительный шаг. Надо из Художественного превращаться в общедоступный. Это больно, так как в таком театре не удержишь художества. С другой же стороны, когда подумаешь, кому мы посвящаем свои жизни — московским богачам. Да разве можно их просветить? … Собственно говоря, я повторяю Ваши же слова…». (К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 7, стр. 489).
Ноябрь 27
В. Е. Егоров показывает Немировичу-Данченко декорации сцены кладбища для «Miserere».
Декабрь 17
Первый спектакль «Miserere», воспринятый многими современниками как «инсценированная панихида» по революции 1905 года186*.
Декабрь 18 – 20
Беседует с исполнителями спектакля «У жизни в лапах», анализирует отдельные роли, вместе с К. А. Марджановым репетирует «за столом».
269 1911
Январь 11
Приходит на репетицию Марджанова «У жизни в лапах».
Январь 16
Находится в Берлине в связи с предполагавшимися гастролями МХТ в Европе. В Берлине встречается со Станиславским и Стаховичем.
Январь 24 – 31
Вместе с Марджановым репетирует «У жизни в лапах».
Февраль 3 – 5, 9
Репетирует «У жизни в лапах». Меняет истолкование ролей.
Февраль 21
Предполагает включить в репертуар МХТ инсценировку рассказов Горького и Толстого, «Царя Эдипа» Софокла, «Ричарда II» Шекспира. (Записная тетрадь 1910 – 1911 гг.).
Февраль 22 – 24
Репетирует отдельные сцены четвертого акта «У жизни в лапах». Повторяет первый акт.
Февраль 24
«Репетирую энергично. В два дня приготовил 4-е действие». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2248).
Февраль 26
Делает замечания по черновой генеральной репетиции.
Февраль 28
Премьера пьесы К. Гамсуна «У жизни в лапах».
Март 4
Договаривается с Е. Б. Вахтанговым о его работе в Художественном театре.
Март 11
Участвует в режиссерском совещании по распределению ролей в «Гамлете».
Март 15
Распределяет роли в «Гамлете», исходя из того, «как лучше для театра, не считаясь ни с какими эгоистическими настроениями 270 актеров». Возражает против двух Гамлетов и предлагает роль Гамлета В. И. Качалову; Л. М. Леонидову вместо роли Гамлета — роль первого актера. (Из записной тетради 1911 – 1913 гг.).
Март 23, 25
Вместе со Станиславским проводит две беседы о «Гамлете» с труппой МХТ.
Март 24
Вечером читает драму Л. Н. Толстого «Живой труп» режиссерскому управлению, В. А. Симову и К. Н. Сапунову.
Март 29
«Тихому, ясному свету (памяти М. Г. Савицкой)» — статья Немировича-Данченко в «Русских ведомостях» (№ 71).
Апрель 11
В Петербурге во время гастролей Художественного театра приглашает художника Н. К. Рериха писать декорации для постановки «Пер Гюнта» Ибсена.
Апрель 19
Читает рукопись «Живого трупа» актерам Художественного театра.
Апрель 20
Читает «Живой труп» в доме у Н. В. Дризена.
Апрель 24
Читает «Живой труп» В. А. Теляковскому.
Апрель
Читает «Живой труп» петербургским литераторам в доме писательницы Е. П. Султановой (Легковой).
Апрель (конец)
В Петербурге встречается с женой Ф. М. Достоевского, пришедшей на спектакль «Братья Карамазовы».
Май (начало)
Беседует с М. П. Лилиной о ролях Натальи Петровны («Месяц в деревне»), Раневской («Вишневый сад»), Мамаевой («На всякого мудреца довольно простоты»).
271 Май
В записной тетради намечает распределение ролей в пьесе Л. Н. Толстого «От ней все качества».
Май 16
Возвращается из Петербурга в Москву.
Май 27
Уезжает в Париж в связи с предполагаемыми гастролями Художественного театра.
Май 29
В Париже. «Я пошел один пешком домой, побродить по улицам… мимо разных освещенных кафе, театров, магазинов». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2251).
Май 30
Днем в театре187* встречает А. Н. Бенуа, С. П. Дягилева и Л. С. Бакста. Вечером на генеральной репетиции русского балета «Петрушка» видится с В. А. Серовым, А. Т. Гречаниновым, Модестом Чайковским, В. О. Массалитиновой из Малого театра и актером Художественного театра К. П. Хохловым.
«Прошел балет.
И взгрустнулось мне.
Отстал я. Отстали мы.
По-моему, так: с нервом, смело, с талантом… Хорошо в смысле красок, но бедно. Похоже на наше кабаре…
Все русское в искусстве имеет здесь огромный успех»188*. (Там же, № 2252).
Май 31
Был в гостях у жены Метерлинка — актрисы Жоржет Леблан. Вечером — на премьере трех одноактных балетов: «1) “Петрушка”. … Балет остроумно составлен Бенуа из четырех маленьких картин… 2) “Пробуждение Розы” дуэт Карсавиной и Нижинского под веберовское “Invitation en 272 valse” (“Приглашение к танцу”). Это было, действительно, очаровательно. Всего минут 10. И имело громадный успех. … 3) “Шехеразада” — гвоздь дягилевской антрепризы. Тоже хорошо. Смело и драматично. Рисовал и ставил Бакст…
Перед двумя балетами показывались под увертюры панно — Рериха и Серова. … Успех был несомненный, большой и легкий». (Из письма к жене от 2 июня 1911 г. Там же, № 2253).
Июнь 2
Приезжает лечиться и отдыхать в Карлсбад.
Июнь 3
Слушает оперетту Ференца Легара «Граф Люксембург»: «Эти немцы, — они, кажется, и через 200 – 300 лет, когда Чехов предсказывает жизнь прекрасную, все будут идиотски театральны. Даже в карикатуру нашего кабаре не годится.
Изящная музыка и главная певица с отличным голосом. Все остальное — глаза бы мои не глядели». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2254).
Июнь 4 – 8
В Карлсбад, в ту же гостиницу, приезжает К. С. Станиславский.
Июнь 8
«А ведь я все-таки не бросил мысли писать. … Припоминаю ее [пьесу], гуляя — думаю». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2258).
Июнь 9
«Мне хочется осмотреть Eger — город неважный, но там зáмок Валленштейна (для Шиллера, в случае ставить) и Краков (для Польши)». (Там же, № 2259).
Позвонила по телефону М. Н. Ермолова. После обеда со Станиславским и И. Н. Потапенко «прошли к ней».
Июнь 12
Прочел рукопись Станиславского о «системе».
Июнь 14
«Константин Сергеевич, надо ему отдать справедливость, ни капли не утомляет. Сам ищет одиноких занятий (все пишет, пишет…). И деликатно боится меня отрывать. Так и продолжается, 273 что видимся два раза в день». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2267).
Июнь 15
«В Станиславском силен дух движения. Вперед! … И во мне тоже большая нелюбовь к стоячему болоту. Вот у нас в театре и бродят молодые, передовые вкусы». (Там же, № 2263).
В том же письме о посещении М. Н. Ермоловой: «Привязывает меня, конечно, то большое душевное, что всегда было — к Ермоловой, к Сумбатовым. … Мы любим друг друга, но любовь эта, как земля, которая держит на себе всех, но разных.
… И потому когда мы говорим о нашем искусстве, то за каждым словом чувствуется пропасть. Разно мыслим, разно чувствуем».
Июнь 17
Встречает А. А. Яблочкину, приехавшую к Ермоловой.
Июнь 18
Вместе со Станиславским и Потапенко смотрит гимнастов и пантомимы в Орфеуме.
Июнь 19
«Утро как раз попросил Станиславский, чтоб порасспросить меня о его “системе”. … [Система] все-таки возбуждает мысли». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2266).
Июнь 28
Приезжает в Ялту.
Июнь 30
Возникает мысль о повести: «Биография такого-то… ему лет 50. … Он сидит в кресле. У него вертится в голове старинный вальс Штрауса. От этого мотива пахнуло детством его. И как-то странно, что у 50-летнего важного человека было детство. Он затих, задумался и понеслись картины. Детство, юность, первые сильные ощущения борьбы, любви и т. д. И последняя глава: что ему приходится делать и как это не соответствует всем ощущениям воспоминаний, юных, беззаботных, лишенных всякой ответственности». (Из записной тетради 1904 – 1911 гг.).
Июль
Посылает секретаря дирекции МХТ в Лондон в связи с предполагаемыми гастролями Художественного театра.
274 Июль 31
Возвращается в Москву после летнего отдыха.
Август 1
Вместе со Станиславским репетирует вторую картину «Гамлета».
«Когда я разметил, что должны сделать Марджанов, Третьяков, Симов, Сапунов, рабочие, портные, бутафоры и т. д., — то думал так, если они сделают половину всего, и то будет великолепно. А они сделали больше… Говорят, что декорации “Живого трупа” умилительно прекрасны. И готовы все с полной обстановкой». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2271).
Август 2
Хочет «заладить» одновременно две постановки. Осматривает декорации В. А. Симова к «Живому трупу» и беседует о пьесе с исполнителями.
Август 3
Утром беседует с актерами о «Живом трупе». Вечером со Станиславским ведет репетицию «Гамлета».
Август 4
На репетиции «Живого трупа» обращается с речью к участникам спектакля189*.
Август 4 – 5
Принимает меры к тому, чтобы соединить занятия по «системе» с репетициями, чтобы «наладить всех терпимо принять то, что в его [Станиславского] теории полезно. Своим примером увлечь других». (Из письма к жене от 7 августа 1911 г. Архив Н-Д, № 2276).
Вечером вместе со Станиславским проводит беседу о первой и второй картинах «Живого трупа»: «Станиславский говорит очень хорошо, метко и красиво». (Там же).
Август 6
Остался доволен отрывком из спектакля «Огни Ивановой 275 ночи», поставленного Е. Б. Вахтанговым. (Е. Б. Вахтангов, Записки. Письма. Статьи, М.-Л., «Искусство», 1939, стр. 15).
Проводит экзамены поступающих в сотрудники Художественного театра.
Август 8
Вместе со Станиславским репетирует «Живой труп». Проводится общая беседа о творчестве актера. Станиславский излагает свою «систему».
Август 9
«Я с величайшей добросовестностью директора, дорожащего в своем Театре таким талантом, как он, поддержал его [Станиславского] в том, без чего он все равно не успокоится, т. е. в его системе. И это трудно, а иногда мучительно, потому что в известных частях эта система не близка моему сердцу». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2277).
Утром репетирует «Живой труп», вечером — «Гамлета»: «Отдаю много нервов на обрисовку образов. Сегодня, напр., показывал, вообще, en gros190*, роль Гамлета, то есть со всем темпераментом, со всей силой нервов, как бы проиграл Гамлета, — по крайней мере час. И очень устал». (Там же).
Август 12
«У меня столько дела, столько дела — даже помимо репетиций, — что дух захватывает». (Там же, № 2278).
Вечером репетирует первую картину и размечает третью картину «Живого трупа».
Август 13
В письме Станиславского к Лилиной: «С “Гамлетом” также все готово — и декорации, и костюмы. Эта часть, благодаря Марджанову, Третьякову, Сапунову и главным образом Немировичу — выше всяких похвал». (К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 7, стр. 532).
Август 13 – 14
Утром и вечером репетирует «Живой труп». «Размечали 6-ю картину и подробно останавливались на образах действующих лиц». (Из дневника репетиции).
276 Август 15
Анализирует эпизодические роли на репетиции «Живого трупа»191*.
Вечером на репетицию Немировича-Данченко пришел Станиславский. Оба они занимались упражнениями по «системе».
Август 16
Утром первый раз репетирует «Живой труп» на сцене. Разрабатывает сцену Саши и Феди в четвертой картине.
Август 17
«Вчера у нас в театре была веселая репетиция. Для 2-й картины “Живого трупа” у цыган надо было показать участвующим настоящих цыган. И был приглашен хор. За 200 руб. с лишком. Хор этот был на высоте и пел с увлечением. … Таких, как Варя Панина, Пиша, и в помине нет. Но и вообще, они уже с примесью каких-то не цыганских элементов. Но многое все-таки пели хорошо. Мне нравились песни, от которых веяло степью, кострами… Романсы же нет, не нравились». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2281).
В том же письме: «А на пароходиках наших забастовка? Я предсказывал. Была в Лондоне, перекинулась повсюду. Забастовка мирная, экономическая, не политическая».
Август 18
Утром на Большой сцене мизансценирует первую и третью картины «Живого трупа».
Вечером репетирует с И. М. Москвиным и В. В. Барановской четвертую картину (сцену Феди и Саши).
Август 19 – 20
Репетирует с отдельными исполнителями — К. С. Станиславским (Абрезков), И. М. Москвиным (Протасов) шестую картину «Живого трупа».
Август 20
В «Русском слове», «Утре России» и других московских газетах опубликовано письмо Немировича-Данченко, адресованное Южину по поводу постановки «Живого трупа» в Малом театре: «Я думаю, что если Малый театр поставит “Живой 277 труп” не раньше, как через месяц после Художественного, то это поможет последнему хотя бы в некоторой мере покрыть его экстренные затраты»192*.
Посылает Южину копию с экземпляра пьесы «Живой труп».
Август 21
Ищет вместе со всеми исполнителями гримы для «Живого трупа».
Август 22 – 24
Репетирует первую и третью картины «Живого трупа».
Август 25
Утром начал «заделывать» восьмую картину. Вечером вместе со Станиславским репетировал шестую и седьмую картины «Живого трупа».
Август 27
Занимается с отдельными исполнителями «Живого трупа».
Август 28
Утром репетирует на Большой сцене первую и третью картины «Живого трупа». Вечером Совет театра принимает решение: «Ввиду необходимой срочности постановки “Гамлета” Константин Сергеевич ничего не будет иметь против того, чтобы Владимир Иванович руководил общим планом распределения репетиций и занятий по “Гамлету”, так как на нем, как на директоре-распорядителе, лежит ответственность за то, что “Гамлет” пойдет вовремя… Константин Сергеевич мог бы… поручать Владимиру Ивановичу репетировать некоторые сцены». (Из протокола заседания Совета театра. Музей МХАТ).
Август 30 – 31
Утром мизансценирует вторую картину «Живого трупа» на Большой сцене. Вечером у себя в кабинете репетирует восьмую картину с В. И. Качаловым, исполнявшим роль Каренина.
Сентябрь 1 – 10
Ежедневно утром и вечером ведет репетиции «Живого трупа».
278 Сентябрь 5
На заседании Совета театра говорит о том, что Станиславскому необходимо дать «удобное и просторное помещение для занятий по “системе” и для новых исканий с труппой и молодежью». (Из протокола заседания. Музей МХАТ).
Сентябрь 12
На черновой генеральной репетиции восьми картин «Живого трупа».
Сентябрь 13
Утром делает замечания по генеральной репетиции «Живого трупа».
Сентябрь 14
Вечером репетирует отдельные роли из седьмой картины «Живого трупа».
Сентябрь 15
Планирует и разбирает в первый раз десятую и одиннадцатую картины «Живого трупа».
Сентябрь 16
Утром и вечером репетирует «Живой труп».
Сентябрь 18
На последней черновой генеральной репетиции «Живого трупа» делает замечания актерам после каждой просмотренной картины.
Сентябрь 19
Осматривает декорации всех картин «Живого трупа».
Сентябрь 21
После публичной генеральной репетиции разослал всем актерам письма, записки с критическими замечаниями и пожеланиями.
Сентябрь 23
Премьера «Живого трупа».
Сентябрь 28
В Ярославле на торжественном открытии театра имени Ф. Г. Волкова произносит речь от труппы Художественного театра.
279 Октябрь 19
Проводит первую беседу с исполнителями о комедии И. С. Тургенева «Нахлебник».
Октябрь 22
Вместе с О. Л. Книппер приходит в университет на заседание Общества любителей российской словесности193*. «Шумно встретили Сакулина194* за то, что ему запрещены лекции… Мне была сделана целая овация…». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2295).
Октябрь 26
Был на репетиции «Гамлета». Вечером занимался с учениками школы МХТ.
Октябрь 28
Смотрел в Малом театре «Плоды просвещения»: «Серый спектакль, нужный только для тех, кому совсем некуда деваться, кто не знает, как убить вечер.
… А я, как Дон-Кихот (как ни мало подходит ко мне это название), думаю, что можно и надо достигать серьезности, сущности, глубины искусства, и не могу радоваться наивно всяким “суррогатам” его. И когда вижу, что люди отлично обходятся без этой серьезности и глубины, без того, чему надо отдавать жизнь, — впадаю в полное уныние». (Из письма к жене от 29 октября 1911 г. Архив Н-Д, № 2290).
Октябрь 31
Смотрит репетицию «Месяца в деревне» Тургенева с некоторыми новыми исполнителями: «Станиславский пошел еще вперед»195* (Там же, № 2292).
Ноябрь 1
Вместе со Станиславским, Москвиным и художником Добужинским устанавливает декорации и бутафорию к «Нахлебнику».
Ноябрь 4
Предлагает включить в репертуар МХТ пьесу Д’Аннунцио «Мертвый город».
Ноябрь (после 6)
«Был в Большом театре, слушал “Лоэнгрина”. Пели Собинов и Нежданова. Дирижировал Никиш. Оркестр и дирижер 280 доставляли удовольствие. Собинов и Нежданова — тоже. Остальное было скучно». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2296).
Ноябрь 7
Обращается с письмом к Совету театра, К. С. Станиславскому и А. А. Стаховичу: «Я сам на себе испытал, что дало мне доверие по отношению к “Юлию Цезарю” и “Братьям Карамазовым”. Да кто из актеров и режиссеров не понимает, как доверие окрыляет и удваивает работоспособность?
… Конечно, доверие должно покоиться на известных основаниях. Но даже излишнее доверие лучше недоверия.
… Как управляющий театром, я пришел давно к убеждению, что без доверия к окружающим, начиная с автора пьесы, на которой я остановился, и продолжая режиссером, актером, электротехником и т. д., — нельзя совсем вести дело театра». (Избранные письма, стр. 311).
Декабрь 1
Получает от Л. Андреева его роман «Сашка Жегулев». Ведет репетицию «Гамлета»: сцену Полония, короля и королевы.
Декабрь 2
Помогает Станиславскому на репетициях «Гамлета», репетирует сцену Гамлета с актерами.
Декабрь 3
Вместе со Станиславским и Сулержицким репетирует восьмую и девятую картины «Гамлета».
Декабрь 8
Репетирует с Качаловым роль Гамлета: сцену «Спальня королевы».
Декабрь 23
Перед началом премьеры «Гамлета» выступает с приветствием в честь Гордона Крэга. («Русские ведомости» от 24 декабря 1911 г.).
1912
Январь 8
В Малом театре на 50-летнем юбилее сценической деятельности Г. Н. Федотовой читает адрес от имени МХТ: «Уже наши первые шаги овеяны Вашей чудесной энергией».
Смотрит Федотову в отрывках из «Грозы», «Горя от ума» и в хронике А. Н. Островского «Дмитрий Самозванец и Василий 281 Шуйский». «Не было в зале человека, который не был бы потрясен именно необычайной простотой, никогда в такой степени раньше ей не свойственной». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 350, 351).
«Федотова в царице Марфе явила такое поразительное достижение простоты, которое говорило о ее неуставном труде в направлении реализма…». (Там же, стр. 354).
Январь 11
Вместе с Москвиным ведет репетиции «Нахлебника», повторяет все пройденное, делает поправки, замечания.
Январь 12
Принимает участие в первой беседе Станиславского с труппой о комедии Тургенева «Где тонко, там и рвется».
Январь 16
Делает купюры в тексте пьесы Тургенева «Провинциалка».
Январь 20 – 22
Вместе с Москвиным репетирует сцену завтрака в «Нахлебнике». Подробно разбирает роли Тропачева, Карпачова, Егора и Елецкого.
Январь 27 – 28
«Проходили по порядку весь 1-й акт “Нахлебника” и разбирались во всех мелочах». (Из протокола репетиции).
Февраль 7
Репетируя «Нахлебника», «останавливался на спорных местах и характеристиках». (Там же).
Февраль 8
Присутствует на репетиции «Где тонко, там и рвется», которую ведет Станиславский.
Февраль 9
Анализирует роль Кузовкина на репетиции «Нахлебника» (Кузовкин — А. Р. Артем).
Февраль 12 – 14
На трех репетициях «Нахлебника» подробно разрабатывает выход Тропачева, сцену завтрака, конец акта, повторяет всю сделанную работу.
282 Февраль 14
После репетиции «Нахлебника» приходит на репетицию Станиславского и подробно разбирает его игру и игру Лилиной в «Провинциалке» Тургенева.
Февраль 15
Вместе с Москвиным репетирует первый акт «Нахлебника». Вечером проходит с Лилиной роль Дарьи Ивановны в «Провинциалке».
Февраль 16
«Вводит в “Нахлебника” оркестр (сцена приезда); останавливает репетицию, так как начало акта не ладится». (Из протокола репетиции).
Февраль 18
Работает над второй половиной первого акта «Нахлебника» в большом фойе.
Февраль 22
Присутствует на репетиции Станиславского «Где тонко, там и рвется». Потом ведет репетиции «Провинциалки», сцены Дарьи Ивановны (М. П. Лилина), Ступендьева (В. Ф. Грибунин) и Миши (А. Д. Дикий)196*.
Февраль 25
Утром ведет репетицию «Где тонко, там и рвется» (до реплики «пойдемте в сад»). Вечером репетирует «Нахлебника».
283 Февраль 27
Репетирует «Где тонко, там и рвется» (с выхода Либановой до сцены Веры и Станицына). Вечером вместе со Станиславским и художником Добужинским просматривает гримы и костюмы трех тургеневских пьес.
Февраль 28
Утром на репетиции «Где тонко, там и рвется» разрабатывает сцены Станицына с Н. О. Массалитиновым и делает замечания всем исполнителям. Вечером — на монтировочной и черновой генеральной репетиции «Нахлебника».
Февраль 29
Утром и вечером проходит роли Горского (В. И. Качалов) и Веры (О. В. Гзовская), потом всю пьесу («Где тонко, там и рвется») до конца.
Март 1 – 3
Генеральные репетиции тургеневского спектакля.
Март 3
Л. Андреев посылает пьесу «Екатерина Ивановна», сообщает о замысле новой трагедии и просит: «Если любите меня мало-мало, то — побеседуйте со мной дружески. Я молод, полон кипучих сил и жажду хорошей работы». (Архив Н-Д, № 3145/1).
Март 5
Премьера тургеневского спектакля.
Март 14
Изображает вместе со Станиславским, Книппер и другими артистами МХТ «восковые фигуры» на капустнике Художественного театра.
Март 26
Начало гастролей Художественного театра в Петербурге.
Апрель 12
Из письма Леонида Андреева: «Говорить же надо много и хорошо, и почему-то уверен я, что теперешний наш разговор приведет нас к чему-то важному и хорошему. Да и должен же наступить конец тому неестественному и нелепому, что против воли нашей вкралось в отношения и смазывало их дегтем». (Архив Н-Д, № 3145/2).
Май 3 – 14
Гастроли Художественного театра в Варшаве.
284 Май 17 – 31
Гастроли Художественного театра в Киеве.
Июнь 9
Приезжает в Севастополь. «А все-таки город родной, чем-то уж мы с ним сроднились». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2299).
Июнь
Станиславский доказывает Л. Я. Гуревич, что критика и пресса недооценивают Немировича-Данченко, что их отношение к нему несправедливо: «С большой горячностью стал он говорить о том, что без Владимира Ивановича не было бы Чехова и Горького в театре… что Владимир Иванович — человек многосторонней одаренности, что он первоклассный режиссер и воспитатель актеров… Однажды стал художественно рисовать его как человека неудержимых личных страстей, скрывающихся за его внешней уравновешенностью». (Сборник «О Станиславском», изд. ВТО, 1948, стр. 129 – 130).
Июнь 18
Прочел книгу А. М. Ремизова «Крестовые сестры»: «… Нудно и скучно. Еле дочитал. … Добужинский и Бенуа говорили, что, по их мнению, можно ждать хороших пьес от этого Толстого и Ремизова. Ну, Ремизова-то я и раньше знал, и знаком давно. А теперь думаю, что ни тот, ни другой не дадут ничего. Долго еще. Разве пройдут какую-то большую работу над собой в сторону — один — искренности, а другой — простоты». (Из письма к жене из Карлсбада. Архив Н-Д, № 2306).
Июнь 22
Намеревается прервать свой отпуск, чтобы подготовить сезон: «И Рериховские декорации надо взглянуть… И Симова надо подталкивать…». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1676).
Июнь 27
Пишет жене, что «неспокоен за свое большое театральное хозяйство, так как слышал, что чудесные эскизы Рериха к “Пер Гюнту” при переводе на огромный холст утратили прелесть». (Архив Н-Д, № 2314).
Июнь 29
«Сегодня немного посердился на “Новое время”. Ругает за то, чего нет. Подхватило какой-то вздор, выдуманный каким-то репортером, и катает целую статью. Будто бы мы не ставим “Бесов”, потому что там в смешном виде выведены 285 революционеры. Часа 1 1/2 думал писать возражение. Но потом некогда было думать об этом…». (Из письма к жене. Там же, № 2315).
Июль 1
Выезжает из Карлсбада через Берлин в Москву.
Июль 5
Приезжает в Москву на несколько дней, чтобы подготовить театральный сезон.
Июль 8
Приезжает в Иваньково к художнику В. А. Симову, чтобы посмотреть эскизы, сделанные им к спектаклю «Екатерина Ивановна». (См. телеграмму и письмо к жене. Архив Н-Д, № 2322).
Июль (середина)
Из Ялты пишет В. И. Качалову: «Я Вас люблю тепло и нежно, — именно нежно, потому что Вас только так и можно любить». (Избранные письма, стр. 314).
Июль 21
Запись: «Чайка — какие все несчастные… и изящество… мерцание»197*. (Из записной тетради 1912 – 1915 гг.).
Июль 24
Запись: «Письмо от Алексея Николаевича гр. Толстого (Феодосия, Коктебель) о том, что пьеса уже в 3-м варианте. Ответить ему, что следовало бы раньше познакомиться с его пьесой». (Там же).
Июль (после 24)
Читает рассказы Алексея Толстого198*. Ищет его роман «Хромой барин».
Июль (конец)
Получает из Дании письмо от М. В. Добужинского. «Я думаю, что и Добужинский стал душевнее от причастности к Художественному театру. Оттого он и начал так тяготеть к нему». (Из письма к Станиславскому от 4 августа 1912 г. Архив Н-Д, № 1677).
286 Июль 31
Готовится к постановке «Пер Гюнта». В записной тетради пишет: «Пер Гюнт — мощный, красивый, талантливый, смелый мечтатель. Действительность, требующая упорной работы, борьбы с ленью, с мелочами — скучна ему. Все те правила морали, общественности, которые создают жизнь и требуют работы, — он обходит.
Финал смерти Озе. Пер Гюнт стоит задумавшись, вдруг завыл, сдержался, махнул рукой — пропало, мол, все равно! — и ушел». (Из записной тетради 1912 – 1915 гг.).
Август 4
В письме к К. С. Станиславскому об А. Н. Толстом: «Он заходил здесь, в Ялте, ко мне — не застал… Рассказы его оставили меня совершенно холодным. Не заразительный темперамент. Впрочем, посмотрим, какова его пьеса… Если в Ал. Толстом есть хоть “замысел” (хотя и всегда сочиненный, а не пережитой) и во всяком случае — красочность, то в Ремизове уж никакой драматургической жилки не чувствую. Разве только там, где он становится сентиментальным». (Архив Н-Д, № 1677).
Август 7
Заезжает на один день в Нескучное: «Если бы я знал, что это Нескучное так может вдруг снова обнять душу, — я бы, кажется, отказался от этой поездки. Очень больно было уезжать!» (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2324).
Август 10
Вернулся в Москву.
Август (после 10)
Инсценирует «Бесы» Достоевского. Намечает исполнителей. «Другая пьеса, которая меня очень захватывает по своим важным для театра задачам… “Коварство и любовь”. Очень занимает подойти к Шиллеру! Не пора ли?» Предлагает включить в репертуар «Бешеные деньги» и «Лес» А. Н. Островского. Пишет Станиславскому о замысле «Мнимого больного» Мольера и принципе распределения ролей. Уговаривает его играть роль Аргана: «Ваш характерный талант и наивность… Роль может выйти не хуже Крутицкого»199*. (Архив Н-Д, № 1679).
287 Август 13
Найденов читает Немировичу-Данченко свою новую пьесу.
Август 17
Читает пьесу Л. Андреева «Екатерина Ивановна» участникам спектакля: «“Екатерина Ивановна”, как я и ожидал, произвела впечатление — волнительное, очень возбуждающее к спорам и смутное…
… Пьеса будет волновать, беспокоить, раздражать, злить, возмущать. … Тут до такой степени обнажаются язвы нашей жизни, и так беспощадно, без малейшего стремления смягчить, загладить… Колючая пьеса.
… Я остаюсь при убеждении, что если мы все время будем идти по чистенькой дорожке “Мудреца”, Тургенева и Мольера, то мы скоро станем “вчерашним театром”. … Когда театр перестает “беспокоить” и злить, — он катится вниз. Может быть, в нем искусство и на высоте, но он мертвеет в своем искусстве, становится классическим, и живая жизнь протекает, обходя его.
Однако, разумеется, я уберу все специфическое безвкусное Андреевское и сумею поднять и углубить даже то, что у него уже значительно и глубоко». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2329).
Август 18 – 19
Беседует о пьесе Л. Андреева с исполнителями. В. И. Качалов после беседы сказал: «Вы простым изложением пьесы заражаете гораздо сильнее, чем вся пьеса». (Из письма к жене от 20 августа 1912 г. Там же, № 2330).
Август 20
Сомневается в том, что нужно ставить пьесу Л. Андреева: «Нет ли тут с моей стороны увлечения, заблуждения. Я что-то вижу, чего решительно никто не видит»200*. (Там же).
Знакомится с А. Н. Толстым, который привез пьесу. «Пьеса такая же, как и рассказы. Красочная и не заразительная. Сам он производит впечатление любопытное. Молодой. Лет 30. Полный блондин. Типа европейского. Цилиндр, цветной смокинговый жилет, черная визитка. Работает много. Каждый день непременно несколько часов пишет. Говорит без интереса, скучно.
288 Пьесу, вероятно, не возьму. Но упустить его не хочется. Все думается, что он может что-то написать выдающееся»201*. (Из письма к жене от 21 августа 1912 г. Там же, № 2331).
«В августе 1912 года, — вспоминал Алексей Толстой, — я привез в Москву пьесу под названием “День Ряполовского” — первый драматический опыт.
Это была очень гадкая, невероятно запутанная и скучная пьеса. Несмотря на это, она мне очень нравилась.
Я отдал читать ее Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко в полной уверенности, что Художественному театру только этой пьесы и не хватает.
Владимир Иванович вызвал меня в театр, обласкал и начал говорить, что пьеса моя интересная, но ставить ее нельзя, — трудно. Он также посоветовал ее нигде не печатать и, если можно, никому не показывать.
Я был в восторге от этой беседы, хотя и понимал, что первый опыт провалился. Но писание пьес — прилипчивая инфекция.
… На другой день после беседы с Владимиром Ивановичем я вниз головой бухнулся в мутную пучину новой пьесы». (А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 15, Гослитиздат, 1953, стр. 326 – 327).
Август 21
На репетиции «Екатерины Ивановны». «Точно все ждут, когда я встрепенусь и понесусь и поведу за собой». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2331).
Август 25
«Канун Бородинской битвы. Царь уже приехал в Бородино/ … вся военно-официальная Россия гниет там в вагонах на запасном пути, а на громадном пространстве по полям — войска, старосты со всей России… Послезавтра царь приедет в Москву для разных торжеств… Вся Москва по этому случаю в некотором, так сказать, полицейском оцеплении.
… В Большом театре будет спектакль. Пойдет пьеса неизвестного автора “Двенадцатый год” — ряд картин, в которых Южин играет Кутузова, Рыжов — Наполеона (!!), и тому подобные художественно-патриотические номера». (Там же, № 2333).
289 Август 27
Празднование 100-летия со дня Бородинской битвы в Москве: «Вся Москва на ногах или в экипажах. У Пелагеи202* ликующее лицо. Восхищается какой-то проповедью в церкви о том, что все мутят иноверцы. Флаги, по Тверской не проедешь и не пройдешь. Звон колоколов. Проходят то войска, то потешные с барабанным боем. Вечером иллюминации. Все бегут, что-то посмотреть, кого-то увидеть, поглазеть, как проезжают кареты с кучером, у которого на шапке пропускной билет. Говор, шум, движение». (Там же, № 2334).
Август 29
«Все бегут посмотреть царя. Вот какое настроение. А в то же время в Черноморском флоте обнаружен, говорят, заговор. Планировали взять в октябре приступом Ливадию и потребовать акта отречения!
Конечно, вероятно, в заговоре пока еще участвовали очень немногие, — но уж то, что такое появляется во флоте, в Севастополе — как не похоже на эти толпы в Москве в эти дни». (Там же, № 2337).
Август 29 (в ночь на 30)
Пишет дружеское письмо А. И. Южину в связи с 30-летием его сценической деятельности203*. (См. Избранные письма, стр. 315 – 316).
Август 30
Утром и вечером ведет репетиции «Пер Гюнта».
Сентябрь 1
Утром работает с исполнителями «Пер Гюнта» — Л. М. Леонидовым, С. В. Халютиной, Л. М. Кореневой.
«Немирович позвал на репетицию наверх. Холодно встретились (сам Владимир Иванович старался быть милым).
… Вечером был Владимир Иванович. В хорошем настроении. Старался сгладить и объяснить ту холодность, которая царит в театре по отношению ко мне. Делал всякие авансы по студии. Был очень мил, а на душе стало холодно, пусто и одиноко». (Из письма Станиславского к Лилиной от 2 сентября 1912 г. К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 7, стр. 548).
Сентябрь 2
«Вчера прибыл Станиславский. Вечер я провел с ним…
290 Искренно сомневается в себе, так что как бы даже приходилось утешать». (Из письма Немировича-Данченко к жене. Архив Н-Д, № 2340).
Был на балете в Большом театре.
Сентябрь 4
«Я въехал в разгар репетиций. Бьюсь с Леонидовым, больше всего с ним (сам Пер Гюнт)». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2341).
Сентябрь 5 – 8
Ведет репетиции пьесы Ибсена «Пер Гюнт».
Сентябрь 7
«А в “Екатерине Ивановне” Качалов, Москвин так враждебно настроены к ролям, что нужен весь мой авторитет, чтобы хоть что-нибудь выходило». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2342).
Пишет жене, что Станиславский увлечен устройством студии и потому не участвует в репетициях. «Один я! Никаких сил не хватает. А тут еще материальные задержки! Только с моей слепой верой во все лучшее можно быть энергичным и не падать духом. Так как я и вообще не люблю падать духом сам и когда другие унывают.
И все хочется как лучше. … Ну-ну! Ничего не поделаешь. Надо нестись вперед, все вперед!» (Там же).
Сентябрь 8
Проводит две репетиции в день: «Пер Гюнт» и «Екатерина Ивановна».
Сентябрь 9
«За последние дни очень устал. По две репетиции в, день, на нервах, на настойчивости, на “исканиях” образов и переживаний…». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2343).
Сентябрь 12
Л. Андреев пишет Немировичу-Данченко: «Многое из того, что Вы говорите о пьесе, не совпадает с моими мыслями, но нравится мне больше, чем мое собственное». (Архив Н-Д, № 3145/3).
Сентябрь 12 – 14
«Сделал утром и вечером такие репетиции, от которых снова поднялся дух Театра. … Вел с настоящим нервом и 291 энергией». (Из письма к жене от 15 сентября 1912 г. Архив Н-Д, № 2345).
Сентябрь 14
Посетил студию и беседовал о Мольере с А. Н. Бенуа и Станиславским. «Бенуа мне нравится…». (Там же).
Сентябрь 16
Был на заседании Общества драматических писателей.
Сентябрь (до 19)
Вместе с К. А. Марджановым доводит репетиции «Пер Гюнта» до генеральной.
Сентябрь 19
Не удовлетворен черновой генеральной репетицией восьми картин «Пер Гюнта». «Постановка мне кажется не только чрезмерно “кричащей”, но и оперной. Вся постановка кажется бездушной». (Из письма к жене от 20 сентября 1912 г. Архив Н-Д, № 2347).
Сентябрь 22 – октябрь 5
Снова репетирует «Пер Гюнта».
Сентябрь 25
В газете «Утро России» (№ 220) — интервью Немировича-Данченко об оперной артистке А. В. Неждановой: «Впервые я услышал А. В. Нежданову в то время, когда она была уже второй год на сцене… шла “Лакме”. Нежданова в то время как артистка была гораздо выше своей славы. … Вот эти черты: искренность, простота и настоящее благородство, мне кажется и удерживают Нежданову от тех опостылевших форм, которые царят на оперных сценах.
… Вкус и чувство правды удерживают ее от подделки под сценические страсти, которые никого не волнуют… Чудесный голос и прекрасная манера пения…».
Октябрь 2
«Смета и бюджет предстоящего года вышли огромные, открытие опаздывает, убытки. Он [Немирович-Данченко] сейчас работает и днем и вечером и даже ночью…». (Из письма Станиславского к Л. Я. Гуревич. ГЦТМ имени А. А. Бахрушина, № 7369/9340).
Октябрь 9
Премьера «Пер Гюнта».
292 Октябрь 23
Присутствует на вечере в честь 40-летнего юбилея литературной и общественной деятельности Д. Н. Мамина-Сибиряка.
Октябрь – ноябрь
Репетирует пьесу «Екатерина Ивановна».
Ноябрь 25
Л. Андреев сообщает, что приедет в Москву в Малый театр в связи с репетициями «Профессора Сторицына» и просит разрешения побывать на репетициях «Екатерины Ивановны»: «Вмешиваться и ничего высказывать не буду… мои замечания с налета могут иметь цену только отрицательную». (Архив Н-Д, № 3145/7).
Декабрь 10 – 13
Проводит генеральные репетиции «Екатерины Ивановны».
Декабрь
Проводит шесть репетиций «Царя Федора Иоанновича».
Декабрь 17
Премьера «Екатерины Ивановны».
Декабрь 18
Уезжает на тринадцать дней в Берлин.
Декабрь
«Самое интересное, что я увидел у немцев, это была… Анна Павлова… Да еще прекрасное впечатление оставил спектакль, в котором участвовал Бассерман и Моисси. Шел “Дон Карлос”». (Ю. С—в, «За кулисами Художественного театра. Беседа с Вл. И. Немировичем-Данченко». Газетная вырезка. Датируется предположительно июлем 1913 г. Архив Н-Д).
1913
Январь (начало)
Возвращается в Москву. Готовится к репетициям комедии Мольера «Брак поневоле». Сверяет перевод пьесы с французским подлинником.
Январь
Работает с М. Н. Германовой над ролью Эльмиры в «Тартюфе».
293 Февраль 6 – 28
Репетирует комедию Мольера «Брак поневоле» (постановка А. Н. Бенуа).
Февраль
Пишет о чеховских спектаклях Художественного театра: «Надо еще усовершенствовать. Совершенно пересмотреть. Даже “Трех сестер”». (Из записной тетради 1912 – 1915 гг.).
Запись: «Нужно ли зрелище? Если нужно, то великолепное. … Создать зрелище не литературное? Феерия, мелодрама, фарс, “mit Gesang und Tanz”204*. Создать новый спектакль… дать свободу актерскому творчеству. Привлечь нескольких первоклассных художников… Добужинского в Москву на один год». (Там же).
Думает о постановке «Воеводы» А. Н. Островского: «Пьеса с плясками, с пением, с живыми картинами — хорошо!» (Там же).
Предполагает включить в репертуар МХТ «Зимнюю сказку» и «Мера за меру» Шекспира.
Март 1
Ведет репетиции комедии Мольера «Брак поневоле». Проходит несколько раз сцены Сганареля с Жеронимо и Дорименой.
Март 2 – 16
В присутствии Бенуа ведет репетиции «Брака поневоле». Март 13
Вместе со Станиславским и Бенуа осматривает декорации «Брака поневоле» и вносит некоторые поправки.
Март 16
Выступает оппонентом по докладу Ю. И. Айхенвальда «О кризисе театра»205*. «Главнейший интерес вечера на этот раз представляло выступление Вл. И. Немировича-Данченко: “К нашему ужасу, докладчик во многом прав… Мы, работающие в театре, заблудились. В искусстве театра много уязвимого. Театр — искусство вне сомнения, но только есть актеры — творцы и просто иллюстраторы и чтецы… Театр пережирает кризис, из которого он должен выйти и выйдет и будет жить вечно”». («Голос Москвы» от 17 марта 1913 г.).
294 Март 17 – 26
На репетициях комедии «Брак поневоле».
Март – апрель
Обращает внимание Станиславского на статью А. А. Барова, напечатанную в журнале «Рампа и жизнь»: «Он уловил все ту же, непрерывающуюся ноту розни между мною и Вами… Смысл был такой, что только в глубоком единении моем с Вами непоборимая сила Художественного театра… А мы сами, т. е. я и Вы, то и дело притушиваем это чувство единения». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1683).
Апрель
Готовит статью о Художественном театре в связи с его 15-летием для издания журнала «Рампа и жизнь».
Апрель (до 26)
Ночью в вагоне по пути в Петербург «перебирает в памяти» спектакли Художественного театра и пишет длинное письмо Москвину о его игре в пьесе Л. Андреева «Екатерина Ивановна». (Архив Н-Д, № 1203).
Апрель 26
В Петербурге выступает на заседании в Литературном обществе, которое обсуждает спектакли МХТ: «Вл. И. Немирович-Данченко в своей продолжительной речи коснулся, главным образом, мотивов, которыми руководствовалась московская труппа, решившая поставить новую пьесу [“Екатерину Ивановну”] Л. Андреева». («Речь» от 27 апреля 1913 г.).
Апрель 29
Из письма Л. Андреева: «Когда я прочел о Вашем выступлении и речи в Литературном [обществе], то у меня сказалось слово о Вас: джентльмен, настоящий…». (Архив Н-Д, № 3146/6).
Май (до 12)
Из Петербурга Художественный театр прислал приветствие К. Д. Бальмонту, подписанное Немировичем-Данченко, Станиславским, Книппер-Чеховой, Лилиной, Кореневой и другими: «Приветствуем Ваше возвращение на родину. Радуемся, что песни дорогого поэта теперь уже не будут приходить к нам только из далекой чужбины, а снова польются среди русских полей и лесов». («Русское слово» от 12 мая 1913 г.).
295 Май 18
Вместе с Художественным театром приезжает в Одессу.
Июнь (начало)
Отдыхает в Нескучном.
Июнь 20
На пути в Карлсбад останавливается во Львове: «… Говорил с поляками, поглазел на выборы народные…». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2351).
Июнь 23
«Пойду сегодня в театр “Der Graf von Luxemburg”» («Граф Люксембург»). (Там же, № 2352).
Июнь 26
«Я все читаю телеграммы и статьи о войне на Балканах. Это меня ужасно волнует. Вчера союзники, братья по крови и из-за того, что не поделили завоеванных турецких земель, — сегодня дерутся. Каинова война, братоубийственная, дурацкая, подлая». (Там же, № 2353).
В том же письме — о первом знакомстве с рассказами Джека Лондона: «Появился новый писатель (в Америке)… очень большого таланта. Особенно темперамента».
Июнь 28
«Вчера был в Орфеуме. … Клоуны, конечно, понравились мне больше всех». (Там же, № 2355).
Июнь 30
Был в театре на «Прекрасной Елене» Оффенбаха. «Я ведь не могу равнодушно пройти мимо афиши с “Прекрасной Еленой”»206*. (Там же, № 2356).
Июль 8
«Значит с Вами и Горький? и Леонидов?
Кланяйтесь Леонидову.
Сказал бы, конечно, от всего сердца — и Горькому. Но воздерживаюсь, зная его жесткое отношение ко мне.
Мне Леонид Андреев в одном из последних свиданий говорит: “Скажите, за что Вас так не любит Горький?” — Спросите его, отвечал я. — Эту нелюбовь я считаю самой большой несправедливостью, посланной мне судьбой, потому что моя совесть перед ним чиста. Так и богу скажу». (Из письма к Т. В. Красковской. Архив Н-Д, № 10344).
296 Июль 25
«Я не бросил мысль о “Бесах”. … Это все-таки вещь, к которой я наиболее подготовлен. … Есть две пьесы из “Бесов”. Первая называется “Николай Ставрогин”… Это самая романическая и, пожалуй, самая сценичная, но не самая глубокая часть романа. Другая пьеса. “Шатов и Кириллов”. … Эта глубже, но менее сценична. И очень мрачная. … Убийство Шатова и самоубийство Кириллова. Вторую сладить по тексту труднее, в цензурном отношении оно рискованнее, но постановка смелее и интереснее. … Степан Трофимович во второй части важное лицо (как поборник красоты)». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1686).
Запись: «Взять именно революционную часть “Бесов”: 1-я картина. Собрание революционеров. Содержание отрывков — убийство Шатова. Обстановка “брожения”, провокаторство Петра Верховенского. Главное лицо Петр Верховенский». (Из заменой тетради 1912 – 1915 гг.).
Июль
«Была мысль инсценировать “Обрыв”… но от этого, желания пришлось отказаться… Нужно начать действие лишь тогда, когда драма героев уже кипит. Пришлось бы отбросить ряд моментов, не использовать ряд положений, а это значило бы, что роман был бы переделан, а не инсценирован. В инсценировке я… ищу ту жилу, которая и есть основное и главное содержание всего романа… как и было мною сделано по отношению к “Бесам”». (Ю. С—в, «За кулисами Художественного театра. Беседа с Вл. И. Немировичем-Данченко». Газетная вырезка. Архив Н-Д).
Июль (конец)
Готовится к постановке «Коварства и любви». «Каких тонких и искренних переживаний требует роль леди Мильфорд, чтобы не стать до противности театральной»207*. (Из письма к Станиславскому от 1 августа 1913 г. Архив Н-Д, № 1687).
Август 1
Предполагает, что Москвин был бы «чудесный Тихон» в «Грозе». (Из письма к А. Н. Бенуа. Гос. Русский музей в Ленинграде).
297 Август 11
Возлагает венок на могилу М. С. Щепкина в связи с 50-летием со дня смерти. На венке надпись: «Драгоценной памяти великих заветов».
Август 12
Просит Бенуа и Добужинского, чтобы они немедленно выехали для работы над «Бесами».
Август 15
«Погружаюсь в “Николая Ставрогина”». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2361).
Бенуа приветствует желание Немировича-Данченко ставить «Бесы».
Август 16
Устанавливает порядок сцен в «Бесах». «I отделение: 1. На паперти церкви, 2. В гостиной Вар[вары] Пет[ровны]. II отделение: 3. В кабинете Ник[олая] Ставрогина, 4. У Шатова, 5. На мосту, 6. У Лебядкиных, 7. На мосту. III отделение: 8. У Лемке, 9. В кабинете Николая, 10. Бал. IV отделение: 11. В Скворешниках, 12. Под дождем в саду, 13. На пожарище (убийство Лизы), 14. Эпилог».
В письме Л. М. Леонидова к А. М. Горькому: «Вместо “Коварства и любви” идут “Бесы”. Вспоминая Ваше мнение, я был очень против “Бесов”, но он [Немирович] мне рассказал, что пьеса будет называться “Николай Ставрогин”, отрывки из романа “Бесы”. А революционная часть совсем отсутствует. Он очень горит. Я сказал Вл. Ив., что Вы против “Бесов”, он сказал, что охотно готов доказать свое желание». (Архив А. М. Горького. Фотокопия в Музее МХАТ).
В письме А. М. Горького к Н. А. Румянцеву приводится текст телеграммы Немировича-Данченко, посланной Горькому: «Приношу благодарность за обещание прислать пьесу208*. Мне передан Ваш взгляд на Достоевского, позвольте Вам написать письмо». (Архив А. М. Горького).
Август 17
С Капри Горький пишет Немировичу-Данченко: «Уважаемый Владимир Иванович! Я просил И. П. Ладыжникова переслать рукопись пьесы вам и полагаю, что он уже сделал это. Очень прошу Вас дать мне тот или иной ответ возможно 298 скорее. Если пьеса не будет принята, — передайте, пожалуйста, рукопись Н. А. Румянцеву». (Архив А. М. Горького. Фотокопия в Архиве Н-Д, № 3786).
Август 18
«Старик Верховенский, Степан Трофимович, остается только в нескольких репликах…
Убийство Шатова, жена Шатова, революционные собрания, Кириллов — все это составляет второй спектакль, который пойдет, может быть, в будущем году. Здесь же только роман Николая Ставрогина.
Теперь идет работа с текстом и декорациями.
Если удастся стихийность всех этих перипетий, одержимость “бесами”, внутренняя, а не только внешняя, — то должно получиться представление замечательное». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2362).
Август (около 22)
А. М. Горький протестует против постановки «Бесов». Он пишет Владимиру Ивановичу с острова Капри: «Инсценировку произведений Достоевского я считаю делом общественно вредным и если бы я был в России, то непременно попытался бы возбудить в обществе протест против Ваших опытов, будучи убежден, что они способствуют разрушению и без того не очень здоровой общественной психики. Может быть, я попробую сделать это отсюда». (Архив А. М. Горького).
Август 24
Встречается с Бенуа, Добужинским и Лужским в связи с постановкой «Бесов».
Сентябрь 5
Отклоняет пьесу А. Толстого «Выстрел» и ведет переговоры с автором о постановке другой его пьесы — «Волшебный рожок».
Сентябрь 7
Был на репетиции своей пьесы «Золото» в театре Незлобина: «И так там скверно играют, что пришлось отчаянно проработать… Долго не мог заснуть… Режиссер там, очевидно, лицо, призванное мешать актеру». (Из письма к жене от 9 сентября 1913 г. Архив Н-Д, № 2367).
Сентябрь 8
Отвечает Горькому: «… остаюсь при убеждении, что если бы Вы знали, видели сами, что и как инсценируется из Достоевского, 299 то Ваше чувство протеста было бы по крайней мере ослаблено.
Я, разумеется, не прошу Вас воздержаться от протеста, — это было бы нелепо. Но искренно сожалею, что такой большой вопрос (как я считаю — между мною и Вами) придется решать заглазно. Сожалею потому, что не могу не прислушиваться с большим вниманием к Вашим взглядам. Досадно, что я не знал их раньше, — я нашел бы время летом приехать к Вам.
Жаль, конечно, и того, что Ваша пьеса209* пойдет не у нас!
Разумеется, это не мешает мне искренно желать ей полного успеха на другом театре». (Избранные письма, стр. 317 – 318).
Сентябрь 9
Проводит еще одну репетицию четвертого действия «Золота» в театре Незлобива: «Оно ведь переделано мною. Давно уж переделано как-то. Но теперь в новой редакции идет в первый раз. Мне понравилось, гораздо правдивее и трогательнее, чем было прежде. Там Валентина выходила замуж за Шелковкина. И, во-первых, это было как deus ex machina, coup de théâtre210*, как будто и не к чему было огород городить. А во-вторых, и это, конечно, главное, — выходя замуж, Валентина изменяла себе. Это была малодушная уступка сладким тонам Малого театра. Теперь дело глубже. О растратах старухи и сына Кочевников заявляет прокурору. Это уже страшнее. И несмотря на это, Валентина не выходит замуж за Шелковкина. Это все написано хорошо. И она уходит. Кланяется в пояс Алексею, кланяется тетке. Прощается и уходит. Куда? — Не знаю. Мир огромный, огромный. В пространство». (Из письма к жене от 10 сентября 1913 г. Архив Н-Д, № 2368).
Л. Андреев высылает драму «Не убий» и сообщает, что заканчивает пьесу «Собачий вальс».
Сентябрь 11
Был в гостях у Станиславского и Лилиной. Разговаривал с Лилиной о роли Лебядкиной в «Бесах».
300 Сентябрь 12
На премьере «Золота» в театре Незлобина получает венок от театра с надписью: «Автору и лучшему учителю сцены».
Сентябрь 11 – 12
Ведет репетиции «Николая Ставрогина»: «Репетиции интересны, потому что интересно добиваться проявления Достоевского, его психологии». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2374).
Сентябрь 11 – 22
Делает заметки о репетициях «Бесов»: «Куски, круг, определения кусков, смежные чувства211*. В трех-четырех сценах это сделано, надо пробовать». (Из записной тетради 1912 – 1915 гг.).
О репетициях сцены бала в «Николае Ставрогине» пишет Лужскому: «Главное схватить общий тон, общее движение и общий темп». (Архив Н-Д, № 1032).
Сентябрь 22
В «Русском слове» (№ 219) появляется открытое письмо М. Горького «О карамазовщине»: «Я предлагаю всем, кому ясна необходимость оздоровления русской жизни, протестовать против постановки произведений Достоевского на подмостках театра».
Сентябрь 23
«Вчера не писал, так как был взволнован статьей Горького… Утром созвал к себе Совет и Станиславского и Стаховича и поставил на обсуждение, как реагировать на эту статью, и реагировать ли. При этом я сказал, что сам хотел бы не вмешиваться в это. Решили они ответить коллективным выступлением, а так как никто из них не умеет писать, то выписали Бенуа. Он, вероятно, завтра приедет, а те и сегодня». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2377).
Сентябрь 24 – 26
«Бенуа все советовался со мной. Наконец, составили то “открытое письмо” Горькому, которое и напечатано во всех газетах». (Из письма к жене от 27 сентября 1913 г. Там же, № 2378).
Сентябрь 25
«Горький, протестуя против инсценировки Достоевского, посылает упрек прежде всего мне, как руководителю репертуара 301 театра. Из его письма может даже возникнуть предположение, что вся вина падает на меня, а что труппа театра, может быть, и не сочувствует постановкам Достоевского. Понятно, что мне чрезвычайно важно свободно высказанное мнение труппы…». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1689).
Сентябрь 26
В «Русском слове» (№ 223) напечатан ответ МХТ М. Горькому. С позиций «высших запросов духа» театр отстаивал свое право ставить инсценировку романа Достоевского «Бесы».
Сентябрь 27
«Все это испещрено почти неприличной выходкой против меня лично и узким взглядом не только на Достоевского, но и вообще на литературу и театр, узким, партийным, нехудожественным». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2378).
«Очень захватывал меня вопрос, ошибся я или нет212*. И потому с утра я хватался за все газеты. Так было несколько дней тревожных. Совпало с трамвайной забастовкой, демонстрациями на улицах, известиями о железнодорожных катастрофах». (Там же).
Сентябрь (конец)
Продолжает репетиции «Николая Ставрогина». О работе Лилиной над ролью Хромоножки пишет: «25 лет она на сцене и не было не только ни одного спектакля, но и ни одной репетиции, чтоб она так заливалась горючими слезами, как в этой роли! … Вот что делает Достоевский!» (Там же, № 2379).
Октябрь
Буржуазно-либеральная, реакционная пресса поднимает «вой», защищая постановку «Николай Ставрогин».
Октябрь – ноябрь
В течение двух месяцев большевистская газета «За правду» печатает отклики рабочих, ставших на сторону Горького в его споре с Художественным театром.
302 Октябрь 23
Премьера «Николая Ставрогина».
Октябрь 27
В статье Горького «Еще о карамазовщине» («Русское слово», № 248) говорилось, что изображение человека по образу и подобию дикого и злого животного социально вредно:
«… Считаю нужным указать, что в реакционной прессе постановка “Бесов” Художественным театром вызвала полное удовлетворение…».
Отстаивавших право творить «свободно» Горький спрашивал: «А вы от чего желаете освободиться? Не от всех ли обязанностей человека и гражданина?»…
Октябрь 30
Петербургские рабочие отправили письмо Горькому, в котором присоединяются к его протесту против инсценировки «Бесов» на сцене Художественного театра.
Октябрь 31
Из письма Л. Андреева: «Помните ли Вы у меня рассказ “Мысль” — о некоем докторе Керженцеве, который притворился сумасшедшим, чтобы убить, а потом сам разобрать не может, притворялся он или действительно он сумасшедший? Явилась у меня шальная идея: сделать из этого драму… Как Вы думаете, стоит или нет? … Это не инсценировка, а совсем самостоятельная работа, так как рассказ написан без лиц и без диалога». (Архив Н-Д, № 3146/13).
Ноябрь 6
«От автора еще не написанных пьес» — с такою надписью А. Н. Толстой дарит Немировичу-Данченко сборник своих рассказов. (Музей-квартира Вл. И. Немировича-Данченко).
Ноябрь
Москвин пишет из Кисловодска: «Скоро полгода, как я тебя не вижу, дорогой и близкий мне человек». (Архив Н-Д, № 5023).
Ноябрь 15
Посылает письмо А. Н. Лаврентьеву, поставившему в Александринском театре «Цену жизни». (ГЦТМ имени А. А. Бахрушина).
303 Ноябрь 19
Принимает к постановке «Мысль» Л. Андреева213*.
Ноябрь 25
Вместе с К. С. Станиславским, М. Н. Ермоловой, А. И. Южиным посещает А. А. Бахрушина в день официальной передачи основанного им театрального музея императорской Академии наук.
Декабрь 2
Эмиль Верхарн смотрит спектакль «Николай Ставрогин». (См. «Русское слово» от 3 декабря 1913 г., № 255).
Декабрь 8, 15, 22
В «Русских ведомостях» (№ 283, 289 и 295) печатаются воспоминания Немировича-Данченко о поездке Художественного театра за границу.
Декабрь 15
Из письма Л. Андреева о распределении ролей в «Мысли»: «Что если бы профессора Семенова сыграл… Станиславский… он дал бы самый запах правды. Одной манерой взглянуть, улыбнуться, войти он дал бы мудрость. … Многие зрители младшего возраста не поймут этой картины, а Станиславский очарует их и тем заставит понять». (Архив Н-Д, № 3146/18).
Декабрь 21
На репетиции комедии Гольдони «Хозяйка гостиницы» Немирович-Данченко предлагает Станиславскому свое толкование роли Кавалера: «Кавалер просто не замечает женщин, пренебрежительно проходит мимо них. Он веселый, пьяный (немного), добродушный, глуповатый корнет (à la Гарденин)214*. Быстро бросает слова — легкомысленный — и совсем не боится женщин. Он влюбляется, сам того не замечая, и попадается в капкан, катится вниз, без оглядки именно потому, что очень уверен в своей силе и ненависти к женщинам.
Этот образ менял мне все, и я упрямился». (К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 5, стр. 523).
304 1914
Январь 8
Начинает репетировать «Мысль» Л. Андреева. Проводит беседу о пьесе и действующих лицах.
Январь 8 – 31
Почти ежедневно репетирует «Мысль».
Январь 12
Настаивает, чтобы Москвин продлил свой отпуск до весны: «Для твоего сердца нужно как можно меньше всего того, что это сердце может волновать, хотя бы даже радостью». (Из письма к И. М. Москвину. Архив Н-Д, № 1204).
Февраль 2
Рассылает приглашения на первое заседание Общества порайонных общедоступных театров. (Архив Музея МХАТ).
Февраль 7
Горький впервые приходит на спектакль «Николай Ставрогин» и еще более утверждается в своей правоте: «В газетах писали, что политический элемент “Бесов” исключен из инсценировки, ну, а разве в сцене Ставрогина с Шатовым нет “политики”?.. Я — не соглашаюсь с направлением репертуара Художественного театра, но, вместе с тем, я люблю этот театр и считаю его необходимым». (М. Нир, «Беседа с М. Горьким», «Театр» от 15 февраля 1914 г.).
Февраль 12
Горький смотрит спектакль Художественного театра «Хозяйка гостиницы».
Февраль 13
Встречается с Горьким на спектакле Первой студии «Праздник примирения», беседует с ним о трактовке пьесы и характере исполнения. (См. «Раннее утро» от 15 февраля 1914 г.).
Март 4
Проводит совещание по устройству порайонных общедоступных театров.
Март 8
Л. Андреев пишет из Рима: «И не то меня огорчает в сегодняшнем Вашем письме, что Вы как будто сомневаетесь в успехе “Мысли”, а некоторая… как бы сказать — холодность тона. … Ваша воля к работе столь сильна, что заражает даже в письме… Жалко, жалко, жалко, что я сейчас не 305 причастен Вашей работе. Ах, если бы мне удалось написать “Самсона” как я хочу и вижу… — вот тогда поработаю, стану в положение ученика Художественного театра, как и про себя искренно сказал Бенуа». (Архив Н-Д, № 3147/2).
Март 17
Премьера пьесы Л. Андреева «Мысль».
Март (после 17)
«“Мысль”, конечно, изругали. Как пьесу, наполовину заслуженно. Не очень-то я ведь ее хотел. Да очень уж было удобно. Заняты Леонидов, Барановская, Берсенев, да в крохотной роли Лужский. А то все сотрудники». (Из письма к Москвину. Архив Н-Д, № 1205).
Март 24
Созывает третье заседание Общества порайонных общедоступных театров.
Март 26
Из письма Л. Андреева: «Конечно, я догадываюсь о недочетах спектакля, о недостигнутом — том самом, что привело Вас ищущего последнего преодоления к печальным мыслям и дурному настроению. Да, не все достигнуто, — несмотря на колоссальный Ваш труд… ведь это же и есть тот Ваш тернистый путь, каким Вы сами хотите идти! Разве не могли бы Вы ставить с улыбочкой и так, чтобы кругом все улыбались — но Вы хотите творить с болью, Вы болеете, творя, как болел и я во время этой работы, как болел и милый Леонидов. Вы пишете: может быть, нужно быть героем… но Вы и были им, того не подозревая. Вот оно искусство, которое требует жертв, как религия — тут ведь костром пахнет». (Архив Н-Д, № 3147/3).
Апрель 7 – май 13
В Петербурге, где проходят гастроли МХТ.
Май 17
Начало гастролей в Киеве.
Май 18
В Москве на похоронах актера Художественного театра А. Р. Артема.
Июнь 1
Отвечает на телеграмму Горького: «Спешу поблагодарить Вас и Марию Федоровну215* от театра, с убеждением в самых 306 искренних его желаниях Вам здоровья и спокойствия и неразрывности нашей духовной связи. Немирович-Данченко». (Избранные письма, стр. 319).
Июнь (до 13)
Проездом в Карлсбад останавливается в Севастополе и находит в гостинице Станиславского: «Он только что приехал с пароходом… сидел за своими “Записками”. Он обрадовался мне». (Из письма к жене от 13 июня 1914 г. Архив Н-Д, № 2389).
Июнь 15
Прочитал новую пьесу А. Толстого: «Никак еще не соберу впечатлений… Однако думаю: что если весь сезон провести на новых пьесах: Мережковский, Толстой, Сургучев и Гиппиус в “Студии”? Интересно-то будет, а что останется от этого всего для будущего? Ни одна вещь не удержится на репертуаре. И за этими ли пьесами провинция стремится к нам? Вопрос»216*. (Там же, № 2388).
Июнь 15 – 17
Узнает, что студент серб убил в Сараеве наследника австрийского престола Франца Фердинанда. «Австрийский наследник, открытый противник России. Всегда говорили, что как только умрет Франц Иосиф, так новый император тотчас же объявит России войну… За последнее время Австрия сильно влияла на то, чтоб Сербия перетянулась от России к Австрии и даже как бы участвовала в разжигании второй (братоубийственной) Болгаро-сербской войны». (Там же, № 2389).
Июнь 22
Сообщает жене, что купил новый роман А. Франса — «Восстание ангелов», запрещенный в России.
Июнь 24
Опять возвращается к мысли о пьесе Мережковского «Будет радость». Колеблется, нужно ли ее ставить. (См. письмо к жене. Архив Н-Д, № 2393).
Июнь 27
Приезжает в Мариенбад и встречается там со Станиславским, Лилиной, Качаловым, Леонидовым, Гуревич, Смирновой, 307 Эфросом217*. После обеда читает им пьесу А. Толстого. «Очень оценили, что я приехал и что я читал им пьесу (на одобрили)». (Из письма к жене от 28 июня 1914 г. Архив Н-Д, № 2396).
Июнь 29
В письме к Лужскому о новой пьесе А. Толстого: «Он сделал большие успехи, но в театр еще не попадает». (Архив Н-Д, № 1038).
Июль 15
Приезжает в Нескучное.
Июль 19
Германия объявляет войну России.
Июль 26
В письме к М. П. Чеховой: «Скажите Ольге Леонардовне, что война перепутала все мои планы сезона, и я еще не могу найти настоящей ноты для предстоящих работ». (Избранные письма, стр. 320).
Август 18 – 27
Проводит репетиции «Смерти Пазухина». Обращает внимание на сатирический характер пьесы, добивается ярких, темпераментных переживаний вместо привычных для Художественного театра полутонов.
Август 22
Распределяет роли и начинает работу над спектаклем «Осенние скрипки» И. Д. Сургучева. Делит на «куски» первые два акта.
Август 29
На репетиции «Смерти Пазухина» просматривает эскизы костюмов и декораций художника Б. М. Кустодиева.
Август 30
Вместе с художниками Б. М. Кустодиевым, К. Н. Сапуновым, А. А. Петровым, И. Я. Гремиславским устанавливает размеры декораций «Смерти Пазухина».
308 Сентябрь 1
Писатель И. А. Бунин приглашает Немировича-Данченко на заседание писателей, артистов, ученых и художников для обсуждения воззвания против «немецких жестокостей». (Автограф. Архив Н-Д, № 3462).
Сентябрь
Смотрит репетиции «Сверчка на печи» Ч. Диккенса в Первой студии.
Сентябрь 5
Смерть матери.
Сентябрь 24 – 28
Репетирует «Смерть Пазухина».
Сентябрь 25
Просматривает работу, сделанную режиссером В. Л. Мчеделовым по «Осенним скрипкам».
Октябрь 5, 6
Проводит беседу по третьему акту «Смерти Пазухина», чтобы ввести Станиславского в роль старика Пазухина218*. Показывает ему репетицию первого и второго актов.
Октябрь 30, 31
Репетирует «Смерть Пазухина».
Ноябрь 1 – 11
Репетирует «Смерть Пазухина».
«Когда я вошел в работу, я уже был предупрежден, что у Грибунина роль не идет. Была заминка и с Лужским в роли Лобастова: по свойству его мягкого дарования ему нелегко было скоро найти солдафонские черты этого генерала… а у Грибунина никак не выходил классический лицемер. … я применил для Грибунина один педагогический актерский приему Я сказал ему, что нашел для его Фурначева тон, тон совершеннейшей искренности, как будто бы этот мерзавец и лицемер — самый благородный человек. … он будет репетировать благородного человека, и только в кое-каких чисто актерски технических акцентах можно будет уловить истинную фурначевскую сущность — в походке, в излишней слащавости.
… Живоедиха стоила ей [Бутовой] особенно трудных усилий. … она старалась… создать художественный тип… создать без ущерба правде, без сентиментальничания, без смягчения 309 всей мерзости образа, без оправдывания его подсахаренной идеологией. … Кончилось тем, что она играла замечательно, и в ее игре особенно остро чувствовалось колючее, беспокойное искусство Щедрина». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 126 – 127).
Ноябрь 7
«Мы сами не отдаем себе отчета, чего нам стоит война. А что еще предстоит! Даже когда она кончится победой. Только тогда мы начнем расплачиваться нашим здоровьем за потрясения, переживаемые теперь, и за то, что теперь мы не смеем распускаться». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1693).
Ноябрь 10
Смотрит третье и четвертое действия «Трех сестер». Пишет Станиславскому: «… исполнение было идеалом того, к чему, по моему пониманию, стремится вся Ваша, так наз[ываемая], система.
… И на каждом шагу настоящие, вырывающиеся из лучших уголков души, неожиданности». (Избранные письма, стр. 321).
Ноябрь 11 – 119
Утром и вечером репетирует «Смерть Пазухина».
Ноябрь 14
Принимает участие в первой беседе о «Пире во время чумы» Пушкина. Определяет «зерно» трагедии — «бунт души». Люди осознают свое превосходство над стихией. Бунт души, негодование против бессмысленности чумы испытывает Председатель пира, натура более поэтическая, талантливая, «свободной души человек, свободный и смелый»219*. (Из протокола беседы. Музей МХАТ).
Ноябрь 24
Вечером у себя в кабинете проводит репетицию «Каменного гостя» Пушкина. Анализирует пьесу и образы.
Ноябрь 25
Репетирует четвертый акт «Смерти Пазухина» по отдельным сценам.
Ноябрь 26
Работает над ролью старика Пазухина с Леонидовым.
310 Ноябрь 27 – 29
Репетирует четвертый акт «Смерти Пазухина».
Декабрь 1
Последняя генеральная репетиция «Смерти Пазухина».
Декабрь 3
Премьера «Смерти Пазухина».
Декабрь 7
Проводит беседу о «Каменном госте» и репетирует вторую картину в присутствии режиссера и художника спектакля А. Бенуа.
Декабрь 8
«Мне совершенно ясны громадные достоинства нашего дела, как культурного учреждения, которое следует охранять, но так же ясны и фатальные недостатки, опрокидывающие веру в его будущее». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1698).
Декабрь 9
Беседует о «Каменном госте» с исполнителями и репетирует третью картину (Дон Гуан — Качалов).
Декабрь 10 – 23
Вместе с Бенуа утром и вечером репетирует «Каменного гостя».
Декабрь 11
Смотрит спектакль «Три сестры» и устраняет технические неполадки.
Декабрь 12
Пишет Станиславскому, игравшему роль Вершинина в «Трех сестрах»: «… Ваше исполнение было на очень большой высоте настоящей, художественной простоты, искренности, благородства и вдумчивости. Чудесно!» (Избранные письма, стр. 323).
Декабрь 28
Л. Андреев в своем письме упрекает Немировича-Данченко в том, что Художественный театр «поворачивается к нему спиной». (Архив Н-Д, № 3147/11).
В 1914 году вышел из печати альбом «Московский Художественный театр, пьесы А. П. Чехова» с предисловием Вл. Немировича-Данченко.
311 1915
Январь 8 – 10
Репетирует «Каменного гостя» Пушкина.
Январь 11
Пишет Станиславскому, что на него одного «взвалены все компромиссы, без которых театр с 560-тысячным бюджетом уже не возможен». Хочет отказываться от роли управителя театра. (Архив Н-Д, № 1704).
Январь 13
Репетирует с В. И. Качаловым и М. Н. Германовой третью картину «Каменного гостя» Пушкина.
Январь 15 – 21
Занят на репетициях «Каменного гостя».
Январь (середина)
«И хотя я криком кричу, что нам нельзя до Пушкина ставить “Осенние скрипки”, что я демонстративно уеду из Москвы, однако возможно, что “обстоятельства” раздавят меня, “нечто косное” одержит верх. … во избежание убытков потребуется компромисс!» (Из письма к Лужскому. Архив Н-Д, № 1041).
Январь 21
На репетиции «Каменного гостя» проходит сцену Лауры с гостями, разбирает сцену Лауры и Дон Гуана.
Январь 23, 24
Репетирует «Каменного гостя» (третью и четвертую картины).
Январь 25
Бенуа пишет Владимиру Ивановичу: «Вы невольно для себя в силу своего авторитета, в силу того, что артистам привычно с Вами работать, — заместили меня у режиссерского стола совершенно». (Архив Н-Д, № 3255).
Февраль 3 – 10
Вместе с Бенуа репетирует «Каменного гостя».
Февраль 7, 11
Анализирует образ Председателя пира в пушкинской трагедии «Пир во время чумы». Репетирует всю пьесу, делает замечания актерам.
312 Февраль 2 – 27
Ведет репетиции «Каменного гостя».
Февраль 14
Смотрит репетицию третьего акта «Осенних скрипок» и указывает на ошибки, «происшедшие от слишком разноречивых толкований психологии действующих лиц». (Из дневника репетиции).
Февраль 22
В «Русском слове» (№ 43) приводится беседа с Вл. И. Немировичем-Данченко о французском режиссере Люнье-По — руководителе театра «Творчество» в Париже: «С Люнье-По нас познакомила Элеонора Дузе. … Мятежник в искусстве — так хочется определить его деятельность. … Антуан революционизировал сценическую форму. Люнье-По подходил к той же цели со стороны новых пьес. … В последней пьесе [“На дне” Горького] Василису играла Элеонора Дузе, а Настю — наша теперешняя гостья, госпожа Сюзанна Депре».
Февраль 27
Устанавливает эффекты четвертой картины (шаги Командора, провал и проч.), уточняет мизансцены, проводит полную репетицию «Каменного гостя».
Март (начало)
Не согласился с декорациями Бенуа к «Пиру во время чумы». «Это не пир во время чумы, а чума во время пира». (И. Я. Гремиславский, «Режиссеры и художники МХТ», журнал «Искусство», 1938, № 6).
Март 2 – 5
Репетирует «Каменного гостя».
Март 6
Устанавливает вместе с Бенуа и Станиславским свет, звуки (проезд телеги с трупами) в «Пире во время чумы».
Март 7
Первая генеральная репетиция Пушкинского спектакля («Пир во время чумы», «Каменный гость», «Моцарт и Сальери»).
Март 9, 13
Вместе со Станиславским и Бенуа репетирует первую и вторую картины «Каменного гостя».
313 Март 14
Устанавливает звуковые эффекты четвертой картины «Каменного гостя», потом работает с актерами.
Март 17 – апрель 13
Проводит восемнадцать репетиций «Осенних скрипок» Сургучева.
Март
Участвует в репетициях «Моцарта и Сальери».
Март (до 26)
Накануне премьеры пишет Бенуа: «… решительно не советовал бы репетировать “Пир”. Режиссер должен растаять в душах исполнителей, а тут он опять навалится на них и они опять будут связаны памятью о его требованиях». (Избранные письма, стр. 323).
Март 26
Премьера Пушкинского спектакля.
Март (после 26)
Отрицательные отзывы о Пушкинском спектакле в прессе.
Апрель 1
«Что Художественный театр болен, и очень сильно, в этом нет ни малейшего сомнения». (Из письма к А. Н. Бенуа. Избранные письма, стр. 324).
Апрель 6
Из письма Л. Андреева о работе Бенуа в Художественном театре: «В конце концов, он только эстет; и черного хлебца “правды” ему захотелось не потому, что он голоден, а тоже эстетически: разнообразит меню. И талантов в театре у Вас достаточно, и нужен вам не красавец, а сильный дух, который стал бы и Вашей опорой, Вашим союзником». (Архив Н-Д, № 3148/7).
Апрель 8
«Для того чтобы мне с Вами совсем согласиться, мне надо подавить в себе ту злобу, доходящую в моей душе до бунтарского настроения, которое вызывают во мне мысли о нашем обществе, о его малодушии, снобизме, мелком, дешевом скептицизме, склонности интересоваться вздорными сплетнями, отсутствии истинного, широкого патриотизма, вообще о всей-той душевной гнили и дряни, которая так свойственна рабски налаженным, буржуазным душам. Когда я об этом думаю, 314 то мне не только хочется, наперекор их требованию от театра, ставить такие пьесы, которые могут их только злить, но мне даже становится противным Художественный театр с такими прекрасными спектаклями, как тургеневский, гольдониевский и т. д. и т. д. Мне становится противно, что эти прекрасные спектакли дают законный, необходимый художественный отдых не тем, кто весь свой день отдает благородным трудам и благородным волнениям настоящей войны, а просто-напросто тем, кто от этих трудов и волнений бежит. Повторяю, при этих мыслях меня охватывает такая злоба, что я считал бы для себя высшим счастьем быть сейчас вне Художественного театра…
В настоящий момент особенно ярко чувствуется, до какой степени красота есть палка о двух концах, как она может поддерживать и поднимать бодрые души и как она, в то же время, может усыплять совесть. Если же красота лишена того революционного духа, без которого не может быть никакого великого произведения, то она преимущественно только ласкает бессовестных». (Из письма к Л. Я. Гуревич. Избранные письма, стр. 327 – 328).
Апрель 14
Премьера «Осенних скрипок».
Апрель 27
В Петрограде встречается с Л. Андреевым, предложившим МХТ трагедию «Самсон в оковах». (См. переписку с Л. Андреевым. Архив Н-Д, № 3148/14).
Май 9
Приглашает художника Б. М. Кустодиева прийти на режиссерскую беседу о постановке «Волков и овец».
Май
Спорит с режиссерами Станиславским и Лужским по поводу трактовки образа Мурзавецкой. «Готовили “Волки, и овцы”. Говорят: “Мурзавецкая — умная женщина”. А по-моему, вовсе она не умная, такая же вздорная баба, как и другие, старая дева… Да, она ворочает делами, как человек более или менее ловкий. Но… вся сущность Мурзавецкой создана окружающей ее затхлою жизнью, которая непоколебимо чтит рабство, барскую палку, господа бога, чудеса… Это и дает настоящего Островского, всю тину описанного им быта, стиль, идущий от самого текста пьесы». (Из беседы с молодежью 19 января 1939 г. «Ежегодник МХТ» за 1946 г., стр. 339).
В поисках современной пьесы снова возвращается к мысли 315 о постановке пьесы Д. С. Мережковского «Будет радость»220*. Считает героиню пьесы Татьяну «яркой индивидуалисткой», утверждающей свою личность в культе красоты221*. (См. «История постановки. Беглые заметки». Приложение к дневнику репетиций. Музей МХАТ).
Июнь 2
«Мечтаю о постановке трагедии Софокла “Эдип в Колоне”». (Интервью Немировича-Данченко в газете «Петроград»).
Июль 8
Из Ялты пишет Л. А. Сулержицкому о работе по возобновлению «Гамлета». «Пока Вы будете подготовлять отдельных исполнителей, я залажу “Будет радость” и “Волки и овцы”222*, потом начну собирать “Гамлета”». (Избранные письма, стр. 331).
Июль 31
«Надо им [эвакуированным польским артистам] помочь». (Из письма к Лужскому. Архив Н-Д, № 1044).
Август 1
«Давая талантливое и правдивое, мы поможем быть бодрыми в тылу… Но никаких излишеств! Так как излишества отнимают что-то от войны». (Там же, № 1045).
Август 8
Возвращается в Москву.
Август 10
«Я хоть и говорю часто, что уже не юноша и не могу увлекаться, а на самом деле, вероятно, и умру с увлечениями, не свойственными моему возрасту. Я говорю об идеализации и событий и людей… На все происходящее я внутренне реагирую, как будто мне не 56 лет, а кругом все, все смотрят трезвее». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2399).
В том же письме: «Ты уже, конечно, знаешь о хорошей победе нашего Балтийского флота в Рижском заливе. Это внесло в нашу жизнь радость хоть на время».
316 Август 12
В письме к жене пишет об А. А. Стаховиче: «Очень уж из тех, против которых и революции поднимаются…». (Там же, № 2401).
Приступает к репетициям пьесы Мережковского.
Август 17 – 18
«Политическая жизнь в Петрограде кипит. Трудно угадать, что предвещает… Актеры слишком живут событиями и нельзя их отвлечь в сторону настоящего искусства».
«В театре жизнь все еще не на раскате. Мы, руководители, все еще спорим и ищем, как вести сезон». (Из писем к жене. Архив Н-Д, № 2406, 2407).
Август 19
Думает о задачах театра во время войны и вспоминает раненого офицера, который пришел на «Вишневый сад» и говорил, что этот спектакль дал ему больше сил, чем три месяца покоя.
Август 20
«Самый сильный союзник германцев — наше малодушие, возбуждающее панику. Сильнее их техники и снаряжений. С этим нашим врагом, сидящим в нас самих, надо бороться всеми силами». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2408).
Август 22
В «Петроградском курьере» опубликована речь Владимира Ивановича перед труппой Художественного театра223*: «… все находятся под давлением тяжелой сосредоточенности, все охвачены военными и политическими событиями… Наше искусство не только может, но и должно вливать бодрость, увеличивать запас терпения, помогать залогу победы».
Сентябрь 26
Станиславский и Немирович-Данченко посылают приветственную телеграмму Ф. И. Шаляпину: «Преклоняясь перед талантами, какими одарил Вас гений России, мы несем Вам и чувства благодарности за огромный настойчивый 25-летний труд для процветания русского искусства». (К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 7, стр. 618).
317 Октябрь 8
Из Петрограда Горький сообщает Немировичу-Данченко, что его воспоминания о Чехове не могут быть опубликованы в журнале «Летопись», несмотря на их «несомненные достоинства». Письмо заканчивалось словами: «Расходясь — и довольно часто — с людьми на почве идеи, принципов, я никогда не теряю чувства моего уважения к ним и всегда рад вспомнить о тех добрых днях, когда я был душевно близок к Вам и прекрасному делу, творимому Вами. Не смейтесь над этим воспоминанием и поверьте в искренность его». (Архив А. М. Горького. Фотокопия в Архиве Н-Д, № 3787).
Октябрь 12
Немирович-Данченко отвечал Горькому: «… Никакие несогласия, ни частные, ни общие, не могут не только стереть, но даже временно поколебать тех больших чувств, которые укрепились во мне по отношению к Вашей личности и деятельности.
… Да и так ли глубоки несогласия?.. Может быть, дело, как Вы выражаетесь, “творимое” мною, получит окончательное, рельефное выражение чистой идеи, и тогда рассеются разделявшие нас принципиальные несогласия…». («Летопись жизни и творчества А. М. Горького», вып. 2, стр. 511).
Декабрь 15 – 20
Репетирует пьесу «Будет радость».
1916
Январь 11
Инсценировка «Села Степанчикова» Достоевского, сделанная Вл. И. Немировичем-Данченко и В. М. Волькенштейном, читается труппе Художественного театра.
Февраль 3
Премьера пьесы Мережковского «Будет радость».
Февраль 20
Из письма А. А. Блока к Л. Я. Гуревич: «… Владимир Иванович вызывает меня в Москву, и я поеду туда, как только поправится моя мать. “Роза и Крест” в эти годы производила на меня разное впечатление, но все еще кажется мне верно написанной, так что я там все узнаю и за все отвечаю. … Вы очень связаны с тем театром, который сыграл для меня большую роль когда-то, в лучшую пору жизни, сыграет и теперь, в пору не очень хорошую, роль еще большую, как бы ни повернулось дело». (А. Блок, Соч. в двух томах, т. 2, стр. 704).
318 Февраль 22
Вместе со Станиславским и Москвиным беседует с исполнителями об инсценировке «Села Степанчикова».
Февраль 27
В «Русском слове» появилась заметка: «Кандидатура Вл. И. Немировича-Данченко в председатели театрального съезда».
Февраль – март
Почти ежедневно репетирует «Село Степанчиково».
Март 8
Выступает с воспоминаниями о М. Г. Савиной на вечере ее памяти в Александринском театре и рассказывает, как он переделывал свою пьесу «Золото» «в том направлении, какое ему было подсказано чутьем Савиной»: «Она находила этот брак [брак Валентины в финале пьесы] недопустимым для героини, распыляющим цельность образа, изменой тому главному, что увлекло артистку в роли. Развязка пьесы, как она была написана, могла казаться правдивой, жизненно-правдивой и даже удовлетворяющей мещанским вкусам. Люди… стремящиеся вынести из театра мораль узкую, “удобную для житейского обихода”, должны были остаться довольны именно такой развязкой. Но та высшая правда, которая принадлежит искусству, бунтовала в душе артистки. И этот бунт поднимался каждый раз, как репетиция приближалась к последнему действию». (Вл. И. Немирович-Данченко, «Правда художника». Машинопись с авторской правкой. Архив Н-Д, № 7282).
Март 9
Статья Вл. И. Немировича-Данченко «Надежда» напечатана в однодневной газете «Артисты Москвы — русской армии и жертвам войны».
Март 10
Работает над ролями Ростанева и Фомы Опискина со Станиславским и Москвиным.
Март 15, 18
На Большой сцене репетирует «Село Степанчиково» (картины: «Погоня» и «Кабинет Фомы»).
Март
В письме к В. Ф. Грибунину пишет о новом режиссерском замысле пьесы Чехова «Дядя Ваня». (См. Избранные письма, стр. 334 – 336).
319 Март 29
Вместе со Станиславским и Лужским проводит беседу с исполнителями о пьесе «Роза и Крест» в присутствие А. Блока.
Март 29 – 31
«Каждый день в половине второго хожу на репетицию — расходимся в шестом часу. Пока говорю, главным образом, я: читаю пьесу и объясняю. Еще говорит Станиславский, Немирович и Лужский, а остальные делают замечания и задают вопросы». (Из письма А. Блока к матери. М. А. Бекетова, Александр Блок., П., 1922, стр. 205).
Апрель (до 21)
Ведет репетиции «На дне» с новыми, молодыми исполнителями: «“На дне” возобновлено лучше, чем можно было ожидать, принимая во внимание, что: Смышляев — ученик, что Бакшееву, по моему упорному убеждению, никогда не следует играть молодых и особенно драматических… Шевченко будет играть хорошо. … Массалитинов хорош. В первом представлении “На дне” может и хочет играть Дикий». (Из письма к Лужскому. Архив Н-Д, № 1050).
Июнь 15
Приезжает в Кисловодск.
Июнь 20
Спорит с Мережковским из-за его статьи о спектакле «Будет радость». «Завтра я освобождаю себя от Мережковских, а то утомили!
… С Философовым я вел себя холодно сегодня. Так буду и продолжать. Думаю, что он — настоящая пройда и скверная.
Андреев, Мережковские… Это надо знать». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2419).
Июнь 29
Видится с композитором С. В. Рахманиновым. Просит его написать музыку к драме Блока «Роза и Крест».
Июль 1
«Газеты вчерашние и сегодняшние немного волнуют. Наше наступление — пока что круто остановилось». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2429).
320 Июль
В записной тетради 1915 – 1916 гг. заметки о «Романтиках» Мережковского224*: «Если ей [Варваре] оставаться с Дьяковым, то тогда делать выбор между ним и Мишей — между нереволюцией и революцией».
Август 8
В письме к Станиславскому пишет о «Романтиках» Мережковского: «Я не могу отделаться от привкуса спекуляции возвышенными идеями. Это какая-то особенная спекуляция, не просто, откровенно шарлатанская, не грубая, но липкая, изворотливая. От своих религиозно-философских споров он хочет демонстрировать через театр свои временные взгляды». (Архив Н-Д, № 1713).
Август 13
Возвращается в Москву, занимается административными делами театра.
Август 15
Ночью читает пьесу А. Толстого225*: «… В 1/2 1-го ночи звонил ему. Очень талантливая. Что-то тут и от “Грозы” и от “Екатерины Ивановны” и от “Цены жизни”, но самостоятельная. Очень дерзкая. Есть слабые места, но так как пьеса задумана цельно, то это уже не беда, можно и исправлять. Конечно, это не высший разряд, так что не могу решиться сразу принять пьесу». (Из письма к жене от 16 августа 1916 г. Архив Н-Д, № 2438).
Август 16
«Выступление Румынии… сильно двинет дело войны в нашу пользу». (Там же).
Август 17
«Вчера перечитал пьесу Толстого и охладел к ней. Много талантливого, но уж очень под влиянием “Екатерины Ивановны”. Тех же щей…». (Там же, № 2439).
Август 19
Пишет жене о том, что удручен необходимостью ставить пьесы Сургучева.
Приступил к репетициям пьесы Рабиндраната Тагора «Король темного покоя»226*.
321 Август 20
Слушал в «Эрмитаже» «Периколу». «Очень, очень слабо. Но музыка напоминала юность и “щекотала”». (Из письма к жене от 21 августа 1916 г. Архив Н-Д, № 2443).
Август 24
Решил не ставить «Романтиков» Мережковского.
Август 25
«Только бы хорошо шли наши военные дела». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2446).
Август 26
Проводит экзамены поступающих в сотрудники Художественного театра.
Август 27
Участвует в возобновлении старых спектаклей («Иванов», «Дядя Ваня», «Горе от ума»): «Надо восстановить художественную крепость в каждой пьесе — то, что утрачено, — зерно духовное». (Из записной тетради 1915 – 1916 гг.).
Август 30
В письме к жене возмущается людьми, наживающимися на войне: «Нет такого наказания, которое было бы достаточно для этих господ». (Архив Н-Д, № 2450).
Сентябрь 2
Предполагает, что новый главнокомандующий немецкой армией Гинденбург готовит большой удар.
Вечером приходит в лазарет, устроенный Художественным театром. В связи со второй годовщиной работы лазарета там был концерт актеров МХТ для раненых.
Сентябрь 3
Готовит интервью для газет о сезоне: «Трудно это!.. Все спуталось». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2454).
Сентябрь 6
Был в театре Н. Ф. Балиева «Летучая мышь»: «Говорят, что он [Балиев] стал совсем лавочником. Заботы только о деньгах. И актеры его бранят за непозволительную жадность». (Из письма к жене от 9 сентября 1916 г. Там же, № 2547).
Сентябрь 8
Редакция газеты «Русское слово» просит Немировича-Данченко 322 написать статью о скончавшемся артисте Малого театра К. Н. Рыбакове.
Возобновляет «Горе от ума», работает над сценой бала.
Сентябрь 9
Репетирует «Смерть Пазухина».
Сентябрь 10
Возлагает на гроб К. Н. Рыбакова венок с надписью: «Памяти дружеских мечтаний и трудов». (Из письма к жене. Архив Н-Д, № 2458).
Сентябрь 15
На открытии сезона в МХТ идет спектакль «Горе от ума».
Сентябрь 23
Репетирует «Розу и Крест» А. Блока: «Припоминали сцены, которые проходили весной. Вл. Ив. сделал свои замечания, далее беседовал о пьесе и отдельных ролях». (Из дневника репетиции).
Октябрь 1
Из письма к Станиславскому: «К “Розе и Кресту” я только прикоснулся. Еще много дела просто с отдельными исполнителями — самого важного пока для меня». (Архив Н-Д, № 1714).
Октябрь 3 – 10
Ведет репетиции драмы «Роза и Крест» с Лилиной, Качаловым и другими.
Октябрь 6
Пишет Л. Андрееву: «… театр не может и не хочет подделываться, лгать или подчиняться таким Вашим требованиям, как автора, которые враждебны его искусству…
Может быть, Художественный театр и Вы — два таких различных организма, которые духовно слиться не смогут…». (Избранные письма, стр. 337).
Октябрь 11
Со Станиславским, Добужинским, Москвиным и другими обсуждает принципы постановки «Роза и Крест».
Октябрь (после 14)
В письме к Е. Чирикову: «С чем совершенно согласен, конечно, 323 что в буржуазных темах современной драматургии будущий народный театр не получит источников. И всякий зрелый талант всегда потянется за творчеством к народным мифам.
… Разве надо выбросить совсем из души все, чем жива современная душа писателя и благодаря чему она на многое, даже в мифе, смотрит по-новому?» (Черновик. Архив Н-Д, № 2027).
Октябрь (середина)
Пишет А. Блоку: «В особенности мне повидаться с Вами было бы хорошо. Я рассказал бы Вам, чем я увлечен, какие у меня замыслы, а Вы прокорректировали бы меня». (Избранные письма, стр. 338).
Октябрь 24 – 30
Репетирует «Розу и Крест». Занимается отдельными ролями, главным образом ролью Изоры с О. В. Гзовской.
Ноябрь 1
В письме к А. Блоку сообщает о результатах репетиций драмы «Роза и Крест»: «Замыслом всей поэмы я, кажется, достаточно овладел. По всем линиям содержания, фигур и брезжащей вдали формы — кажется, не ошибаюсь. По крайней мере в моей душе уже сложилось нечто, что я могу защищать даже перед автором. Разумеется, опираясь исключительно на текст, откуда и черпает моя фантазия. Было несколько бесед, когда, казалось мне, актеры загорались моей фантазией. Однако проводить эти замыслы и приятно, и долго. Надо, чтоб в душах актеров зажили образы, живым чувством создающие общий замысел. … Просто, искренне, выразительно и в области настоящей поэзии, — до этого идеала далеко-далеко! Только-только начали понимать, чего искать у себя, в своих темпераментах.
… Рахманинов, с которым я провел день беседы, прекрасна понимает “Розу и Крест”…
Я и Рахманинов сошлись на мысли, что музыки в обычном смысле, как это всегда делается, здесь совсем не надо.
Говоря широко, нужен только великолепный, гениальный (скрябинского тона) романс Гаэтана. Этот романс будет интродукцией…». (Избранные письма, стр. 340).
Ноябрь 11
Из письма Федора Сологуба к Немировичу-Данченко: «Л. Н. Андреев передал Вам мою пьесу “Узор из роз”. Как видите, с постоянством, достойным лучшей участи, я показываю Вам все мои новые пьесы, каждый раз питая вновь возобновляющуюся надежду, что на этот раз Художественный 324 театр преодолеет свое равнодушие ко мне, или свою ко мне нелюбовь. Я слышал, что мой рассказ “Барышня Лиза” Вам понравился. … Нынче летом я работал не мало над инсценировкою рассказа. … Вы, надеюсь, не осудите моего желания поскорее знать Ваше решение, — это нетерпение естественно в авторе, который для Вашего столь строгого к нему театра все еще является начинающим». (Архив Н-Д, № 5756).
Ноябрь 28
Советует Л. Андрееву передать пьесу «Младость» Второй студии МХТ.
Декабрь 2
Художник Добужинский показывает Владимиру Ивановичу планировку картин «Розы и Креста».
Декабрь 7 – 17
Репетирует «Короля темного покоя» и «Розу и Крест».
Декабрь 13
Был в Малом театре на генеральной репетиции пьесы А. И. Сумбатова-Южина «Ночной туман».
Декабрь
«Театр не призван ни учительствовать, ни проповедовать, а только радовать. Но радости театра, который общество считает одним из своих просветит[ельных] учреждений, должны звучать призывом к лучшему. Без этого призыва к лучшему радости театра не возвышаются над уровнем мещанских развлечений». (Из записной тетради 1915 – 1916 гг.).
Был на оперных спектаклях Мариинского театра «Чио-Чио-Сан» Д. Пуччини и «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. А. Римского-Корсакова. «К Мариинскому театру я вообще питаю род недуга. Там больше чем где бы то ни было сохраняется и поддерживается культура искусства. А она меня всегда подкупает». (Из письма к В. А. Теляковскому. Избранные письма, стр. 342).
В Александринском театре смотрит «Ночной туман» А. И. Сумбатова-Южина.
Декабрь (конец)
«Да и разве плохо, что есть важные пункты, где я не могу соглашаться с Вами? Ведь Вас хоть зарежь, Вы не откажетесь от того, в чем Вы убеждены. Ну, так же и я: есть очень 325 немногое, но настолько, по-моему, важное, чего я в своих убеждениях уступить не могу». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1718).
1917
Январь (начало)
В письме к Южину сравнивает постановку «Ночного тумана» в Малом и Александринском театрах. «Мои вкусы — на стороне Александринцев. Не потому только, что тут темп и общая слаженность к 11-му представлению выше того же на вашей генеральной, но, главное, потому, что мне это искусство ближе: по простоте, легкости, отсутствию навязчивости и подчеркнутости и особенно сентиментальности.
Замечательно рельефны в моих восприятиях от “Ночного тумана”… очертания настоящего, искреннего, талантливого, крепко владеющего самым строгим вниманием зрителя (меня, в данном случае) и очертания того ложного, сентиментального, не настоящего, мною неприемлемого, что всегда было разного между мною и Тобою, от чего я всеми силами старался, с раннего времени, уйти, и что искусство Малого театра все еще культивирует.
… И сколько бы я ни припоминал наших многолетних взаимоотношений, как в жизни, так и на театре, во всех случаях, где вскрывалось Твое настоящее, Твоя правда сущая, Ты был близок мне и заволакивал меня обаянием. Наоборот, когда Ты находился во власти того искусства, которое Ты так преданно, верноподданно полюбил, — Ты был мне чужой». (Архив А. И. Южина. ЦГАЛИ).
Январь 5
В письме к Станиславскому: «Я всегда считал и считаю Вас одним из благородных людей, с какими сталкивался в жизни. … Давно известно, что чем больше мы с Вами расходимся, тем это удобнее для “ловцов рыбы в мутной воде”. Мне это надоело, опротивело, осточертело. Не хочу больше». (Архив Н-Д, № 1719).
Январь 12
«Художественный театр давно находится в репертуарном тупике»227*. (Из выступления Немировича-Данченко на заседании 326 пайщиков МХТ. Архив внутренней жизни театра. Музей МХАТ).
Январь 14 – 28
Репетирует «Розу и Крест».
Январь 25
«Большое искусство всегда идеалистично228*, потому всегда революционно и всегда радикально. Искусство устанавливает идеальную правду. Через поэтов люди узнают красоту. Через поэтов же правду жизни. В творении законов добра и совести Толстой, Достоевский, Шиллер участвовали больше Ликурга, Марка Аврелия или Спенсера. Жизнь всегда отстает от правды, устанавливаемой искусством. Правда, облеченная в красоту формы, говорит душе сильнее глагола пророка.
… Нашу правду, которую называют “русской правдой”, создавали в жизни не только схимники, аскеты и великие правдолюбцы, но и наши поэты. Это — та правда, в которой так сказывается гений русской нации. Ее последние символы еще не сказаны.
… Но правда устанавливается, правда идеальная, правда радикальная, правда крайняя бытовой морали, правда революционная.
… Сложна, глубока и трудна жизнь физическая, потому что она причиняет много страданий, но еще больше муки нравственной жизни, потому что торжество правды брезжется в будущем, когда жизнь на земле станет прекрасной…
Гармония жизни и веры в искусстве…
Совесть перед поставленной правдой, идеализмом. Вся жизнь Леопольда Антоновича [Сулержицкого] представляется мне стремлением к этой гармонии. Не судил он, но всякое нарушение равновесия было его мукой, а вера — радостью.
Вера в идеальное — есть молодость духа». (Черновой набросок речи на траурном собрании памяти Л. А. Сулержицкого. Автограф карандашом. Архив Н-Д, № 7244).
Февраль (до 15)
В письме к Лужскому: «Я должен дать ответ Сологубу, — какие у нас планы на “Барышню Лизу”»229*. (Архив Н-Д, № 1055).
Февраль 18
Созывает совещание учредителей акционерного общества «Московские общедоступные театры».
327 Март 11
Председательствует на собрании писателей в Петрограде.
Март 28
Из письма А. Блока: «Если бы Вы могли представить себе ту обстановку, в которой приходится жить на фронте, Вы не посетовали бы на меня за то, что я ничего не мог Вам ответить на Ваше подробное и заботливое письмо…» (Архив Н-Д, № 3319).
Март – апрель
Из записной книжки 1917 года: «А не бередит ли искусство общественную совесть? Не подготовляет ли оно новую революцию?.. Начинает вводить в умы людей яд идеалов, недостигнутых совершенной революцией».
«Что значит революция в театре?
Приходит революция, — организация, задерживавшая накопившиеся мечты и возможности, рушится и наступает время обновления.
… Надо, чтобы граждане России сознали, что театры нужны так же, как школы, университеты…».
«Какое место займем мы в жизни свободной России?»
Апрель (начало)
Временное правительство предлагает Немировичу-Данченко участвовать в комиссии по реорганизации государственных театров.
Апрель 13
Показывает А. Блоку репетицию первого акта и второй картины второго акта «Розы и Креста». После репетиции беседует с ним.
Апрель 17
Из письма Блока к матери: «Немирович-Данченко сказал мне, что я не понадоблюсь в театре до сентября. Сам он не уходит, но Гзовская почти наверно уходит; что и когда будет с пьесой, не знаю.
… В театре, конечно, тоже все отвлечены чрезвычайными обстоятельствами и заняты “политикой”». (А. Блок, Соч. в двух томах, т. 2, стр. 716).
Апрель 23
Считая чрезвычайно важной постановку пьесы «Король 328 темного покоя» Рабиндраната Тагора230*, решает «взять пьесу в свои руки». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1720).
«Без “сдвига” репертуара от натурализма в сторону “Розы и Креста” и Тагора считаю Художественный театр в опасности». (Из письма к Г. М. Хмаре. Там же, № 1720/1).
Май 4 – 8
Репетирует драму Тагора «Король темного покоя».
Май 16
Вступает в переговоры с Правительственной комиссией при Совете Рабочих Депутатов об организации общедоступных спектаклей.
Май 23 – 31
Репетирует «Розу и Крест», работает с художником Добужинским.
Июнь 18
«Началось наше наступление». (Из записной книжки 1917 г.).
Июнь 19
«Еще 5300 пленных, 21 орудие, 16 пулеметов». (Там же).
Июль (до 3 – 5)
«Война, не разрешившаяся революция, продовольственная разруха… Роковая необходимость защищаться до последней крайности всеми правдами и неправдами и на помощь Германии — большевистская революция в России и интернационал в Стокгольме. … За последнее время мы наглядно убедились, что всплывшие вперед революционные элементы относятся к нам ярче, определеннее, прямодушнее. Я начинаю думать, что для них искусство [значит] больше, чем для буржуазии. Для них оно — радость более захватывающая и вдохновляющая, а потому и более необходимая, чем для буржуазии, для которой искусство уже простая привычка». (Из письма к Лужскому. Черновик. Архив Н-Д, № 1062).
Июль 3 – 5
В записной книжке 1917 г.: «Петроградский мятеж».
329 Июль 6
«Катастрофа на юго-западном фронте». (Там же).
Июль 16
«Как пойдут события на войне?.. Как развернется наша внутренняя политика? … Во что выльется большевизм?
… И какую роль в гражданской жизни играют театры, искусства, деятели его? Что мы из себя представляем». (Из письма к Лужскому. Архив Н-Д, № 1062/2).
Июль
В записной книжке излагает очерк А. И. Куприна «Искусство»: «Одного скульптора спросили: “Ну, как связать искусство с революцией?” Скульптор показал статую раба, разрывающего цепи. Это было прекрасно, и [он] сказал: “Теперь я понимаю радость борьбы”».
Пишет С. В. Рахманинову, что «героическое» в революции вдохновляет его «веру в земное освобождение», но противопоставляет политической революции революцию духовную. «Политическая революция это только разрыв внешних цепей. Для высшего освобождения нужна революция духовная…». (Черновик письма. Записная книжка 1917 г.).
Июль (конец)
«Революция на 4 – 5 месяце. Керенский. Советы Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Большевики-ленинцы.
… Два массива: буржуазия с кадетами во главе и демократия с Советами.
… Здесь в гостинице231* группы петроградских дворян… все время полны бесед о политике. Чем хуже дела, тем контрреволюционнее тон бесед.
… Забастовка прислуги». (Из записной книжки 1917 г.).
Август 16
«Все мы, конечно, в величайшей степени захвачены политическими событиями, и перед нами… естественно встает вопрос о том, что такое артисты, художники перед лицом политики… Открыть сезон в середине октября… А до этого исполнить наш общественный долг спектаклями по приглашению Совета Рабочих Депутатов (в театре бывш. Зимина)». (Из выступления на собрании Товарищества МХТ. Музей МХАТ).
Август 17
Посылает срочную телеграмму военному министру о том, 330 что планы образцового народного и солдатского театра разрабатываются.
Август 18 – 31
Репетирует «Розу и Крест».
Август 28
В связи с предстоящими спектаклями МХТ в Театре Совета Рабочих Депутатов говорит: «Чрезвычайно важно, — даже в политическом смысле, чтобы появление всех частей наших на сцене С[овета] Р[абочих] Д[епутатов] было обставлено исключительной порядливостью, дисциплиной и вообще культурностью». (Из протокола заседания правления МХТ. Архив внутренней жизни театра. Музей МХАТ).
Сентябрь 2 – 24
Ведет репетиции «Села Степанчикова».
Сентябрь 8
Просит оборудовать помещение, из которого можно сделать музей театра.
Сентябрь
Репетирует «Розу и Крест» и «Село Степанчиково». Советует Станиславскому отказаться от роли Ростанева и передать ее другому исполнителю — Н. О. Массалитинову232*.
Сентябрь (до 15)
Пишет Станиславскому: «В январе я Вам писал из Петербурга крепко и определенно о моем отношении к Вам. С тех 331 пор тут ничего не изменилось. Да и не может: это на всю жизнь. Между тем, при Вашей мнительности история со “Степанчиковым” может казаться Вам противоречием моему январскому заявлению. Хотелось бы, чтоб Вы мудрее взглянули на мою печальную роль в этой истории.
Никто больше меня не обрадуется, когда у Вас будет новая, удачная роль. Ручаюсь, что никто.
Но именно я не смею умалчивать перед Вами, когда роль не ладится. Это грустная сторона обязательств, которые налагает 20-летняя совместная работа.
Другая часть этой истории со “Степанчиковым” — режиссерская… Моя забота сводится к тому только, чтоб сохранить неприкосновенным все прекрасное, что Вы внесли в постановку, и залатать то, что Вы не успели сделать. Для меня самого такая роль — не из завидных». (Архив Н-Д, № 1724).
Сентябрь 15
Из ответного письма Станиславского: «Я переживаю очень тяжелое время… Мечтаю только об одном: забыть обо всем, что было, и больше не видеть ничего, что относится к злосчастной постановке». (Архив К. С.).
Сентябрь 21
Сообщает Станиславскому о результатах последней репетиции «Села Степанчикова»: «Я думаю, что выполнил все свои задачи хорошо. Все то прекрасное, что было Вами внесено в исполнение и в ансамбль, сохранил прочно; недостаток интересной живописной рамки свел до minimum’а; внутренняя трагикомедия вырисовалась очень рельефно». (Архив Н-Д, № 1722).
Сентябрь 25
Накануне премьеры «Села Степанчикова» пишет Станиславскому: «Москвин сильно переменил тон… перейдя на огромную серьезность233*. Это подняло пьесу в значительности». (Там же, № 1723).
Сентябрь 26
Первый спектакль «Села Степанчикова».
Сентябрь 27
Просматривает декорации Добужинского к первому действию «Розы и Креста».
332 Октябрь 2
Проводит совещание по монтировке спектакля «Роза и Крест» и предлагает ввести занавес с эмблемой «Розы и Креста».
Октябрь 3 – 17
Репетирует «Розу и Крест».
Октябрь 5
«Сегодня Мчеделов сообщил мне, что на исправление [первого действия “Розы и Креста”] потребуется две недели. Это с первым актом, который считается готовым, тогда как остальные едва начаты! Таков результат работ, на которые тратилось время с мая по сентябрь. Очевидно, между нами и художественной частью происходит какое-то, я бы сказал, вопиющее недоразумение…». (Из докладной записки Немировича-Данченко правлению МХТ. Музей МХАТ, № 5187/1).
Исполнилось 35-летие сценической и литературной деятельности Вл. И. Немировича-Данченко.
Октябрь 23
В протоколе репетиции запись: «Около 4-х часов все бывшие на репетиции в театре пошли в Первую студию слушать чтение М. Горького — его новой пьесы “Старик”».
Октябрь 24
В комнате Товарищества МХТ М. Горький должен был читать перевод пьесы Голсуорси «Борьба»234*.
Октябрь 25 (ноябрь 7)
Из доклада В. И. Ленина на заседании Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов: «Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась». (В. И. Ленин, Соч., т. 26, стр. 208).
Октябрь 27
«Шла пьеса “У жизни в лапах”. Малютин позвонил мне из госпиталя Белостокского о том, что с ночи ожидается восстание большевиков». (Из записной книжки 1917 г.).
Октябрь 28
И. М. Москвин, дежурящий в театре, сообщает: «11-40 утра. — В театре Вл[адимир] Ив[анович]… На улице пальба — 333 пулеметы… кажется, что стреляют из орудий. В лазарете (в доме Лианозова) суета. Поминутно привозят раненых. Телефоны не работают. Цепь солдат с пулеметом выстроилась по переулку, против театра. Солдаты тревожно смотрят в сторону Б. Дмитровки, Тверской. Их куда-то увели. Никто не знает, за кого они: за большевиков или Временное правительство. Публики на улицах много. Паники не видно.
12 ч[асов] дня. Вл[адимир] Иван[ович] советует отменить спектакль. В театр часто звонят, из театра звонить нельзя. Пальба продолжается. В переулке снова цепь солдат — ружья наперевес… Серьезный бой, по слухам, у Национальной гостиницы. Там засел 56 (большевистский) полк…». (Из дневника дежурных членов Товарищества МХТ. Музей МХАТ).
Октябрь 31
«Вечер. 5-й день революции.
… Все пути находятся под обстрелом…
Были телефоны часов до 11, потом пресеклись.
Газеты вышли “Труд”, “Вперед”, “Социал-демократ”.
Никитская в сфере огня». (Из записной книжки 1917 г.).
Ноябрь 1
«31 и в особенности 1 ноября самые бурные дни». (Там же).
Ноябрь 2
«К вечеру стихло». (Там же).
Ноябрь 3
«С утра все кончилось». (Там же).
Ноябрь 6 – 7
Поддается слухам о том, что большевики разрушают памятники старины. Ставит вопрос: играть или не играть спектакли в Театре Совета Рабочих Депутатов?235*
Ноябрь 9
В. И. Ленин подписывает декрет СНК об учреждении Государственной комиссии по просвещению, в которую входит 334 отдел искусств. А. В. Луначарский предлагает театрам выработать формы сотрудничества с Советской властью.
Ноябрь 10
Немирович-Данченко принимает решение незамедлительно приступить к репетициям в Художественном театре.
Ноябрь 21
Немирович-Данченко записывает в дневнике дежурных членов Товарищества МХТ: «Первый день спектаклей после Октябрьской революции… Утром и вечером (“Синяя птица” и “Три сестры”) сборы совсем полные. Состав утренней публики почти обычный — средней интеллигенции; … очень мало рабочих или солдат — попадается, но мало. Состав вечерней публики не смог уловить… низшей демократии, если позволено будет так выразиться о рабочих и солдатах, опять, как и утром, почти нет. То есть не больше, чем это бывало раньше в Худож[ественном театре]. Я ходу сказать, что ее (демократии) торжество еще не привело ее в Худож[ественный] театр. Но и решительное отсутствие наиболее дорогой буржуазии». (Музей МХАТ).
Ноябрь 22
Труппа Малого театра пришла к артистам Художественного театра, чтобы договориться об общей административной и художественной работе.
Декабрь 3
Посмотрев спектакль «Синяя птица», Немирович-Данченко записал в дневнике спектаклей: «Давно не видал первого акта и не порадовался сегодня. Трудно играть более вяло и не отчетливо».
Утренний спектакль задержался на 10 – 15 минут, так как «уличные манифестации задерживали многих из публики».
Декабрь (до 8)
Избран председателем театральной секции при Совете искусств.
Декабрь 8
Принимает участие в разработке проекта государственных театров.
335 Декабрь 31
На общем собрании Товарищества МХТ обсуждается проект театра «Пантеон»236*, Немирович-Данченко выступает против замены Художественного театра рядом студий: «Художественный театр это, во-первых, не есть только актерские переживания. Конечно, это главное, главнейшее, но не все… Художественный театр это и сценические искания Станиславского, и литературный подъем, внесенный Немировичем, это — и новая закулисная этика, и тихие коридоры, и красивая, со вкусом сделанная афиша. Художественный театр — это культурное учреждение, которому верит не только Москва, но и знающая театр Россия, — это все вместе. … Я отношусь к студии с самой широкой благожелательностью и благодарностью, и даже каким-то приятным тяготением, но она меня до тех пор интересует, пока она оправдывает свое название студии Художественного театра». (Из протокола собрания Товарищества МХТ. Архив внутренней жизни театра. Музей. МХАТ).
336 1918 – 1928
«Расширение общественных задач» Художественного театра.
Проект реформы Большого театра. Организация Музыкальной студии. Воспитание
актера-певца. Работа в студиях МХАТ. Письмо ЦК РКП (б) «О пролеткультах».
Непримиримое отношение Немировича-Данченко к формалистическому искусству.
Отъезд труппы МХАТ на гастроли в Европу и Америку.
Вл. И. Немировичу-Данченко присвоено звание народного артиста
республики. Смерть В. И. Ленина. «Курс на современность». Постановка
«Пугачевщины» К. Тренева. Гастроли Музыкальной студии МХАТ в Европе и
Америке. 15 месяцев в Голливуде. Американские впечатления и вывод
Немировича-Данченко: «Советский театр — самый передовой в мире».
Театральное совещание при Агитпропе ЦК ВКП (б). Репетиции «Блокады»
Вс. Иванова. 30-летний юбилей МХАТ.
1918
Январь 3
Общее собрание Товарищества МХТ «открывается внеочередным заявлением Вл. И. Немировича-Данченко о том, что профессиональный союз московских актеров приступает к организации демократических спектаклей в “Военном театре” (бывш. “Аквариум”). Ввиду того что вопрос о продолжении демократических спектаклей, начатых в помещении Театра Совета Рабочих Депутатов (бывш. Зимина), еще окончательно не решен… принимается предложение: давать спектакли МХТ в помещении “Военного театра”». (Из протокола собрания. Архив внутренней жизни театра. Музей МХАТ).
Январь – февраль
Добивается скорейшего осуществления спектаклей МХТ для народа. Занимается организацией общедоступных утренников для рабочих фабрик и заводов.
Февраль 22
Был в Художественном театре на репетиции драмы Л. Н. Толстого «И свет во тьме светит».
Февраль 27
Был во Второй студии МХТ на спектакле, составленном из инсценировок произведений Лескова, Тургенева, Достоевского.
337 Март (до 16)
Доводит до премьеры возобновленный Пушкинский спектакль Художественного театра.
Март 20
На репетиции «Розы и Креста» просматривает декорации Добужинского для третьего акта. «Влад. Иван, считает, что при этой декорации (“Башня неутешной вдовы”) трудно мизансценировать. В декорации “Розовой заросли” — дверь не годится: слишком бутафорская, чувствуется холст». (Из дневника репетиции).
Март
Участвует в заседании Художественного совета при Большом театре.
Апрель 7
Получает письмо от молодого актера МХТ А. Д. Попова, который просит отпустить его из Художественного театра для работы на периферии. (Архив Н-Д, № 5397).
Апрель (до 26)
Совместно с Е. Б. Вахтанговым репетирует «Росмерсхольм» Ибсена в Первой студии.
Май 4
Алексей Толстой дарит свою книгу «Комедии о любви» с надписью: «В память наших бесед». (Музей-квартира Вл. И. Немировича-Данченко).
Июнь (начало)
Вместе со Станиславским обсуждает принципы постановки «Розы и Креста». Говорит, что в сцене праздника предпочитает «откровенное отсутствие декораций». (Из записной тетради 1917 – 1920 гг.).
Июнь 17
М. П. Лилина сообщает матери А. Блока, что новый сезон должен начаться спектаклем «Роза и Крест». «Кажется, Влад[имир] Иван[ович] доволен Кореневой в роли Изоры. … Роль Алисы передали Пыжовой, совсем молодая актриса, но талантливая, и данные для Алисы есть… Кажется, не дошел еще Массалитинов, слишком реален и без поэзии. Качалова хвалят… Обстановку взял на себя Конст[антин] Серг[еевич], и если обстоятельства не помешают, то замысел очень интересный…». (ЦГАЛИ).
338 Лето
Лечится в санатории Гребнево под Москвой. Встречается там с Е. Б. Вахтанговым.
Август 3
«Когда, начинать сезон? Какое направление: новые постановки или текущий репертуар? И какой пьесой начинать?» (Из записной тетради 1917 – 1920 гг.).
Сентябрь 12
«По многим частностям считаю, что подготовка к началу сезона не полная, много промахов со стороны администраций и театра и сцены. Спектакль выручают артисты. Конечно, организация Художественного театра настолько сильна, что не может быть разрушена сразу, но если не обратить внимания на все немедленно, то при современных условиях труда разруха потрясет и наше дело!» (Из дневника спектаклей 1918 – 1919 гг.).
Сентябрь 16
Выступает на открытии школы при Второй студии: «В каждом начинании всегда должно быть новое… говоря о жизненности на сцене, отнюдь нельзя принимать это слово в его буквальном значении… природа чувств на сцене и природа чувств в жизни совсем иная, да и самые чувства на сцене иные: будь то горе, радость, грусть, скука и т. д. — все эти чувства должны быть преображены и освещены праздником сцены». (Архив Н-Д, № 7614).
Сентябрь 19
В «Известиях ВЦИК» опубликовано Положение о Театральном отделе Наркомпроса, который должен осуществлять «руководство театральным делом в стране в широком государственном масштабе».
Сентябрь 24
Издан декрет СНК «О сохранении художественных ценностей и памятников старины», подписанный В. И. Лениным.
Октябрь – ноябрь
Ведет репетиции пьесы Чехова «Иванов». Об этих репетициях рассказывает А. Д. Дикий, работавший тогда над ролью Львова: «Владимир Иванович рассматривал чеховскую пьесу как драму безвременья, сломившего сильного человека — Иванова…
… Мы репетировали четвертый акт. По старой планировке Художественного театра Львов произносил свою, знаменитую реплику: “Николай Алексеевич Иванов, объявляю во всеуслышание, 339 что вы подлец!” — едва появившись в дверях гостиной Лебедевых. Когда мы подошли к этому месту, Владимир Иванович остановил репетицию и, обратившись ко мне, сказал: “Алексей Денисович, если бы я предложил вам самостоятельно выбрать мизансцену для данного куска, как бы вы себя повели?” Не знаю, выручила ли меня интуиция или самый вопрос Владимира Ивановича предполагал ответ, который я разгадал, но только я, не задумываясь, крупными шагами прошел через всю сцену к центру и оттуда, установившись в эффектную позу, громко, чтобы всем было видно и слышно, послал свою реплику прямо в лицо Иванову. “Репетиция продолжается!” — крикнул Владимир Иванович, закрепляя тем самым мою мизансцену. Впоследствии она сохранилась в спектакле, подчеркивая характерную черту Львова — его склонность к эффектам, к публичности, к демагогии. И как мне было всегда легко, как удивительно “шли” у меня эти слова из-за того, что здесь я невольно нащупал природу самочувствия “идейного” земца Львова.
… Не менее охотно Владимир Иванович делал нам частные замечания, идущие по разным колеям толкования роли — по линии характерности, стиля и жанра, ритма, “лица автора”. Все это он отличал в совершенстве». (А. Дикий, Повесть о театральной юности, М., «Искусство», 1957, стр. 193 – 194).
Ноябрь 12
Премьера возобновленного спектакля «Иванов».
Ноябрь 18
На заседании Совета Большого театра объявлено, что Немирович-Данченко будет руководить отдельными постановками и вести занятия с артистами Большого театра.
Ноябрь
Готовится к постановке оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» в Большом театре, мечтает о преобразований оперного искусства.
Декабрь 3
Встреча артистов Большого театра с деятелями Художественного театра, давшими согласие участвовать в постановках Большого театра.
Декабрь 12
Выступает в прениях по отчетному докладу Театрального отдела Наркомпроса на особом совещании под председательством А. В. Луначарского. «Если современное правительство придает такое огромное значение для народа искусству, театру… если театр должен сыграть такую колоссальную роль, то 340 все заботы должны быть направлены к тому, чтобы театр был хорошим. … Народу нужен театр, как радость». (Из стенограммы выступления. Центр, гос. архив Октябрьской революции и социалистического строительства СССР, фонд 230).
Декабрь 13
В последний раз Станиславский репетирует «Розу и Крест»: «Для меня то, что весь труд по “Розе и Кресту” затормозился и заглох — было большим ударом». (Черновые заметки Немировича-Данченко. Архив Н-Д, № 5575/1369).
Декабрь 17
Общество любителей российской словесности при Московском университете избирает Немировича-Данченко почетным членом.
Декабрь 18
Смотрит «повесть в диалогах» Л. Андреева «Младость» во Второй студии МХТ.
Декабрь
Выходит монография Ю. В. Соболева «Вл. И. Немирович-Данченко», изд. «Светозар».
1919
Январь 6
«Не надо входить в Большой театр так, чтобы иметь дело со всем оркестром и хором. Надо дать туда артистов-солистов, несколько хористов, поющих, играющих из хора… И тон передать Большому театру». (Из записной тетради 1918 – 1919 гг.).
Январь 13
«Владимир Иванович заявляет, что он не видит пока большевиков среди молодежи, не видит тех “патетических вожаков”, которые могли бы повести за собою… Пусть они врываются в жизнь театра, пусть устраивают свой бунт; … пусть студии не будут так похожи друг на друга, пусть каждая студия несет свое, отстаивает его, пусть будет спор, даже, может быть, идейная драка, борьба, ибо в этом жизнь, ее вечное кипение, но только не мертвящий покой и самодовольство.
У нас ультра-реалистическая простота. … У нас все великолепно и — все по земле. … Ведь не всегда было так. Ведь среди нашего реализма был же тот пафос Константина Сергеевича, 341 который создал “Доктора Штокмана”. Это новое — есть. Эти “крупинки” нового уже есть вне нашего театра». (Из выступления по докладу «Искусство наших дней». Протокол «творческого понедельника»237*. Музей МХАТ).
Январь 17
Вахтангов пишет Немировичу-Данченко: «Я не могу, не могу не сказать Вам, какую тайную и большую благодарность я чувствую к Вам. Я никогда не говорил Вам о том, как жадно я поглощаю каждое Ваше слово об искусстве вообще и искусстве актера в частности, Вы и не знаете, как пытливо я ищу у Вас ответа на многие вопросы театра и всегда нахожу. Первая беседа о “Росмерсхольме” зарядила меня на все время работы, а когда Вы принимали работу, мне открылось многие. Душа и дух, нерв и мысль, качество темперамента, “секунды, ради которых все остальное”, четкость кусков, подтекст, темперамент и психология автора, отыскивание mise en scène, режиссерское построение кусков различной насыщенности и многое еще, значительное и прекрасное, изумительное по простоте и ясности, стало таким знакомым и наполнило меня радостной убедительностью». (Избранные письма. Приложения, стр. 517).
Январь 20
На «творческом понедельнике» выступает по докладу «Наша закулисная этика». «Начинает говорить Владимир Иванович. Он заметно волнуется, и его подъем как-то передается всем. Он возвращается к впечатлению от доклада. В этом докладе ему почуялась какая-то большая правда… И в его душу постучалось суровое, глубокое слово “ответственность”». (Из протокола «творческого понедельника». Музей МХАТ).
Январь 25
Из ответного письма Немировича-Данченко к Вахтангову: «Вы в двух строках так точно резюмировали, или вернее — тезисировали мои уроки, что, видимо, я тогда раскрывался не впустую. И, зная Вас и Вашу деятельность, я уверен, что лучшее из сказанного мною хорошо вырастится Вами». (Избранные письма, стр. 347).
Февраль 6
В «Вестнике театра» (№ 2) сообщение: Вл. И. Немирович-Данченко будет руководить постановкой балета «Красные маски» Н. Н. Черепнина в Большом театре.
342 Февраль 10
«Наступает время самых ярких представлений, каких не бывало в театре много лет.
… В театре должен вспыхнуть яркий свет темперамента, должен родиться пафос. Жизнь сделала колоссальную подготовку к этому — она расширила сердце для больших впечатлений, притупила слезливую сентиментальность. Искусство никогда не уйдет ни в монастырь, ни в лес к птицам». (Из протокола выступления Немировича-Данченко на «творческом понедельнике». Музей МХАТ).
Февраль 16
Запись в дневнике Вахтангова: «Сегодня, 16 февраля 1919 г., В. И. Немирович-Данченко пригласил к себе… и предложил организовать опереточную студию»238*. (Е. Б. Вахтангов, Записки. Письма. Статьи, стр. 189).
Февраль
В Большом театре вместе с Лужским ставит оперу Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка».
Март 17
В связи со спорами о романтизме и реализме, возникшими в Художественном театре, говорит: «Можно и в маленьком факте найти большую красоту. Маленький, заброшенный и заросший заборчик Левитана может произвести большее впечатление, чем вершины Монблана, нарисованные второстепенным художником. … Чехов творил из видимой, осязаемой им жизни, но через житейские вещи Чехова сквозила глубокая душа.
И будущие артисты ярких темпераментов воскресят “Вишневый сад” по-иному. У Л. Н. Толстого есть мысль, что всякое время может создать пьесу заново. … Как бы ни было прекрасно прошлое, в артисте, в художнике прежде всего самым ценным является современность. … Восприятие прошлого, великого и прекрасного, через современность, а не через трафареты старого, и есть самое ценное в искусстве. … Бурный поток жизни стремительно течет вперед, нельзя остановить этот поток, нельзя насильно вернуться назад, и в этом течении старые формы дробятся, новые — сияют и загораются новыми цветами, чтобы в свою очередь быть когда-нибудь разрушенными. … Было бы обидно видеть молодые глаза, устремленные с обожанием на прошлое, а не смотрящие с жадностью на неизвестное будущее. … Я считаю, что сегодняшний день лучше 343 вчерашнего, а “завтра” еще лучше, чем “сегодня”. И нам очень нужно думать и быть внимательными к новому, чтобы мы не оказались в архиве. … События огромны. … И теперь, идя от настоящих чувств, мы должны делать попытки лепить новые формы». (Из протокола выступления на «творческом понедельнике». Музей МХАТ).
Март 20
«Для урегулирования работ театра организуются три самостоятельных группы на федеративных началах, — самостоятельных и по составу, и по распределению работ, и по финансовой структуре. Все группы будут находиться в непрерывной духовной связи и известную часть своих спектаклей давать под общей фирмой МХТ.
… Большинство старших членов труппы входит в первую группу. Вторая группа составляется вокруг Первой студии. Третья находится еще на пути к выяснению.
Как член труппы МХТ Вы имеете право записаться в любую из групп…». (Из обращения Вл. И. Немировича-Данченко к труппе МХТ. Черновая рукопись. Архив Н-Д, отдел административных распоряжений).
Март 24
«Понадобилась мировая революция, чтобы Художественный театр встряхнулся, поднял голову… И быть может, он наконец расправит крылья, чтобы снова полететь. … Желание ставить в Художественном театре “Медею” родилось через большевиков. До революции публике нравилось, что на сцене театра все похоже на жизнь — и кушают, и ходят, и думают, как в жизни. И вот мы покрылись плесенью покоя и застоя. … Стремление к театральности было бессознательно заложено и в других искусствах. Творец как бы инстинктивно чувствовал зрителя. Отсюда у старых мастеров кисти, например у Тициана, Рафаэля, Рембрандта, появились величественные картинные позы, яркая выразительность жеста, прекрасная группировка фигур, т. е. те прекрасные мизансцены, которые и сейчас вызывают восхищение. Творец “Тайной вечери” в расположении фигур за столом проявил большую театральность. Одна из четырех сторон стола совершенно свободна и, открывая все фигуры, как бы предполагает зрителя». (Из протокола выступления Немировича-Данченко на «творческом понедельнике». Музей МХАТ).
Март 26
Пишет Е. К. Малиновской, что не может стать во главе Директории Большого театра: «В самом Художественном театре происходят реформы, волнительные и обнадеживающие.
344 Когда мы кладем на весы, как много я могу сделать здесь и как мало в Большом театре… то выбор становится очевидным. Бросить теперь Художественный театр — большее преступление, чем отказаться помочь Большому театру». (Архив Н-Д, № 2535).
Март 27
В связи с 50-летием со дня рождения А. М. Горького выступает с докладом о его творчестве в Политехническом музее.
Из письма Малиновской: «Сейчас вернулась от Луначарского, сказала ему о Башен отказе и своем уходе. Он удручен… Утешает, что не у меня одной пять фронтов, а и у Ленина, понимает безвыходность положения и просит убедить Вас». (Архив Н-Д, № 4840/1).
Март 27 – 28
В письме к Малиновской: «Я тоже не спал ночь и во мне крепло настроение определенно мрачное, почти злое… И вся эта закулисная безжалостность, и острота личных интересов, так знакомая мне по прошлому казенных театров и на борьбу с которой я отдал жизнь, сразу повисла надо мной… За ночь решение не идти в Директорию во мне еще более укрепилось». (Там же, № 2532).
Март 28
«Директория без Вас немыслима, я давно Вас об этом предупреждала… Несколько часов назад я ушла, не желая унижаться до просьб… но сейчас прошу… лишь бы сохранить Вас для Большого театра». (Из письма Малиновской. Там же, № 4840/2).
Из письма Е. Б. Вахтангова к Немировичу-Данченко: «Одно то, что мне было предложено право выбора, мне, не состоявшему до сих пор действительным членом театра, — одно ужа это для меня удовлетворение и радость. Я, естественно, не могу и не должен приписываться к группе театра: жизнь сделала так, что я не приобщился к основной группе его. Но, выходя даже из списка “сотрудников”, я испытываю печаль, о которой не могу не сказать Вам». (Е. Б. Вахтангов, Записки. Письма. Статьи, стр. 194).
Апрель
«Вот прошло недели три, а я ничего не сделал в Большом театре, и — исключительно благодаря моему отсутствию частому — застывает дело в Художественном.
Это же преступление!.. Надо же трезво взглянуть в глаза правде: я не в состоянии быть одновременно в двух этих учреждениях… 345 Я истерзался. Потому, что единственное качество, каким я обладаю, — моя добросовестность. Мне становится стыдно и у себя в театре, когда я без 10 м[инут] 3 часа смотрю на часы, и еще стыднее, когда я в половине шестого опять смотрю на часы в Большом театре. Мне стыдно, что я не доделываю дела ни там, ни тут. Я так жить не могу. Кооптируйте меня при всяком случае, но освободите меня от Директории». (Из письма к Малиновской. Архив Н-Д, № 2534).
Апрель (середина)
«Исполните свой долг перед Большим театром. Не я, а все мы верим в Вас и не можем обойтись без Вас. … Я учусь у Вас каждый день». (Из письма Малиновской. Там же, № 4840/3).
Апрель 15
В письме Немировича-Данченко к А. В. Луначарскому: «Работа с “Красными масками” под руководством Голейзовского задерживается побочными обстоятельствами. … Во всяком случае, я сделаю все, от меня зависящее, чтоб художественные планы Голейзовского осуществились, хотя бы и с риском неуспеха». (Черновик письма. Архив Н-Д, № 971).
Май 6
Из речи В. И. Ленина на I Всероссийском съезде по внешкольному образованию: «… сплошь и рядом самое нелепейшее кривляние выдавалось за нечто новое, и под видом чисто пролетарского искусства и пролетарской культуры преподносилось нечто сверхъестественное и несуразное». («Ленин о культуре и искусстве», «Искусство», 1956, стр. 260).
Июнь – июль
Предполагает включить в репертуар Художественного театра пьесы реалистического репертуара: «Бесприданницу», «Волки и овцы» Островского, «Ревизора» Гоголя.
Лето
Живет в Малаховке, на даче у писателя Н. Д. Телешова. Пишет В. В. Лужскому о своем увлечении опереттой: «Подумайте: что лучше? “Орфей в аду”, “Дочь рынка”, “Парижская жизнь”? Или еще что есть у Вас? И главное — как, где нам поместить оркестр?.. Нет Качалова, Книппер, Массалитинова, Берсенева?239* — Но есть певуны и певуньи, есть настоящие буффы, есть хор и оркестр, есть вкус, еще не примененный к этой области, есть фантазия, еще не использованная 346 в этом искусстве. Когда я развернул свой план создать оперетку и начать это создание путем опыта в недрах театра Луначарскому, он подскочил от восторга и — не могу даже рассказать, каких привилегий наобещал. Грибунин и Чехов пришли в восторг». (Архив Н-Д, № 1067).
Лето – осень
Готовится к открытию Музыкальной студии МХТ: «Я был счастлив, что нашел такое дело, которое… даст мне возможность осуществить давнюю мечту — влить наше искусство в оперную и опереточную стихии». (Черновые заметки. Архив Н-Д, № 5575/1369).
Август (до 20)
Пишет Малиновской о своей работе в Большом театре: «Конечно, спектакли пойдут. И пойдут чище, чем прежде. Но — говоря об опере — не жду там ничего радостного и думаю, что нет того насоса, который выкачал бы из оперных сил энергию. Пока, во всяком случае, все в тумане.
… Лучше дело стоит с балетом. Собирались, обсуждали и порешили — я, Тихомиров, Горский и Рябцев — открывать сезон “Лебединым озером”. Но основательно занявшись им. … все сообща, просмотрев балет, сговоримся, что в нем надо сделать, чтобы дать свежий спектакль. М[ожет] б[ыть], придется целый акт делать новый, многое перемизансценировать. Этот путь работы всех увлекает. Такой же путь собираемся проделать и с “Раймондой”…
Я обещал оторвать от Художественного театра полных три-четыре дня сейчас для “Леб[единого] оз[ера]” для бесед и с балетмейстерами и с артистами и даже с кордебалетом…
Тут вообще настроение деловое и энергичное». (Архив Н-Д, № 2530).
Август 26
Советским правительством принят декрет «Об объединении театрального дела», подписанный В. И. Лениным.
Август (после 26)
Немирович-Данченко сообщает Лужскому, что Художественный театр будет получать государственную субсидию.
Август
Каждый вечер в Художественном театре занимается с актерами, принимает доклады сотрудников.
Сентябрь
Выбирает для постановки в Музыкальной студии оперетту 347 Лекока «Дочь мадам Анго», действие которой происходит после Французской революции. Думает в центре спектакля поставить уличного певца Анж Питу с его злободневными политическими куплетами, направленными против Директории, и с этой целью заказывает новое либретто М. Гальперину240*.
Сентябрь 17
Проводит первую беседу о постановке «Дочь Анго». Ставит задачу: создать живые комедийные образы вместо привычных опереточных масок. Освободить оперетту от вульгарности, пошлости, безвкусия, переделать либретто, перестроить сюжет, придать опереточному спектаклю характер целостного комедийного представления.
Сентябрь
Находит вместе с художницей М. П. Гортынской принцип декорационного решения оперетты «Дочь Анго»: «… форма оживающей гравюры, которая возникает из темноты воспоминаний и уходит в темноту». (Из черновых записей. Архив Н-Д, № 153/2).
Октябрь 1
Смотрит репетицию «Ревизора».
Октябрь 27
Проводит заседание по костюмам и гримам постановки «Дочь Анго».
Октябрь 28
Репетирует первый акт оперетты «Дочь Анго».
Октябрь 29
Был на репетиции третьего акта «Ревизора».
Октябрь 31
Утром и вечером репетирует «Дочь Анго».
Ноябрь 5 – 29
Ведет общие репетиции оперетты «Дочь Анго» и занимается с отдельными исполнителями.
Ноябрь 15
Встречается с художницей М. П. Гортынской, чтобы обсудить эскизы костюмов для спектакля «Дочь Анго».
348 Ноябрь
Продолжает работу в Большом театре.
Декабрь
Читает лекцию о М. Н. Ермоловой. (См. стенограмму. Архив Н-Д, № 7287. Первые четыре страницы опубликованы в книге Вл. И. Немировича-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 352 – 356).
Вместе с Лужским ведет репетиции оперетты «Дочь Анго».
1920
Январь
Репетирует «Дочь Анго».
Январь 9
Присутствует на заседании дирекции в Большом театре, где решается вопрос о сроках постановки «Снегурочки».
Январь
М. Н. Ермолова благодарит Немировича-Данченко за присланное письмо: «От него повеяло теплом и юностью. Когда жизнь кончается, что же может быть дороже воспоминаний! А с Вами связано их много, хороших». (Избранные письма. Приложения, стр. 479).
Январь 12
Произносит речь на торжественном вечере памяти О. О. Садовской. «Мне хочется отметить прежде всего речь Вл. И. Немировича-Данченко. Две задачи поставил он себе в своем слове: напомнить… о том, как играла и чем была гениальна Садовская, и осмыслить сегодняшний день, переживаемый русским театром». («Вестник театра», № 49, «Памяти О. О. Садовской». Подпись — М. З.).
Февраль 3
Репетирует первый акт оперетты «Дочь Анго» с оркестром, хором и всеми участвующими.
Февраль 4
По просьбе Станиславского читает лекцию в Оперной студии Большого театра о «Каменном госте» А. С. Даргомыжского. (Записная книжка К. С. Станиславского 1919 – 1920 гг. Архив К. С., № 834).
Февраль 18
Последний раз репетирует оперу «Снегурочка» в Большом театре. Отказывается от мысли о его реорганизации.
349 Февраль 20
«Вчера был год, как первый раз Вл. И. Немирович-Данченко и я вошли в Большой театр с постановкой “Снегурочки”. Сколько хороших слов было сказано, и как мало двинулось дело». (Из дневника Лужского. Архив В. В. Лужского. Музей МХАТ).
Март 5
Ставит народные сцены в оперетте «Дочь Анго».
Март
Репетирует «Дочь Анго».
Март 22
Выступает на заседании Центротеатра по докладу А. В. Луначарского.
Апрель
Репетирует «Дочь Анго».
Апрель 20
Читает лекцию о Художественном театре культурно-просветительным кружкам Рязанского губвоенкома.
Май 2
Произносит речь на 50-летнем юбилее Ермоловой. (См. Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 356 – 357).
Май (после 2)
«Константин Сергеевич, Владимир Иванович и все артисты вашего театра, пришедшие приветствовать меня… перевернули всю мою душу, которая начинала уже засыпать, утомленная годами… Я уже не была автоматом, я жила, говорила, ходила и пережила этот день так, как никогда и не думала его пережить!» (Из письма М. Н. Ермоловой. Сборник «Мария Николаевна Ермолова», М., «Искусство», 1955, стр. 244).
Май 16
Первый спектакль Музыкальной студии — «Дочь Анго».
Лето
Живет в Краскове (под Москвой).
Август
Выбирает для постановки оперу-буфф Ж. Оффенбаха «Перикола» («Птички певчие»), трактует ее как мелодраму-буфф.
350 Август 9
В письме Вахтангова: «Мне еще раз придется беспокоить Вас; естественно, что Вы должны знать, что из себя представляет студия Вахтангова, на мне лежит обязанность показать Вам работу учеников. Когда у Вас явится возможность просмотреть, то я буду просить Вас дать нам этот праздник. … Я дерзаю мечтать, что через несколько лет эта Студия и Вам, как большому художнику и человеку, для чего-нибудь будет нужна. Для меня было бы высшей радостью, если б нам когда-нибудь удалось завоевать Ваше доверие настолько, что Вам захотелось бы в нашей аудитории дать нам частицу того, что Вы знаете. Простите меня, что я тревожу Вас. Неизменно уважающий Вас и любящий Е. Вахтангов». (Архив Н-Д, № 3510).
Сентябрь 13
Отдает приказ о присоединении Студии Е. Б. Вахтангова к Художественному театру (Третья студия МХТ).
Октябрь 27
Ведет репетицию «Дочь Анго» с новыми исполнителями.
Ноябрь 5 – 6
Репетирует «Дочь Анго».
Ноябрь 12
Вместе со студийцами слушает музыку Ж. Оффенбаха к оперетте «Орфей в аду».
Ноябрь 18
Проводит беседу о постановке «Орфей в аду», задумывает ее в плане буффонады.
Ноябрь 25
Ведет репетицию «Периколы».
Ноябрь
Встречается с художником П. П. Кончаловским, оформляющим спектакль «Перикола».
Декабрь 1
В «Правде» опубликовано письмо ЦК РКП (б) «О пролеткультах».
Декабрь 2
Читает лекцию об устройства сцены Художественного театра экскурсантам из Красноармейского университета 16-й армии.
351 Декабрь
Вместе с Лужским ведет репетиции «Периколы», неразрывно соединяя постановочные задачи с педагогическими.
Декабрь 13
На заседании в Художественном театре Луначарский сообщил, что правительство присвоило МХТ звание академического театра.
Декабрь
Занимается с учащимися Музыкальной студии, разъясняет, что такое «зерно», «сквозное желание», «ударные пункты» и «куски». (Из протокола урока Немировича-Данченко в Музыкальной студии. Архив Н-Д, № 194/1).
Декабрь 24
Присутствует на хоровой репетиции «Периколы».
1921
Январь 10
Слушает лекцию Луначарского «Марксизм и искусство».
Февраль 1
В первом номере журнала «Культура театра» помещена статья Немировича-Данченко, посвященная памяти Н. С. Бутовой «Дух твой с нами!».
Февраль 11
На занятиях в Музыкальной студии показывает упражнения, которые избавляют актера от сценического волнения. Помогает молодым певцам, исполняющим романсы Шуберта, идти «от себя», от своего отношения к содержанию, «чтобы зажить словами автора, чтобы музыка и слова автора стали собственными словами». Напоминает, что «для актера первое — это слово, потому что слово одно из самых важных средств передачи внутреннего замысла». (Из протокола урока Немировича-Данченко в Музыкальной студии. Архив Н-Д, № 194/1).
Февраль 21
Слушает вторую лекцию Луначарского «Марксизм и искусство».
Февраль 28
Читает лекцию о Леониде Андрееве на очередном «творческом понедельнике» МХАТ. Рассказывает о столкновениях 352 режиссуры с Л. Андреевым, о его последних драмах «Самсон в оковах» и «Собачий вальс», отвергнутых Советом МХТ. Говорит о том, что перед памятью Леонида Андреева «на Художественном театре лежит грех… Может быть, какое-то удовлетворение я найду, если каким-нибудь образом опять приобщу Художественный театр к его произведениям». (Рукопись с авторской правкой. Архив Н-Д, № 7291/1 – 2).
Март 4
«Я с Вами все пробую, и вы сможете сказать, что Владимир Иванович на вас учился, как работать с музыкальной студией… Прежде всего я предполагаю, что романс Глинки или другое музыкальное произведение дает нам ритм, мелодию и известный рисунок Этот рисунок нам нужно внимательно изучить, но затем вы можете начать творить и внести свое толкование». (Из протокола урока Немировича-Данченко в Музыкальной студии. Архив Н-Д, № 194/2).
Март 10
Выходит статья Немировича-Данченко «М. Горький и Художественный театр». («Культура театра», № 3).
Март 26
Вахтангов записывает в своем дневнике: «И Немирович и Станиславский знают, благодаря громадной практике, актера». (Е. Б. Вахтангов, Записки. Письма. Статьи, стр. 232).
Апрель 19
Ведет репетиции «Дочь Анго» с новыми исполнителями. Занимается с В. В. Барсовой, вступившей в Музыкальную студию.
Апрель 23
Репетирует «Периколу».
Апрель 26
Работает с отдельными исполнителями «Дочь Анго».
Май 1
Расстроен и возмущен статьей В. Бебутова и В. Мейерхольда «Одиночество Станиславского», напечатанной в «Вестнике театра» (№ 89 – 90). «… Авторы статьи хотят убедить читателя, что в своем походе против академических театров, и в частности Художественного, они совершенно беспристрастны и в доказательство открыто признают огромность театрального таланта Станиславского. Но признать наличность такого деятеля в лагере академических театров очень невыгодно: пожалуй, только подкрепить их живучесть. Поэтому они прибегают 353 к любопытному полемическому приему: они объявляют его жертвой всего направления Художественного театра, жертвой не только в настоящем, но и в прошлом этого театра. Казалось бы, для того, чтобы написать панегирик по адресу такого исключительного режиссера и актера, как Станиславский, нет никакой надобности прибегать к совершенному извращению событий…». (Наброски карандашом. Архив Н-Д, № 7740/1 – 3).
Май
«Ваших седин я боюсь и уважаю [их], но Ваши молодые глаза сулят очень многое и зовут на то, о чем я мечтал, когда шел на сцену, в Театр!» (Из письма Н. П. Баталова к Немировичу-Данченко. Архив Н-Д, № 3207).
Май 31
В письме Луначарского к Немировичу-Данченко: «… Спектакли, которые Вы думаете организовать, послужат значительным украшением летнего сезона…». (Архив Н-Д, № 4768).
Август
Луначарский рекомендует пьесу молодого драматурга Д. П. Смолина «Василиск Холодов».
Август 7
Умер Александр Блок.
Август 20
Из письма к Луначарскому: «В среду, 17 августа, в Доме печати, во время перерыва… Вы… большую часть вины за смерть Блока возлагали на его друзей, обвиняя их в том, что они недостаточно энергично “кричали” о спасении поэта». (Архив Н-Д, № 973).
В том же письме: «В заботах о том, чтоб у России был во всей мощи и красе тот Художественный театр, который сумел прославить русское искусство на весь мир, чтоб на истерически-шарлатанские нападки на реальное русское искусство отвечала не меньшая часть театра, а весь его сильно сплоченный коллектив, я, полтора года назад, представил в Центротеатр план, единственно серьезный, единственный, в котором все соображения частного характера поглощались любовью к искусству и делу, — план, встретивший не только Ваше одобрение, но и сочувствие Владимира Ильича Ленина»241*.
Сентябрь 7 – 15
Перед открытием сезона ведет репетиции «Дочь Анго».
354 Сентябрь 15
Просит Луначарского поставить на заседании Совнаркома вопрос о материальной поддержке МХАТ и его студий.
Сентябрь 22
Начинает работу над возобновлением «Нахлебника» И. С. Тургенева. Намечает новое распределение ролей. Вечером у себя в кабинете работает с новыми исполнителями.
Сентябрь 28
Пишет Горькому: «Только что узнал от Елены Константиновны242*, что Вы были очень сильно больны, чуть ли не находились на пороге между этим, — прекраснейшим и паршивейшим — и каким-то другим мирами.
Очень это меня взволновало. Захотелось горячо сказать Вам: поберегите себя! Отдохните! Туда еще успеете, а здесь очень нужны.
От одной мысли об опасности во мне как-то остро всплыли лучшие воспоминания о нашем прошлом…». (Избранные письма, стр. 348).
Сентябрь 28 – 29
В ответном письме Горький обещает говорить с В. И. Лениным и писать Л. Б. Красину о делах Художественного театра. («Летопись жизни и творчества А. М. Горького», вып. 3., стр. 249).
Октябрь
Репетирует «Периколу».
Октябрь 8
Премьера «Ревизора» в МХАТ.
Октябрь 11
Ведет репетицию второго акта комедии «Нахлебник».
Октябрь (середина)
Читает доклад о Художественном театре, его задачах и целях в Студии санитарного просвещения. Критикует спектакли Малого и Большого театров и говорит, что после работы в Большом театре «окончательно распростился с мыслью реформировать его изнутри». («Театральная Москва» от 28 – 30 октября 1921 г., № 1).
Октябрь 22
Работает с новым исполнителем роли Кузовкина в «Нахлебнике» — В. М. Михайловым.
355 Октябрь 24
Репетирует с Л. М. Кореневой и В. М. Михайловым сцены Кузовкина и Ольги Петровны.
Октябрь 27
Вводит С. В. Гиацинтову в спектакль «На дне» (роль Насти).
Октябрь 28, 29
Вечерами репетирует «Нахлебника».
Ноябрь 2, 5
Ведет репетиции «Нахлебника».
Ноябрь
Репетирует «Периколу».
Ноябрь 11
Проводит монтировочную репетицию «Нахлебника».
Декабрь 21
Из обращения к труппе МХАТ: «Из разных ресторанов и других общественных “встреч” Нового года будут, конечно, приглашать артистов нашего театра и студий для исполнения “номеров” перед ужинающими совбурами и спекулянтами. И будут очень дорого платить.
… Увы, я не поручусь, что для всех ясно, как унизительны, как постыдны такие выступления». (Избранные письма, стр. 348 – 349).
Декабрь 22
Болен. «В театре, судя по всем сообщениям (непрерывные послы и телефоны), шатко». (Из письма к О. С. Бокшанской. Архив Н-Д, № 326).
Декабрь 24
Станиславский поздравляет Немировича-Данченко с днем рождения и пишет: «… кто бы ни становился между нами, как бы ни старались ссорить нас, — мое отношение к Вам и благодарность за прошлое остаются прежними.
Что пожелать Вам, а кстати, и себе? Мудро понять нашу новую роль, хорошо провести ее и достойно, вместе, закончить нашу интересную и важную работу в русском театре». (Избранные письма. Приложения, стр. 509).
Декабрь 25
Из письма «Музыкальным студийцам»: «Я тронут буквально до слез.
356 Это совершенно вознаграждает за гадости болезни (мне противно даже называть эти гадости страданиями или мучениями).
И я непрерывно, ежечасно думаю о всех Вас. Все думаю, откуда мне почерпнуть энергию, вдохновение, силы, чтобы вывести Вас из пустынных блужданий и привести в землю обетованную. Думаю с напряжением, похожим на молитву.
… Надеюсь, встретим Нов[ый] год вместе, тот год, в который мы должны стать на свои ноги.
… Вы застали меня за клавиром “Дворянского гнезда”». (Архив Музыкальной студии. Музей МХАТ).
1922
Январь 9 – 21
Ведет репетиции «Нахлебника».
Январь 11, 19, 20
В Музыкальной студии репетирует «Периколу».
Январь 24, 25
Занят выпуском «Нахлебника».
Январь 26
Вместе со Станиславским и Москвиным смотрит генеральную репетицию Тургеневского спектакля — «Провинциалка» и «Нахлебник».
Февраль 1 – 7
Репетирует «Периколу».
Февраль (до 7)
Принимает к постановке «музыкально-психографическую» драму В. И. Ребикова «Дворянское гнездо».
Февраль 7
Композитор Ребиков пишет в журнале «Экран» (№ 20), что цель его драмы — заставить слушателей поверить в жизненную правду всего того, что они слышат и видят. Роли в этой музыкальной драме, за исключением романсов, которые поют Паншин и Лиза, произносятся «тоновым говором».
Февраль
Предполагает осуществить в Четвертой студии МХАТ постановку «Столпов общества» Г. Ибсена.
357 Февраль 11
В Музыкальной студии занимается с исполнителями «Периколы».
Апрель 7
После спектакля Третьей студии «Принцесса Турандот» беседует с исполнителями. Дарит Вахтангову свой портрет с надписью «В ночь после “Принцессы Турандот”. Благодарны за высокую художественную радость, за чудесные достижения, за благородную смелость при разрешении новейших театральных проблем; за украшение имени Художественного театра». (Е. Б. Вахтангов, Записки. Письма, Статьи, стр. 250).
В книге почетных посетителей пишет: «В чем-то этот мастер еще откажется от призрачной новизны, а в чем-то еще больнее хватит нас, стариков, по голове…» (Архив Музее Театра имени Е. Б. Вахтангова).
Апрель 8
Вахтангов пишет Немировичу-Данченко: «… Вы не знаете с какой жадностью я впитывал все, что Вы говорили на репетициях “Гамлета”, “Мысли”, “Росмерсхольма”, на общих беседах. Я научился понимать разницу в чувствовании театра Вами и Константином Сергеевичем. Я учился соединять Ваше и Константина Сергеевича. Вы раскрыли для меня понятие “театрально”, “мастерство актера”. Я видел, что, помимо “переживания” (Вам этот термин не нравился), Вы требовала от актера и еще кое-чего. Я научился понимать, что значит “говорить о чувстве” на сцене и что значит чувствовать И многому, многому, о чем я однажды, очень кратко, говорил Вам.
Благодарность моя глубока и невыразима. … Быть признанным Вами и Константином Сергеевичем, если бы даже другие и не признавали, — вершина достижения». (Избранные письма. Приложения, стр. 519).
Май 4
В журнале «Экран» (№ 31) опубликовано открытое письмо Станиславскому и Немировичу-Данченко, подписанию? Ал. Вознесенским: «Зову Вас прийти к искусству экрана, изучить и узнать его и для него работать».
Май
Подготавливает отъезд Художественного театра на гастроли за границу.
Май 29
Умер Е. Б. Вахтангов.
358 Июнь 16
Выступает в Центральном Доме просвещения Губрабиса на торжественном вечере памяти Вахтангова. «Потеря для Художественного театра настолько резка и близка, что все ближайшие планы его перевернуты». (Стенограмма. Архив Музея Театра имени Е. Б. Вахтангова).
Июнь 22 – июль 16
Продолжает репетиции «Периколы».
Июль 16
Премьера «Периколы» в Музыкальной студии.
Июль 20
Получает двухмесячный отпуск и уезжает лечиться за границу. Останавливается в Берлине. Вырабатывает маршрут европейских гастролей МХАТ.
Август 7
Из Висбадена пишет Станиславскому: «чтобы Вы не смущались, что едете со старым репертуаром… И кроме того, то, что называют новым искусством, успело приесться» (Архив Н-Д, № 1737).
Сентябрь 4
Пишет Станиславскому из Висбадена: «Если я Вас уже не застану в Москве! От самых чистых глубин моего сердца же; лаю Вам сил, бодрости, спокойствия…
Хотя Вы и едете с “старым” театром, но будьте спокойны, потому что он до сих пор не преодолен». (Избранные письма, стр. 349).
Сентябрь
«… хочу еще раз Вам повторить, что Вы можете ехать без смущения за “отсталость” нашего искусства. Конечно, есть тут отдельные дарования, уже создающие новый актерский тон, т. е. даже нисколько не новый, но благодаря талантливости и нервности, возбужденной современными переживаниями, — тон, освободившийся от медлительного натурализма. Но это только отдельные таланты. В общем вся новизна вертится около новых технических трюков. Ваш путь создания актера — самый новый.
… Я был бы очень нужен только в Париже, где мог бы выступить до Вашего приезда с лекцией-двумя (по-французски, конечно). Но это обошлось бы слишком дорого». (Из письма к Станиславскому Там же, стр. 349 – 350).
359 Сентябрь 12
Прочитав книгу В. М. Волькенштейна243*, Станиславский пишет Немировичу-Данченко: «На моей спине сводились какие-то счеты с Вами». (Архив К. С.).
Сентябрь 15
На вокзале в Себеже, возвращаясь в Москву, встречается со Станиславским и труппой Художественного театра, направляющимися на гастроли в Европу. «Вл[адимир] Ив[анович] успел сказать К[онстантину] С[ергеевичу] немного о делах и должен был быстро с нами распрощаться: наш поезд трогался. Шел уже довольно сильный дождь и в его струйках за окном вагона я увидела прощальный приветный взмах руки Владимира Ивановича». (О. С. Бокшанская, «Из переписки с Вл. И. Немировичем-Данченко» — «Ежегодник МХТ» за 1943 г., стр. 490).
Сентябрь
Запись в дневнике Станиславского: «Граница Себеж. Представитель кинематографической фирмы “Русь” нашел меня и сказал, что Немирович и жена — в поезде, который едет в Москву. Встретились. Рассказ Немировича о том, как нас ждут, … как Гест производит в Берлине американские рекламы. Он остановил поезд, его оштрафовали. Потом — корреспонденция в газете, что поезд остановлен из-за поручения МХТ. Немирович сказал, что мы будем играть в Одеоне — в Париже и в Бургтеатре — в Вене.
Только одна Дузе заслужила эту честь». (Архив К. С., № 807).
Сентябрь – октябрь
Дискуссия по вопросу о «пролетарской культуре» в «Правде».
Октябрь (начало)
Станиславский пишет Немировичу-Данченко из Берлина: «Ох, как много здесь эмигрантской гнили!» (Архив К. С.).
Октябрь 16
От имени МХАТ приветствует Театр комедии (бывш. Корша) с 40-летним юбилеем.
Октябрь
Предлагает И. Н. Певцову до возвращения МХАТ работать в Первой студии.
360 Октябрь 28
Из Праги Н. А. Подгорный пишет Немировичу-Данченко: «И действительно, нельзя не согласиться, что пьеса эта [“На дне”] идет у нас совершенно замечательно. … Народную сцену очень тщательно возобновили в памяти, живо вспомнили все то, чему когда-то Вы учили, — и она зазвучала так, что зритель смотрят совершенно захваченный». («Программы Моск. гос. и академических театров и зрелищных предприятий» от 4 – 16 января 1923 г.).
Ноябрь 6
Получил телеграмму из Парижа от Станиславского, Бертенсона и Подгорного: «Колоссальный успех, общее признание, превосходная пресса. Открытию предшествовал торжественный вечер с речами Антуана, Копо и с другими, посвященными театру. Горячо поздравляем. Для полной радости недостает лишь Вас». (Архив К. С.).
Ноябрь 9
Говорит Ф. Н. Михальскому: «Боюсь думать о будущем годе. Что будем делать? Опять играть “Федора”, “Мудреца”. Но надо новое. Надо собрать крепкую труппу, надо вдохнуть в нее жизнь». (Из записей Михальского. Личный архив Ф. Н. Михальского).
На организационном заседании избирается председателем Общества А. П. Чехова и его эпохи.
Ноябрь 15
Вечером смотрит «Двенадцатую ночь» в Первой студии.
Ноябрь 16
Пишет письмо М. А. Чехову о его исполнении роли Мальволио в «Двенадцатой ночи». (Свидетельство Ф. Н. Михальского).
Ноябрь 25
Излагает план постановки «Лизистраты» труппе: «Я люблю работать, когда всем видна цель спектакля, открываю все, что сам вижу… Аристофан — народный поэт… Часто упрекают государственные театры, что они отстали, что они не откликаются на современность. Это правда. Нельзя уходить от жизни, нельзя говорить, что мы аполитичны. Полная аполитичность — чепуха! Никакой художник не может не жить современностью. Тот, кто замкнулся в себе… чистейший консерватор. Артист живет современностью. Так интересно отвечать на запросы молодого зала. Теперь не хочется кислоты, 361 неврастении… Теперь хочется здорового, красивого и не мрачного… яркого смеха, ярких красок». (Из записей Михальского. Личный архив Ф. Н. Михальского).
Ноябрь 29
В день полугодовщины смерти Е. Б. Вахтангова выступает на вечере его памяти.
Ноябрь 30
На репетиции «Лизистраты» уточняет «куски» и напоминает, что «все должно идти на страшном темпераменте. Никакого резонерства». (Из протокола репетиции).
Декабрь 5
В «Известиях» появилось интервью Немировича-Данченко, в котором он говорит о своей «органической потребности впитать в себя день “сегодняшний”»: «… работу будем вести, отзываясь на то огромное, что нахлынуло на нас и что не могло не захватить нас, не могло оставить нас прежними, потому что и самая жизнь стала иной, не прежней. … Я лично живо интересуюсь всей развертывающейся картиной в области театральных исканий. Быть может, не всему я нахожу в себе внутреннее оправдание. Кое-что кажется мне не столь уже новым — оно было и в арсенале прежних средств. Быть может, не столь выпячено, не столь рельефно, но было. Живое, гибкое, тренированное, радостное человеческое тело — очень хорошо. Самая “посылка” не нова. Но нужны какие-то грани. Отличная вещь акробатика, нельзя, однако, доводить ее до цирка, до того момента, когда она выходит из плана театра, как такового.
… Я видел в “Рогоносце” Мейерхольда актера без грима, актера в одной общей прозодежде. Прекрасно. Приемлю… Но вот — колеса в “Рогоносце”, вращение которых должна убыстрять динамику, темп действия или символизировать некие вершины этого действия, — это уже очень от головы. Не чувствую внутреннего оправдания. Принимаю не как “новое искусство”, а лишь как новый каприз художника. Волнует он меня? Нет. … Сегодня лестницы и круг, а завтра будет что-нибудь другое. Это не главное».
Декабрь 11
Приветствует телеграммой знаменитую артистку М. К. Заньковецкую, которая «умела оставаться во всех своих сценических созданиях верною дочерью Украины». (Черновик. Архив Н-Д, № 2765).
362 Декабрь 12 – 20
Приступает к ежедневным репетициям комедии Аристофана «Лизистрата».
Декабрь 20
Репетирует сцену стариков в «Лизистрате».
Декабрь 22
Говорит Ф. Н. Михальскому: «Мне мало дня. Может быть, надо еще меньше спать». (Из записей Михальского. Личный архив Ф. Н. Михальского).
Декабрь 24
В день своего 64-летия получает телеграммы от Музыкальной студии и от Художественного театра, находящегося за границей.
Декабрь 26
Репетирует «Лизистрату». Встречается с Б. М. Сушкевичем и И. Н. Берсеневым по делам студий.
1923
Январь (начало)
Ежедневно репетирует «Лизистрату». Много времени и сил отдает студиям МХАТ.
Январь 3
Приглашает Р. М. Глиэра, пишущего музыку к комедии «Лизистрата», для беседы.
Январь 4
Получает письмо от Луначарского, который просит осведомить его с жизни Третьей студии. (Архив Н-Д, № 4769).
Январь (после 4)
«Вахтангов заявлял категорически, что каждую пьесу надо ставить настолько по-новому, чтоб все подходы были новы, не только форма, но и принципы. Стало быть, если ставить новую пьесу по приемам “Турандота”, поставленного Вахтанговым, — то вот основной принцип и нарушен. Будет ли Студия живым организмом, если она будет ставить 2-го “Турандота”, 3-го “Турандота”?..» (Из письма к Луначарскому, Архив Н-Д, № 977).
363 Январь 13
«Надо идти к примитивам и упрощению. … Даны задания Рабиновичу — по принципу конструктивизма, если это не удовлетворит Владимира Ивановича, то тогда уже отдать Симову и идти прямо назад, но ни в коем случае не останавливаться на какой-то середине». (Из протокола репетиции «Лизистраты»).
Январь 20
Доволен репетициями «Лизистраты»: «Теперь начинает делаться искусством то, что раньше было дилетантством». (Там же).
Январь 28
Произносит речь на 10-летнем юбилее Первой студии МХАТ.
Февраль 1
Актриса Первой студии Н. Н. Бромлей в статье «Десять лет» пишет: «В. И. Немирович дал нам понять на больших примерах, как до конца стать самим собой на сцене, как взрастить до пределов всю свою индивидуальную возможность». («Программы Моск. гос. и академических театров и зрелищных предприятий» от 1 – 15 февраля 1923 г.).
Февраль (начало)
Занят «сверхъестественно». Репетирует «Лизистрату», участвует в работе Второй и Четвертой студий.
Февраль 5
Говорит, что «народы Востока наполнят новый мир своим духовным началом». (Из записей Михальского. Личный архив Ф. Н. Михальского).
Февраль 15
На репетиции «Лизистраты» борется «со штампованными жестами и плохой вокальной дикцией хора». (Из протокола репетиции).
Февраль 16
Поздравляет известного театрального деятеля Н. Н. Синельникова с 50-летним юбилеем.
Февраль (до 24)
Приглашает К. И. Котлубай для режиссерской и педагогической работы в Музыкальной студии. «Она работает в комической опере и очень хорошо, на редкость». (Из письма к Бокшанской от 24 февраля 1923 г. Архив Н-Д, № 327).
364 Февраль
Репетирует «Лизистрату».
Февраль 24
Был в Кремле по делам МХАТ. Вынес впечатление, что «люди из коммунистической партии» очень дорожат Художественным театром. «Надо заметить, что отношение к театрам сильно изменилось: мейерхольдовщина потеряла не только престиж, но и всякий интерес». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 327).
О спектакле Третьей студии «Правда — хорошо, а счастье лучше» пишет: «Средний ученический спектакль по исполнению, а по постановке не лишен какого-то забавного, но незначительного подхода». (Там же).
Февраль 25
Смотрит репетицию трагедии Шиллера «Разбойники» во Второй студии.
Март 2
Работает с отдельными исполнителями «Лизистраты».
Март 6
Утром репетирует второе действие «Лизистраты». Вечером присутствует на заседании по вопросу объединения Первой студии с Музыкальной студией.
Март 10
Репетирует «Лизистрату».
Март 19
Принимает участие в режиссерском совещании по репетициям «Лизистраты».
Март 20
Выбирает и утверждает материи для женских и мужских костюмов «Лизистраты», говорит, что это должны быть «костюмы народа, а не богатые театральные костюмы». Утверждает рисунки бутафории и разрешает приступить к ее изготовлению. (Из протокола репетиции).
Март 21 – 29
Репетирует «Лизистрату».
Март 27
Из интервью Л. В. Собинова: «В своей сценический работе я исходил из совета, данного мне, много лет назад, 365 Вл. Ив. Немировичем-Данченко… В каждой роли исходить из самого себя, искать себя в каждом герое. Этот метод, принятый мной в связи с давнишней работой над “Ромео”, я соединил, насколько позволяла в каждом отдельном случае партитура, с реальным подходом к образу». («Зрелища», № 30).
Смотрит спектакль «Гроза» во Второй студии, поставленный И. Я. Судаковым.
Март
Пишет Станиславскому о работах Первой, Второй и Третьей студий МХАТ, о проектах их слияния с Художественным театром. (Архив Н-Д, № 1751).
Апрель 3
Вместе с художником И. М. Рабиновичем смотрит репетицию первого акта «Лизистраты».
Апрель 8
Из письма к Лужскому: «Студии, все, словно осиротевши, начали жаться ко мне. Это очень приятно, но ест и все мое время и всего меня».
Посвящает Лужского в замысел постановки «Лизистраты»: «Это ведь яркая комедия, переходящая в фарс, дерзкая, кажется — неприличная, а в сущности здоровая, высоконравственная при непрерывных непристойностях, — однако, мне нисколько не неловко ставить ее с барышнями. … Я называю “патетическая комедия”. Это ведь не то, что я Вам как-то давал читать. То была берлинская переделка. А я ставлю подлинного Аристофана. При этом я внес много музыки и пения (клятвы, пляски, молитвы, гимны и пр.). Глиэр пишет прекрасно. Хор, так называемый “греческий хор”, я разбил то на толпу, то на монолитный хор. Но везде с партитурой, так сказать, психологической, однако, в определенном ритме и темпе. Декорацию Рабинович сделал замечательную. Не декорация, а что-то вроде конструктивизма. Пленительная». (Архив Н-Д, № 1071).
Апрель 13
В столетие со дня рождения А. Н. Островского в Москве, у здания Малого театра, состоялась закладка памятника. Выступали А. В. Луначарский, А. И. Южин. На торжественном заседании Луначарский произнес полуторачасовую речь, озаглавленную в программе: «Место Островского в истории русского театра». От Художественного театра выступил с приветствием Немирович-Данченко.
366 Апрель 14
В связи с 100-летним юбилеем А. Н. Островского выступает на торжественном заседании труппы Малого театра: «Для слова правды, заложенного в литературе, театральная зала является наилучшей акустикой. У Островского самым существенным моментом его отношения к человеку является утверждение добра и правды. Непонимание или полное незнание границ между добром и злом — его любимый драматический мотив». («Программы Моск. гос. и академических театров и зрелищных предприятий» от 24 – 29 апреля 1923 г.).
Апрель 15
«Луначарский говорил замечательную речь, смысл которой очень знаменателен: … попытка создать сразу свою, новую [культуру] приводит к кривляниям и гримасам, к открыванию Америки, которая уже открыта, надо только знать дорогу к ней. Поэтому: назад! “Назад к Островскому! Назад к знаменитой "кучке" музыкантов! Назад к передвижникам! Назад к русскому роману!” — В стенах Малого театра эта речь имела успех замечательный, потрясающий». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 328).
Апрель 17, 18
Вместе с художником и режиссерами Л. В. Баратовым и К. И. Котлубай устанавливает, в какие моменты действия будет происходить поворот круга сцены в «Лизистрате».
Апрель 17 – 25
Состоялся XII съезд РКП (б). В 45-м пункте резолюции съезда говорилось: «Необходимо поставить в практической форме вопрос об использовании театра для систематической массовой пропаганды идей борьбы за коммунизм. В этих целях необходимо… усилить работу по созданию и подбору соответствующего революционного репертуара, используя при этом в первую очередь героические моменты борьбы рабочего класса». («ВКП (б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», ч. 1, Партиздат ЦК ВКП (б), 1936, стр. 522).
Апрель 19 – 21
Ведет репетиции «Лизистраты».
Апрель 24
Требует, чтобы проба сценических эффектов для «Лизистраты» была сделана к сроку.
Апрель 24 – 30
Репетирует «Лизистрату».
367 Май 1
По случаю принятия московскими государственными академическими театрами шефства над 14-й стрелковой дивизией произносит речь в Большом театре.
Май 2
Репетирует «Лизистрату».
Май (начало)
Отвечая на анкету газеты «Известия», адресованную театральным деятелям, пишет: «МХАТ, учитывая не только свой двадцатипятилетний опыт, но и разнообразный опыт своих студий, и присматриваясь и учитывая опыт соперничающих друг с другом театров, с большей уверенностью, чем прежде, может сказать, что в основу своей дальнейшей работы МХАТ и его студии кладут тот же театральный реализм, живая вода которого единственное волшебное средство, превращающее мертвую театральную маску и неживую голую технику в живой и нужный человечеству театр. Реализм отнюдь не следует смешивать с натурализмом, от которого МХАТ давно уже отказался…
Тысячи народившихся во время Революции драматических кружков, студий и школ работают по методу МХАТ, и совсем недавно представители крупного рабочего подмосковного района обращались… с просьбой взять в руки МХАТ руководство театрально-просветительной работой в их районе. … Революция дала работе МХАТ громадный толчок. Революция разогрела его художественное кровообращение, и театр начал быстрее понимать свои задачи и быстрее их осуществлять. Однако надо сказать сразу и откровенно, что требования и идеология социальной революции не так легко вливаются в громадный организм театра и еще далеко не заполняют его». (Рукопись. Архив Н-Д, № 7295).
Май 9
Был в Кремле у Луначарского по делам театра.
Май 10
Выступает против финансового объединения московских и петроградских театров.
Май 30, 31
Делает замечания исполнителям и работникам монтировочной части по черновым генеральным репетициям «Лизистраты».
Июнь 16
Публичная генеральная репетиция «Лизистраты».
368 Июнь 17
Выезжает в Европу, намереваясь посетить Испанию в связи с предстоящей постановкой «Кармен».
Июнь 26
В журнале «Зрелища» (№ 42) появилась статья Эм. Бескина о «Лизистрате» — «Пожар Вишневого сада»: «В огне “Лизистраты” горели “Вишневые сады” сценического реализма». Прочитав эту статью, Немирович-Данченко ответил: «Сад сгореть может, но почва никогда». («Зрелище», № 54).
Июнь
Из статьи Самуила Марголина «Патетическая комедия»: «“Лизистрата” — необыкновенный день МХТ, день его огромного сдвига вперед, тем более смелого, тем более замечательного, что он сделан в отрыве от труппы МХТ и Станиславского». («Театр и музыка», № 28).
Июнь – июль
Лечится в Берлине и Карловых Варах.
Август 1
Немирович-Данченко назначен единоличным ответственным директором МХАТ и всех его студий.
Август (начало)
В письме к В. И. Качалову о роли доктора Штокмана: «И вот его сквозное действие: служить правде, делать все, что посылает судьба, под напором, под радостным, внутренним, глубоким сознанием дружбы и любви с этой правдой.
По-актерски надо раз и навсегда положить себе правилом: найти верное зерно и, найдя его, отдаваться ему со всей искренностью и со всем темпераментом, к каким бы крайностям ни вел этот темперамент, в какие бы неожиданности ни заводил. Надо быть Штокманом в своем актерском деле. Схватив зерно роли, беречь его от всяких компромиссов, неудержно нестись по пути самой пьесы…». (Избранные письма, стр. 351).
Август
В. Э. Мейерхольд пишет К. С. Станиславскому из Берлина: «Расскажу Вам про “Лизистрату” в Вашем театре, а Вы мне про американские театры». (Архив К. С.).
Август 27
Готовится к постановке оперы «Кармен». «Ах, какой бездарный текст оперы “Кармен”! Мучение!» (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 329).
369 Август 29
Возвращается из-за границы.
Сентябрь 1
Встречается с коллективом Музыкальной студии.
Сентябрь 4
Ездил на дачу к Луначарскому.
Сентябрь 7
Перед началом сезона репетирует «Лизистрату».
Сентябрь 15
В «Правде» опубликована беседа с Вл. И. Немировичем-Данченко «“Лизистрата” — к открытию МХАТ»: «В области оперного искусства… на актера смотрят исключительно как на концертанта. Это, конечно, не значит, что у нас пение должно быть на втором плане. Нет! И вот эти 4 года и шля работа в плане подготовки актерско-певческого материала… Молодежь должна воспитываться в духе искусства, близкого современности… У меня вообще мечта об исполнителе, как об актере театра синтетического, который сегодня играет трагедию, завтра оперу, оперетту и т. д.
… В старых приемах Художественного театра многое отцвело… Отойдя от ненужного, устаревшего, сохранив самое главное — почву и воспользовавшись всем тем, что можно было взять нового, мы работали над “Лизистратой”».
Сентябрь 18 – 23
«Я враг оперного натурализма, я противник постановок А. А. Санина и отчасти И. М. Лапицкого. Новые формы для оперных постановок мною еще не найдены — я надеюсь найти их в процессе работы». («Вл. И. Немирович-Данченко о том, почему и как поставлена “Лизистрата”», «Зрелища», № 54).
Сентябрь 21
Пробыл до двух часов ночи в театре, устанавливая второй занавес для «Периколы».
Сентябрь 25
Из статьи П. А. Маркова «Лизистрата»: «Этот спектакль еще больше обещание, чем достижение. Он утверждает возможность героического театра». («Театр и музыка», № 33).
Сентябрь 27
Был на заседании Российской академии художественных наук, посвященном обсуждению спектакля «Лизистрата».
370 Октябрь 5
«У меня на Студии (кроме первой) пока уходит слишком много времени. Больше всех мучает меня 3-я, а заботит 2-я». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 331).
Октябрь 22
Выступает с воспоминаниями о Н. Е. Эфросе на вечере его памяти в Российской академии художественных наук: «Н. Е. Эфрос был тем критиком, статьи которого давали не только радость театру, но и укрепляли любовь к нему среди широкой публики». («Трудовая копейка» от 23 октября 1923 г.).
Октябрь (до 25)
«В музыке “Кармен” две основные темы: песнь о бесстрашии и трагедия любовной страсти… И на сплетении двух тем — гибель обоих любовников на фоне той же песни о жгучих радостях жизни.
Хор в настоящей постановке — как в греческой трагедии. Он не участвует в драме, он только следит за действием и отражает характер народа». (Режиссерские наброски. Без даты. Архив Н-Д, № 157).
Октябрь 25
Ведет заседание по постановке оперы Бизе «Кармен» с режиссурой, художником, дирижером, хормейстером, либреттистом. Хочет заменить старый оперный текст «Кармен» новым либретто, близким к новелле П. Мериме. Говорит о задачах оперного спектакля, о том, что нужно «созидать и что разрушать». Предлагает ввести новое действующее лицо — «мать Хозе вместо его сентиментальной невесты Микаэлы». Мечтает, чтобы Кармен и Хозе были «реальны до максимума». (Из протокола репетиции).
Октябрь 26
Приглашает Луначарского на юбилейное собрание МХАТ: «… хотелось бы видеть Вас, так изумительно тактично, душевно и без перебоев внимательно относящегося к Худож[ественному] театру и его студиям». (Избранные письма, стр. 353).
Октябрь 27
Узнает о присвоении ему звания народного артиста республики.
25-летие МХАТ. «Я очень доволен, как прошли юбилейные 371 дни»244*. (Из письма к Бокшанской от 18 ноября 1923 г. Архив Н-Д, № 332).
Октябрь 28
Получает телеграмму от Станиславского из Парижа: «После 25-летнего духовного родства сегодня как никогда вспоминаю Вас… Тяжело встречать этот день врозь. Все в один голос кричим: “В Москву, в Москву!”» (Архив К. С.).
Октябрь 30, 31
Знакомит участников спектакля со своим замыслом постановки «Кармен».
Ноябрь 6
А. И. Южин обращается с письмом в редакцию журнала «Театр и музыка» в связи с 25-летним юбилеем МХАТ: «Более полувека связывает меня с Владимиром Ивановичем тесной дружбой, но эта взаимная дружба и искренняя любовь друг к другу ни его, ни меня не заставляла поступаться когда-либо чем-нибудь из того, во что верит каждый из нас». («Театр и музыка», № 36).
Ноябрь 8
Отвечает М. Н. Ермоловой на поздравление с 25-летним юбилеем МХАТ: «Ваше письмо прижимаю к сердцу и с умилением отдаюсь воспоминаниям, где наши жизни иногда сплетались в общих духовных радостях и достижениях». (Черновик. Архив Н-Д, № 749).
Благодарит Южина и труппу Малого театра за то, что они избрали его почетным членом своего театра.
Ноябрь (до 9)
Смотрит в Четвертой студии «Кофейню» П. П. Муратова.
Ноябрь 9
Вызывал литераторов А. М. Арго и Н. А. Адуева для переговоров о новом либретто оперетты «Орфей в аду».
Ноябрь 10
Начал проходить роль Лизистраты с В. Н. Пашенной.
Ноябрь 14
Ведет репетиции «Кармен».
372 Ноябрь 18
«Я вхожу постепенно в “Кармен”.
… Большая новость будет у нас: Пашенная — Лизистрата. … Пашенная должна сыграть блестяще, так ей подходит эта роль». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 332).
Ноябрь 21
Репетирует «Кармен».
Ноябрь 23
«В драме правило. Что значит учить свою роль? Это значит учить роль партнера… Так, вероятно, и в опере». (Из протокола репетиции «Кармен»).
Характеризует образ матери Хозе: «Живет молчаливо, скромно, глубоко, все думает о сыне… На расстоянии чувствует беспокойство о нем. В ее партии три куска: тревога, мольба, вера, ласковое воспоминание о Хозе». (Там же).
Ноябрь 25
Смотрит во Второй студии К. Н. Еланскую в «Грозе»: «… очень уж зелено… Но со временем будет хорошая Катерина245*. Обещал помочь им в “Розе и Кресте”». (Из письма к Лужскому. Архив Н-Д, № 1072).
Ноябрь 26
Работает с В. Н. Пашенной над ролью Лизистраты.
Ноябрь 28
Смотрит «Озеро Люль» А. Файко в Театре революции246*.
Декабрь
«В Малом театре возобновлена “Сердце не камень” в очень отсталых тонах и постановке. Но отлично играют Давыдов и Пашенная». (Из письма к Бокшанской от 24 декабря 1923 г. Архив Н-Д, № 334).
Декабрь 5
Ведет репетицию «Кармен».
Декабрь 11, 12
Работает с исполнителями над дуэтом Хозе и матери: «Хозе поет на сцене, голос Микаэлы звучит издалека (за сценой). 373 Хозе вспоминает мать, с громадным вниманием прислушивается к ее голосу». (Из протокола репетиции «Кармен»).
Был на 200-м спектакле Второй студии «Узор из роз».
Декабрь 13
От имени МХАТ и его студий посылает приветствие В. Я. Брюсову.
Декабрь 13 – 29
Проводит репетиции с венским хором в спектакле «Кармен». «Устанавливает задачи: все это жестоко серьезное. Это трагедия, а не мягко-коварно-улыбчивое». (Из протокола репетиции).
Декабрь 23
Был во Второй студии, где в антракте спектакля «Гроза» чествовали Н. А. Соколовскую, исполнявшую роль Кабанихи: «Я обратился к публике (из залы) с маленькой речью и предложением приветствовать юбиляршу». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 334).
Для экстренного спектакля «Дочь Анго» в Большом театре проводит репетицию с Е. В. Гельцер, Л. А. Жуковым, В. В. Смольцовым, которые исполняли танцы в сцене бала у Ланж.
Декабрь 23, 24
Присутствовал на репетициях комедии Кальдерона «Дама-невидимка» во Второй студии.
Декабрь 24
«… Новая жизнь, как на нее ни смотри, с резкой определенностью подняла идеологию и потребовала точнейшей терминологии: это хорошо, а это подло, это здорово, правдиво, а это лживо, уклончиво и т. д. И в особенности резко, революционно-прямолинейно встала идеология в искусстве и его людях. И с каждым днем безоговорочнее ставятся взаимоотношения и задачи жизни. И компромиссы и уклончивость все явнее становятся принадлежностью людей мелких, трусливых, путающихся в жалких противоречиях». (Из письма к Бокшанской. Избранные письма, стр. 354).
Декабрь 31
Встречает Новый год в Музыкальной студии. Произносит речь «праздничную и мягкую, но официальную и в некоторых частях очень серьезную» (Из письма к Бокшанской от 6 – 7 января 1924 гг. Архив Н-Д, № 345).
374 1924
Январь 2 – 17
Ведет репетиции оперы «Кармен» в Музыкальной студии.
Январь 6 – 7
«С угрожающей очевидностью надвигается время для решения важнейшего вопроса нашего существования: что же будет дальше? в будущем году? Какой будет Художественный театр?» (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 345).
Январь 17 – 19
Ведет репетиции мужского хора в опере «Кармен».
Январь 20
Спрашивает в письме к Бокшанской, не притупляется ли у труппы МХАТ, гастролирующей в Америке, интерес «к политическому положению страны и стран! Ко всем тем идеологическим горам, которые так нагромоздились в нашей жизни. И самое важное: Наше будущее! Ведь этот вопрос, это memento mori247* становится все жгучее, все острее, все страшнее. Нет дня, а иногда и часа, чтоб я снова и снова не перебирал здесь этого вопроса и всех соприкасающихся к нему побочных тем! Нет самого маленького театрального события, беседы, заседания, — что не толкало бы нас здесь на новые обсуждения и загадки будущего… Что играть? С кем играть? Как играть? и т. д.». (Архив Н-Д, № 347).
Январь 24
Смерть В. И. Ленина.
Январь 27
Ходил вместе со всем театром на похороны В. И. Ленина на Красную площадь: «Только сегодня похоронили Ленина. К его гробу (в Колонном зале Дома Союзов) ходили несколько суток непрерывно. Так нашим со Студиями предложили идти в 4 часа ночи. И пошло более 200 человек… Сегодня, как нарочно, отчаянный мороз до 25°… Все организации дефилировали и, опустив стяги и возложив венки, проходили дальше. В 4 часа гроб был опущен в склеп (там же на Красной площади) и в этот час по всей территории Союза Советских Республик на 5 минут должно было остановиться все — все работы, всякое движение… И, разумеется, салюты из пушек… Спектакли прекратились на всю неделю». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 348).
Февраль 3
«“Стариков” встретят в России с распростертыми 375 объятиями248*. Тем более что к тому времени еще больше надоедят ухищрения “левого фронта” и еще больше будет тоска по хорошему актеру249*… А Мейерхольд поставил “Лес” так. (Это стоит рассказать). У него вообще на сцене ничего нет, кроме конструкции для данного спектакля. Занавеса нет. Задняя стена сцены и боковые открыты. В глубине по сцене ходят кому надо так, как бы не было ни спектакля, ни публики.
В “Лесе” на сцене налево высокий помост, как бы изображающий дорогу (из Керчи в Вологду), из левой глубины на публику, примерно к середине сцены (где полагается быть суфлерской будке). Там наверху помоста встретятся Аркашка и Несчастливцев, А на правой стороне ставят мебель, какую нужно для комнат или людских. В середине же стоят “гигантские шаги”. Пьеса начинается со встречи Аркашки с Несчастливцевым. Но скоро их знаменитый диалог прерывается и действие переносится направо: там идут сцены 1-го действия Островского… Действие переходит туда и сюда. Там, пока играют у Гурмыжской, или сидят пьют чай, или удят рыбу, или спят (Аркашка с Несчастливцевым), а здесь играют в карты, гладят белье, делают педикюр Гурмыжской. А сцена Петра и Аксюши из 2-го действия (грустная, лирическая у Островского) ведется на гигантских шагах. Сначала бегает одна Аксюша, Петр смотрит, потом он, потом оба. И, бегая, ведут диалог. А фигуры такие: Гурмыжская — актриса лет 35, во френче, в короткой юбке, в высоких лакированных сапогах, с хлыстом, в огромном рыжем парике. Вся — “желтая”. Бодаев — исправник с зеленой большой бородой. И Буланов в зеленом парике в костюме лаун-теннис. Милонов — священник с золотыми волосами и бородой. Аксюша, разумеется, в красном платье. Восьмибратов — весь в черном. (Понимай: черносотенец). Я смотрел только первое отделение. Не мог больше. Было очень скучно. Но, говорят, дальше были места, имеющие успех, — в особенности игра Петра на гармошке, такая замечательная, что были аплодисменты. Актеры, кроме Аркашки (Ильинского), все плохие». (Там же, № 349).
Февраль 7 – 9
Выступает на заседании в Наркомпросе по объединению МХАТ и его студий. (Архив Третьей студии. Музей МХАТ).
376 Февраль (до 10)
Создает проект нового оперного театра из молодежи Большого театра, Музыкальной студии и Оперной студии Станиславского. (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 350).
Февраль 15
Приветствует А. А. Яблочкину от имени МХАТ и его студий в день 35-летия ее сценической деятельности.
Февраль 17
«От вас нет ни одного предложения о будущем годе… как будто здесь незыблемо, как крепость, как будто можно, вернувшись, снова играть “Дядю Ваню” в прежнем составе (да хоть бы и в новом), или “На дне”, или “Штокмана” в старой мизансцене!..»250*. (Из письма к Бокшанской Архив Н-Д, № 351).
Февраль 17 – 24
Одновременно с репетициями «Кармен» ведет репетиции пьесы П. П. Муратова «Кофейня» в Четвертой студии: «… чтоб хоть можно было пустить спектакль грамотный». (Там же, № 352).
Март 15
Был на спектакле «Расточитель» Н. С. Лескова в Первой студии МХАТ.
Март (до 16)
Принимает в Музыкальной студии немецкого актера Александра Моисси, пришедшего на спектакль «Лизистрата».
Март 16
«Какой репертуар?! — хочется закричать через океан. Нельзя же играть “Три сестры” в настоящем возрасте. Нельзя же в современной России оплакивать дворянские усадьбы “Вишневого сада”. … Было бы малодушно и глупо махнуть рукой на все наши завоевания, порвать с ними и броситься навстречу тому, что, действительно, во многом обнаружила бессилие и что даже, может быть, нам не по природе. Нельзя с бацу разрывать со старым и нельзя бросаться в объятия всего молодого, что попадется. Надо твердо уяснить себе (для себя я эту работу проделал), что именно есть настоящего и в нашем, Художественного театра, искусстве… Практически 377 это означает, что надо не просто — эту пьесу оставить, а эту отбросить, а даже ту, которую можно и стоит оставить, очистить (разумеется, без глубоких поранений) от того, что портило наше искусство и что непозволительно сейчас.
… И публика, общество, власти, — все любят, уважают, ценят именно большое, широкое, живучее [в] МХТ…». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 341).
Март – апрель
Ставит «Кармен» в Музыкальной студии.
Апрель (до 6)
К 100-летию написания «Горя от, ума» начинает работу по возобновлению спектакля МХАТ. Беседует с М. И. Прудкиным о роли Чацкого: «Вероятно, приготовлю и Лизу и Молчалина». (Из письма к Бокшанской от 6 апреля 1924 г. Архив Н-Д, № 342).
В письме к Н. К. Пиксанову: «… мне кажется, что я читал решительно все, что Вы писали о Грибоедове и “Горе от ума”. В частности проглотил и последнюю присланную Вами. … Да, у нас собираются возобновить “Горе от ума”. И я очень часто думаю о том, какова должна быть постановка теперь, после 25-летней кипучей работы в области театральных исканий. Не скрою, что прежняя постановка кажется мне сегодня уже грузной и ряд моих же интерпретаций ошибочным.
Вообразите, что у меня до сих пор не проходит дня, вернее ночи, чтоб я не повторял мысленно целых кусков из комедии В бессонные ночи я проделывал многочисленные исследования: в стихе, в повторении рифм, в корявости там и сям языка, в “штампах” Грибоедова (например, выражение “мочи нет”, повторяющееся 6 или 7 раз) и т. д. И всегда нахожу что-нибудь новое для себя». (Архив Н-Д, № 1277).
Апрель 6
«Из новых постановок я почти остановился на пьесе Жюль Ромена “Старый Кромдейр”, глубоко поэтичной, коммунистической, без малейшего намека на агитацию, смелой по замыслу и дерзкой по развитию в смысле сценичности, требующей исполнения вдумчивого, яркого, спокойно-мастерского… пьеса в стихах, очень трудная.
… Верчусь около русской трагедии, ставя задачу: современного разрешения постановки русской трагедии. Но может быть, я переложу эту задачу на Музыкальную студию, где поставлю “Бориса Годунова” Мусоргского.
… К себе в ближайшие помощники я взял Судакова. Он мне за эти годы, что я сталкиваюсь со всеми, нравится. И настойчив, 378 дотошен, и питает истинное поклонение перед МХТ, а не показное, и вдумчив, и понимает задачи современности». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 342).
Май
Ежедневно ведет репетиции «Кармен». Читает книгу Е. М. Браудо «Ницше — философ-музыкант». Делает выписки из высказываний Ницше о музыке «Кармен». Просит Е. М. Браудо разрешить печатать эти отрывки на программах спектакля.
Июнь 1
Называет спектакль «Кармен» — «Карменсита и солдат», чтобы подчеркнуть тему трагического столкновения цыганки Карменситы и солдата Хозе.
Июнь 4
Премьера оперы «Карменсита и солдат».
Июнь
Лечится в Карловых Барах.
Июнь 27
«Мне иногда кажется, что я живу пятую или шестую жизнь, не считая детства. А все еще дела много, все еще я нужен многим.
… Я только что сдал боевую работу. Словно бомба разорвалась в оперном мире. Рецензии — от резко враждебных до ярко восторженных. И почти все сводятся к “новой эре в оперном искусстве…” Жаль, что в драме нельзя так продуктивно работать, как в музыкально-сценическом деле…». (Из письма к Книппер-Чеховой. Личный архив О. Л. Книппер-Чеховой).
Август 6
Приехал отдыхать на французский берег Женевского озера. Пишет Лужскому о студиях МХАТ.
Август 10
В письме к режиссеру Музыкальной студии Л. В. Баратову: «“Годунова” я задумал, кажется, до жути интересно…». (Избранные письма, стр. 356).
Август 14
Заезжает на два дня в Париж.
Август 26
Приступает к работе в МХАТ, вернувшемся из поездки по Европе и Америке.
379 Сентябрь 2 – 3
Проводит беседы с исполнителями трагедии Пушкина «Каменный гость». Определяет «зерно» трагедии — «дерзость преступающая. … Молниеносная стихийность. Все доведено до крайних пределов. Декорация — должна также выражать молниеносность. Взлетающая к небу.
Пушкинские стихи должны стать собственными словами». (Из дневника репетиций).
Сентябрь 10
Посылает телеграмму К. А. Треневу в Симферополь: «С огромным интересом прочел Вашу “Пугачевщину”, прошу исключительного права для постановки в Московском Художественном театре». (Избранные письма, стр. 356).
Сентябрь (до 22)
Включает в репертуар МХАТ пьесу Тренева «Пугачевщина».
Сентябрь 30
Анализирует на репетиции отдельные образы трагедии «Каменный гость».
Октябрь 7
Приступает к репетициям «Пугачевщины».
Октябрь 10
Вместе с Н. Н. Литовцевой репетирует «Каменного гостя».
Октябрь 11
«Вот картина: 9 часов вечера. На сцене “Смерть Пазухина”… а у меня в кабинете, когда я пишу это письмо, Качалов с Бакалейниковым повторяют монолог под музыку из “Эгмонта”. Для концерта Музыкальной студии. Бетховенский концерт… Вы не имеете представления, сколько я занят… В театре работают очень много, а радости как-то нет… Не разберешь, куда она притаилась». (Из письма к Михальскому. Личный архив Ф. Н. Михальского).
Октябрь 14
Тренев пишет Немировичу-Данченко: «… Вот Вы, напр[имер], передаете, что намерены сделать купюры, и именно выбросить 2-ю картину… у меня много оснований, не только субъективных, но глазное — объективных, считать ее тесно связанной с ходом всей народи[ой] трагедии251*. Конечно, категорически 380 настаивать на ее оставлении не буду, но, опять-таки, хотел бы выслушать соображения режиссуры, а ей высказать свои.
Вот прочел сейчас в “Рампе” хроникальную заметку, что Вы ведете с режиссерами и исполнителями беседы об идеологической стороне постановки “Пугачевщины”. Конечно, всякий автор тоже имеет свои идеологические и другие задачи. Я не знаю, в какой степени интересны эти мои задачи для режиссуры, но Ваши беседы для меня представляли бы глубокий интерес». («Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 410 – 411).
Октябрь (середина)
«Очень просим приехать». (Из телеграммы к Треневу).
Октябрь (конец)
Проводит в присутствии Тренева беседу с исполнителями «Пугачевщины». Согласовывает с автором некоторые изменения текста пьесы. Позднее, в 1934 г., Тренев писал: «Театр и я, мы сошлись на любви к слову. Сценическое воплощение слова происходило в МХАТе на моих глазах, и нужно ли говорить, что нигде и никогда впоследствии я не встречал такого глубокого проникновения внутрь слова, такого изумительного, необычайно тонкого понимания красок языка». (К. Тренев, «Они учатся и учат других». Сборник «Пьесы. Статьи. Речи», М., «Искусство», 1953, стр. 563).
Октябрь 27
Приветствует на митинге, происходящем на Театральной площади, Малый театр в связи с его 100-летним юбилеем. Вечером выступает на торжественном заседании с воспоминаниями о Малом театре.
Ноябрь 6
Репетирует «Каменного гостя».
Ноябрь 19
Репетирует первую картину «Пугачевщины»: «В. И. Немирович-Данченко делал указания по психологии пьесы»252*. (Из протокола репетиции).
Ноябрь 20
Вел репетиции шестой картины «Пугачевщины». «Искал 381 настроения, основного в пьесе… глубокой народной скорби». Потом беседовал с режиссерами Леонидовым и Лужским. (Там же).
Ноябрь 21
Репетирует «Пугачевщину».
Ноябрь 22
Ведет репетиции на Большой сцене. Репетирует шестую картину, занимается с Н. П. Хмелевым, играющим роль Марея, и С. В. Халютиной — Липакой253*.
Ноябрь 25
Репетирует начало первой картины «Пугачевщины».
Ноябрь 26
Занимается с участниками народных сцен, потом репетирует начало первой картины. Беседует о ролях с А. К. Тарасовой (Устинья), И. М. Москвиным (Пугачев), В. Ф. Грибуниным (Чика), Н. П. Баталовым (Чумаков). Чумакова играл потом Н. А. Подгорный, Н. П. Баталов играл Барсука.
Декабрь 10
Под впечатлением смерти Г. С. Бурджалова Л. В. Собинов пишет Немировичу-Данченко: «… сколько переживаний, юных надежд, беспредметной радости и веселой смелости связано с Художественным театром с первых его шагов. Даже раньше: с ученических спектаклей Филармонического училища». (Архив Г. С. Бурджалова. Музей МХАТ, № 412/2001).
Декабрь 15
Из речи Немировича-Данченко на гражданской панихиде по Г. С. Бурджалову: «Когда я вспоминаю разные большие хорошие дела, какие творились в России, я наблюдаю, что ни одно хорошее дело не может состояться без участия в нем людей такого типа, к какому принадлежал Георгий Сергеевич… Георгий Сергеевич был знаменосцем Художественного театра, в самом настоящем смысле этого слова. Чрезвычайная чистота и совершенно беспредельная скромность… К его чистоте и скромности присоединяется еще огромное чувство общественности». (Там же).
Декабрь 18
«Верхнее фойе. Репетировали пятую картину “Пугачевщины” 382 в присутствии Владимира Ивановича». (Из протокола репетиции).
Декабрь 19
Леонидов репетирует картину «Деревня», учитывая замечания Владимира Ивановича.
Декабрь 23
В час дня смотрит четвертую картину «Пугачевщины».
Декабрь
Выпускает Пушкинский спектакль в Музыкальной студии: «Алеко» — опера С. Рахманинова, режиссер — К. И. Котлубай; «Бахчисарайский фонтан» — музыка А. Аренского, режиссер — В. А. Лосский; «Клеопатра» («Египетские ночи») — музыка Р. Глиэра, режиссер — Л. В. Баратов. Руководитель спектакля Вл. И. Немирович-Данченко.
Декабрь 30
В верхнем фойе МХАТ работает с И. М. Москвиным (Пугачев) и А. К. Тарасовой (Устинья).
1925
Январь 3
Репетирует «Пугачевщину» в присутствии Тренева, вместе с ним вносит поправки в текст пьесы. Беседует с Треневым. «Работа над пьесой продолжалась год. И от этой работы у меня остались самые глубокие, я бы сказал заветные впечатления. … Прежде всего хочется отметить исключительное внимание Художественного театра и особенно его руководителей к автору и его труду, к тексту пьесы». (К. Тренев, «Встречи с театром», «Литературная газета» от 26 октября 1938 г.).
Январь 11
Премьера Пушкинского спектакля в Музыкальной студии.
Январь 21
Дает согласие участвовать в юбилейной комиссии по чествованию дирижера А. М. Пазовского.
Январь 25
А. В. Луначарский приглашает Немировича-Данченко на совещание по театральным вопросам.
Январь 30
Проводит репетицию «Пугачевщины» на Большой сцене.
383 Январь 31
Пишет Е. К. Лешковской, М. Н. Ермоловой и Г. Н. Федотовой, что в связи с отъездом А. И. Южина они могут обращаться к нему со всевозможными просьбами.
Февраль 1
Выступает на торжественном заседании, посвященном 100-летнему юбилею Большого театра. («Новый зритель», № 6).
Февраль 3 – 8
В журнале «Искусство трудящимся» (№ 10) напечатана беседа с Вл. И. Немировичем-Данченко о возобновленной постановке «Горя от ума»: «… знаменуя собой, с одной стороны, освобождение театра “из плена Чехова”, с другой, — она воплощает лучшие традиции художественников — театральный реализм и глубокое раскрытие драматического произведения… В возобновляемой постановке главные роли (кроме Фамусова, которого играет Станиславский) ведет молодежь».
Февраль 6
Репетирует «Пугачевщину». Делает замечания исполнителям и уточняет план дальнейшей работы.
Февраль 7
Проводит общую репетицию «Пугачевщины». Отдельно занимается с Москвиным и Тарасовой.
Февраль 10
Репетирует начало четвертой картины («Казань») с казачками и выход Устиньи. Проводит отдельную репетицию с Москвиным и Тарасовой.
Февраль 11
Дает согласие участвовать в дискуссии по докладу Р. А. Пельше и содокладам А. В. Луначарского и В. Э. Мейерхольда об основных вехах театральной политики. (Помета на приглашении, присланном Центральным Домом работников искусств: «Согласен. ВНД.». Архив Н-Д, № 6952).
Февраль 11 – 13
Репетирует «Пугачевщину».
Февраль 14
Репетирует сцены Пугачева и Устиньи с Москвиным и Тарасовой.
384 Февраль 16
В Театральной секции Российской академии художественных наук обсуждается спектакль МХАТ «Горе от ума». («Искусство трудящимся» от 3 – 8 марта 1925 г., № 14).
Февраль 17
Беседует с Грибуниным о роли сподвижника Пугачева — Чики. В три часа вместе с Лужским, Леонидовым. А. Ф. Степановым (художник спектакля) просматривает макеты.
Февраль 18, 19, 20
Репетирует «Пугачевщину».
Февраль 21
Вместе с Лужским репетирует народную сцену третьей картины «Пугачевщины» («Комната Устиньи»).
Февраль 25
Присутствует на репетиции картины «Крепость». Беседует с исполнителями о гримах и костюмах.
Февраль 26
«Немирович-Данченко два раза прошел картину “Деревня”. Потом беседовал о монтировке». (Из протокола репетиции).
Февраль 27
Репетирует картину «Деревня», беседует с художником о костюмах «Пугачевщины».
Перед спектаклем «Смерть Пазухина» обращается к зрителям с краткой речью о кончине Г. Н. Федотовой.
Февраль 28
Репетирует народные сцены из картины «Деревня» и всю картину «Крепость». Работает с Тарасовой и Москвиным.
Март 3
Репетирует с Москвиным и другими исполнителями «Пугачевщину».
Март 4
«Несколько раз проходит всю картину “Крепость”. Устанавливает “куски”, мизансцены, шумы и музыку». (Из протокола репетиции).
385 Март 5
«Прошли всю картину (2-ю) с остановками и замечаниями Немировича-Данченко». (Там же).
Просматривает эскизы костюмов и просит заказать пробные костюмы.
Из письма Тренева к Немировичу-Данченко: «На всякий случай — мое мнение: сократить начало 7-й картины (8-й по автору), выбросив все офицерские разговоры, оставив м[ожет] б[ыть]. 2 – 3 реплики и начав прямо с выхода Панина. Но разрывать пьесу на 2 веч[ера], по-моему, — тоска и пагуба»254*. («Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 413).
Март 6
Репетирует вторую картину с выхода Устиньи.
Март 7
Репетирует картину «Деревня». Анализирует роли бары ни, Марея, Старосты. Проходят два раза картину «Комната Устиньи».
Март 10
Репетирует картину «Скит» до выхода Пугачева, намечает мизансцены.
Март 11 – 13
Ведет репетиции первой картины «Улица в станице».
Март 14
Смотрит репетицию второго акта. В 2 часа на Большой сцене пробует шумы к дым. Устанавливает, что для шумов в спектакле необходимы: 1) орган, 2) ветер, 3) ворчун, 4) вентилятор, 5) муха, 6) шелест ковыля, 7) топот копыт. Предлагает для пара сделать трубы и деревянный ящик в трюме.
Март 17
Репетирует картину «Скит». Просит сделать колокольню так, чтобы колоколов не было видно. Монахи выходят со свечами, с иконами.
Март 18
Репетирует первую картину «Пугачевщины».
386 Март 20
Просмотр первой и второй картин «Пугачевщины». Проба шумов в четвертой картине («Казань»). Проходит несколько раз четвертую картину с мизансценами. Вводит в спектакль восемь артистов Музыкальной студии.
Март 24
«Владимир Иванович наметил мизансцены в седьмой картине. Прошел ее несколько раз». (Из протокола репетиции «Пугачевщины»).
Март 25, 26
Репетирует первую я вторую картины «Пугачевщины». Просит художника А. Ф. Степанова присутствовать на репетициях.
Март 27
Посылает телеграмму Треневу: «Репетиции идут горячим ходом, работаем с большим увлечением. Сила и значительность трагедии не допускают малодушной торопливости, легкомысленной небрежности… Ваше присутствие вообще очень желательно». (Избранные письма, стр. 357).
Март 28
Ведет репетиции «Пугачевщины».
Март 29
Из письма Тренева к Немировичу-Данченко: «… Страшно волнуют результаты проделанной Вами грандиозной работы… Какие пути пришлось Вам проложить и куда удалось прийти?..» («Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 415).
Посылает приветствие исполнителям «Смерти Пазухина» в связи с 100-м представлением спектакля.
Март 31
Делает замечания всем участвующим по первой и второй картинам «Пугачевщины». На режиссерском экземпляре пьесы запись В. П. Баталова: «Мысли о “Пугачевщине” Владимира Ивановича: Как избегнуть голых ужасов? Спектакль — инсценированная былина… все подернуто дымкой прошлого. Все с точки зрения самого певца, самой былины… (уйти от грубого натурализма) и тем самым быть уже ближе к поэзии. Артист — поэт. Где-то сидит былинщик — поет. Написать какие-то слова, петь их перед каждым актом. Какая-то кобза. Былинное сказание о “Пугачевщине”». (Музей МХАТ).
387 Апрель 1 – 21
Репетирует «Пугачевщину».
Апрель 3
В письме к Луначарскому: «В целях объединить коллективы МХАТ — основной группы, 2-го МХАТ, Музыкальной студии, Драматической студии и Школы, — объединить сначала в хозяйственном и административно-хозяйственном отношениях, потом постепенно в идеологическом, в репертуарном и художественном, я считаю необходимым изменить аппараты управления всеми вышеназванными коллективами». (Черновик. Архив Н-Д, № 979).
Апрель 6
Выступает на гражданской панихиде по Г. Н. Федотовой с воспоминаниями о ней.
Апрель 20 – 26
В журнале «Искусство трудящимся» (№ 21) опубликована беседа с Немировичем-Данченко о постановке «Пугачевщины»: «Произведение это написано в лучших традициях русской литературы и корни его лежат в творчестве Пушкина и Толстого… Пьеса эта не блещет архитектоникой, сценической гармонией частей… Зато образы взяты ярко и глубоко, возвышенно и не банально… Пьеса написана с такой глубокой правдивостью, что никак нельзя освещать ее односторонне: она просится в исторический аспект, часто доходя до яркой объективности, нисколько, однако, не мешающей революционному настроению, которым пропитана вся пьеса.
Театр ставит “Пугачевщину”, как романтическую трагедию с максимумом темпераментной насыщенности, революционного пафоса этой эпохи и стремлением к яркой реальной красоте. Натуралистическое отношение к жизни мельчило бы здесь широту и богатство содержания, поэтому фигуры выведены реально-прекрасными, сценически-жизненными… режиссура стремилась использовать последние достижения современного театра в разрешении сценической площадки, однако без уклона в так называемое “циркачество” или натурализм».
Апрель 22
Занимается монтировкой и установкой света. Проводит беседу с исполнителями «Пугачевщины».
Апрель 23
Генеральная репетиция «Пугачевщины».
Апрель 24
С 12 до 2 ч. 40 м. знакомит исполнителей со своими замечаниями 388 по генеральной репетиции. В картине «У Устиньи» отменяет сцену Федосея и Устиньи и сцену Пугачева, Шигаева и Перфильева.
Апрель 25
Беседует с исполнителями перед второй генеральной репетицией.
Апрель 26
Закрытая генеральная репетиция «Пугачевщины».
Апрель 27
Труппа Художественного театра уезжает на гастроли в Тифлис.
Май 16
В день пятилетия Музыкальной студии посылает письмо В. В. Барсовой: «Все мы с чувством самой теплой благодарности вспоминаем всех, кто своим добрым и талантливым участием помогал делу студии на первых, труднейших шагах ее пути». (Избранные письма, стр. 358).
Май 26 – 31
В журнале «Искусство трудящимся» (№ 26) опубликовано письмо наркома просвещения А. В. Луначарского народному артисту республики Вл. И. Немировичу-Данченко: «… Я хорошо помню, как Вы говорили, что режиссерская работа над спектаклем без музыки кажется Вам пресной и лишенной какого-то всеобъединяющего духа».
Июнь 3
«Все звончее, все настоятельнее, все неотступнее встают во весь рост требования лучшей морали, лучшей этики, чистоплотности взаимоотношений…». (Из письма к Лужскому. Архив Н-Д, № 1079).
Июль 1
В «Правде» опубликована резолюция ЦК РКП (б) «О политике партии в области художественной литературы».
Июль (начало)
Приезжает в Карловы Вары.
Июль 7
В письме к Лужскому: «Мне кажется, что я взял верную политику и продолжаю рекомендовать ее: прямодушие и бесстрашие». (Архив Н-Д, № 1085).
389 Июль 31
Полемизирует с тем, кто находит, что «Пугачевщина» поставлена слишком мрачно. «Давайте по старинке, когда мы через Шиллера с Ермоловой и Южиным рисовали такие очаровательные революции, что Морозовы, Носовы, Рябушинские, Королевы восхищались и аплодировали. Как изумительно играли! Ну, а что играли, ведь это не серьезно, это где-то, с кем-то было255*… С нами же, в России, невозможно… Власовский256* не допустит.
Ведь Москвин же так и хотел: не мрачно брать. А Ильинский в Ленинграде и окончательно весело взял Пугачева… Пришлось снять с генеральной репетиции совсем». (Из письма к Лужскому. Там же, № 1086).
Август (конец)
Из письма Станиславского в Музыкальную студию МХАТ: «Семейные дела и большая усталость лишают меня возможности быть на Вашем сегодняшнем прощальном обеде.
… Мое отношение к Комической Опере ложно толковалось. На самом деле я ценил и ценю Ваше прекрасное отношение к делу и преданность Московскому Художественному театру, но не скрою, что я, как и старики, ревнуем Владимира Ивановича к Вам. Мы его против воли и с большой сердечной болью принуждены были уступить Вам.
Ваша помощь ему должна выразиться в совершенно исключительной дисциплине и артистической этике, которыми Вы должны блеснуть за границей.
Берегите дорогого Владимира Ивановича, помогайте ему в его трудном деле и верните его нам здоровым, бодрым и вновь прославленным в Европе и Америке». (Архив Музыкального театра).
Сентябрь (начало)
Находится в Ленинграде. Просматривает спектакли Музыкальной студии перед гастролями.
Сентябрь 3
Посылает телеграмму Станиславскому: «Очень ценю Ваше желание быть вместе в трудные минуты. Вам и мне трудно, потому что мы не можем ни на один шаг оставаться равнодушными к достоинству наших работ. Но пока в нас это есть, живо все то, что мы вкладывали в наше общее дело». (Избранные письма, стр. 359).
390 Сентябрь 6 – 10
В Ленинграде вместе со Станиславским участвует в торжественном заседании, посвященном 200-летнему юбилею Академии наук.
Сентябрь 12
В Москве перед началом спектакля «Царь Федор Иоаннович» произносит речь в честь 200-летия Академии наук.
Сентябрь (середина)
Возобновляет репетиции «Пугачевщины».
Сентябрь 16
В присутствии Тренева делает замечания актерам по спектаклю «Пугачевщина».
Сентябрь 18
«Мы взяли курс на современность. Художественный театр никогда не был аполитичен, пьесы Чехова, Горького захватывали массу… Хороший режиссер это тот, который… чувствует современность». (Из обращения Немировича-Данченко к труппе МХАТ. Записано В. П. Баталовым. Архив Н-Д, № 7304).
Сентябрь 19
Премьера «Пугачевщины».
Сентябрь 29
Тренев пишет: «Итак, дорогой Владимир Иванович, “Пугачевщина” сыграна… Я не читал рецензий. Прочел только одну в “Изв[естиях]” (в день премьеры!), дочитал до хулы по адресу языка… И решил рецензий не читать. Слышу лишь — всем достается, и прежде всего мне… Случилось то, чего я испугался в первый свой приезд, когда узнал, какое решающее значение для театра имеет постановка “Пуг[ачевщи]ны”. Помните? — выразил я тогда свое опасение: не слишком ли утлую ладью избрал театр, чтобы переплыть на другой берег? Ваш ответ подействовал на меня очень успокаивающе. Но не надолго. Сомнения уже весной обратились в предчувствие…
Я пишу Вам, не зная… встретимся ли мы еще в мире, в том самом мире, где Вы — единственный нужный мне в данную минуту человек. Мне не слово утешения нужно. А если Вы, как я думаю, сейчас в большом горе, то мне необходимо причаститься к нему…
… наша ошибка: устранение Казани. Пьеса осталась без хребта»257*. («Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 415 – 416).
391 Октябрь 2
Из письма Тренева к Лужскому: «Я все-таки думаю, что Москвина — Пугачева почувствуют и оценят лишь после». (Там же, стр. 416).
Октябрь 6
В «Известиях» напечатана рецензия Н. А. Семашко «За “Пугачевщину”»: «Художественный театр опять блеснул своим доподлинным художеством. … Это первый шаг, поворот Художественного театра в сторону постановок, психологически близких современному зрителю. … Не было ни одного зрителя, который ушел бы из театра, не будучи потрясен до самой глубины своей души».
Октябрь 16
Начало гастролей Музыкальной студии в Берлине.
Октябрь – ноябрь
Спектакли Музыкальной студии в Берлине, Лейпциге, Праге и Бремене. Немецкая печать отмечает успех гастролей: «Советская Россия идет впереди всего мира, советское искусство идет тоже впереди других». («Сакс арбейтер цейтунг» от 6 ноября 1925 г.).
Декабрь 12
Начало гастролей в Нью-Йорке.
Декабрь 15
Из статьи в «Нью-Йорк тайме»: «Итак “Лизистратой” нужно наслаждаться как технически совершенным достижением театральных искусств. Она взывает ко всем чувствам. … В наших театрах отдельные части постановок никогда не были согласованы так прекрасно».
Декабрь 31
После встречи Нового года едет в балетную студию М. М. Мордкина: «… не важные номера и вообще не важно». (Из записной книжки 1925 – 1933 гг.).
1926
Январь 4
В записной книжке — впечатления от премьеры оперы «Карменсита и солдат» в Нью-Йорке: «Как это восхитительно, когда такой полный, единодушный, триумфальный, горячий, экспансивный успех! Это действительно мировая победа, редчайшее признание! Счастливый вечер».
392 Январь 5
«За исключением одной кислой рецензии, — гул восторгов». (Из записной книжки 1925 – 1933 гг.).
Был на концерте известного дирижера Л. Стоковского: «Стоковский пластичный, каждый жест поет те звуки, которые издает оркестр. Дирижирует на память. Симфония Мясковского очень хорошая. Потом под “Шехеразаду” Римского-Корсакова за закрытым оркестром — на колоссальном экране, музыкальная игра красок и линий. Были хорошие минуты». (Там же).
В «Нью-Йорк тайме» напечатана статья: «Триумф русских в Музыкальной драме».
«“Карменсита” — самая большая удача русских» — статья в «Дейли ньюс».
В «Ивнинг уорлд» опубликована статья — «Превосходная Кармен».
Январь 11
В первый раз в Нью-Йорке идет Пушкинский спектакль Музыкальной студии: «Успех очень скромный. Больше других — “Клеопатры”». (Из записной книжки 1925 – 1933 гг.).
Январь 13
Был на приеме в Международном институте искусств. «Очень большой ценности здесь музей Рериха, все очень замечательные картины, несколько зал в 3-х этажах (небольших зал)». (Там же).
Январь 15
Разговаривает с двумя исполнительницами роли Кармен, испанской певицей д’Альварец и американской певицей Феррари, которые восторженно отзываются о спектакле «Карменсита и солдат». (Там же).
Январь 17
Выступает с речью на французском языке в «Женском клубе», говорит об «идеях человечества, связывающих страны и народы».
Слушает «изумительный квинтет негров». (Там же).
Январь 27
Выступает с речью в клубе писателей, издателей и поэтов о «сближении Америки и России». (Там же).
393 Январь 31
Знакомится с окрестностями Нью-Йорка.
Февраль 8
Смотрит венгерскую мелодраму: «Скучно. Постановка режиссера Бен-Ами. Как в “Пугачевщине”, горизонт и куски декораций». (Из записной книжки 1925 – 1933 гг.).
Февраль 11
«Днем торжественный спектакль в нашу честь в театре в еврейском квартале258*. Играли “Дыбук”. Ставил один из исполнителей в Габиме. Копия художественная259*. Кое-что удалось. В общем это уже лучше всего, что в других театрах». (Там же).
Февраль 27
Из Нью-Йорка пишет Лужскому об успехе спектаклей Музыкальной студии и о том, что грустит по Москве, по Художественному театру. «Часто мыслями ухожу к Вам в Театр, и на сцену, и за кулисы… прохожу и по уже обветшалым коврам коридоров…». (Архив Н-Д, № 1097).
Февраль
Обдумывает план новых оперных постановок Музыкальной студии: «Пиковая дама» и «Борис Годунов».
Март 4
В записной книжке описывает свои впечатления от Бостона.
Март 6
«Поехал к океану. … Побережье океана. … Налево, словно, острова, городки на скалах. Направо — фабрики, заводы». (Там же).
Вечером слушал концерт С. А. Кусевицкого.
Март 7
Узнает, что старейшие актеры Художественного театра 394 возражают против того, чтобы Музыкальная студия работала в здании Художественного театра260*.
Март 14
Переезд в Филадельфию.
Март 15
«Филадельфия приятнее Бостона. Там душат своим однообразием эти нью-йоркские “квартирные” дома… Сначала это нравится, но потом от этих домов хочется бежать на край света». (Из записной книжки 1925 – 1933 гг.).
Перед началом спектаклей Музыкальной студии со вступительным приветственным словом выступил дирижер Л. Стоковский.
Март 17
Пишет Луначарскому из Филадельфии, что Л. Стоковский очень хотел бы приехать в Москву, «так как играет много русских композиторов» (я сам слышал чудесное исполнение симфонии Мясковского и «Шехеразады»). (Черновик. Архив Н-Д, № 981).
Март 20
Путевые заметки о поездке в Вашингтон: «Однообразные фабричные города: некоторые фабричные поселки чудовищно-казарменны… Изумительной красоты вокзал в Вашингтоне. Длинный, высокий и весь белый… Город сразу поражает чистотой, красотой, белизной». (Из записной книжки 1925 – 1933 гг.).
Март 22
Был на могиле Линкольна.
Март 24
«Конгресс — замечательное здание. Купол ночью освещен, 395 необыкновеннейшая библиотека». (Из записной книжки 1925 – 1933 гг.).
Апрель 1
Пишет из Кливленда старейшим актерам Художественного театра. Просит их помочь Музыкальной студии сохранить тех, кто стал действительно певцами-актерами. (Из письма к Лужскому. Архив Н-Д, № 1100).
Апрель 6
«Никогда еще театр не видел ничего столь изысканного, столь нового, столь революционного». (Из статьи «Русские освежают “Кармен”, делая творение Бизе новым», в газета «Цинциннати инхвайрер»).
Апрель 8
«Американские театральные постановщики могут взять несколько ценных уроков у художественного триумфа Музыкальной студии МХАТ…
Несколько недель тому назад здесь была Чикагская оперная труппа. Многочисленная аудитория слушала широко рекламированный спектакль “Кавалер роз”. И все что она получила за заплаченные деньги… было экстравагантное внешнее представление». (Из статьи «Мысли и впечатления» в газете «Цинциннати дейли таймс етор»).
Апрель 12 – 24
Находится в Чикаго. «Чикаго интересный город». (Из записной книжки 1925 – 1933 гг.).
Апрель 13
«Молодые русские показывают, как сделать оперу жизненной». (Из рецензии в газете «Чикаго геральд»).
Апрель 14
«Музыкальная драма из Москвы — это триумф». (Из статьи в газете «Чикаго ивнинг америкэн»).
Апрель 26 – май 1
Находится в Детройте. «Часто думаю, что Америка еще не нашла своей красоты. Она все еще строится, строит». (Из записной книжки 1925 – 1933 гг.).
Апрель – май
Получает приглашение работать в американском кино. «Общество, которое меня пригласило, — сосьетеры — все лучшие артисты кино: Мэри Пикфорд, Дуглас и Чаплин, Норма Толмедж, Барримор (лучший Гамлет в драме) и т. д., 396 я их никого не знаю». (Из письма к Южину от 7 сентября 1926 г. Избранные письма, стр. 361).
Отбирает художественные произведения для экранизации в американском кинематографе. Среди них: «“Цветы запоздалые”, “Драма на охоте”, “Тина”, “Три года”, “О любви”, “Моя жизнь”, “Вишневый сад” Чехова; “Бродяга” Мопассана, “Игрок” Достоевского, “Без вины виноватые”, “Красавец-мужчина”, “Бешеные деньги” и другие пьесы Островского; “Евгений Онегин” по Пушкину и Чайковскому; “Кармен” — опера, “Кармен” — драма; “Жирофле-Жирофля”. Только на экране удастся свести двух сестер вместе»261*. (Из записной книжки 1925 – 1933 гг.).
Делает черновой набросок сценария по роману Достоевского «Игрок»: «Нельзя рассматривать без такой основной задачи: игрок значит — азарт, значит — риск. Значит — все существо отдается этому; значит — все морали и все самые высшие принципы будут принесены в жертву этому; значит — приближение к азарту всего самого дрянного в человеке, значит — потеря воли на высшие, на трудные жизненные вопросы; значит — разврат». (Там же).
Май 2
«Открыть путь к Трагедиям в кино… “Эрик XIV”… “Федор” и “Годунов”». (Там же).
Май 3 – 15
Спектакли Музыкальной студии МХАТ в Нью-Йорке.
Май 9
Из Нью-Йорка посылает телеграмму Луначарскому о том, что хочет «подойти вплотную к кинематографу, изучить его технику, поискать путей наполнения его новым содержанием. Никогда так ярко не чувствовал его колоссальное влияние на массы. Лучшая американская фирма Калифорнии обеспечивает мне широкие возможности для изучения техники и экспериментов… Принимая предложение на год, я прошу Вашего утверждения». (Архив Н-Д, № 982).
Май 15
Окончание гастролей Музыкальной студии в Америке.
397 Май (конец)
Подписывает контракт с американской кинофирмой.
Июнь 1
Начинает писать сценарий «Миллионерша» по мотивам своей пьесы «Золото», имея в виду участие актрисы Греты Гарбо: «Героиня — женщина-Гамлет. Девушка уже лет 25, миллионерша. Ее мировоззрение: “умных и ученых много, а радующих мало, я хочу быть радующей”». (Из записной книжки 1925 – 1933 гг.).
Июнь 2
Из Берлина сообщает артистам Музыкальной студии, что ему предоставлен Наркомпросом годовой отпуск, и пишет: «Не бросайте меня из памяти, поберегите те дорогие чувства, которые Вы мне оказали». (Архив Музыкального театра).
Июнь 9 – 15
Делает наброски новых сценариев для Чаплина: «Честный кассир», «Мечты и действительность», «Брат и сестра» и другие.
Июнь 22
В записной книжке излагает план своего сценария «Клевета».
Июнь 24
В письме А. И. Южина: «Вообще, с тех пор, как пронесся слух, что ты еще на год остаешься за границей, я почувствовал совершенно отчетливо, что я одинок в театральной Москве. А ведь мы мало и редко с тобою видались, и наши театры в своем ходе часто расходились под углом, а это не могло не разделять и нас. И все-таки, когда ты в Москве, мне чуется моральная опора, что-то дружеское и разделенное. Тяжело без тебя». (Архив Н-Д, № 5857).
Июль
Отдыхает во Франции.
Июль 2
Из заметок для сценария «Клеопатра»: «Клеопатра — гений женщины… сцена, в которой она вспыхивает, кричит, швыряет в Антония, потом плачет, целует его ноги — и побеждает». (Из записной книжки 1925 – 1933 гг.).
398 Июль 4
«Современные темы жизни: кризис, стремление к власти — все Наполеоны. Усталость и от политики и от кризиса. Расточительность неприлична. Переустройство мира. Ничтожная ценность жизни. Чудеса техники. Спорт. Женское равноправие. Зверства». (Там же).
Август 25
Готовится к отъезду в Америку.
Август – сентябрь
Отвечает на письмо Южина: «О твоем “Рафаэле”262*. Как это хорошо, что ты нашел в своих молодых переживаниях и тяготениях что-то очень отвечающее современным переживаниям и мыслям. … еще важнее, — чтобы последний акт не обратился в резонерские итоги, как бы они ни были умны и в каких бы красивых монологах не выразились. Непременно — события и только события…». (Избранные письма, стр. 359).
Август (до 30)
Просит прислать ему новые советские пьесы, включенные в репертуар МХАТ («Унтиловск» Л. Леонова, «Дни Турбиных» М. Булгакова).
Август 30
«… И революция мне помогла чрезвычайно. Для меня от нее выигрывала моя идеологическая закваска, а умалялась та внешняя сила житейского консерватизма, ради которой я так часто не был самим собою.
… Америка, Саша, выжимает все соки. Она, еще не создавшая сама духовных ценностей, жадно набрасывается на все, что ей кажется для нее нужным, но платит с огромной требовательностью. Все эти россказни о легкости наживы в Америке — сплошная ерунда. Люди бьются, буквально, как рыба об лед. Есть имена (я говорю об артистических) зарабатывающих много, но таких имен 20 – 30 на всю Америку. Живут экономно, с большой сдержанностью, работают все до устали, до измору…». (Из письма к Южину. Избранные письма, стр. 360 – 361).
Сентябрь 8
Выезжает из Парижа в Шербур.
Сентябрь 18
Возвращается в Нью-Йорк.
399 Сентябрь 20, 21
В конторе фирмы United artists дает интервью корреспондентам американских газет. Говорит о слабости сценариев американских кинофильмов, построенных лишь на занимательности: бегства, пожары, кораблекрушения, трюки — «мало жизни человеческого сердца и духа». (Из дневника секретаря Вл. И. Немировича-Данченко С. Л. Бертенсона. Музей МХАТ).
Сентябрь 21
Выезжает из Нью-Йорка в Калифорнию. Проезжает Колорадо, Аризону, Техас, Ново-Мексику. Вспоминает об отношении Горького к Америке. (См. черновые заметки Немировича-Данченко. Архив Н-Д, № 5575/956 – 959).
Сентябрь 25
Приехал в Лос-Анжелос. «Явилась целая толпа народа с мэром города во главе, который поднес Владимиру Ивановичу золотой ключ от города… Актерские делегации подносили ему цветы, фрукты»263*. (Из дневника С. Л. Бертенсона).
Сентябрь 27 – 30
В студии Голливуда смотрит съемки фильма «Франсуа-Вийон»264*. «Пока не только ни одного радостного, но даже сколько-нибудь интересного момента не было. Владимир Иванович в недоумении — что же тут можно сделать?265* … Надо медленно подготовлять кадр новых, не испорченных рутиной людей». (Там же).
Сентябрь 30
«При нас снимали несколько сцен, но ни одна не рассеяла впечатления безотрадности. Владимир Иванович сказал: “Придется взять своего помощника режиссера, русского, знающего по-английски”.
Смотрели фильмы с участием Нормы и Констанс Толмедж. 400 Глупость и пошлость, хотя обе безусловно хорошие актрисы.
Вечером смотрели фильм “Дон-Жуан” с участием Джона Барримора. Владимир Иванович видел его уже раньше в Нью-Йорке. Уже тогда картина ему понравилась, и сейчас его впечатление только окрепло». (Там же).
Из Москвы сообщают о громадном успехе «Горячего сердца» и «Дней Турбиных», о талантливой игре молодых актеров. Особенно хвалят Н. П. Хмелева. (См. письмо Бокшанской. Архив Н-Д, № 3364/4).
Октябрь 1
Джон Барримор, видевший спектакли МХАТ в Америке, увлеченный русским искусством, говорит Немировичу-Данченко: «Как Вы нам нужны и как многому Вы можете нас научить». (Из дневника С. Л. Бертенсона).
Смотрит американские фильмы «Черный пират» и «Маленькая Анни» с участием Дугласа Фербенкса и Мэри Пикфорд.
Октябрь 2
Наблюдает, как известный немецкий актер Конрад Вейдт снимается в роли Людовика XI: «В том, как эта сцена была разыграна, как она была поставлена и обставлена. Владимир Иванович уловил самый главный и основной элемент: скука… никакой неожиданности». (Из дневника С. Л. Бертенсона).
Октябрь 3
Задумывает сценарий о «Пугачеве» по повести Пушкина «Капитанская дочка» и пьесе Тренева «Пугачевщина».
Октябрь 5
«Сегодня познакомились с Фербенксом… он сказал, что прочел все что только возможно о Художественном театре и о деятельности Владимира Ивановича. … Он считает приезд Владимира Ивановича большим событием… На вопрос Вл. Ив., понравилась ли ему Россия, он ответил, что Москва — это самое его большое впечатление от поездки по Европе. Замечателен внутренний дух, которым живет сейчас Россия и русский народ. На него произвела громадное впечатление картина “Броненосец "Потемкин"”». (Из дневника С. Л. Бертенсона).
401 Октябрь 7 – 8
Беседует с Барримором и Фербенксом об искусстве актера и режиссера. (Там же).
Октябрь 8
Смотрит фильм «Золотая лихорадка» с участием Чарли Чаплина. «Владимир Иванович его хвалил и сказал, что он “актер легкий”». (Там же).
Октябрь 9
По просьбе Барримора работает над ролью с молодой американской киноактрисой Марселиной Дей. «Владимир Иванович великолепно объяснял ей, как актер, прежде чем зажить каким-нибудь чувством, должен “распахать” свою душу, как он никогда не должен играть чувства, как, когда он найдет в себе нужные чувства… оно само найдет себе выражение, как роль предварительно разбивается на отдельные “куски” и т. д.». (Там же).
Обдумывает сценарий кинокартины по сказке А. Н. Островского «Снегурочка» с участием Мэри Пикфорд.
Октябрь 10
«Владимир Иванович продолжает увлекаться мыслями о “Снегурочке” и, видимо, много фантазирует на эту тему». (Из дневника С. Л. Бертенсона).
Октябрь 14
Смотрит съемки новых кинокартин. «Владимиром Ивановичем опять овладела скука. “Можно захлебнуться в банальности”, — сказал он». (Там же).
Октябрь 16
Конрад Вейдт рассказывает Владимиру Ивановичу о громадном впечатлении от глубокой и простой игры Москвина в картине «Поликушка». «Владимир Иванович сказал Вейдту, что он владеет тайной внутреннего ритма кино». (Там же).
Октябрь 19
Просмотрев по просьбе Дугласа Фербенкса картину «Багдадский вор», Владимир Иванович сказал ему: «… вся роль резко распадается на две части. В первой… лишь балетная картинность… Вторая часть роли… наиболее сильная и убедительная. Это тот переход к внутренней сосредоточенности, где Вор отдается охватившему его чувству любви. … Отсутствие рисовки и позы — это и есть самое лучшее». (Там же).
402 Октябрь 21
Владелец фирмы Скэнк отклоняет проект сценария Владимира Ивановича о «Пугачевщине» на том основании, что публика не станет «симпатизировать герою, который гибнет. Если бы было возможно, чтобы Екатерина Вторая, плененная красотой (?!) Пугачева, в финале, видя его в клетке, простила бы его и дала ему свободу — это уж было бы лучше!» Не нужна и «Снегурочка», «так как сказки в Америке не пользуются популярностью». «Игрок» Достоевского не подходит, так как «герой, потеряв все деньги, собирается стреляться. Американец не может этого понять». (Там же).
Октябрь 22
Встречается с Мэри Пикфорд и беседует с ней о характере роли Снегурочки. «Она слушала очень внимательно, но осталась равнодушна… Опыт показал, сказала она, что трагедии, сатира и все фантастическое, сказочное… — американскую публику… не захватывает. Для сказок… американцы недостаточно утонченны». (Там же).
Октябрь 28
В беседе с Немировичем-Данченко Дуглас Фербенкс сказал: «Не забывайте, что все мы не только артисты, но банкиры, дельцы и землевладельцы. Скэнк держит у себя в руках всю местную политику, влияет на городские выборы и т. д.» (Там же).
Октябрь 30
«Владимир Иванович подумывает, не написать ли ему все-таки письмо Барримору о своем тяжелом душевном состоянии от пошлости, рутины, бессмыслицы, безвкусицы, которые он наблюдает в американских киностудиях и фильмах». (Там же).
Ноябрь 1
Из письма Немировича-Данченко к владельцу фирмы Скэнку: «Американское кино не только не воспитывает публику, а развращает ее». (Цит. по дневнику С. Л. Бертенсона).
Ноябрь 7
Прочитав сценарий «Воскресение», Немирович-Данченко пишет: «Я высказал графу Толстому (сыну великого писателя), принимающему участие в этой продукции, мое мнение…
Оно совершенно отрицательное. Я нахожу, что знаменитое русское произведение испорчено. И испорчено не только в своих главных идеях, ради которых оно написано, но и в 403 драматическом развитии266*… Слишком много выдуманного, очень безвкусного.
Я думаю, что вступать мне в личные переговоры с директором не только бесцельно, но и вредно… И на все мои замечания будет, конечно, отвечать “американскими вкусами”. … Я эти песни уже хорошо знаю… директор не сможет, а может быть и не захочет менять что-нибудь по моим указаниям». (Автограф, приложенный к дневнику С. Л. Бертенсона).
Ноябрь 9
Из Лос-Анжелоса пишет режиссеру Музыкальной студии Д. В. Камерницкому: «Об одном мечтаю, чтобы тот пафос, то содружество, та мужественность, с которыми студийцы провели эти 5 месяцев, не распылились, не растаяли от второстепенных взаимоотношений. Чтоб все вы закалились в содружестве так, как это было в Худож[ественном] театре». (Избранные письма, стр. 362).
Ноябрь 10
«Получил Ваше письмо после представления “Семьи Турбиных”. Очень приятно слышать, что молодежь оправдала себя, что те жертвы, которые она несла, тот огромный труд, какой она проделывала так бескорыстно, не пропали даром». (Из письма к Михальскому. Личный архив Ф. Н. Михальского).
Ноябрь 11
Начал работать над сценарием «Сарданапал» по Байрону.
Ноябрь 27
Читает лекцию в здании Публичной библиотеки Лос-Анжелоса и говорит о достижениях советского театра. «Он заявил, что серьезного театра пока, в сущности, в Америке нет совсем, что вызвало дружные аплодисменты всего зала. Закончил он лекцию пожеланием большого и тесного сближения между народами России и Америки». (Из дневника С. Л. Бертенсона).
404 Декабрь 8
Кинофирма просит Немировича-Данченко напитать сценарий по его драме «Цена жизни».
Декабрь 20
Заканчивает сценарий «Цена жизни» — «Деньги».
Декабрь (конец)
Отвечает на письма молодых актеров МХАТ Н. И. Сластениной, И. М. Кудрявцева и других.
Декабрь 31
Станиславский, встречая Новый год с труппой Художественного театра, подымает тост за отсутствующего Владимира Ивановича. «Вам было бы радостно услышать, как реагируют на одно упоминание о Вас». (Из письма Бокшанской. Архив Н-Д, № 3365/1).
1927
Январь 6
Отвечает Хмелеву: «Милый Николай Павлович! Поверьте, что я оценил чувства, с какими Вы написали мне. … И потом радуюсь, что мне удалось быть с вами на самом рубеже студии и театра… И совесть моя здесь особенно чиста, потому что отношение мое ко всем вам было высокобескорыстное. Все, что я делал, чего хотел, — дать расцвет вашим дарованиям, передать вам лучшую часть моей души и помочь строительству реформированного Художественного театра перед его новым 20-летием». (Избранные письма, стр. 363 – 364).
Январь 16
К Владимиру Ивановичу приходит Ф. И. Шаляпин и говорит о том, что ему хотелось бы сниматься в кино.
Январь 17
«Чаплина довели до того, что он, приехав в Нью-Йорк, заболел на квартире своего адвоката нервным расстройством. Там он и лежит…
… Впервые после перелома ноги Владимир Иванович ездил в студию. … Донсидайн говорил, что слышал от Скэнка о том, что сценарий Владимира Ивановича хорош, и просил оставить ему экземпляр для прочтения. Грезак рассказывала, что убеждала Скэнка в том, что Владимир Иванович должен сам ставить свою картину. Заходили на съемку “Камиллы”. Нибло очень горячо и толково объяснял сцену в игорном доме, и актеры хорошо схватывали то, что он имел в виду». (Из дневника С. Л. Бертенсона).
405 Январь 18
Встречается с Рейнгардтом, который называет себя одним из старейших почитателей Немировича-Данченко.
Февраль 26
«Тут около 40 кинематографических “компаний”. … Работает, как следует, т. е. с исканиями нового, пожалуй, один Чаплин267*… Вернее, работал: у него теперь процесс с женой (возмутительный по оплошному лицемерию и глупой морали), и ему не до работы. Остальные, правда, очень долго ищут сюжета, сценария, но затем играют, как бог на душу положил. Стало быть, выезжают на личном обаянии.
… На какие-нибудь реформы толкнуть здесь нелегко: на что им? Их хвалят, им платят! Но, кажется, мне удается сдвинуть с места…». (Из письма к Южину. Избранные письма, стр. 365 – 366).
Март 1
Знакомит Лилиан Гиш268* и Грезак со своими сценариями по драме Ф. Сологуба «Узор из роз» и рассказу «Тени».
Март 16
Болен. «Работает Владимир Иванович вяло, без интереса и без веры, что его сценарий будет принят». (Из дневника С. Л. Бертенсона).
Март 24
Лос-Анжелосский центр американской драматической лиги чествовал Немировича-Данченко, который сказал небольшую речь. «И его речь и он сам имели громадный успех. Председательница собрания в своей речи говорила о России, как о прекрасной стране, которой принадлежит все будущее духовной культуры». (Там же).
Март 28
Получил из Москвы письмо от Луначарского, в котором он пишет: «Вы были бы здесь очень нужны». (Архив Н-Д. № 4774/2)
Март 29
«Вл. И. смотрел картину “Франсуа Вийон” (“Любимый 406 бродяга”) и пришел в такое отчаяние… что хотел уйти, однако пересилил себя… Выводы его самые печальные: … никогда не найти общего языка с хозяевами американского кино». (Из дневника С. Л. Бертенсона).
Апрель
Пишет Луначарскому о том, что в Америке «уровень духовной культуры совершенно детский; вероятно, поэтому царь жизни — доллар; все заняты его получением, но достается он очень нелегко… есть богатейшие люди и есть колоссальные заработки, но их единицы, десятки; из артистических имен всех искусств вряд ли можно насчитать 30 – 50… все население Холливуда занято так или сяк при кинематографической индустрии, именно индустрии, которую даже и не пытаются назвать искусством.
… Поражает резкое несоответствие между сногсшибательной роскошью оформления с великолепной фотографической техникой и бедностью содержания, не только идеологического, но даже просто элементарно-психологического. При выборе содержания руководствуются так называемыми “американскими вкусами”. … высшая точка американских вкусов: счастливый конец. Тут доходит уже до невероятных курьезов, вроде того, что Анна Каренина получает развод от самого царя и выходит замуж за Вронского или что она уходит в монастырь.
… я скоро понял, что если б я даже и вмешался, то только бы напутал, что заплаты ничуть не помогут, что здесь или надо начинать все сначала, или показать то, чего мне хочется, на самой работе». (Избранные письма, стр. 368 – 370).
Апрель (до 19)
Получает письмо от С. В. Гиацинтовой о жизни МХАТ 2-го.
Май (начало)
Из Москвы сообщают, что в Художественном театре состоялось чтение пьесы «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова.
Май
В Москве при Агитпропе ЦК ВКП (б) состоялось партийное совещание по вопросам театра, которое отметило «частичный сдвиг дореволюционных театров в сторону постановки на сцене проблем современности». (Б. И. Ростоцкий, К истории борьбы за идейность и реализм советского театра, Издательство АН СССР, 1950, стр. 45).
Май 31 – июнь
Разрабатывает план сценария из жизни египетской царицы Клеопатры.
407 Июнь 7
«Досадно уехать, ничего не сделавши». (Из письма к С. В. Оболонской. Архив Н-Д, № 1244).
Июнь 18
Читает американский сценарий «Анна Каренина»: «Когда мы читали, жена плакала настоящими слезами, так она была возмущена извращением романа Л. Н. Толстого»269*. (Из доклада «15 месяцев около американского кино». Архив Н-Д, № 7313).
Июль 1
Инсценирует роман немецкого писателя Якоба Вассермана, озаглавленный в английском переводе «Иллюзии мира».
Июль 2
«Вечером мы сидели с Влад. Ив. на террасе, и он оказал мне, что пришел к окончательному заключению, что независимо от всяких удач здесь и неудач само дело кино его не увлекает и ему чуждо». (Из дневника С. Л. Бертенсона).
Июль 5 – 6
«Владимир Иванович решил центром сценария (“Иллюзии мира”) сделать Еву Сорель и собрать все, что есть наиболее яркого и характерного для ее образа». (Там же).
Август 5
«Владимир Иванович, который даже в такую работу, как инсценировка чужого романа, вкладывает настоящее художественное творчество, переживает сегодня настоящие творческие муки. Он как истинный художник не умеет продолжать работу ремесленно, а ждет, пока снова заживет ею и ее образами». (Там же).
Август 11
В киностудии смотрит съемку фильма «Гаучо» с участием Дугласа Фербенкса. Рассказывает Фербенксу, что о нем вышла книги в России.
Август 12
Сдает кинофирме свой сценарий «Иллюзии мира», сопроводив 408 его «Письмом к читающему», в котором пишет: «Нечего закрывать глаза на то, что американские картины, развивая блестящую технику и развертывая прекрасные актерские и режиссерские таланты, в то же время оставляют в полном пренебрежении моральные и общественные идеи… Современное кино не ведет за собой публику, а идет за публикой». (Архив Н-Д, № 7482).
Август 19
«Владимир Иванович не скрыл от Скэнка, что считает год, проведенный в американском кино, потерянным». (Из дневника С. Л. Бертенсона).
Август 29
Пишет из Голливуда Луначарскому: «Удастся ли мне сделать хоть что-нибудь с здешним невероятным консерватизмом, с отсутствием всякого тяготения к искусству, или махнуть на это рукой?.. Все мое существо так потрясается тяготением домой… И это не только лирика — родной язык и березка, — а во-первых, — самая настоящая тоска по искусству: по художеству, по идеологии, по широте мировоззрений, по благородству вкуса, по исканиям, по запросам в самой публике, — ничего подобного здесь, в Холливуде, как атмосферы не существует… И трудно переносимо это царство спекуляции. А жаль: какое могущественное явление кино! И досадно: сколько тут материальных средств! … За всем, что делается дома, слежу внимательно. Выписываю газеты и книги, получаю множество писем. Так что, вернувшись, надеюсь быть в курсе… Современный русский театр самый передовой в мире. Он шагнул по отношению к другим на десять — двадцать лет вперед». (Машинописная копия. Архив Н-Д, № 985).
Сентябрь 5
«Если бы Вы только знали, как Вас все здесь ждут». (Из письма Бокшанской. Архив Н-Д, № 3365/17).
Сентябрь 11
«Моя тоска по Театру, мое состояние без моей родной атмосферы гонят меня отсюда». (Из письма к Бокшанской. Там же, № 383).
Сентябрь 17
Получает телеграмму из Ниццы от М. Н. Сумбатовой-Южиной о внезапной смерти А. И. Южина.
«Находясь на чужбине, я чувствовал, как в моей душе отпадает, как сухие ветви с дерева, все мелкое, все то, что засоряет жизнь. Хотелось жить и радоваться в жизни интересам только большим, только глубоким.
409 Смерть моего единственного друга детства Александра Ивановича Южина была новым толчком, и в ней окончательно потонули все мелочи души. Они потонули в огромном горе. В каждом человеке мне хотелось видеть только хорошее». (Из стенограммы выступления в Музыкальном театре-имени Вл. И. Немировича-Данченко 27 января 1928 г. Архив театра).
Сентябрь 21
Посылает телеграмму Станиславскому: «Перед свежей могилой друга протягиваю Вам руку на полное примирение и полное забвение всех взаимных обид». (Цит. по дневнику С. Л. Бертенсона).
Сентябрь 24
«Безгранично счастливы полным примирением. Мы ждем Вас, дорогой Владимир Иванович». (Из ответной телеграммы Станиславского, Москвина, Качалова, Леонидова, Лужского, Книппер-Чеховой, Лилиной и других. Текст телеграммы в дневнике С. Л. Бертенсона).
Ноябрь 1
В письме А. В. Луначарского к Немировичу-Данченко: «Театральная жизнь, кинодело в России, на мой взгляд, расцветают, идут вперед. Мы начинаем приобретать серьезное имя и хороший рынок за границей, в особенности в Германии (говоря о кино). Театры же наши, в особенности к Октябрю, по-моему, по-настоящему блеснут». (Архив Н-Д, № 4774/3).
Ноябрь 16
Произносит речь в женском клубе Голливуда, говорит, что в Советском Союзе «театры поддерживаются правительством… наравне со школами и университетами». (Из дневника С. Л. Бертенсона).
Ноябрь 26
«Ждем Вашего возвращения в Москву». (Из письма актеров Московского государственного реалистического театра, бывш. Четвертой студии МХАТ. Архив Н-Д, № 6012).
Ноябрь 27
Из письма Немировича-Данченко к киноактеру Барримору: «Через несколько недель я уеду отсюда. Не хочу скрыть от Вас, что увожу с собой относительно Вас горькое чувство обиды за Ваше небрежное и неискреннее отношение ко мне… Когда я взялся писать для Вас сценарий, Вы мне сказали: 410 “Делайте как хотите, я буду на Вашей стороне”. … Я видел, что и продюсеры, и режиссеры ведут Вас по банальной, спекулянтской дороге, которая ниже Вашего таланта. Я мечтал проработать так, чтобы добиться и большого успеха, и большого искусства. Ни одной минуты я не считал себя готовым и опытным для этого. Но я твердо верил, что путем переговоров, совместных исканий я сумею сделать для Вас то, что, может быть, никто не сделает.
… Между тем Вы отнеслись к моему первому сценарию с такой небрежностью, что я долго не мог поверить этому.
Вряд ли Вы его даже поняли! И уж, конечно, совсем не вникли в мои замыслы. Тем не менее я взялся за другой сценарий… Однако я не только не мог добиться свиданий, но даже не получал ответов на письма. Тогда я отказался считаться с тем, что роль готовится для Вас. И с Франком Ллойдом написал сценарий, имея в виду другого актера.
Вдруг оказалось, что Вы заинтересовались этим сценарием… Вы потом участвовали в самом грубом игнорировании моего авторства, какого я никогда в жизни не испытывал. Ни Вы, ни мистер Окэнк, ни Франк Ллойд не имели ни малейших данных утверждать, что я сам сделал бы хуже, если бы работа шла вместе со мной. Никто не смел говорить, что я упрям. Меня просто вычеркнули. Кто? Мадам де Грезак, сама писательница, и такой артист, как Вы.
Такая атмосфера отбила у меня охоту чего-то здесь добиваться. И вот, несмотря на то, что мистер Толберг предлагает мне любезные условия работы, я предпочитаю перенести свой труд в условия, более отвечающие моим пониманиям художества и этики…». (Машинопись. Лист вклеен в дневник С. Л. Бертенсона).
Ноябрь 28
«Вл. Ив. начал диктовать свой новый сценарий из жизни молодого художника, рассчитывая закончить его к 10 декабря, так как эту дату он сам назначил сроком окончания нашего соглашения с Метро-Голдвин». (Из дневника С. Л. Бертенсона).
Декабрь 10
Заканчивает сценарий «Маски».
Декабрь 20
Уезжает из Голливуда.
Декабрь 24
В Нью-Йорке.
411 1928
Январь
В Берлине знакомится с новыми театральными постановками. Смотрит спектакль, поставленный режиссером Эрвином Пискатором «Распутин», по драме А. Н. Толстого «Заговор императрицы».
Январь 22
Возвращается в Москву. На вокзале Владимира Ивановича встречает делегация от всех московских академических театров во главе со Станиславским, Качаловым, Москвиным.
Январь 24
«Американский кино-мир весь пропитан коммерцией и спекуляцией…
… Кроме техники — у них учиться нечему; столько глупости, столько чепухи ставится в американских фильмах. Есть, конечно, ряд очень талантливых актеров (на первое место я ставлю Лилиан Гиш), много талантливых режиссеров, но руль, которым управляется американское кино, находится в таких руках, от которых ничего хорошего ждать нечего». («Кино в Америке. Вл. И. Немирович-Данченко о своих заграничных впечатлениях», «Вечерняя Москва»).
Январь 27
Состоялся симфонический концерт в Музыкальном театре в честь возвращения в Москву народного артиста республики Вл. И. Немировича-Данченко. Отвечая на приветствия, Владимир Иванович говорит: «Я числился по американскому кино, но все самое лучшее в моей душе, мои лучшие мысли, мечты и планы были отданы Художественному театру и вот этому близкому моему сердцу коллективу. Без колебания скажу, что творить можно только в России: мы должны творить, творить, творить». (Из стенограммы выступления. Архив Музыкального театра).
Январь 31
«Я с огромным интересом не только прочитал, но и изучил книгу “Пути развития театра”, которая явилась результатом прошлогоднего партийного теасовещания, и, кажется, я понимаю все течения… и художественные и политические…
… Пульс современной жизни в СССР я чувствовал непрерывно, хотя жил в другом полушарии… Соскучился по Москве, соскучился по настоящей художественной атмосфере, которой там, в Америке, несмотря на громадные материальные и технические возможности, не было и которую чувствую 412 только здесь… Это вы услышите от всех, кто пожил вне СССР». («Наши беседы. Беседа с народным артистом республики Вл. И. Немировичем-Данченко», «Современный театр», 1928, № 5).
Февраль (начало)
«Должен признаться, что я очень полюбил американцев. Полюбил за их огромную непосредственность, за жизнерадостность “во что бы то ни стало” и за нелицемерную простоту. Конечно, “бизнес” у них на первом месте. Конечно, отношение к миру у них прежде всего деловое… Американец откровенен в своем преклонении перед долларом до наивности. Перед долларом… перед тем, что делает жизнь богатой и веселой независимо от духовного содержания.
Много интересного и в американской драматургии… особенно интересны его [О’Нейла] попытки найти совсем новую драматургическую структуру. То он пишет как бы драматическую ораторию “Воскрешение Лазаря”270*, полную мистики, требующую своеобразных актерских интонаций, то драму, в которой действующее лицо рядом со своими репликами говорит об одновременных глубоко скрытых переживаниях, — нечто в роде “Петербурга” Андрея Белого; то пишет драматическое представление, которое должно начинаться в 5 часов дня, чтоб окончиться к 12 ночи. В беседах со мною он готов был пойти на большие жертвы, чтоб его пьеса была поставлена приемами Художественного театра.
… Дос Пассоса… нахожу едва ли не самым ярким и — главное — правдивым изобразителем современной Америки. Мне хотелось бы, чтобы актеры и режиссеры МХАТ занялись “Вершиной счастья”, но это стремление ставить пьесу одновременно в нескольких театрах отбивает охоту…». (Из беседы Немировича-Данченко «Об американцах». Автограф. Архив Н-Д, № 7312).
Февраль 13
В Художественном театре делает доклад «15 месяцев около американского кино», говорит о «нищете сценария», о растлении истинных талантов в Америке, об их беспощадной эксплуатации, о своем убежденном выводе, что творить можно только в СССР. (См. стенограмму доклада. Там же, № 7313).
Февраль 14
В «Советском экране» (№ 7) опубликовано интервью Вл. И. Немировича-Данченко, озаглавленное: «Кино-Америка».
413 Февраль 21
«В. И. Немирович-Данченко… подчеркнул, что он вернулся в СССР ради огромной работы, работы общетеатрального значения. Его вовсе не увлекает какая-нибудь отдельная хорошая постановка, он чувствует потребность создать что-то новое, тем более что в современном театре чувствуется колоссальная потребность в такой новой работе. В московских театрах чувствуется какой-то сдвиг, возврат к старым формам. Те экспериментаторские постановки, какие были сделаны, например, Мейерхольдом, по-видимому, уперлись в стену. Если бы в этом направлении работали такие гениальные режиссеры, как Мейерхольд, то возможно, что театр не уперся бы в стену, а нашел новые пути, но беда в том, что за Мейерхольдам пошли все, в том числе люди бездарные или, в лучшем, случае, заурядные, и театр не мог развиваться в этом направлении и откатился назад…
В данный момент он [Вл. И. Немирович-Данченко] будет знакомиться с репетициями оперы М. де Фалья “Миг жизни” и корректировать эту постановку…
В дальнейший план постановок, по настоянию Вл. И. Немировича-Данченко, включается опера Кшенека “Джонни наигрывает”». («Народный артист В. И. Немирович-Данченко в Музыкальной студии», «Современный театр», № 8).
Февраль 22
Занят реорганизацией административного аппарата Музыкального театра.
Март 12
В день кончины М. Н. Ермоловой отменяет все репетиции и занятия в театре, считая, что «весь Театр должен отдать прощальный поклон ушедшей жизни этой изумительной артистки». (Черновик, автограф. Архив Н-Д, № 7306).
Март (до 20)
Выступает на заседании ассоциации театральных критиков, приводит пример несходства суждений критиков и режиссеров: «В. А. Орлов (МХАТ I), не понравившийся в роли интеллигента всему фронту московской теакритики, по мнению К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, играл крепче всех (“Унтиловск”). По-настоящему, все остальные молодые актеры должны были равняться на него и Кедрова». («Современный театр», № 12).
Март 28
Посылает телеграмму А. М. Горькому в связи с его 60-летием: «Старики Московского Художественного театра с 414 благодарностью и нежной любовью вспоминают блестящую эпоху, когда Ваш гений сливался с творчеством театра. Эту любовь старики передают своей большой талантливой молодежи, призванной строить новый театр и непрерывно находящейся под обаянием Вашей личности». (Избранные письма, стр. 371).
Апрель 1
В журнале «Новый зритель» (№ 14) опубликована статья Вл. И. Немировича-Данченко «Формы театра Ибсена».
В журнале «Красная нива» (№ 14) напечатана статья Владимира Ивановича о М. Н. Ермоловой: «Ермолова — самый замечательный тип русской актрисы и женщины. Весь ее внутренний облик глубоко отличает ее от западных актрис. … Революционная молодежь встречает в ней смелого сценического выразителя своих мечтаний и товарища, глубоко отзывчивого к ее нуждам. … Ермолова в театре как бы несла знамя освобождения — она была поэтом свободы на русской сцене».
Апрель 9
Выступает с приветствием на торжественном заседании, посвященном пятилетнему юбилею Театра имени МГСПС: «Актеры театра имени МГСПС ищут самое глубокое, самое важное в современной жизни и преломляют это через свое искусство». («Новый зритель», № 17).
Апрель 13
Смотрит репетицию второго акта комедии В. Катаева «Квадратура круга», после чего беседует с режиссером спектакля Н. М. Горчаковым.
Апрель
Приглашает к себе в гости молодежь театра: И. Я. Судакова, К. Н. Еланскую, Н. П. Баталова, О. Н. Андровскую, Н. П. Хмелева и других.
Май 5
Просматривает работу актрис А. А. Коломийцевой и М. А. Титовой в спектакле «Квадратура круга».
Май 29
В «Ленинградской правде» опубликовано интервью Владимира Ивановича «К гастролям студии имени В. И. Немировича-Данченко. У Немировича-Данченко».
415 Июнь 6
«Публика уже знает, что руководящая задача всех наших спектаклей — создание театра музыкального актера. … Наш актер не должен только хорошо петь. Для создания своего образа, участвуя, как динамическая сила, в драме, охваченный единой художественной волей, наш актер должен пользоваться не только всеми вокальными и музыкальными, но и всеми пластическими средствами театра и своего тела». (Обращение к публике Пушкинского спектакля. Избранные письма, стр. 372).
Июнь 23
Делает доклад в Наркомпросе о реформе Большого театра.
Июль 8
В «Новом зрителе» (№ 27 – 28) сообщается, что Немирович-Данченко и Судаков приступили к разработке режиссерского плана пьесы Вс. Иванова «Блокада».
Июль 15
«План реформы Большого театра, предложенный нар. арт. Вл. И. Немировичем-Данченко (см. “Современный театр”, № 26 – 27), принципиально одобрен Главискусством, и автор проекта привлекается на должность председателя комиссии по подготовке и проведению реформ Большого театра…
На совещании в Главискусстве при обсуждении этого проекта было выражено пожелание, чтобы предложения Вл. И. Немировича-Данченко подверглись широкой дискуссии… Редакция “Современного театра” открывает с настоящего номера такую дискуссию». («Современный театр», № 28 – 29).
Август
Музыкальная студия имени Вл. И. Немировича-Данченко постановлением Главискусства переименована в Московский государственный музыкальный театр имени народного артиста республики Вл. И. Немировича-Данченко. (См. «Жизнь искусства», № 33).
Сентябрь (начало)
Перед открытием сезона в Музыкальном театре беседует с труппой. Ведет репетиции старых постановок «Дочь Анго» и «Карменсита и солдат».
Сентябрь (до 12)
Проводит шесть репетиций комедии В. Катаева «Квадратура круга».
416 Сентябрь 12
Премьера комедии «Квадратура круга».
Сентябрь 17
Выступает в МХАТ на утре памяти Л. Н. Толстого (в связи с столетием со дня рождения писателя).
Октябрь 10 – 16
Приступает к репетициям пьесы М. А. Булгакова «Бег».
Октябрь 12
Просматривает макет декораций к «Блокаде».
Октябрь 18
Репетирует сцену «Пролог» в «Блокаде».
Октябрь 23
Принимает участие в диспуте о роли кино в оформлении спектакля, выступает со статьей «Нужны опыты»: «По существу, эти два искусства — театр и кино — я считаю как бы исключающими друг друга. Они не совместимы, они представляют собой что-то взаимно несмешиваемое, как вода и масло.
Как же при этих условиях все же применить кино при оформлении спектакля, чтобы при этом актерское исполнение пьесы было с ним органически связано и чтобы спектакль не покрывался киносеансом, не переходил в него?
… Я видел применение кино в оформлении Пискатором спектакля “Заговор императрицы”. Эта постановка была им сделана сильно, и драматическая сторона спектакля как бы подчинилась кино. С этим я и не хочу согласиться, а потому считаю, что Пискатор не разрешил вопроса, хотя отдельные сцены, особенно народные, были очень удачны.
В этом сезоне я предполагаю проделать опыт использования кино… при постановке “Воскресения”. Сейчас я еще не могу касаться многих деталей задуманной мною постановки, так как это лишь первоначальные планы». («Современный театр», № 43).
Октябрь 27
Произносит речь на торжественном заседании, посвященном 30-летнему юбилею МХАТ: «В восемнадцатом году предо мной дерзко встал призрак старости, боязнь, что не хватит сил на то громадное новое, что потребовала революция. Казалось тогда, что новые задачи под силу лишь новым людям. … В течение четырех лет произошла в труппе ассимиляция “стариков” и “молодых”. Создалась сильнейшая труппа, 417 способная разрешить новые задачи…». («Наша газета» от 28 октября 1928 г.).
В «Правде» опубликовано постановление Совета Народных Комиссаров о назначении пожизненной персональной пенсии К. С. Станиславскому и Вл. И. Немировичу-Данченко.
Октябрь 28
На заседании Художественно-политического совета Музыкального театра говорит о необходимости создания современного оперного спектакля, о привлечении советских композиторов.
Октябрь 30
«Дорогой и уважаемый Владимир Иванович! Крепко жму Вашу руку, — очень крепко! — и прошу Вас передать или прочитать юбилярам прилагаемую записку. Простите, что опоздал поздравить Вас, Константина Сергеевича и всех сродников Ваших по 30-летней работе, которую, не обинуясь, искренно считаю великой работой. Здоровья, бодрости духа Вам и всем. А. Пешков». (Архив А. М. Горького. Фотокопия в Архиве Н-Д, № 3788).
Горький, поздравляя Художественный театр с юбилеем, пишет: «Я — не нахожу слов, достаточно красочных для того, чтоб передать в них чувство моего искреннейшего восхищения 30-летней работой вашей. Я — ссорился с вами о Достоевском? Это — мое право, так же, как ваше — сердиться на меня. Ссориться я — “всегда готов”, — привычка! Но как бы и по какому бы поводу я ни разногласил с людями, я никогда не теряю моей способности ценить их работу, их заслуги перед народом». (М. Горький, Собр. соч., т. 30, стр. 108).
В журнале «Современный театр» (№ 44) сообщается, что труппа Немецкого театра во главе с Максом Рейнгардтом избрала Станиславского и Немировича-Данченко почетными членами.
Октябрь 31
Из выступления на торжественном вечере, посвященном юбилею МХАТ, в Государственной академии художественных наук: «Если бы мы остановились на наших успехах, вероятно, Художественного театра давно бы не было». («Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 69).
418 Ноябрь 1
Встречается с иностранными актерами и режиссерами, приехавшими на юбилей МХАТ.
Ноябрь (начало)
Ведет репетиции в Музыкальном театре. Чтобы подчеркнуть социальный характер сюжета, называет оперу М. де Фалья «Миг жизни» — «Девушка из предместья». Вводят в спектакль пролог «Под уличным фонарем», изображающий бедность, нищету Испании.
Ноябрь 9
Состоялась премьера оперы М. де Фатья «Девушка из предместья». Режиссер — Л. В. Баратов. Художник — Б. Р. Эрдман. Руководитель постановки — Вл. И. Немирович-Данченко.
Ноябрь (до 11)
«Москва МХАТ, Немировичу-Данченко. Вас, современника Тургенева, гордость русской сцены, приглашает на юбилей Тургенева его родина — Орел одиннадцатого ноября. Юбилейный комитет». (Архив Н-Д, № 6839).
Ноябрь 13
В «Известиях» напечатано «Письмо в редакцию», подписанное Станиславским и Немировичем-Данченко: «В день 30-летнего юбилея Московский Художественный театр непосредственно или через нас, его создателей, получил огромное количество подношений, адресов, писем и телеграмм как из Москвы, так и из других городов СССР, из Европы, Америки и Японии. Не имея возможности отблагодарить в отдельности каждое лицо и учреждение, мы прибегаем к вашей помощи. Пережитые юбилейные дни укрепили в нас уверенность, силу и энергию для дальнейшей творческой работы».
Ноябрь 15
Вместе с режиссером спектакля И. Я. Судаковым и художником И. М. Рабиновичем намечает планировку декораций третьего акта «Блокады».
Ноябрь 20 – 23
Проводит репетицию сцены «Пролог» в «Блокаде».
419 Ноябрь 24, 27, 29, 30
Вместе с Судаковым репетирует «Блокаду», занимается с отдельными исполнителями.
Декабрь 1, 4
Репетирует второй акт «Блокады».
Декабрь 3
Проводит день культурного шефства МХАТ над фабрикой «Красная Роза». «В. И. Немирович-Данченко вспоминал прошлое, приветствовал революцию, которая дала театру того зрителя, к какому он всегда стремился… Если искусство честно, оно дойдет до зрителя». («Рабочая газета» от 5 декабря 1928 г.).
Декабрь 5, 11
С режиссером Судаковым работает над третьим актом «Блокады».
Декабрь 10
По случаю принятия Музыкальным театром имени Вл. И. Немировича-Данченко культурного шефства лад рабочими фабрики «Ливере» выступает на торжественном собрании: «В годы после Октября мы получили самую благодарную и самую отзывчивую аудиторию… Рабочему зрителю все хорошее в искусстве будет понятно, и ему не нужны всяческие “финтифлюшки искусства”, необходимые “объевшемуся искусством зрителю”». («Современный театр», № 51).
Декабрь 12 – 14
Проводит три репетиции третьего акта «Блокады» с В. И. Качаловым, К. Н. Еланской, Б. Н. Ливановым и В. Ф. Грибуниным.
Декабрь 11 – 20
Занят на репетициях «Блокады».
Декабрь 22
На Большой сцене репетирует первый акт «Блокады».
Декабрь 27, 28
Репетирует «Блокаду». Просит пригласить инструктора, чтобы научить актеров обращаться с оружием.
420 Декабрь 29
На Большой сцене ведет репетицию второго акта «Блокады».
Декабрь 31
«Владимир Иванович трогательно и глубоко переживает болезнь Константина Сергеевича. Со времени болезни Константина Сергеевича вся жизнь театра окутана, как сказал на встрече Нового года Владимир Иванович, дымкой печали, грусти, опасений… Сами знаете, как трудно Владимиру Ивановичу собраться написать, особенно при той работе, какую он сейчас ведет и какая на него обрушилась с болезнью Константина Сергеевича». (Из письма Бокшанской к Бертенсону от 2 января 1929 г. Архив С. Л. Бертенсона. Музей МХАТ).
Из письма Немировича-Данченко к Станиславскому: «… я понимаю Ваше состояние, понимаю, что, непрерывно находясь в постели, невольно начнешь мрачно смотреть вдаль.
И вот что я хочу Вам сказать. Дорогой Константин Сергеевич! Мы с Вами недаром прожили наибольшую и лучшую часть наших жизней вместе. То, что я Вам скажу, сказали бы Вы мне, если бы были на моем месте. Всей моей жизнью я отвечаю Вам за Ваше полное спокойствие в материальном вопросе. … Во всем театре не найдется ни одного человека — даже среди тех, кто относился к Вам враждебно, когда Вы были вполне здоровы, — который поднял бы вопрос хотя бы даже о сокращении Вашего содержания и хотя бы Вы стали совершенным инвалидом. Пока Худож[ественный] театр существует! Повторяю, отвечаю Вам за это всей жизнью. Так же спокойны должны Вы быть за Вашу семью. Милый Константин Сергеевич! В нашем возрасте, в наших взаимоотношениях не подобает сентиментальности, и из многочисленных случаев Вы знаете, что я человек достаточно мужественный. Но Вам закрепляю свои слова крепким пожатием руки и крепким братским поцелуем…». (Архив Н-Д, № 1783).
421 1929 – 1936
Режиссерский замысел «Воскресения». Режиссура советской
оперы — «Северный ветер» Л. Книппера. Участие в постановке «Страха»
А. Н. Афиногенова. Постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке
литературно-художественных организаций». Переписка с Горьким. Встречи с Горьким
в связи с постановкой «Егора Булычова». Увлечение оперой Д. Шостаковича
«Катерина Измайлова». Работа над пьесой Горького «Враги». Постановка «Грозы» и
«Травиаты». Смерть С. М. Кирова. Съезд колхозников-ударников. О
«Платоне Кречете» А. Корнейчука. Встреча с передовыми рабочими.
Вл. И. Немирович-Данченко награждается орденом Трудового Красного
Знамени. Репетиции «Любови Яровой». Постановка советской оперы «Тихий Дон».
Смерть А. М. Горького. Народный артист СССР. Мысли о «системе
Станиславского».
1929
Январь 2
«“Блокада” уже репетируется на сцене, так что через месяц мы начнем испытывать волнения генеральных репетиций. Владимир Иванович много работает над постановкой, интересно ведет репетиции и много показывает актерам. Музыкальный театр он сейчас отодвинул. Лева Книппер хорошо ему там помогает и подталкивает с громадной энергией занятия по “Джонни”, за которого Владимир Иванович возьмется, вероятно, в феврале, сдав “Блокаду” и даже успев, может быть, поработать над возобновлением “Карамазовых”. Затем Владимир Иванович хочет пойти на “Джонни”, а потом снова вернуться к нам для работы над “Бегом” (Булгакова), который готовит сейчас Н. Н. Литовцева. Еще где-то тут придется Владимиру Ивановичу заняться выпуском, но только уж действительно выпуском, а не большой работой, “Дядюшкина сна”. В театр поступило несколько интересных пьес, теперь бы только сил и здоровья Владимиру Ивановичу и Константину Сергеевичу. Прелестная пьеса получилась у Юрия Олеши из его книжки “Три толстяка”… Но Владимир Иванович не увлечен ею, как вообще никогда не увлекается сказками…» (Из письма Бокшанской к Бертенсону. Архив С. Л. Бертенсона. Музей МХАТ).
Январь 3, 4
На Большой сцене репетирует первый и второй акты «Блокады».
422 Январь 4
В письме к А. Л. Вишневскому: «Я узнал, что Вам настойчиво советуют отдохнуть, пожить в санатории, вообще отказаться от работы и от забот на довольно длительный срок.
И вот я спешу написать Вам не только как Ваш старый друг, но и как директор Вашего театра, чтобы Вы приступили к отдыху совершенно спокойно, с полной верой, что театр никогда… не отнесется небрежно к Вашему материальному положению. Вас не должна беспокоить мысль ни за себя, ни за Вашу семью. Поверьте мне в этом крепко, сколько бы месяцев ни пришлось Вам отсутствовать». (Избранные письма, стр. 372 – 373).
Январь 5
Репетирует «Блокаду», делает замечания по декорациям художнику И. М. Рабиновичу.
Январь 8 – 10
Занят на репетициях «Блокады».
Январь 12
Проходит отдельные сцены третьего акта «Блокады». Устанавливает план дальнейших репетиций. Репетирует финал второго акта.
Январь 15, 16
Вместе с Судаковым работает над третьим актом «Блокады»271*.
Январь 17, 18
Репетирует «Блокаду». Работает с исполнителями эпизодических ролей. Говорит, что «рабочие из типографии наблюдают за торговлей матроса-анархиста Рубцова и относятся к нему неодобрительно, а обыватели в пьесе, изголодавшиеся, ненавидят большевистскую власть… За улыбкой скрывается сдерживаемая громадная злоба и ненависть». (Из протокола репетиций).
Январь 24, 25, 26
Репетирует совместно с Судаковым первый и второй акты «Блокады». Делает замечания по обстановке сцены.
423 Январь 28
Пишет воспоминания о Филармоническом училище в связи с 50-летним юбилеем Центрального техникума театрального искусства (Цететиса). (Черновик. Архив Н-Д; «Приветствие Цететису», см. «Современный театр», № 8).
Январь 29
Луначарский приглашает Немировича-Данченко сотрудничать в журнале «Искусство». (Архив Н-Д, № 4776/1).
Январь 31
Произносит речь в Чеховском обществе в день 25-летия первого представления «Вишневого сада»: «Придет какая-то молодая труппа, очень талантливая, какие-то наши внуки, которые сумеют схватить все то, что сделал Художественный театр с Чеховым, и в то же время сумеют как-то осветить пьесу и с точки зрения новой жизни… и тогда Чехов еще раз начнет жить для русской публики». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы, Письма, стр. 109).
Январь – февраль
В журнале «Искусство» (№ 1 – 2) напечатаны «Заметки о театре» Вл. И. Немировича-Данченко.
Совместно с режиссером Л. В. Баратовым ведет репетиции оперы Э. Кшенека «Джонни».
Февраль 5, 6, 13
Проводит три репетиций «Блокады».
Февраль 16, 19
Репетирует третий и четвертый акты «Блокады»272*.
Февраль (середина)
Настаивает на том, чтобы Лужский оставил на время театр для отдыха и лечения: «Не беспокойтесь и о материальной стороне! Это все будет совершенно благополучно». (Избранные письма, стр. 374).
Февраль 21, 23
Генеральные репетиции «Блокады».
424 Февраль 22
Делает замечания актерам по генеральной репетиции «Блокады».
Был на репетиции «Дядюшкина сна» (инсценировка повести Ф. М. Достоевского). Осматривал макет, беседовал с режиссерами и актерами.
Февраль 25
Из интервью в «Вечерней Москве» — «Новая постановка МХАТ. Вл. И. Немирович-Данченко о “Блокаде”»: «Театр должен был найти ту трагическую ноту, которая просто и сильно раскрыла бы высокий смысл событий и их высшую цель.
В поисках монументальной формы спектакля, к которой я стремлюсь во всех своих последних работах, я опирался на лучшие традиции и приемы Художественного театра, очищенные от натурализма и доведенные до четкой и строгой простоты. Мы искали трагического пафоса без ходуль, отвечающего эпохе и изображаемой среде. Несмотря на напряженность темы — мы хотели освободиться от сентиментальности, которая убивает трагедию.
… Мы надеемся, что этот спектакль, который говорит о последнем напряжении гражданской войны и о переходе к труду, будет понятен и ясен широкому зрителю, так как театр искал в нем простых, ясных и потрясающих чувств, которыми жила та суровая эпоха».
Февраль 26
Премьера «Блокады».
Февраль 27
На открытом партийном собрании в МХАТ «В. И. Немирович-Данченко заверил, что театр готов работать на культурном фронте об руку с ячейкой ВКП (б)». («Рабис», № 11).
Март 2
Присутствует на чтении пьесы Ю. Олеши «Три толстяка». Вечером выступает на пленуме Ассоциации театральных и музыкальных критиков о путях развития советской оперы и оперетты.
Март (до 5)
Делегаты XVII губпартконференции смотрят спектакль «Блокада».
425 Март 13
Ведет репетицию пьесы «Три толстяка».
Март 16
Проводит беседу с исполнителями и режиссурой по спектаклю «Дядюшкин сон».
Март 21
«В Большом театре состоялся спектакль Малого театра по случаю исполнившегося 40-летия службы в этом театре А. А. Яблочкиной. Для своего юбилея А. А. Яблочкина выбрала трагедию Шиллера “Мария Стюарт”. … После 3-го действия состоялось при открытом занавесе торжественное чествование артистки. … В. И. Немирович-Данченко указал, что А. А. Яблочкина всегда была носительницей лучших традиций дома Щепкина». («Известия» от 22 марта 1929 г.).
Март – апрель
Вместе с Баратовым репетирует оперу Э. Кшенека «Джонни» в Музыкальном театре273*.
Апрель 13
Выступает в Доме печати на диспуте о «Блокаде»: «Вернувшись из-за границы, я заметил — рядом с большими сдвигами Художественного театра в сторону современности — и черты вульгаризации его искусства, сползание к штампу. … На такой пьесе [“Блокада”] можно было сделать необходимые шаги к поднятию огрубевшего мастерства наших актеров. Мы ставили себе задачей, избегая натурализма и дешевой, трафаретной героики, создать реальных людей, насыщенных истинным пафосом эпохи и революционным героизмом. Качалову, переигравшему в своей жизни множество всяких героев, легко было, конечно, создать “импонирующий” образ “железного комиссара”. Но ему хотелось дать “не героя”, а рабочего. Отсюда и его мешковатый сюртук с длинноватыми рукавами, и его неуклюжее подергивание усов. Спектакль до значительной части зрителей не дошел, о чем свидетельствует ряд отрицательных отзывов критики. Возможно, что здесь повинны какие-то очень существенные ошибки, допущенные в постановке. Но мы считаем этот спектакль чрезвычайно важным этапом на пути Художественного театра. Мы поставили своей задачей утончить мастерство революционного спектакля, и частичная 426 неудача “Блокады” послужит к успеху следующего спектакля». («Вечерняя Москва» от 15 апреля 1929 г.).
Май 15
Премьера оперы «Джонни».
Май 17
В письме к Всеволоду Иванову: «Вы имеете неверное представление о том, как я отнесся к Вашей пьесе “Верность”. … Я ее прочел. Она произвела на меня впечатление смутное. Я ее начал читать вторично, медленно. Я хотел не только ответить формально, приемлема ли она для Художественного театра, но высказать и мою подробную, обоснованную критику, предполагая, что она Вас интересует. На все это ушло времени больше, чем следует, еще потому, что я был очень занят новой постановкой.
Я сохраняю о Вас и о Вашем таланте самые радостные чувства, и мне было бы больно, если бы Вы чувствовали себя обиженным мною». (Избранные письма, стр. 374).
Май 20
Делает замечания постановочной части по спектаклю «Джонни».
Май 22
Присутствует на репетиции «Бесприданницы». «Помню и даже могу точно переписать из моего режиссерского экземпляра “Бесприданницы” замечания Вл. И. Немировича-Данченко по поводу его понимания Островского и отдельных образов этой пьесы. Владимир Иванович говорил: “Островский подает юмор густо, медленно, сочно. Исполнителям нужно искать верную интуицию, а взять верный тон — это найти верную интуицию.
… Каждый образ в "Бесприданнице" это — лицо, которое имеет своего рода сценическую заряженность, имеет свою энергию. Каждая фраза Паратова каменная, а не лиственная, как у Чехова. … Полутона никогда не годятся для Островского. У него — тень и свет, а не полутона. Кроме сочного юмора, ничего не нужно. Вожеватов смеется, когда рассказывает о Карандышеве”.
Рассказывая о Вожеватове, Владимир Иванович сказал: “Ведь человек, с которого Островский писал Вожеватова, жив еще… Он играл в спектаклях в Обществе искусства и литературы со Станиславским… Зерно Вожеватова — "мне все удается". Однако это не удача игрока. Он осторожен, коммерчески 427 осторожен. Он негоциант с головы до ног, но удачлив. Зерно Карандышева — зависть. Он снедаем завистью. Это и жалко, и мерзко. Как игрок, как скупец, снедаемый страстью, так может он сидеть и ждать Ларису три года. А сквозное действие Карандышева — получить лакомый кусок, Ларису.
… Зерно Огудаловой — барыня с расчетом… Она [Лариса] сидит и слушает что-то, может быть, звон церковный, может быть, гудки пароходов… смотрит на горизонт, а дотронуться до нее — она заплачет… Гордость какая-то есть у нее, желание остаться совсем одной… Словно она говорит: не трогайте (это она про Паратова), у меня опять начнется эта боль. Может быть, как зубная боль… Гордость от того, что ее любил Паратов… Восторг! То, что составляет поэзию образа Ларисы, должно пронизать актрису…”.
Когда Владимир Иванович смотрел макет и эскизы [художника В. В. Дмитриева], он непременным условием ставил, чтобы в декоративном оформлении пьесы смыкались простор России, где легко дышится, и узкая, тесная, приличная жизнь». (В. Г. Сахновский, «А. Н. Островский на сцене Московского Художественного театра», «Ежегодник МХТ» за 1943 г., стр. 266 – 268).
Май 24
Делает замечания исполнителям на репетиции пьесы М. Уоткинса «Реклама».
Май 29
Просматривает работу режиссеров Е. С. Телешевой и Н. М. Горчакова по спектаклю «Три толстяка». После беседует с Юрием Олешей и художником Борисом Эрдманом.
Май 30
Репетирует первый акт «Бесприданницы» с О. Л. Книппер-Чеховой — Огудаловой, А. К. Тарасовой — Ларисой, Н. П. Хмелевым — Карандышевым и Н. П. Баталовым — Паратовым.
Июнь 1, 4
«Владимир Иванович говорил о сквозном действии пьесы, разъясняя и углубляя “зерно” каждой роли в отдельности». (Из протокола репетиции «Бесприданницы»).
Июнь 4
Работает над спектаклем «Дядюшкин сон».
Июнь 26
Из Берлина просит Бокшанскую: «Пусть Судаков напишет 428 мне более или менее подробно, что и как надумал он с Дмитриевым в “Воскресении”»274*. (Архив Н-Д, № 387).
Июль 6
«Стараюсь отдаваться отдыху. Только когда начал это, тогда почувствовал, как я устал… Мы в Карлсбаде до 21-го, потом Женева». (Там же, № 389).
Июль 25
Из Женевы просит передать в ВОКС телеграмму для Кнута Гамсуна в связи с его юбилеем: «… Кнут Гамсун имеет в истории Художественного театра свою полосу. Ее можно назвать синтезом символизма и натурализма». (Черновой автограф. Архив Н-Д, № 2584/2).
Август 10
Просит «как можно скорее договориться» с И. С. Козловским о вступлении его в труппу Музыкального театра: «Большой расчет на “Джонни”, хорошо бы ввести его и в “Анго”. Я мог бы дать ему и “Луизу”». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 394).
Август 12
«Прошу Вас дозвониться в Музыкальный театр и сказать, Я собираюсь ставить “Луизу” Шарпантье. Эта опера в репертуаре Мариинского театра. Надо узнать имя — адрес переводчика. … Если же это дело затянется, то легче делать новый, свой. … Кроме того, спросить в музыкальных магазинах — полный клавир». (Там же, № 395).
429 Август 17
«Судакову (по телефону) скажите, что мне план Дмитриева понравился. Под сомнением только зеркало». (Там же, № 397).
Август 28
«Между прочим, перебирая возможности лондонской поездки весной, я подумал, — почему бы Леонидову не играть там актера в “На дне”? Это могло бы выйти замечательно». (Там же, № 398).
Сентябрь 12
Возвращается в Москву и вместе с женой прямо с вокзала заезжает в Музыкальный театр. Там идет репетиция и вся труппа встречает их овацией.
Сентябрь 18
Просматривает макеты и эскизы художника П. В. Вильямса к спектаклю «Реклама».
Октябрь 2
Просматривает декорации, бутафорию, гримы и костюмы спектакля «Дядюшкин сон».
Октябрь 4, 6
Эрдман показывает Немировичу-Данченко макеты декораций первого действия «Трех толстяков».
Октябрь 9 – 31
Проводит девять репетиций «Дядюшкина сна».
Октябрь 12
После репетиции первого и второго действий «Рекламы» беседует с актерами и режиссерами спектакля — Е. С. Телешевой и Б. И. Вершиловым.
Октябрь 17
Репетирует сцены «Деревня», «У Матрены» в «Воскресении». Стремится к тому, чтобы мужики были жизненно-реальными, а не идеализированно-театральными. «Владимир Иванович считает, что вся сцена должна идти в другом, более быстром и насыщенном ритме: нужно “толстовских” мужиков играть значительно ярче, не обыгрывать каждую фразу, а давать яркие, сочные пятна». (Из протокола репетиции)275*.
430 Октябрь 23 – 24
Репетирует первое и второе действия «Воскресения».
Ноябрь 1, 2
Ведет репетиции «Дядюшкина сна».
Ноябрь 2, 7
Репетирует оперу Л. Книппера «Северный ветер»276*.
Ноябрь 5, 6
Репетирует «Воскресение».
Ноябрь 8, 10
Беседует с коллективом Музыкального театра об опере «Северный ветер».
Ноябрь 9, 12
Репетирует «Воскресение». Работает с К. Н. Еланской и В. Л. Ершовым над сценой первого свидания Катюши и Нехлюдова.
Ноябрь 12
Беседует с композитором Л. Книппером, режиссерами П. В. Баратовым и К. И. Котлубай об опере «Северный ветер».
Ноябрь 13
Репетирует сцену «Суда» в «Воскресении».
Ноябрь 14
Работает над сценой «Деревня» в «Дядюшкином сне».
Ноябрь 15
Работает над первым актом «Воскресения».
Ноябрь 16, 19
Репетирует второй акт «Дядюшкина сна».
Ноябрь 20
Просматривает макеты второго действия к спектаклю «Три толстяка», сделанные художником Б. Эрдманом.
Работает над отдельными сценами «Дядюшкина сна».
431 Ноябрь 21
Работает с А. П. Зуевой и М. О. Кнебель над ролью Карпухиной в «Дядюшкином сне».
Ноябрь 22
Репетирует сцены «Канцелярия тюрьмы», «Этап», «Камера политических» в «Воскресении». Анализирует образы, делает замечания исполнителям.
Ноябрь 23
Проводит репетицию «Дядюшкина сна» в гримах и костюмах.
Ноябрь 25
«В. И. Немирович-Данченко и К. И. Котлубай по обоюдному согласию и по добровольному желанию проработали детально всю пьесу». (Из протокола репетиции «Дядюшкина сна»).
Ноябрь 26
Вместе с режиссером спектакля Судаковым просматривает гримы и костюмы спектакля «Воскресение».
Ноябрь 27, 28
После генеральных репетиций «Дядюшкина сна» делает указания по всему спектаклю.
Ноябрь 29
На репетиции «Дядюшкина сна» Владимир Иванович «окончательно фиксировал финал пьесы». (Из протокола репетиции).
Декабрь 2
Премьера «Дядюшкина сна».
Декабрь 19
Репетирует «Воскресение».
Декабрь 20 – 23
Ставит сцену «На этапе» из «Воскресения».
Декабрь 27
С О. Л. Книппер-Чеховой, А. О. Степановой, В. Л. Ершовым работает над сценой «У графини» («Воскресение»)277*.
432 Декабрь 30
Занимается ролью Нехлюдова с Ершовым, потом проходит сцену «У графини».
1930
Январь 2
С режиссерами Е. С. Телешевой и Б. И. Вершиловым работает над вторым действием спектакля «Реклама».
Январь 3
Репетирует «Рекламу».
Январь 6
Просматривает макеты декораций к спектаклю «Три толстяка». Потом приходит на репетицию «Воскресения» и работает над сценами «Этап» и «У графини».
Январь 7
С Книппер-Чеховой, Степановой и Ершовым репетирует сцену «У графини».
Январь 8, 9, 14 – 16, 18
Репетирует «Воскресение».
Январь 18
Вечером делает замечания по репетиции «Рекламы». Беседует с режиссурой о финале спектакля.
Январь 20
Репетирует сцену «Суда» в «Воскресении». Находит интересный режиссерски постановочный прием для разоблачения одного из вершителей правосудия278*.
Январь 21, 23
На генеральных репетициях «Воскресения».
Январь 25
На генеральной репетиции «Воскресения» делает замечания по оформлению сцены, исправляет технические неполадки.
433 Январь 28
Обращается с просьбой ко всем работникам театра принять все меры для сокращения антрактов в спектакле «Воскресение».
Февраль 3 – 17
Ежедневно репетирует «Рекламу».
Февраль 4, 5
Ведет общие и оркестровые репетиции оперы «Северный ветер».
Февраль 17
Просмотр спектакля «Реклама» Главреперткомом и Художественно-политическим советом театра.
Февраль 22
Премьера спектакля «Реклама».
Февраль 23 – 26
Репетирует оперу «Северный ветер», добиваясь от исполнителей простоты героических чувств.
Февраль
Беседует с художником В. В. Дмитриевым о его декорациях к опере «Северный ветер».
Март 2 – 31
Выпускает спектакль «Северный ветер» в Музыкальном театре.
Март 31
Премьера оперы «Северный ветер». Главный режиссер — Л. В. Баратов. Художник — В. В. Дмитриев. Руководитель постановки — Вл. И. Немирович-Данченко.
Апрель 9, 19
Репетирует пьесу «Три толстяка».
Май 16
Смотрит черновую генеральную репетицию «Трех толстяков».
Шлет письмо Музыкальному театру в связи с 10-летием его существования: «… кланяюсь вам и благодарю вас!
434 … всем новым, которые вместе с нами готовы отдать свои дарования и силы на борьбу за “театр Музыкального Актера”, — идите к нам…». (Избранные письма, стр. 375).
Из телеграммы М. С. Гейтцу279*: «“Наша молодость”280* будет ценным вкладом в репертуар Малой сцены». (Архив Н.-Д, № 627).
Май 19
С режиссерами Телешевой и Горчаковым смотрит репетицию «Трех толстяков» в гримах и костюмах.
Май 20
Просмотр «Трех толстяков» Главреперткомом и Художественно-политическим советом театра.
Май 21
Делает замечания актерам по спектаклю «Три толстяка». Вечером с Телешевой и Горчаковым репетирует сцены «Башня» и «Балаган».
Май 23
Генеральная репетиция «Трех толстяков».
Май 24
Из письма Гейтца к Немировичу-Данченко: «Что касается “Первой Конной”, то я целиком присоединяюсь к Вашему решению всячески упростить и облегчить установку… В ней надо брать не выкрутасами, а энтузиазмом, искренностью, актерским мастерством. Хмелев согласен на все упрощения, но крепко просит оставить идею оформления». (Архив Н-Д, № 3669/3).
Май 29
«Вам должны послать нашу беседу о “Первой Конной” — нашу, то есть нашего совещания. … Я в последний раз решительно рекомендую отказаться от “Первой Конной” совсем.
Ко всем приведенным резонам я должен присоединить еще и то, что на меня режиссура не должна особенно рассчитывать, если спектакль готовится к 7 ноября, так как я приеду только в конце сентября. При “Толстяках” ни одной новой сложной постановки допускать нельзя. Наша технически-сценическая часть находится в очень плачевном состоянии». (Из письма к М. С. Гейтцу. Там же, № 631).
435 Май 31
«Мы переживаем небывало тяжелые обстоятельства… “Три толстяка” пущены все-таки сырыми… В результате считаю этот сезон полным непростительных ошибок… А в художественном балансе — только “Воскресение” и подъем Малой сцены по репертуару». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 401).
Июнь 18
«“Воскресение”, как Вы, вероятно, знаете, было событием. Это из лучших спектаклей действительного Художественного театра. … Блестящая Катюша — Еланская и по данным, отвечающим образу, и по яркости и силе. Но, разумеется, все покрывал Качалов. Давно-давно он не был так великолепен.
… Постановка Эрдмана [“Три толстяка”] совершенно исключительная, но невероятно трудная. Блестяще играла Бен-дина. Спектакль вообще очень хороший, но мог быть лучше.
… На Малой сцене я еще выпустил: “Рекламу” — американскую легкую комедию, в которой очень ярко выдвинулась Андровская… и “Нашу молодость”. Это из романа очень талантливого молодого писателя. Здесь ярко блеснул Дорохин, — по-моему, талант чистой воды». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 7230).
Выезжает за границу лечиться.
Июнь 29
«Никого почти не видим, нигде не бываем. Вот 3-я неделя, а были только раз в Deutsches Theater. … Берлин изумителен. Право, лучший город в мире! Но переживает экономический кризис. То есть в широком, государственном смысле». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 402).
Июль (до 24)
Из Женевы запрашивает о новой пьесе К. Тренева «Ясный Лог».
Июль 24
«Все хорошо, что хорошо кончается, но как много было в сезоне больных мест. Когда я перебираю прошедшее (я этим занимаюсь всегда по окончании сезона), я думаю, что на некоторых обстоятельствах необходимо приостановиться. Конечно, не на мелочах, а на таких, которые характерны, как “явления”. Куда надо идти… разве уж так и не уйти от халтуры? Не доказывается ли на каждом шагу правота первого принципа старого Художест[венного] театра — делай, непременно 436 наилучшим образом? Материальные опасения — малодушие, а точнейшие сроки — призраки. Все станет на свое место, если будешь делать непременно наилучшим образом. … Или вот еще: демагогия вещь скучная и досадная, но она не страшна, пока ее не оценивают выше таланта. Как в нашем деле надо любить и дорожить талантом! Ему первое место…». (Из письма к Гейтцу. Архив Н-Д, № 2481).
Август 8
В письме Станиславского: «Вы хотите приехать сюда. Очень был бы рад Вас видеть, но не на несколько часов. Это не даст нам ничего и утомит Вас. Если б Вы захотели отдохнуть здесь от городской женевской сутолоки и пожить в полной тишине — рекомендую Вам приехать в нашу лесную глушь. Но об этом надо списаться, так как Баденвейлер переполнен и не легко найти квартиру… От всего сердца желаю хорошего отдыха… а себе с Вами — установления прежних дружеских отношений, об которых я скорблю теперь всем сердцем». (Архив К. С.).
Август 11
Пишет Станиславскому: «Ваша первая книга имела очень большой успех. Да я до сих пор имеет. Надо надеяться, что и вторая будет встречена так же, а то и еще интенсивнее». (Архив Н-Д, № 7229).
«В Женеве… самое большое для меня удовольствие “tour du lac”281*. На пароход садимся в 9.30 утра и до 8.30 вечера объезжаем, “обплываем”, все озеро, мимо десятка пристаней — городов… За этот день отдохнешь, как за неделю. Я беру с собой газеты, почт. бумагу, книгу — и ничего не читаю и не пишу, только смотрю и молчу… Вообще же в 10 часов уже в постели. И разумеется никаких встреч и знакомств с эмиграцией». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 406).
Сентябрь 1
Из Берлина посылает письмо: «Товарищам по театру перед новым сезоном…
… С плохим искусством мы — солдаты с плохим оружием, и никакая храбрость не спасет нас от бесцельности наших попыток.
Если мы хотим быть хорошими гражданами и нести народу лучшие идеи нашего времени, то мы прежде всего должны любить наше искусство, беречь наше искусство, оттачивать его.
437 Не будем засорять его ни халтурой, ни бытовыми дрязгами, ни пустозвонством, ни дурной моралью». (Избранные письма, стр. 375 – 376).
Сентябрь 15
«“Воскресение” у Рейнгардта было совсем-совсем на мази. Я был у него в Зальцбурге, беседовали282*… Теперь расстроилось. Жаль.
… Приходили ли к Вам из шведского театра за фотографиями “Власти тьмы”? Дайте, что можно». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 411).
Сентябрь 18
Гейтц сообщает Немировичу-Данченко, что Рабиндранат Тагор смотрел в МХАТ «Воскресение» и «очень комплиментировал». (Архив Н-Д, № 3668).
Немирович-Данченко пишет Бокшанской о распределении ролей в «Мертвых душах»: «О Соколовской — Коробочке буду помнить. Она права. Хотя она не “Коробочка”. Впрочем, у Гоголя и нет таких указаний. Вернее, по Гоголю Коробочка вовсе не непременно малюсенькая…». (Архив Н-Д, № 412).
Сентябрь 21
«Чичиков — Тарханов тоже хорошо, но Топорков помоложе: Чичиков с будущим, а не с прошлым, Чичиков с мечтой. Ноздрев — Москвин отлично. … Если Плюшкин не Хмелев, а Ноздрев не Баталов, то почему бы сейчас же не возобновить работы по “Бесприданнице”? Поручив Кнурова — Тарханову.
В вопросе о прибавках, повторяю, вряд ли между нами могут быть расхождения. С своей стороны подчеркиваю тех, кто дает “радость”. Дорохин и Калинин. — Еланская, Андровская. — Кедров. — Грибов, Орлов, Степанова. Титова, Новиков, Грибков… Запоминаются еще у меня: Ларин (Картинкин)283*, Ларгин, Яров, Кнебель, Якубовская, Вронская». (Из письма к Гейтцу. Архив Н-Д, № 633).
Октябрь 7
Издано постановление СНК РСФСР «Об улучшении театрального дела». Во втором пункте постановления говорилось; «Необходимо обеспечить рост советской драматургии и еще более приблизить ее произведения к требованиям социалистического строительства…». («Советский театр», № 13 – 16).
438 Ноябрь 25
«Скажите Судакову подипломатичнее: он очень любит переделывать пьесы под влиянием первых впечатлений на репетициях, не постаравшись до конца проникнуться автором. Так вот как бы не повторилась история с “Блокадой”, когда я, придя, тратил много времени на возвращение к автору. Во всяком случае, я хотел бы, чтоб Киршон284* знал, что предлагаемые Судаковым переделки идут без моего ведома и что на “Блокаде” были вот такие случаи». (Записка к Бокшанской. Архив Н-Д, № 414).
Ноябрь 26
Просмотрев репетиции комедии К. Гольдони «Хозяйка гостиницы», пишет: «Лучше бы, если бы Нина Николаевна285* еще поработала, Ливанов поискал внутренний комизм, а не выезжал на легких внешних штучках. Так, как это было, — хочется сказать, — не стоит тех великолепных костюмов, которые они надевают. Надо доработать до права на Бенуа — Станиславского». (Там же, № 415).
Ноябрь 30
«Я Вам послал романы Пильняка и Федина. Я их не читал, т. е. теперь не читал, потому что читал уже раньше. “Это Москва” — мало интересна. … Я перечел всего Чехова и всем, советую это делать. Если есть в новой, новейшей нашей литературе что-нибудь интересное, пусть Марков скажет Вам. Например, роман Леонова?..
О “Дерзости”286* доклад Горчакова я помню по весеннему совещанию. Политически это было хорошо. Но опасность — не засушить бы актерскую молодую непосредственность». (Там же, № 416).
Декабрь 7
В письме В. Ф. Грибунина: «Не найдете ли Вы возможным дать мне дублировать Тарханову роль Собакевича… Я только хочу быть в настоящей работе. … Я очень верю Вам, дорогой Владимир Иванович, и привык считаться с Вашим мнением». (Архив Н-Д, № 636/2).
Декабрь (после 7)
«Прочтите письмо Грибунина. Я целиком на его стороне.
439 1. Я первый был против Грибунина — Собакевича, но только потому, что искал актера физически более крупного, а когда дали Тарханову, этот мотив отпал. 2. Грибунин скромно согласен на дублирование. 3. Нельзя не считаться с заявками такого актера, как Грибунин». (Из письма к Гейтцу. Там же, № 636/1).
Декабрь (до 30)
«“Мертвые души” — все очень хорошо. И правильно, что вовлечен Тарханов… Смущает немного Мижуев — Грибов: высокий, белокурый…
… Нужно ввести Тарасову за Еланскую и Ливанова за Ершова в “Воскресение”. На большую работу!» (Там же, № 643).
Декабрь 30
«В споре с Погодиным я неуверен, что неправ Погодин… Тут огромную роль играет вопрос — какие переделки требуются от него и кто их требует?» (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 421).
1931
Январь 9
Пишет, что из-за болезни сердца не может участвовать в репетициях пьесы В. Киршона «Хлеб», и жалеет об этом. (Записка к Бокшанской. Там же, № 385).
Январь (до-25)
«Если вся страна сейчас переживает тяжелое время, почему театр должен быть от этого избавлен? И как для жизни всей страны нужно мужество, терпение и вера в то, что настоящие испытания недаром, так и в театре нужно мужественное терпение.
… Художественная сторона? “Хлеб”. Было бы великолепно, если бы он 1) пошел в срок, а 2) очень хорошо. Но тут ко всем обстоятельствам — еще моя болезнь. Ну что ж тут поделаешь? Есть два выхода: или пустить его не “очень хорошо”, или оттянуть срок. … Опоздание может быть вознаграждено, а спектакль, выпущенный плохим, погиб.
… Я, впрочем, думаю, что Судаков, с советами Москвина и Худож[ественного] совещания, с “Хлебом” справится». (Из письма к Гейтцу. Архив Н-Д, № 2482).
Февраль 11
Пишет Станиславскому: «Это вопрос о наших музыкальных театрах, о моем и Вашем.
440 Наркомпрос собирается действовать чрезвычайно решительно в смысле объединения их.
… В таком-то спектакле (Вашего театра) задача: возможно ярче выявить вокальные и музыкальные качества классической оперы при осмысленном, реальном истолковании драмы; в этом спектакле (моего театра) — добиться полного синтетического захвата тематического содержания спектакля, имея главный упор на музыкальную ткань. Разве это полюсы? … Вашим именем приводится такое возражение: что же хорошего, если певец-актер будет сегодня готовить партию по методе Константина Сергеевича, а завтра по манере Владимира Ивановича? А разве Качалов, Москвин, Книппер и пр., и пр. проиграли от этого? И Художественный театр разве проиграл от этого?
Оба театра идут к одной цели: бороться с “театром ряженых певцов”. Эта борьба сложная, а потому и пути ее многогранные. Но цель одна.
… название театра и главенство директора. Для меня этот вопрос уже самый маленький, потому что я безапелляционно признаю Ваше первенство в обоих случаях.
Не сделаем ли мы историческую ошибку, если не создадим этого единого нового оперного дела?» (Избранные письма, стр. 376 – 380).
Март 17, 20, 24, 26
Дома работает с исполнителями пьесы А. Н. Афиногенова «Страх» — Л. М. Леонидовым, О. Л. Книппер-Чеховой, А. К. Тарасовой, М. А. Титовой, Е. Н. Морес, В. Л. Ершовым и другими.
Май 15
От имени Художественного театра приветствует А. М. Горького, приехавшего из Италии. «Он возвращается мудрый в широком охвате мыслью человеческого существования, по-молодому гневный в раскрытии лжи, лицемерия, подлости, с душою, сохранившей всю нежность трогательных глубоких переживаний и весь пламень сурового осуждения…». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 137).
Май 18
После репетиции «Страха» беседует с исполнителями.
Май 21
Режиссер В. Г. Сахновский показывает Владимиру Ивановичу репетицию инсценировки «Мертвых душ».
441 Май 24
«Утро в честь М. Горького» в Художественном театре. (Вступительное слово Вл. И. Немировича-Данченко).
Июнь (до 14)
«Собираюсь уезжать 14-го. Увы, на этот раз меньше чем на 3 месяца. Виноват Афиногенов. С Шифриным по макетам кончил287*. Я им очень доволен. По пути скажите Судакову, что теперь первая и третья картины, пожалуй, самые лучшие. Все-таки понадобятся кролики и крысы288*. Хорошо бы и обезьяну, но ее можно как чучело. А о первых, может быть, поговорить с Дуровым. Я очень настаиваю на живых кроликах и крысах. Если это в смысле искусства отзывается натурализмом первых шагов Художественного театра, то и очень хорошо. В последнее время наш театр так пошел по пути общебанальной театральности, что не худо прописать ему хорошую дозу натурализма, да и исполнителей это убедительнее введет в “научную” атмосферу». (Из письма к Гейтцу. Архив Н-Д, № 2484).
Июнь 18
Выезжает в Берлин.
Июль 3
Потрясен известием о смерти Василия Васильевича Лужского.
Август 11
Уезжает из Карловых Вар в Женеву.
Август 26
«Я вам пошлю перевод Бертенсона американской драмы, второй год делающей в Америке сенсацию. Дайте Маркову. Она очень сценична и общественно интересна, рисует ужасающую картину американского правосудия. Если для Малой сцены она уже не годна, то предложите ее Марджанову… Да и о той пьесе, которая у Коонен, вспомните». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 429).
Сентябрь 12
«О “Войне и мире”. Заключать договор прошу подождать, так как я сам много был занят этим, думал даже о сценариях. И не представляю себе инсценировки без того приема, какой был употреблен в “Воскресении”». (Там же, № 431).
442 Сентябрь 15
«Если бы я очень задержался, то Афиногенову сам напишу. В этом вопросе он меня мучает больше всех…
— Искренно любуюсь издали поведением Конст. Серг. [Станиславского] как директора! И в вопросах художественной администрации и в отношении хозяйственной части». (Там же, № 432).
Сентябрь (после 15)
Из Берлина пишет А. Н. Афиногенову, что мысль о прерванных репетициях «Страха» «гнетет» его и мешает ему просить продления отпуска: «Вы не можете сомневаться в моем огромном желании успеха. Вы помните, как искренно и с каким запалом я относился к пьесе непрерывно с первых шагов. Но для меня ясно, что при настоящем состоянии моих сил я решительно должен отказаться от режиссирования “Страха”. Я пишу Андрею Сергеевичу [Бубнову], что стоит мне провести в напряжении нервов полтора-два часа, как голос мой садится, сердечные мышцы слабеют, ночью охватывает сердцебиение — все “грозные признаки”… И, в конце концов, больше всех потеряю от этого я сам. Я так хотел щегольнуть этой постановкой — даже перед Вашими товарищами и Вами». (А. Н. Афиногенов, Статьи. Дневники. Письма. Воспоминания, М., «Искусство», 1957, стр. 226).
Сентябрь 23
Пишет О. С. Бокшанской: «Конечно, в “Войне и мире”289* лицо от автора должно идти по-новому. Но без него это опять будет обычная переделка и вся моя идея романа в театре полетит!.. Уже после “Мертвых душ” это затрещало, а после “Войны и мира”, значит, окончательно обанкротится.
… Не понимаю, почему макеты “Страха” не понравились, Я их очень одобрял». (Архив Н-Д, № 433).
Октябрь 7
«Насчет “Войны и мира” я спокоен. Но если бы Булгаков, хоть в набросках сценария, оповещал меня! Как он разовьет все истории? Мой план был: три пьесы, цельных, отдельных. Вроде, как я делал “Николая Ставрогина” из романа “Бесы”». (Из письма к Бокшанской. Там же, № 435).
Октябрь 14
«Передайте Константину Сергеевичу, что я прошу его действовать не только самостоятельно, но даже не тяготясь мыслью обо мне. Нельзя из-за моего отсутствия задерживать решение важных вопросов… Я могу высказать свое мнение, но на месте вам виднее». (Там же. № 436).
443 Октябрь 25
Из Берлина пишет Бокшанской: «“Село Степанчиково” пока не посылайте. Тут тяга на русское опять большая. Но, во-первых, сплошная халтура, а во-вторых, пока все неудачи… Татьяна Павлова со своей итальянской труппой ставит “Цену жизни” и просит меня приехать на несколько дней, хорошо оплачивая мои расходы. Поеду завтра в Милан… (“Цену жизни” играла и знаменитая Граматика и знаменитый Цаккони)». (Там же, № 439).
Ноябрь 4
Пишет Бокшанской в связи с намерением МХАТ восстановить «Горе от ума»: «У меня ряд очень важных перемен и в темпе и в толковании против нашей постановки. Даже в тексте, о чем напишу Пиксанову». (Там же, № 440).
Ноябрь 9
«Я не в Милане, а в Турине, потому что тут переменился план». (Там же, № 441).
Ноябрь 11
В «Gazzeta del Popolo» появилась рецензия о спектакле «Цена жизни» в «Театре Виктора Эммануила».
Ноябрь 15
Вернулся из Турина в Берлин.
Ноябрь 16
Из письма Немировича-Данченко к Бокшанской о спектакле итальянской труппы: «В Турине я и моя пьеса имели успех ошеломляющий. Когда-то (в Берлине на гастролях МХТ) Дузе говорила мне, что итальянская публика не вынесет ни пауз, ни темпов русского театра. Как она ошибалась! Туринская публика была захвачена сразу именно простотой, паузами, темпом, жизненностью. С первого же действия! Второе, особенно интимное и сдержанное, она приняла уже самыми горячими и единодушными вызовами, обратившимися в овацию, когда я вышел. После 3-го прием был бурный. Потом — венки, цветы, речи… После спектакля банкет от артистов всех театров и журналистов. … Очень помог мне Шаров, режиссировавший пьесу. Павлова отличная актриса. Кроме Пашенной, у нас такой уж нет. В Италии она считается лучшей итальянской актрисой и ее труппа лучшей в Италии». (Архив Н-Д, № 442).
«О “Горе от ума” я напишу. Не думаю, что это будет сложно. Дело ведь не в мизансцене, а в ритме некоторых сцен и в толковании некоторых кусков… Что касается “Дядюшкина 444 сна”, то Константин Сергеевич может делать все, что хочет. Несмотря на большую затрату сил, какую я вложил, — я никак не могу считать этот спектакль своим. И насчет афиши Вы ошибаетесь, там стоит одна Котлубай. Я только помог запутавшимся режиссерам и актерам, помог выбраться, только выбраться из трясины. Впрочем, в конце концов, мне многое там нравилось — у Книппер, у покойного Синицына, у Кореневой, у Хмелева, у Алеевой». (Там же).
Ноябрь 22
«… Погружаясь понемногу в “воспоминания” для книги, все сильнее чувствую все то прекрасное и доброе, чем мы жили в первой половине Худож[ественного] театра и чему я бесповоротно отдался все последнее время. … с этим чувством “очищения” от всего наносного я расстаться не хочу и не расстанусь». (Из письма к Станиславскому. Избранные письма, стр. 380 – 381).
Декабрь 3
Из письма итальянских актеров к Немировичу-Данченко: «Поистине польщены и счастливы… тем, что Вы в письме к нашей любимой синьоре Татьяне Павловой вспомнили также своих итальянских учеников. Мы все питаем живую и пламенную надежду, что Вы, Maestro, скоро возвратитесь к нам, чтобы сеять на нашем маленьком поле». (Подлинник на итальянском языке. Архив Н-Д, № 6675).
Декабрь 8
«Скажите Константину Сергеевичу или Маркову, или Сахновскому мое мнение о пьесе на 15-летне290*. То, что собирали драматургов поговорить о теме — это хорошо. Но, во-первых, разговор может быть только о теме, а во-вторых, для этого достаточно двух бесед. А затем ни в какие коллективные пьесы я не верю. Писать пьесу должен один. … Из всех пишущих для сцены я чувствую драматурга настоящего пока только в трех — Булгаков, Афиногенов и Олеша. … Я бы заказал Афиногенову и Олеше». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 444).
Декабрь 11
Из Берлина пишет режиссеру спектакля «Страх» Судакову об Афиногенове: «Верю в автора и желаю ему такой жизни, которая помогла бы расцвету его писательской личности». (Избранные письма, стр. 381).
445 Декабрь 24
В день премьеры «Страха» получает от Афиногенова телеграмму: «Вспоминаю Вашу работу над “Страхом”. Поправляйтесь, возвращайтесь скорее к новым работам с новыми драматургами». («Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 423).
В письме к заведующей труппой Музыкального театра А. С. Лебедевой: «… через Вас прошу передать ей [труппе], что целыми днями я мысленно бываю с нею, — хотел бы на расстоянии внушить ей твердость и веру». (Избранные письма, стр. 381).
Декабрь 27
«Передайте Афиногенову, что я очень тронут. Очень рад такому успеху “Страха”. По-моему, это первый, вполне художественный, успех советской пьесы — даже считаясь с “Бронепоездом”. — Очень приятно, большая радость». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 447).
Декабрь 29
В письме к Лебедевой: «Больше всего мне понравилось, что пошли по линии борьбы с “выпеванием” и за “живую речь”… Ведь это же для нашего театра самое важное!
… на законченной музыкальной канве — живое, человеческое». (Избранные письма, стр. 382).
1932
Февраль 3
Из Берлина пишет Б. Е. Захаве, что в работе над спектаклем надо всегда учитывать «общее мировоззрение автора, освещение действующего лица и его переживаний идейным фокусом пьесы, наконец, стиль — элемент при постановке такой огромной важности». (Личный архив Б. Е. Захавы).
Февраль 23
В газете «Италия» напечатана рецензия на спектакль труппы Татьяны Павловой «Цена жизни».
Апрель 23
Опубликовано постановление ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных организаций».
Веса – лето – осень
Пишет книгу «Из прошлого».
446 Август
Из Италии шлет приветствие к 100-летнему юбилею Государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина (бывш. Александринского театра). «Все это те, кто всю свою жизнь, утро за утром на репетициях, вечер за вечером на спектаклях, отбрасывая свои личные жизненные заботы и огорчения… в бесконечной галерее человеческих образов и в неисчислимых волнах переживаний — творили великое искусство русского актера.
Тут же и в книжной и в непосредственной памяти встали затененные, скрытые от показа, фигуры администраторов разных степеней, досадные воспоминания о людях, старавшихся держать русского актера на положении лакея и все-таки бессильных задержать мечту о свободе и справедливости…». (Избранные письма, стр. 382 – 383).
Сентябрь 17
В ознаменование 40-летия литературно-художественной и общественной деятельности А. М. Горького постановлением Президиума ЦИК СССР Художественному театру присвоено имя М. Горького.
Сентябрь – октябрь
Работает над главой «Максим Горький» для книги «Из прошлого».
Октябрь 14
Из Сен-Ремо (Италия) посылает письмо коллективу Музыкального театра: «Если вообще ни к какому делу нельзя относиться ремесленно, безыдейно, то любовное отношение к делу искусства — самый прочный залог успеха». (Избранные письма, стр. 384).
Октябрь 23
Пишет Горькому из Сен-Ремо: «… вместе с благодарностью за прошлое испытываю изумление перед работой, не имеющей примера в мировой литературе, какую Вы проделали за эти 30 лет над собой и своим гением». (Там же, стр. 385).
Ноябрь 1
Из Сен-Ремо пишет А. С. Бубнову: «У нас часто слышно: “На театральном фронте неблагополучно”, “Театральный фронт отстает”. Может быть, так и надо непрестанно подстегивать, чтоб люди не складывали рук. Но когда в эти дни 15-летия, — дни как бы некоторых итогов, — сравниваешь, что сделано на театральном фронте у нас и во что обратились после войны театры повсюду на Западе, то разница получается настолько несоизмеримая, что Наркомпрос может 447 гордиться своим театральным фронтом. Во всех отношениях: и в политическом и в художественном; и в громаде тематических задач и в искании форм; и в материальной обеспеченности и прежде всего в том, что у нас театры уже внедрились в самую жизнь народа, становятся живым источником его духовной культуры, уже осуществляют самую фантастическую мечту дореволюционной эпохи, а здесь они быстро утрачивают даже то место культурного развлечения, которое до войны занимали в жизни интеллигенции». (Архив Н-Д, № 2477).
Декабрь 4
Благодарит Станиславского за «радостную телеграмму о первых спектаклях “Мертвых душ”. … Еще и еще раз: театр — как искусство, театр — как одна из могущественных культурных сил, театр — как дело, которому талантливые люди могут отдавать сваи жизни, — только у нас во всем мире!» (Избранные письма, стр. 386).
Декабрь 22
Пишет Горькому из Болоньи: «Сейчас прочел “Егора Булычова”. … Давно не читал пьесы такой пленительной. … Молодо, ярко, сочно, жизненно, просто, — фигуры как из бронзы… мудро, мудро, мудро! Бесстрашно, широкодушно. Такая пьеса, такое мужественное отношение к прошлому, такая смелость правды говорят о победе, окончательной и полнейшей победе революции, больше чем сотни плакатов и демонстраций.
… Как это могло случиться, что пьесу перехватили у Худож[ественного] театра?» (Там же, стр. 386 – 387).
1933
Январь 10
В письме Горького к Станиславскому: «Вы и В. И. Немирович-Данченко создали образцовый театр, одно из крупнейших достижений русской художественной культуры». (М. Горький, Собр. соч., т. 30, стр. 276).
Январь 17
В телеграмме Немировича-Данченко к Станиславскому: «Юбилейная дата требует проверки взаимоотношений. Вглядываясь в самые глубины души, испытываю к Вам бесконечную благодарность за все, что я получил от Вас в моем артистическом росте; сверкающие, радостные воспоминания о наших совместных работах; чувства истинного дружества и братства. Если бы я молился, я просил бы судьбу сохранить Вам силы на много-много лет». (Избранные письма, стр. 387).
448 Январь 29
Немирович-Данченко благодарит Горького за его «любезное, товарищеское письмо». Сообщает ему, что собирается приехать в Сорренто, чтобы поговорить о проекте Академии сценических искусств при МХАТ. Просит передать привет Всеволоду Иванову. Пишет, что пьесу «Достигаев и другие» еще не получил из Москвы. (Архив А. М. Горького. Фотокопия в Музее МХАТ).
Февраль 11
Из Сен-Ремо посылает поздравление В. А. Симову в связи с его 50-летним юбилеем: «Симов это целая полоса Художественного театра, — широкая, яркая, почвенная, — в истории Художественного театра неизгладимая». («Театр и драматургия», 1933, № 1).
Апрель 3
Узнав о смерти В. Ф. Грибунина, из Сорренто вместе с Горьким посылает телеграмму Станиславскому: «Скорбим об утрате чудесного артиста, преданнейшего проводника художественной правды. Просим передать соболезнование Вере Николаевне291*. Горький, Немирович-Данченко». (Архив Н-Д, № 8265).
Апрель 6
Леонид Леонов дарит Владимиру Ивановичу свой роман «Скутаревский». (Музей-квартира Вл. И. Немировича-Данченко).
Май 10
В письме к Станиславскому: «Сначала я не был уверен, что валюту мне из Москвы вышлют и, боясь остаться без гроша на чужбине, заключил здесь условия. Потом, в этих условиях я не предусмотрел потрясающей беспорядочности здешних театральных организаций и возможности, чтобы все сроки в моих планах могли быть так жестоко спутаны. И третья причина: я сам совершенно провалился в роли халтурщика. Поощренный сенсационным успехом первой постановки — “Вишневого сада”, я смотрел на свою работу в итальянском театре как на большое культурное дело. Между тем недобросовестная дирекция театра поставила меня в такие условия, что, несмотря на угрожающие перспективы, я не мог выпустить неготовый спектакль и предпочел потерять всю материальную выгоду. … Если бы я был спокойнее, я, может быть, нашелся в том положении, в каком очутился, но к этому примешивалось… необходимость и горячее желание поскорее бросить все и возвратиться». (Архив Н-Д, № 1797).
449 Июль (напало)
В первые дни своего возвращения в Москву посещает выставку «Художники РСФСР за 15 лет».
Июль 9
В письме И. Я. Судакова: «Я имею принципиальное согласие Екатерины Павловны [Корчагиной-Александровской] о переходе в наш театр. … 2-е дело. Вы прочли (и не один раз) пьесу Афиногенова [“Ложь”]. Ольга Сергеевна292* сказала мне о вырвавшихся у Вас фразах, что пьеса “не очень” и что Вы знаете, что в ней драматургически надо сделать. … Умоляю Вас напишите Афиногенову или мне и укажите все отрицательное и фальшивое в пьесе, а также и пути к тому, чтобы собрать пьесу в один кулак». (Архив Н-Д, № 5812/1).
Июль (после 9)
В ответном письме Вл. И. Немировича-Данченко: «О Корчагиной. Видел ее давно. Прекрасная актриса. Но я против ее перехода к нам. По следующим соображениям: … одной из крепких традиций Художественного театра всегда было не сманивать ценных актеров от других театров. Я до сих пор держусь этики, заложенной в эту традицию. … В конце концов, как она ни талантлива, пройдет много-много времени, пока она станет в театре “своей”. (Если это вообще еще возможно). А некий художественный разнобой уже пробрался в наш театр, славный своей монументальной цельностью. Присутствие актрисы совсем другого тона, даже высокоталантливой, только еще больше расшатает наши художественные трещины.
Знаете ли Вы, что однажды был вопрос о переходе к нам великолепного Влад. Ник. Давыдова и вопрос был решен отрицательно? И знаете ли, что такая прекрасная актриса, как Пашенная, была “чужою” в “Царе Федоре”?
… О пьесе Афиногенова. Написать все, что я мог бы сказать о ней, да еще с такой ответственной целью, как переделка пьесы, — невозможно. Даже — опрометчиво и рискованно. В художественной критике чрезвычайно трудно найти очень точные определения. Здесь столько оттенков. … А в этой сложной в смысле идеологии пьесе задача становится еще рискованнее… [Афиногенов] — это определившийся крупный талант, он вырабатывает свое сценическое мастерство». (Черновик. Архив Н-Д, № 1506).
Июль
В письме к автору либретто В. М. Инбер раскрывает свой 450 замысел «Травиаты»: «Вы очень приняли хор как лицо от автора, но несколько подозрительно отнеслись к не реальной, к эстрадной (выражаясь грубо) установке сценической площадки. А между тем одно другое дополняет и даже выражает. Вильямс, когда я ему рассказал о такой постановке, так загорелся, что ни о чем другом слушать не хочет. Представьте себе большое полотно или даже горизонт — Венеция! Подковой, открытой на публику, расположены ложи293*, — в каждой двое спереди и двое сзади. В середине овальная или круглая площадка для игры. Там будет минимальное количество вещей, но замечательных, музейных. На музыке прелюдии, на музыкальной теме Виолетты кто-то… декламирует хору рассказ о том, что сейчас будет представлено. В его декламацию Вы, автор, можете вложить какое Вам угодно идеологическое освещение событий. А затем, с веселой интродукцией сразу начинается игра на площадке, появляются действующие лица, причем хор то и дело принимает участие, пока только вокальное.
Хор освещается особо — то ярче, то темнее. Освещение сцены вообще не по солнцу и луне, а по темпераменту отдельных сцен и по выпуклости отдельных фигур. Но вот третье действие и на сцену (снизу из оркестра, с боковых подъемов) входит процессия карнавала и весь хор… Самое трудное — а может быть в конце концов и самое прекрасное и вкусное — поведение актеров на площадке. Но зато это — если удастся — будет самым подлинным искусством». (Архив Н-Д, № 782).
Август 7
Из беседы с Немировичем-Данченко по возвращении из заграничной поездки: «Тяжелое впечатление производят германские театры. Они во всех отношениях катятся вниз… Один за другим театры просто исчезают. … Германский театр остался без своих лучших мастеров. Даже Макс Рейнгардт выслан из пределов Германии как еврей. К слову говоря, я поднял вопрос о приглашении Рейнгардта для гастрольной работы в Советский Союз. Может быть, мы поручим ему одну из постановок в Художественном театре. … Кроме того, я посоветовал Московскому театру оперетты пригласить Рейнгардта для одной постановки. Например, для “Прекрасной Елены”…». («Вечерняя Москва»).
451 Август 8
Говорит о «невероятном кипении творческих сил в СССР, особенно после постановления ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 года». (Интервью в «Советском искусстве»).
«Свою работу в Художественном театре я понимаю так. Я должен делать то, что другой вместо меня не может сделать. У нас и хорошие режиссеры и хорошие, умеющие самостоятельна работать актеры. Но на моей обязанности лежит — внимательно следить за всем, что делается, и, если понадобится, в нужный момент сказать: “Это не Художественный театр”. Не тот Художественный театр, который приобрел мировую славу, или не тот, какой хочет иметь наше правительство. И в этот момент начинается моя работа — режиссерская или административная». (Там же).
Август 28
«“Достигаева” я давно прочел; все думал встретиться с Вами в какой-нибудь из Ваших приездов в Москву.
Пьеса — великолепный, красочный и образный кусок исторической хроники. Именно вот так поколения должны ощущать человеко-звериную растерянность в самый приход Октября. Галерея портретов разнообразная и яркая.
… Я передал в театр Ваше обещание прочитать пьесу труппе… Очень труден сам Достигаев. Может быть, экономия и художественная сдержанность в этом образе доходят уже до скупости. Как оправдать название пьесы “Достигаев, и др[угие]”?
И конец будет для режиссуры очень труден. Как поставить в сценических формах многоточие?.. Как “Народ безмолвствует” у Пушкина…». (Из письма к Горькому. Избранные письма, стр. 387 – 388).
Август
Татьяна Павлова пишет из Италии: «Да не я только, все вокруг меня говорят о том, что Вы нам дали в такой маленький, кажется, период. … Сильвио д’Амико294* все очень, очень мечтает, что Вы приедете к ним на немного, чтоб преподавать в будущем году». (Архив Н-Д, № 5279/1).
Телеграмма Немировича-Данченко, адресованная Сильвио д’Амико: «Шлю горячий привет молодежи новой школы и ее президенту. Желаю соединить лучшее от старых мастеров с высокими требованиями новой актерской техники». (Черновик. Архив Н-Д, № 2580)
452 Сентябрь (начало)
Перед началом театрального сезона Владимир Иванович говорит о задачах, стоящих перед советским театром: «В своей повседневной производственной работе наш театр должен главным образом опираться на современную пьесу…
Режиссерам мне хотелось бы дать совет: приостановиться в своих безудержных поисках новых форм, новых во чтобы то ни стало. … Пора сделать вывод, что убедительно только то, что органически слито с пьесой.
Немало режиссеров долгие годы под прикрытием политических лозунгов и внешней чисто трюковой выразительности давали пустые, неубедительные спектакли.
… Мужественная простота, ясность — можно и так сказать — художественная честность — вот по чему изголодался современный зритель». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы, Письма, стр. 45 – 47).
Сентябрь 5
Отвечая на присланную анкету, пишет об И. С. Тургеневе, сравнивает его с А. П. Чеховым: «“Рудиным” я увлекался меньше, “Дворянским гнездом” больше. Любил я всегда и “Затишье”, и многое в “Дыме” и в “Накануне”, даже не в такой сочной вещи, как “Новь”, но “Отцы и дети” и “Вешние воды” захватывали меня, сколько бы раз в жизни я ни возвращался к ним. А это было очень-очень много раз до самых последних лет.
… Он же [Тургенев] умел вдохновлять красотой гражданского мужества, в особенности в женском образе. … Одно время, не совсем без основания, называли Чехова сыном Тургенева. … Но в то же время никто так ярко и решительно не обрушивался на устарелую форму изложения Тургенева, как именно Чехов. Тягучесть, повторность, обилие придаточных предложений, излишняя декоративность в описаниях природы, — все то, чему так подражали в Тургеневе второстепенные писатели и что сам Тургенев впоследствии называл плохой “литературой”. “Сын” резко сметал эту манеру с своего литературного пути. Мужественная сжатость, отсутствие деепричастий, “который”, “словно”, огромного подбора слащавых эпитетов и пр. и пр.». (Черновая рукопись. Архив Н-Д, № 7322).
В связи с болезнью Станиславского и отъездом его в Ниццу смотрит генеральную репетицию «Талантов и поклонников» А. Н. Островского и принимает участие в выпуске спектакля.
Сентябрь 7
Делает замечания по спектаклю «Таланты и поклонники». Работает с Качаловым над ролью Нарокова.
453 Сентябрь 8
Меняет трактовку образа Великатова, устанавливает новые мизансцены. Репетирует с В. И. Качаловым, А. К. Тарасовой (Негиной), А. П. Зуевой (Домной Пантелеевной) и И. М. Кудрявцевым (Мелузовым).
Сентябрь 10, 11
Работает с Качаловым над сценами Нарокова в первом и втором действиях. Занимается ролью Великатова с В. Л. Ершовым.
Сентябрь 13
Вместе с режиссером спектакля Н. Н. Литовцевой репетирует сцены: Дулебов — Бакин и Дулебов — Негина.
Сентябрь 14
Репетирует второе действие «Талантов и поклонников» и подробно останавливается на сценах Нарокова.
Сентябрь 15
Проходит с Качаловым сцены Нарокова в третьем и четвертом действиях.
Сентябрь 17
В фойе и на сцене репетирует сцены Нарокова с Качаловым, Тарасовой, Дорохиным, Прудкиным, Кудрявцевым и другими исполнителями.
Сентябрь 18
Музыкальный театр вручает Владимиру Ивановичу грамоту на звание первого ударника театра.
Сентябрь 19
Просматривает репетицию «В людях» М. Горького (режиссер М. Н. Кедров).
Сентябрь 20
Вместе с Литовцевой репетирует «Таланты и поклонники».
Сентябрь 21
Ведет генеральную репетицию «Талантов и поклонников».
Сентябрь 22
В выгородках на Большой сцене репетирует первое действие «Талантов и поклонников» и беседует с исполнителями.
454 Сентябрь (до 29)
«В. И. Немирович-Данченко принял пьесу [“Егор Булычов и другие”] и стал работать над ней сначала до встречи с исполнителями. Он ездил к Алексею Максимовичу беседовать об общем плане спектакля. Несколько позже он еще раз ездил к Алексею Максимовичу с эскизами К. Ф. Юона, обсуждая с ним эти эскизы. Алексей Максимович дал ряд ценных указаний о быте и жизни Булычова. После этой беседы первый вариант эскизов был оставлен и было приступлено к работам над рядом новых вариантов». (В. Г. Сахновский, «Работа над спектаклем “Егор Булычов и другие”», сборник «Егор Булычов и другие», М., изд. Управления театрами НКП РСФСР, 1934, стр. 33).
Сентябрь (конец)
Приступает к репетициям спектакля «Егор Булычов». Занимается первым актом до выхода Булычова. Об этих репетициях Владимира Ивановича А. О. Степанова потом писала: «Я впервые стала понимать, как надо раскрывать внутреннюю сущность образа»295*. («Горьковец», 1936, № 7).
Сентябрь 29
Беседует с Горьким, пришедшим на спектакль «В людях».
Октябрь 2
Вместе с Сахновским репетирует первый акт «Егора Булычова».
Октябрь (до 7)
Встречается с критиками и драматургами: «Ряд интересных, но спорных мыслей, высказанных Вл. И. Немировичем-Данченко, вызвал оживленную беседу, в которой приняли участие А. Афиногенов, О. Литовский, Э. Бескин, Вс. Вишневский, Б. Ромашов, М. Левидов и др.». («Советское искусство» от 14 октября 1933 г.).
Октябрь 11 – (16
Репетирует «Егора Булычова».
Октябрь 20
Станиславский пишет Владимиру Ивановичу из Ниццы: «Спасибо за Ваши заботы о “Талантах [и поклонниках]”, за 455 ввод Василия Ивановича296* и за то, что не дали выпустить спектакль халтурно». (Архив К. С.).
Октябрь 21
В связи с тем, что Америка официально признала Советский Союз, посылает телеграмму в Наркоминдел М. М. Литвинову: «От руководимых мною театров, горячих друзей сближения с Америкой приветствую Вас с колоссальной победой политики Союза». (Архив Н-Д, № 963)
Октябрь 27
Произносит речь на торжественном заседании в день 35-летия МХАТ. «Когда за границей рассказываешь, какое громадное значение придается правительством театру в нашем Союзе, то там думают, что приехал режиссер с большевистским уклоном и хвастается. … Лучшие театральные люди за границей могут только мечтать о таком положении.
Вам ни в чем не отказывают. Вам говорят: работайте, творите; если вам нужны еще деньги, мы вам дадим. Не торопитесь ставить пьесы. Но дайте то, что надо для культурной жизни страны». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 136).
Ноябрь 1
Репетирует вместе с Сахновским первый и второй акты «Егора Булычова».
Ноябрь 4
Пишет статью в «Рабочую Москву» — «Из пожеланий к 17-й годовщине Октября». «Наши достижения несутся с такой быстротой, что опережают наши желания». (Черновик. Архив Н-Д, № 7323).
Ноябрь 14
В письме к Немировичу-Данченко из Ниццы Станиславский просит «не лишать наших театров ни одной минуты Вашей работы в них, потому что сколько бы времени Вы ни отдали нам, его все равно будет мало, чтоб, с одной стороны, — снова поднять МХАТ на прежнюю высоту, а с другой — подготовить смену и не столько артистов, сколько — руководителей!» (Архив К. С.).
Ноябрь
На репетициях «Егора Булычова». «После определенного периода репетиций приходил Владимир Иванович и разбирал всю сделанную нами работу. Выверив линию, поправив или 456 изменив то, что было неверно, он в определенной системе репетиций работал над ролями, “показывал”, искал иных мизансцен, если они не вытекали из внутреннего движения ролей, или утверждал найденное». (В. Г. Сахновский, «Работа над спектаклем “Егор Булычов и другие”», стр. 32).
Ноябрь 11
Леонидов пишет, что Немировичу-Данченко понравилось сравнение Булычова с Саввой Морозовым. (Л. М. Леонидов, Воспоминания, статьи, беседы, переписка, записные книжки, стр. 399).
Ноябрь 26
Репетирует второй акт «Егора Булычова».
Ноябрь
Сообщает Леонидову, что Москвин и Качалов тоже заняты ролью Булычова. «Москвин готовит роль, уже мы беседовали. Но верит в Вас. Я тоже думаю, что за это время все задания (основные) настолько улеглись в Ваших восприятиях роли, что разгладили “складки на переносице”, что Вы жизнерадостнее смотрите на пьесу, на ее тон». (Архив Н-Д, № 933).
Декабрь 4
Беседует с участниками «Грозы» о том, как эта пьеса должна звучать в современности: «Наша насыщенность революционными настроениями делает для нас теперь более рельефными отдельные образы пьесы и в особенности взаимоотношения». (Из протокола беседы. Музей МХАТ).
Декабрь (после 4)
Приступает к репетициям «Грозы» (из 50 репетиций проводит 34). Определяет «зерно» и сквозное действие спектакля, характеризует образы, объясняет, что значит идти «от себя», как нужно «зажить не словами, а своим отношением к происходящему», как разбивать роль на «куски», определять «физический путь роли», как приходить к нужному чувству, не играя чувства. (Из записей помощника режиссера В. В. Глебова. Музей МХАТ).
Декабрь 12
Вечером у себя дома встречается с режиссерами «Травиаты» П. А. Марковым, П. С. Саратовским, дирижером Г. А. Столяровым и исполнителями центральных партий М. С. Федосеевой, Г. И. Поляковым, В. А. Бунчиковым.
Декабрь 14
Проводит первую репетицию «Егора Булычова» на сцене.
457 Декабрь 16
Проводит режиссерское совещание по «Травиате».
Декабрь 20
Посылает телеграмму Оливеру Сейлеру297* в Нью-Йорк: «По возвращении домой перегружен театральными делами и не имею возможности до приезда Станиславского работать над книгой». (Архив Н-Д, № 2616).
Декабрь 21
Запись в дневнике Леонидова после репетиции «Егора Булычова»: «Скорей показывать В[ладимиру] И[вановичу]».
Декабрь 27
Репетирует первое и второе действия «Егора Булычова».
Узнав о смерти А. В. Луначарского, пишет статью «Люди театра не забудут А. В. Луначарского». (См. «Литературную газету» от 29 декабря 1933 г.).
Декабрь 28
Запись в дневнике Леонидова: «Вчера показывали два акта [“Егора Булычова”]. Немирович-Данченко, актеры. Волновался жутко. После 1-го акта Немирович-Данченко через Сахновского сказал, что очень доволен. … Нужно привлечь Немировича-Данченко. Мы сделали все, нужна рука Немировича-Данченко, а он в Мценском уезде298*. Правда, [“Леди] Макбет [Мценского уезда”] пойдет 10 января, там еще останутся две недели». (Л. М. Леонидов, Воспоминания, статьи, беседы, переписка, записные книжки, стр. 401).
Декабрь 31
Из новогодних пожеланий Немировича-Данченко труппе МХАТ: «… чтобы в 34-м году пришли такие пьесы, которые дали бы чудесную работу всем нашим силам;
чтобы страна наша… богатела новыми достижениями;
чтобы не нарушался необходимый нам мир…». (Избранные письма, стр. 389).
458 1934
Январь 1
В «Вечерней Москве» сообщается, что постановка МХАТ «Егор Булычов и другие» будет приурочена к XVII съезду ВКП (б).
Январь 2, 4
Репетирует третий акт «Егора Булычова».
Январь (после 4)
У себя дома работает с Леонидовым над ролью Булычова: «Слушал он меня очень внимательно, несколько раз я брал его к себе домой, чтобы спокойно репетировать вдвоем. Каждый раз он уходил от меня окрыленный, что-то записывал, но в результате исполнял только то, что подсказывали ему его взвинченные нервы». (Из письма Немировича-Данченко к Станиславскому, февраль 1934 г. Избранные письма, стр. 393).
Январь 12
Дома ведет репетиции «Травиаты».
Январь 14
После репетиции «Егора Булычова» устанавливает свет и «симфонию уличных звуков»: «С начала спектакля сцена должна быть пуста, а потом появляются актеры. Первый Шумовой кусок должен быть очень большим. Это увертюра к спектаклю… вся увертюра должна быть ярко нарастающей. Шум финала 1-го акта хорош. Шум проводов хорош… “Умер бедняга” — петь громче. Занавес должен открываться в темноте. Свет начинает врываться “снопами” вместе с шумом, затем, постепенно, вместе с нарастанием шума и свет рассеивается и переходит в установленный для 1-го акта. В финале пьесы свет (другого цвета) так же врывается снопами. Принцип освещения начала и финала должен быть один и тот же. Попробовать и поискать (если не получится свет “снопами”) свет мигающий (в первом акте — белый, а в финале мигающий — красноватый). Свет от рампы и софитов неоправдан». (Из протокола репетиции).
Январь 15, 16
Работает над отдельными сценами «Травиаты».
Январь 21
После генеральной репетиции «Егора Булычова» беседует с режиссером и исполнителями.
459 Январь 22
Леонидов записывает в дневнике: «Вчера Немирович-Данченко [был] недоволен моим первым выходом, костюм слишком строг, а сегодня звонок: все замечательно, и именно так и только так, и костюм правильный. Что это? Просто ли подбадривание или действительно вчера всего не увидел?» (Л. М. Леонидов, Воспоминания, статьи, беседы, переписка, записные книжки, стр. 403).
Январь 23
Работает с отдельными исполнителями «Егора Булычова».
Январь 24
Премьера оперы Д. Шостаковича «Катерина Измайлова» в Музыкальном театре.
Январь 25
На генеральной репетиции «Егора Булычова» в МХАТ.
Январь 28
Проводит за столом репетицию «Егора Булычова».
Январь 31
Репетирует финал третьего акта «Егора Булычова».
Февраль 3
Устанавливает вместе с Сахновским финал спектакля «Егор Булычов»: «Шурка кончает пьесу у окна, не подходя к Булычову». (Из протокола репетиции).
Февраль 4
Встречается с режиссером Судаковым и художником Рабиновичем для беседы о постановке «Грозы».
Февраль 7
Ведет репетицию «Грозы».
Февраль 10
После премьеры «Егора Булычова» посылает телеграмму Горькому: «Работали с глубокой добросовестностью, стараясь схватить смысл и краску каждой запятой. Немирович-Данченко, Сахновский, Леонидов и другие». (Избранные письма, стр. 389).
Февраль (середина)
Из Ленинграда пишет Горькому о спектакле «Егор Булычов»: «Я верю, что Вам спектакль понравится. Знаете, без всякого преувеличения, я не помню, чтобы у нас когда-нибудь текст доходил до публики с такой точностью, даже в интонациях. 460 Может быть, в этом отношении мы даже были слишком добросовестны. В пьесе есть 2 – 3 маленьких куска, которые, кажется, следовало бы сократить, так как они что-то задерживают. Может быть, Вы меня даже упрекнете за то, что я этого не сделал, но это совсем мелочь. В общем спектакль получился — не боюсь сказать — замечательный по актерскому мастерству. … У меня на первом месте стоят Павлин, Глафира, Мелания, Шурка, Варвара и во многих частях роли сам Егор. Очень хороши маленькие роли — Тятин, Достигаев, Пропотей, Таисья, Лаптев, Трубач, Антонина. Если бы Леонидову роль удалась до конца, спектакль был бы исключительным. Но мои опасения все-таки оправдались. Вы знаете Леонидова. Сцены большого потрясения, часто удивительная простота, когда искусство совершенно исчезает, до того актерская индивидуальность сливается с ролью, а в то же время образ неуловим. Рисунок то и дело возбуждает сомнения. Некоторые куски роли пропадают, как будто бы даже тяготят его. Конечно, он все-таки имеет очень большой успех и производит сильное впечатление. И все-таки, по-моему, Вы будете довольны.
Комнаты очень удались: просто, реально, содержательно… Конечно, сразу же раздались упреки в излишнем натурализме, в том, что детали могут отвлекать от актеров. Но я хитрый, я приготовил ответ: по открытии занавеса, не меньше трех полных минут, за окнами симфония улицы в военное время. За эти той минуты зрителю представляется возможность рассмотреть комнату во всех подробностях, чтобы потом он уже не смел упрекать режиссуру в том, что она отвлекает его внимание от актера. Если он это будет делать, то просто по скверной привычке придираться к режиссуре Художественного театра. Очень удался финал, когда с улицы врываются радостные крики демонстрации и отблески ночных факелов». (Там же, стр. 390 – 391).
Февраль (до 25)
В письме к Станиславскому из Ленинграда рассказывает о том, как создавался спектакль «Егор Булычов и другие»: «… работа была длительная. Дело в том, что, как я Вам предсказывал, Леонидов пошел совсем не по той дороге, по которой мне хотелось вести пьесу. Бог знает с чего, он решил, что эта пьеса написана на тему о смерти. О смерти вообще. Будто бы даже тут что-то есть от “Смерти Ивана Ильича”. И сразу же он себя наладил на очень мрачный тон. Сразу начал репетировать Булычова угнетенным и дряхлеющим. А я хотел — сильным и несдающимся.
… И другие лица Сахновский повел так, что мне пришлось довольно долго спорить с ним. Как Вы знаете, и с юоновской планировкой я не совсем сходился». (Там же, стр. 391).
461 Февраль 25, 26
Репетирует отдельные сцены «Грозы».
Февраль 27
Владимир Иванович рассказывает актерам свои впечатления от просмотра трех актов «Грозы». (См. запись в протоколе репетиции).
Март 1
Вл. И. Немирович-Данченко введен в почетный президиум комиссии по празднованию юбилея Н. И. Собольщикова-Самарина.
Выступает на конференции музыкальных драматургов299*. «Около трех часов аудитория наслаждается исключительной острогой мысли мастера, остроумием его сравнений и обобщений, меткостью даваемых им характеристик». («Говорит В. И. Немирович-Данченко», «Литературная газета» от 4 марта 1934 г.).
Март 3
Репетирует «Грозу», анализирует образ Кабанихи. «Зерно — власть, сквозная линия — покорять. … страсть власти — сильнее всякого запоя». (Из протокола репетиции).
«Дорогому Владимиру Ивановичу от совращенного им на погибельный путь драматургии бывшего беллетриста К. Тренева», — с такой надписью получил Владимир Иванович от Тренева его «Избранные произведения». (Музей-квартира Вл. И. Немировича-Данченко).
Март 4
Подписывает обращение советских художников к мастерам сцены всех стран: «Мы зовем вас стать на нашу сторону», («Известия»).
После общей беседы с исполнителями работает с К. Н. Еланской над ролью Катерины в «Грозе».
Март 5 – 7
Вместе с режиссерами П. А. Марковым и П. С. Саратовским репетирует первый акт «Травиаты». После общих репетиций работает с исполнителями партий Виолетты и Альфреда — М. С. Федосеевой и Н. И. Тимченко.
Март 6
Вл. И. Немирович-Данченко приветствует тт. Димитрова, Попова и Танева, приехавших в Москву, и приглашает их посетить спектакли МХАТ. «Театр рвется хотя бы в ничтожной 462 доле заплатить вам художественной радостью за те чувства, какие возбуждает в нем ваша героическая жизнь.
Директор театра — народный артист республики Вл. И. Немирович-Данченко». («Правда»).
Март (начало)
«Поздравляю с огромным успехом оперы Шостаковича, — пишет Станиславский. — Если он гений, это отрадно!» (Архив К. С.).
Март 10 – 18
На репетициях «Травиаты».
Март 17 – 19
Ведет репетиции «Грозы».
В «Советском искусстве» и «Литературной газете» опубликован отчет о встрече МХАТ с драматургами и критиками, о выступлении Вл. И. Немировича-Данченко: «Значительную часть своей речи В. И. посвящает полемике с критиками, обвиняющими МХАТ… в “непреодоленном бытовизме”». («Литературная газета» от 18 марта 1934 г.).
«Быт — это сама жизнь. Театр не имеет права выбрасывать жизненных красок из спектакля… Но это вовсе не натурализм… Художественный театр не увлекается бытом ради быта…». («Советское искусство» от 17 марта 1934 г.).
Март 23
Беседует с артистами и режиссерами МХАТ об опасности «сентиментализма» и «резонерства»: «Сентиментализм губит драматический театр уже на протяжении 50 – 60 лет. … Станиславский всегда преследовал наигранную, сентиментальную женственность». На вопрос М. М. Яншина, нет ли сентиментализма в постановке Мейерхольда «Дама с камелиями», Владимир Иванович отвечает: «Пьеса Дюма пронизана сентиментализмом: общество отвергает куртизанку Маргерит, в конце же все эти люди оказываются очень хорошими, все происшедшее объясняется недоразумением. Мейерхольд поставил “Даму с камелиями” мужественно, ибо сентиментализм не равнозначен сентиментальности300*…
463 … Отказавшись от линии художественного максимализма, мы застрянем в быту, быт не будет отточен до высокой идейности — наоборот, он может снизиться до мещанства, а простота — до скуки». (Запись В. Я. Виленкина. Архив Н-Д, № 7538).
Март (после 23)
Смотрит спектакль «Бойцы» Б. Ромашова в Малом театре: «Я с особой яркостью ощущал то, что сентиментализм начинает проникать в современный репертуар и современную публику… искусство утешающее, успокаивающее, благодушное: все, мол, в жизни благополучно, какие бы тревоги ни были». (Из стенограммы беседы с труппой МХАТ от 2 апреля 1934 г. Архив Н-Д, № 7539).
Март 31
Репетирует с М. Н. Кедровым первый акт «Врагов».
Апрель 2
Из беседы с труппой МХАТ.
«Вопрос, заданный В. К. Новиковым: Вот Вы недавно пришли к нам на репетицию “Врагов” и сразу поставили целый ряд задач почти перед всеми действующими лицами, причем совершенно другое направление дали. Что Вас заставило это сделать?
Ответ В. И. Немировича-Данченко: Одни идут от идеи, другие от жизненной картины, отдельного образа, того или иного случая. Я шел от идеи. Идея ясна и проста — враги. Вот Михаил Скроботов, которого репетирует М. И. Прудкин… это враг пролетариата… Артист должен играть так, чтобы чувствовался во всем бешеный темперамент Скроботова, он бешено несется по жизни. … Я еще Прудкину советовал два раза споткнуться, чтобы резче подчеркнуть его стремительность.
… Скроботов говорит несколько слов и умирает. Вбегает Жена. Слезы, крики, истерика. Тут же на сцене стоит убийца. Важнейшая сторона репетиции — выбрать верную задачу — отсюда идет и большая идея. Часто мы схватываем мелкие задачи, а более глубокие, важные для идеологии пьесы, упускаем». (Из стенограммы беседы. Архив Н-Д, № 7539).
Апрель 3
На репетиции «Врагов» анализирует характеры действующих лиц.
Приходит на репетицию «Грозы». Не удовлетворен тем, как исполняется монолог Катерины «Отчего люди не летают?» Хвалит Б. Г. Добронравова: «Тихон — замечателен.
464 Его несколько скупых жестов схвачены верно». (Из протокола репетиции).
Апрель 4, 5
Работает над первым актом «Травиаты».
Апрель 7 – 11
Ведет репетиции «Грозы».
Апрель 12
Запись в дневнике Леонидова: «Вчера наконец у нас на “Булычове” Горький. Накануне у него Немирович-Данченко. О чем разговор, не знаю». (Л. М. Леонидов, Воспоминания, статьи, беседы, переписка, записные книжки, стр. 404).
Апрель (до 13)
Пишет статью для журнала «Рабис» о засорении и вульгаризации языка в современной литературе и театре. (Черновик. Архив Н-Д, № 7328; см. «Рабис», 1934, № 4).
Апрель 13
В Музыкальном театре проводит совещание с композиторами Д. Шостаковичем, В. Шебалиным, А. Александровым, Б. Шехтером. Говорит о путях создания советской оперы, о том, что в ней должна быть «композиция большой музыкальной формы… Какая это будет опера… будет ли это реальная драма, как, например, “Катерина Измайлова”… могут быть и большие ораторные произведения, которые требуют больших хоров, статических дуэтов, трио, ансамблей, как будто уже невозможных в реальной опере. … Может быть, возможен был бы и такой эксперимент. Меня сейчас Малый театр просит поставить “Медею” Еврипида с В. Н. Пашенной. Музыкальный театр решил, что было бы лучше написать для этой трагедии музыку, хоры и создать представление, в котором великолепные драматические актеры выступили бы в роли Медеи и Язона…
Необходимо, чтобы композиторы приходили к нам в театр, как в родной дом». (Из стенограммы совещания. Архив Н-Д, № 7591).
Апрель 21 – 23
Ведет репетицию четвертого акта «Грозы».
Апрель 22
Из беседы Немировича-Данченко с участниками массовых сцен «Грозы»: «Относительно атмосферы четвертого акта… ничего не надо играть. Надо найти в себе какую-то тупость. Мозги не двигаются. Наевшись до отвала, они выспались хорошенько, нарядились и пошли гулять. … Ищите 465 в себе, идите от себя. Всегда, что найдено от себя, бывает просто и хорошо. Идя от себя… вы найдете индивидуальное в образе, не заслоненное общетеатральным»301*. (Из записей помощника режиссера В. В. Глебова. Музей МХАТ).
Апрель 30
Вечером смотрит спектакль «Карменсита и солдат». Уточняет задачи оркестра, задачи всего ансамбля. Просит хор передавать большую жизнерадостность, страстность, упоенность, наслаждение, с которыми хор следит за событиями. (Тогда не будет впечатления мрачности, обреченности). Напоминает, что в финале третьего акта «Хозе не встает, а только глазами заставляет Карменситу пятиться назад, а в четвертом, после того как Хозе убивает Кармен, исполнитель роли Хозе М. Кутырин должен медленнее опускать тело Кармен на землю.
В связи с переменой светового оформления, увеличением аппаратуры, преобладанием желтого цвета, который съедает краски грима, Владимир Иванович дает задание художнику и гримерному цеху найти новые тона красок грима». (Из дневника спектаклей. Музей Музыкального театра).
Май 1
Из статьи Вл. И. Немировича-Данченко «Освобожденное творчество»: «Революция внедрилась в театр вширь и вглубь. Нигде в мире театр не является, как у нас, большим государственным делом. Когда я говорю за границей о нашем театре, мне или не верят, или завидуют». («Известия»).
Май 2
Смотрит спектакль «Страх» и советует исполнителю роли Боброва не брать на руки пионерку Наташу… «Это еще остатки от сентиментально трактованной раньше сцены». (Черновой набросок. Архив Н-Д, № 62).
Малый театр приглашает Владимира Ивановича для постановки, предоставляя право выбора пьесы302*.
Май 4
Советует М. М. Тарханову, играя Дикого, не говорить на «о», так как это чрезвычайно избито. (См. записи В. В. Глебова. Музей МХАТ).
466 Май 17
В «Советском искусстве» опубликована статья Немировича-Данченко «Вопреки театральной традиции. “Гроза” в МХАТ имени Горького»: «Революционный дух, заложенный в этой драме, настолько силен, что если идти от авторского текста… то обнаружится такое огромное революционное содержание, которое не будет нуждаться ни в каком тенденциозном истолковании».
Май 25
Просматривает второй и пятый акты «Грозы», упрекает А. П. Зуеву в том, что она «играет» образ Феклуши, повторяя уже сыгранное ею в других ролях: «… ищите и Вы сможете создать новый образ». О. Н. Андровскую просит в интонациях Варвары идти от себя, но сохраняя логические ударения Островского. Подробно останавливается на финальном монологе Катерины, разбивает его на куски. Репетирует сцену прощального свидания Бориса я Катерины. (Из записей В. В. Глебова. Музей МХАТ).
Май 26
Работает с К. Н. Еланской и С. Г. Яровым над сценами Катерины и Бориса в «Грозе».
Июнь 1
Вместе с П. А. Марковым, Б. А. Мордвиновым, П. С. Саратовским репетирует «Травиату».
Июнь 11
В. Г. Сахновский в статье «История двух спектаклей» пишет: «Я бы сказал, что Владимир Иванович до педантичности требователен к тому, чтобы не только не вставляли своих слов, но и чтобы порядок слов был тот в репликах актеров, каков он в тексте автора. … Неясности словопроизнесения, просыпание слов, дикционная мазня уничтожают возможность услышать и понять мысль автора, понять и оценить язык автора». («Советское искусство»).
Июнь 13
Просматривает костюмы для первого акта «Грозы».
Июнь 19
Из статьи Немировича-Данченко в «Правде» «Простота героических чувств»: «Героическая эпопея челюскинцев должна не только произвести огромное впечатление на театр, на актеров и режиссеров, — она должна быть ими глубоко продумана.
У нас до сих пор и актеры и постановщики, представляя героев, становятся на ходули. До сих пор исполнители не 467 только всех Раулей, Марселей (“Гугеноты”), Дон Карлосов, маркизов Поза, героев Гюго, но даже героев простого русского репертуара всегда стремятся к созданию каких-то непростых человеческих фигур. В жесте, в интонации, в мимике — во всем они ищут таких внешних исключительных красок и черт, благодаря которым самое геройство кажется надуманным.
И вот пример челюскинцев показывает, что героями могут быть люди самые простые…
Театры и, в частности, актеры должны подумать над тем, каким огромным внутренним огнем, какой стойкостью, какой преданностью своему народу должны обладать люди, чтобы быть подлинными героями в самых простых бытовых проявлениях, и каким пафосом необычайной простоты должен обладать актер, стремясь к созданию такого героического образа.
… простота вовсе не означает приниженности чувств и задач…». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 50).
Июнь 21
Выезжает в Берлин и Карловы В ары.
Июнь 30
«“Грозу” оставил почти совсем готовой по актерской линии. И совсем не готовой по постановочной. Все эскизы утверждены и почти закончены, но на сцене был готов только первый акт.
… “Враги” в самом зачаточном виде. У бедного Кедрова не было ни одной репетиции с полным составом, все время болели. Кроме того, он до сих пор не столковался с художником. Мне даже надоело уже сводить его с Юоном. Договориться они не могут303*. … “Чудесный сплав” Киршона успех имеет громадный. … Это — чистейший водевиль с серьезной темой. Иногда переходит в чистейший фарс. … Исполняется у нас отлично — молодо, весело, очень просто и искренно. Все исполнители имеют большой успех… Грибов играет с особенным мастерством и художественностью, — самой настоящей, высокой марки. Для молодых актеров это великолепная школа — чувствовать положение и подавать слова, не изменяя простоте и задачам.
… На будущий год ждем пьесу от Бабеля, от Афиногенова — он уже читал мне в черновике…
… С чеховским репертуаром нельзя откладывать. Вахтанговцы поставят “Чайку”, Симонов уже репетирует “Вишневый сад”. И там и там, конечно, “разобьют на эпизоды” и 468 вообще осовременят. Мы обязаны иметь классическое исполнение пьес Чехова; наиболее совершенное в наших возможностях и в нашем искусстве. Тогда пусть рвут на клочья! Но когда на нашей сцене Чехов отсутствует совсем, — им как бы дается carte blanche304* делать с ним что они хотят. Такое инертное отношение нам могут не простить. Мы обязаны противопоставить своего Чехова». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1810).
Август 12
«Мы уезжаем из Берлина 17-го, будем в Москве от поезда до поезда (19-го) полным инкогнито. 21-го рассчитываем быть в Ялте. В Москву не раньше первых чисел октября. … сказать Сейлеру, что меня нет в Москве именно потому, что я хочу в октябре послать ему конец книги»305*. (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 472).
Август 26
Из Ялты пишет Станиславскому: «… К 75-летию Чехова совершенно обязательно что-нибудь сделать. … Лучше всего, разумеется, “Чайка”, как самая тонкая, самая грациозная, самая молодо-искренне-лирическая. Дальнейшее, т. е. “Три сестры” и “Вишневый сад”, уже больше произведения мастерства, чем непосредственной лирики. Не поставить нам “Чайку” — какой-то грех. Т. е. грех отдать ее другим театрам на новое сценическое искусство — раздирания на клочья, — не испробовав самим применить к ней все то совершенное, чего мы достигли в искусстве за 36 лет, — применить к ней самые вершины и глубины наших достижений.
… У меря лично такие чувства:
“Чайку” я могу воспринимать совсем заново. Приблизиться так, как будто я никогда не участвовал в ее постановке…». (Избранные письма, стр. 394 – 395).
Сентябрь 11
В письме Станиславского к Немировичу-Данченко: «О Кедрове я высокого мнения — он подлинный художник и твердый человек». (Архив К. С.).
Сентябрь 20
Немирович-Данченко пишет Станиславскому: «Признаюсь, у меня на Ваше возвращение были другие расчеты… В моем понимании наша мудрость должна заключаться в умении заставить людей работать так, как надо для 469 дела. Для нас ценны и те и другие, и у тех и у других имеются достоинства и недостатки. … “Не могут ужиться друг с другом” — непристойная для серьезных людей, любящих дело, отговорка. Я считал нашей трудной и неэффектной обязанностью требовать такого отношения к делу, где каждый работник уважал бы труд другого и без чванства боролся бы со своими собственными недостатками. Ради дела». (Архив Н-Д, № 1815).
Сентябрь (после 20)
Получает извещение, подписанное А. М. Горьким, о том, что он избирается членом Пушкинского комитета при ЦИК Союза ССР в связи с приближающимся 100-летием со дня смерти поэта. (Музей МХАТ).
Сентябрь 26
«Телеграфируйте адрес Афиногенова. “Портрет” в настоящем виде репетировать нельзя. Требуется серьезная художественная чистка. Думаю, что и вообще пьеса не для основной сцены. Роли распределены поверхностно, без глубокого замысла». (Телеграмма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 477).
Октябрь 2
Получает телеграмму из Наркомпроса, в которой сообщается, что по решению ЦК ВКП (б) он введен в состав советской делегации на международный театральный конгресс в Риме. (Архив Н-Д, № 3369).
Отказывается от поездки на конгресс: «К величайшем) сожалению физически не могу: 6 ночей в вагоне туда и 4 назад!!. Я послал в форме привета конгрессу короткий доклад по-французски». (Из письма к Бокшанской от 3 октября 1934 г. Архив Н-Д, № 480).
Октябрь 3
В письме к Бокшанской: «О “Портрете”. Афиногенов был у меня проездом из Одессы в Сочи во время остановки парохода. По художественной части мы договорились. Но вот… когда он уже уехал… я прочел в “Советском искусстве” о чтении им пьесы в МХАТ 2… Но я категорически протестовал против этого. Говорил и Афиногенову и Киршону. Не хочу я работать, если рядом торопятся обогнать, причем сам автор или автор и художник (“Катерина Измайлова”). … И считаю вообще такое положение для Художественного театра оскорбительным. Если автор не желает открыто предпочесть наш театр другому, — пусть и отдает ему». (Там же).
470 Октябрь 5
В письме А. Н. Афиногенова о пьесе «Портрет»: «Над пьесой думаю… Многое, очень многое из Ваших беглых наметок карандашом принял к исполнению и руководству… Не совсем пока принимаю — мать, ее измененную роль, разве только пройтись кое-где, как ретушью… но изменять образ?.. Не знаю… Потому, что упор пьесы — на то, что в этой новой семье — и отношения новые, без надрыва и угрызений совести… И Михаил не может быть таким старым… Но что безусловно правильно у Вас — это указание на язык Михаила… Здесь я нашел для себя благодарный материал для перемен в строении фраз, мыслей, без изменения сцен и каркаса актов… Готов на всякие уступки, лишь бы осуществить пьесу под Вашим руководством»306*. (Архив Н-Д, № 3133/1).
Октябрь 10
А. О. Степанова спрашивает: оставил ли Владимир Иванович мысль о постановке «Ромео и Джульетты» или отложил ее. (Из письма Бокшанской. Архив Н-Д, № 3369).
Октябрь 12
В письме к Афиногенову Владимир Иванович возражает против того, чтобы «Портрет» одновременно ставился в другом театре: «Остаюсь глубочайшим противником этого параллелизма. Вы приводите примеры: “Булычов”. — Но вот именно после “Булычова” я начал особенно упорствовать на своем отрицании. “Враги”. — Но если бы Вы знали, с какой отчаянной неохотой занимаются актеры, — опять-таки потому, что пьеса только что сыграна307*. “Любовь Яровая”, — все потому же еще неизвестно, пойдет ли. Пример “Грозы”, разумеется, не подходящ — это классика. Совсем иные задачи остановки, чем для новой пьесы. Да и то я вот задумываюсь — над “Ромео”, ставить ли, раз в другом театре уже год работают.
Почему я против параллелизма? Потому, во-первых, что нас всегда обгонят. А обгонят не потому, что мы ленивее, а потому, что мы видим дальше и больше, чем они, и ставим задачи глубже, чем они, — и авторские и актерские. А так как наша работа не может остаться в тайне, то они используют и те углубления, разъяснения и “оправдания”, которые будут найдены нами. Ничем Вы меня не убедите, что этого можно избегнуть. … Если бы я написал пьесу, то я искал бы возможностей показать ее в сильном монолите, сработанном 471 в спокойных условиях сосредоточенного, глубокого труда, с театральными художниками, наиболее подходящими к моей пьесе, даже без дублеров, ничем не засоряя работы — ни “темпами”, ни так называемыми “соревнованиями”, ни моей жаждой скорейшей популярности. Потом, когда пьеса прошла и укрепилась, — пусть другие театры или пользуются этим, или стараются создать лучшее…». (Архив Н-Д, № 2470).
Октябрь 16
Возвращается из Ялты в Москву.
Октябрь (до 21)
Ведет репетиции «Травиаты» в Музыкальном театре.
Октябрь 21
Вступает в репетиции «Грозы». Недоволен медлительностью, тягучестью исполнения. (См. записи В. В. Глебова. Музей МХАТ).
Октябрь 22
Из беседы с исполнителями «Грозы»: «То, о чем мы мечтали, уже сейчас доходит… Две стихии — Катерины и Кабанихи. Что Кабаниха “грозная” — это доходит. Очень выразительны у Вас308* глаза. Кабаниха ненавидит Катерину до слез. У меня мечта из Кабанихи сделать монумент, пропитанный жизнью… В глазах Катерины может быть и радость и смерть и сияние, но просто бодрость — это не в ее плане». (Там же).
Октябрь 23
Делает замечания по репетиции третьего акта «Грозы», упрекает Тарханова в том, что его Дикой не страшный, а добродушно-пьяненький; «Катерина слишком много целует Бориса… что вообще не в ее психологии. Там дальше у нее фраза: “Мне умереть захотелось”, какой же тут угар в поцелуях. Разглядывание Бориса в начале сцены было великолепно. До того, как бросается на шею, никаких поцелуев не должно быть. Да и кидается на шею, может быть, без поцелуев, а с самочувствием: “Вот здесь бы умереть”. После этого опять рассматривает его. Он еще далек ей. Она гораздо глубже по натуре своей. Постепенно идет приближение к нему. Все ближе, ближе рассматривает его, впивается в него глазами. А от этого и придет состояние “делай со мной, что хочешь”». (Там же).
Предполагает сократить в «Грозе» первую картину 472 третьего действия: «После того как показано “темное царство” в финале второго действия, нужно либо давать простор, либо такую темноту и мрачность, которая была бы еще сильнее, чем во втором акте». (Из протокола репетиции).
Октябрь 31
Просит художника И. М. Рабиновича «переписать декорации четвертого акта в стиле реальных декораций первых трех действий: и камни и арки настолько аккуратны, с прямыми линиями, что это сразу дает впечатление фальши». (Из записей В. В. Глебова. Музей МХАТ).
Ноябрь 1, 2
Репетирует «Грозу». «После спектакля молодой зритель должен подумать: “что делали со свободным духом!”… Придя за кулисы я сразу должен понять по вашему состоянию, что вы сегодня играете — трагедию, драму или водевиль». (Там же).
Ноябрь 4
Репетирует четвертый акт «Грозы». Хочет, чтобы «все сцены шли на народе», на гулянии. Определяет отношение толпы ко всем событиям, к Катерине, Дикому, Кабанихе, к сквозному действию пьесы. Выверяет линию поведения Катерины и Бориса в четвертом акте. (Там же).
Ноябрь 5
Ведет репетицию «Травиаты».
Ноябрь 6
Из беседы с А. Корнейчуком о постановке «Платона Кречета» в МХАТ: «Уже первые встречи с В. И. Немировичем-Данченко дали мне не только много радости, но и обогатили творчески. Никогда не забуду ту теплоту, с которой меня встретили руководящие работники театра». («Литературная газета»).
Из воспоминаний А. Корнейчука о первой встрече с В. И. Немировичем-Данченко: «Пришел к нему. Он увидел, что я очень взволнован. Успокоил меня… — Читайте. Я сказал: “Это на украинском”. — Я пойму. Я же Данченко. … Когда я прочел, он сказал: “Художественный театр будет ставить Вашу пьесу”»309*. («Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 110).
473 Ноябрь 9
Работает над четвертым актом «Грозы», делает указания исполнителям народной сцены. О Кабанихе и Тихоне говорит: «… у Кабанихи — в финале: “Вот воля-то куда ведет…” такое торжество, такое отвратительное злорадство, что этим злорадством она захлестнула весь финал. У Тихона — очень сложное внутреннее состояние. Что он стоит около Катерины — этого мало. Ему и обидно и ее жалко. Как увидел это лицо маменьки… захотелось защитить Катерину от матери». (Из записей В. В. Глебова. Музей МХАТ).
Ноябрь 11
Просматривает репетицию пятого акта «Грозы», критикует «затяжной» ритм акта. Говорит Добронравову: «… у Вас все великолепно, только краски расположены не по-трагедийному… Надо взбудоражиться, разметаться вовсю, а не проезжаться на своих полутончиках, и конец — не на покое, а на колоссальном драматическом взрыве. Как трагедии Шекспира кончаются…». (Там же).
Ноябрь 13
Работает над пятым актом «Грозы»: «Пусть Борис первую фразу говорит в темноте, а свет дать тогда, когда они увидели друг друга. … Фраза Катерины — “Вот мне теперь гораздо легче сделалось” — у Вас получается… “теперь я могу жить”. Этой фразой Вы возвращаетесь к жизни, а должно быть наоборот и смысл ее — “могу теперь умереть”. Отсюда и начинается смерть.
… Только после слов “Тяжело тебе, Катя” они впервые отрываются друг от друга. Отсюда и начинается самая драма… здесь начинается прощание. Близкие, теплые интонации жизни начинают исчезать и появляется большой холод. Внутренне спокойней, огромней… тоски уже нет, а что-то могильное… умру. Здесь в ней уже перемена. Катерина уже не та, что была в начале сцены. У нее в глазах уже не слезы… а смерть.
… Пафос Кулигина, исступление Кабанихи и страдание Тихона — вот финал». (Там же).
Ноябрь 17
Репетирует четвертый акт «Грозы». Останавливается на сцене обывателей с Кулигиным: «Как стая волков, способны в любой момент разорвать его…». (Там же).
Ноябрь 19
Пишет статью для сборника «Москва социалистическая». «В Европе или Америке театр — только одно из звеньев бесконечной цепи балов, кутежей, фешенебельных клубов, роскошных гостиных и т. п. У нас же театр занимает первейшее, 474 глубоко значительное место в духовных развлечениях народа». (Черновик. Архив Н-Д, № 7331).
Ноябрь 20
У себя дома репетирует отдельные сцены «Травиаты».
Ноябрь 26
Присылает записку в театр по поводу репетиций «Грозы»: «Против купюры о Москве не спорю, так как здесь смех съезжает до зубоскальства. Поэтому же прошу Судакова, Ливанова и Андровскую подумать над куском, когда Кудряш и Варвара становятся около целующихся Катерины и Бориса. Не съезжает ли и здесь комизм до дурного фарса? Как бы они ни старались делать это осторожно». (Архив Н-Д, № 485).
Декабрь 1
Узнает, что убит С. М. Киров, который только три дня тому назад был в МХАТ.
Декабрь 2
Протестует против того, чтобы шло первое представление «Грозы»: «Актеры, взволнованные убийством С. М. Кирова, не смогут играть, зрителю будет не до спектакля». (Из беседы с участниками спектакля «Гроза» 10 января 1935 г. Запись В. В. Глебова. Музей МХАТ).
Декабрь 4
«Смерть тов. Кирова наполняет сердца гневом, ненавистью». (Из статьи Немировича-Данченко и Станиславского в «Известиях»).
Декабрь 16
В. В. Дмитриев сдает Немировичу-Данченко макеты декораций первого и третьего актов «Врагов». «Макеты приняты». (Из протокола репетиции).
Декабрь (до 25)
«В последние же дни я должен был с головой окунуться в генеральные репетиции “Травиаты”». (Из письма к Станиславскому от 27 декабря 1934 г. Архив Н-Д, № 1819).
Декабрь 25
Премьера «Травиаты» в Музыкальном театре.
«Я считаю “Травиату” большим шагом к наиболее совершенной постановке музыкальных произведений. Музыка здесь обнимает решительно все происходящее на сцене и, однако, глубоко сливается с драмой действующих лиц. Красота 475 музыки, ее динамика, все ее оттенки и все психологические движения актеров, все их внутренние человеческие задачи — как бы одно и то же. Это — лицо нашего театра». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 265).
1935
Январь 7
Владимир Иванович обсуждает с П. В. Вильямсом его макет декораций к опере «Чио-Чио-Сан».
Январь 8
Смотрит девятый спектакль «Грозы».
Январь 10
«У меня после спектакля эти полтора дня было ужасное состояние…310* Что произошло со спектаклем? Отчего у меня такое недовольство? Оттого, что самый основной замысел — не оправдан Нет борьбы за сохранение стиля. Улетучилась душа пьесы… игра все время рассчитанная на публику… Есть великолепные образы, как, например, Тихон у Добронравова, есть отдельные прекрасные куски… Все это так, но запутались с основным образом — Катериной… Давайте продолжать работу… Будем считать этот спектакль нашим больным ребенком, которому мы должны помочь избавиться от своей болезни. … Но сегодня, побеседовав с вами, я немного успокоился. Вы своим отношением к работе, к спектаклю возвратили меня в театр. У меня вся тяжесть спадает с души». (Из беседы с исполнителями «Грозы». Запись В. В. Глебова. Музей МХАТ).
Январь 11
Из письма к А. Я. Таирову: «Вы являлись моим врагом с открытым забралом. И однако, нас всегда видели вместе рука с рукой, как только Театр — через Т большое — подвергался малейшей опасности; там где на театр надвигалась пошлость, вульгаризация, снижение его достоинства». («Советское искусство»).
Январь (середина)
Уезжает в Ленинград.
Январь 26
В Ленинграде пишет статью об А. П. Чехове для «Советского искусства»: «Несмотря на каскад “новых форм”, их сущность, их живая природа исходят из все тех же источников 476 непрерывно очищаемого от штампов русского реализма». («Через 30 лет», «Советское искусство» от 29 января 1935 г.).
Февраль 15
М. Н. Кедров показывает Владимиру Ивановичу репетицию «Врагов».
Февраль 18
«Со слезами умиления читал рассказы самих колхозников-ударников о том, как они председательствовали на своем съезде, — со слезами умиления от сказочного осуществления самых горячих и выношенных в душе мечтаний». (Из статьи Вл. И. Немировича-Данченко, «Радость и гордость», «Известия»).
Февраль 22
В «Известиях» — фото: Владимир Иванович с гостями кинофестиваля — Мари Глори, Дебри и другими.
Февраль 23
Из статьи А. Кут «Встречи режиссеров с В. Немировичем-Данченко и К. Станиславским»: «— Режиссер, — говорил Владимир Иванович, — существо трехликое: он выступает, как толкователь пьесы, как “зеркало актера” и как организатор спектакля… Режиссер должен очень бережно относиться к актеру и внимательно учитывать его индивидуальные особенности. Режиссеру… приходится одновременно быть царем, рабом, слугой, нянькой и командиром». («Советское искусство»).
Февраль 26
«А. Корнейчук обладает настоящим драматургическим талантом…». («Новые постановки Художественного театра» — интервью Немировича-Данченко в «Комсомольской правде»).
Февраль
Знакомится с оперой Ж. Массне «Манон».
Март 1
Из письма к А. Н. Афиногенову: «Позволяю себе выразить при этом уверенность, что в недалеком времени произойдет новая встреча театра с Вами». (Избранные письма, стр. 397).
Март 2
Присутствует на открытии Второго пленума Союза советских писателей, слушает речь А. М. Горького.
477 Март 4
Из выступления на Втором пленуме Союза советских писателей: «Такого замечательного времени, такой замечательной обстановки для создания великолепной литературы, великолепного театра и великолепной театральной критики, как у нас, конечно, никогда не бывало, и об этом могут другие только мечтать». («Литературная газета» от 6 марта 1935 г.).
В «Вечерней Москве» — фото: В. И. Немирович-Данченко, А. Я. Таиров с А. Н. Афиногеновым и В. В. Вишневским.
Март 5
Приходит на репетицию «Травиаты», чтобы просмотреть работу В. А. Канделаки в новой роли банкира.
Март 8 – 11
Ведет репетиции «Врагов».
Март 8
Пишет Станиславскому о ближайших репертуарных планах, о распределении ролей: «Я читал, беседовал, созывал собрания и думал, думал… И вот, как основу работы на предстоящий большой отрезок времени, я выбрал три постановки: “Анну Каренину”, Пушкинский спектакль, т. е. четыре маленькие трагедии, и “Три сестры”.
… Ждем пьес от Олеши, Тренева…». (Избранные письма, стр. 397, 399).
Март 10
Станиславский благодарит за письмо, «которое так подробно выяснило мне Ваши предположения по репертуару. Я с этим Вашим предложением согласен». (Архив К. С.).
Март 11
Введен в состав Комитета по приему китайского театра Мэй Лань-фана.
Март 14
Вместе с Кедровым и актерами намечает мизансцены первого акта «Врагов».
Март 15, 16, 17, 20, 23
Репетирует «Врагов».
Март 25
Беседует с работниками искусств в Клубе мастеров искусств. (Беседа опубликована в газете «Советское искусство» от 29 марта 1935 г. под названием «О простоте в театре»).
478 Март 27
Репетирует сцену Нади с Грековым в первом акте «Врагов». Просматривает костюмы рабочих.
Март 28, 29
На репетиции «Врагов». Работает над вторым актом.
Апрель 2, 3, 4
Вместе с Кедровым репетирует второй акт «Врагов».
Апрель 5
«Репетировали все сцены 2-го акта “Врагов”, сделанные Владимиром Ивановичем, т. е. до выхода прокурора». (Из протокола репетиции).
Апрель (начало)
Встречается с композитором И. И. Дзержинским в связи с постановкой его оперы «Тихий Дон» в Музыкальном театре.
Апрель 8, 9, 11
Ведет репетиции первого и второго актов «Врагов».
Апрель 14, 17
Начинает репетировать третий акт «Врагов».
Апрель 18
Вошел в состав жюри по смотру колхозных театров.
Апрель 20
«Репетировали третий акт с выхода Якова до сцены генерала с поручиком». (Из протокола репетиции «Врагов»).
Май 4
Вместе с Кедровым репетировал финал третьего акта и сцены Захара и Полины во «Врагах».
Май 5, 9
На Большой сцене в полной обстановке репетирует первый акт «Врагов».
Май 10, 11
Просматривает костюмы Хмелева (Николай Скроботов), Тарасовой (Татьяна), Орлова (Яков Бардин) и Соколовой (Клеопатра). Репетирует первый акт «Врагов» с выхода Нади.
Май 12
В письме В. И. Качалова: «Приветствую Вас, дорогой Владимир Иванович, в сегодняшний юбилейный спектакль 479 “Воскресения”, как единственного автора этого многоавторского спектакля. Вы дали идею — большую, интереснейшую, плодотворную, этапную в жизни Театра — идею гармонического слияния чудесного толстовского эпоса с живым действием драмы, и Вы же ее осуществили». («Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. II, стр. 632).
Май 13
От имени деятелей науки и литературы СССР приветствует приехавших в Советский Союз французских журналистов и приглашает их поближе познакомиться «с новым революционным театром Советской страны». («Известия» от 14 мая 1935 г.).
Май 14
Принял участие в совещании по итогам театрального, сезона, созванном редакцией «Правды».
Май 14 – 17
Вместе с Кедровым репетирует второй акт «Врагов».
Май 19
После монтировочной репетиции первого и второго действий «Врагов» делает замечания по обстановке сцены: устанавливает грим и костюм для М. П. Болдумана — исполнителя роли Синцова; возражает против того, чтоб рабочие в спектакле выглядели «лохматыми и косматыми», и просит переделать парики. (Из протокола репетиции).
Май 20 – 27
Ведет репетиции «Врагов».
Май 23
Вместе с режиссерами П. А. Марковым, Б. А. Мордвиновым, писательницей В. М. Инбер и дирижером Г. А. Столяровым слушает музыку «Прекрасной Елены».
Июнь 1
Шлет приветствие строителям нового оперного театра в городе Горьком.
Июнь 2 – 5
Работает над третьим актом «Врагов».
Июнь 8
Смотрит на Большой сцене всю пьесу «Враги» в декорациях, гримах и костюмах, потом беседует с исполнителями.
480 Июнь 9 – 11
На репетициях «Врагов».
Июнь 19
В письме к Горькому: «После трех генеральных репетиций мы сыграли “Враги” 15-го числа, обыкновенным, рядовым спектаклем… до обычной парадной премьеры.
… Спектакль прошел с исключительно большим успехом, с великолепным подъемом и на сцене и в зале.
… Играют ярко, выразительно, в отличном темпе.
… У меня в спектакле уже образовалось много любимых мест». (Избранные письма, стр. 399 – 400).
Июнь 22
Приезжает на Казанский вокзал, чтобы проводить бригаду артистов МХАТ, уезжающих в особую краснознаменную Дальне-Восточную армию. Напутствует: «Держите выше знамя МХАТ!» («Тревога» от 2 июля 1935 г.).
В письме к бойцам и командирам говорит об «огромном чувстве благодарности, которое все мы испытываем к вам, охраняющим наше великое социалистическое строительство». («Тревога» от 29 июня 1935 г.).
Июнь 25
В ложе Большого театра в антракте спектакля «Бахчисарайский фонтан» беседует с Роменом Ролланом311*. (См. «Известия» от 26 июня 1935 г.).
Июль 23
Из Карловых Вар пишет Р. К. Таманцовой: «Найдите, где теперь Всев. Иванов и напишите ему письмо такого содержания: до меня дошли слухи, что он кончает пьесу на тему о Павле Первом. Хотя после “Блокады” мне так и не удается “сценически приобщаться” к его таланту, тем не менее я очень прошу его не пройти с новой пьесой мимо нас. Очень прошу и надеюсь». (Архив Н-Д, № 7985).
Август 20
Из Берлина пишет Сахновскому о замысле постановки «Анна Каренина»: «… И хотелось бы дать сразу, с первым же занавесом этот фон, эту атмосферу, эти освященные скипетром и церковью торжественные формы жизни… И на этом фоне или, вернее, в этой атмосфере, — … пожар страсти. Анна с Вронским, охваченные бушующим пламенем, окруженные со всех сторон, до безвыходности, золотом шитыми 481 мундирами, кавалергардским блеском, тяжелыми ризами священнослужителей, пышными туалетами полуоголенных красавиц, фарисейскими словами, лицемерными улыбками, жреческой нахмуренностью, с тайным развратом во всех углах этого импозантного строения.
… Иногда мне кажется, что все идет на драпировках — то богатейших парчовых, то синих бархатных, то красных штофных… А потом вдруг что-то от природы. Просто прекрасное панно…». (Избранные письма, стр. 402 – 403).
Август 30
В письме к Сахновскому: «Очень рад, что мои мысли пришлись Вам по душе. Это — гарантия дружной работы. Я еще более укрепляюсь в своем плане. Такой спектакль может быть действительно самостоятельным произведением театра, а не убогим сценическим воспроизведением романа…». (Там же, стр. 403 – 404).
Август
По поводу съемок кинокартины «Анна Каренина» в «Межрабпомфильме» пишет: «Думали, что работа пойдет почти одновременно и в театре и у Вас. Но это совершенно невозможно. И даже было бы вредно для обеих сторон. Театр и кино до такой степени различны и по их ближайшим рабочим задачам, и по художественным приемам, и по физическому самочувствию исполнителей, что немыслимо было бы то и дело менять атмосферу.
И, однако, в самой глубинной сущности, поскольку то и другое опирается на искусство актера, театр может оказывать кино услугу колоссальную. То есть не театр, а работа, которую я проведу там с актерами. Искания образов. “Нахождения себя” актерами в образах Толстого. Достижения высшей простоты, освобожденной от малейшего наигрыша и в то же время насыщенной социальным, психологическим и бытовым содержанием. Причем в процессе этих исканий мы все время будем перекидываться и в сторону кинематографических возможностей.
Это будет, наконец, первый опыт, о котором я мечтаю, с предложением которого я был у Вашего предшественника лет 7 назад.
… В конце концов, опять и опять, все сводится прежде всего — к работе с актерами». (Из письма к Б. З. Шумяцкому. Архив Н-Д, № 2573).
Сентябрь 9
«Астангова видел только в Ромео. Во всяком случае, нам такой актер очень нужен. Напишите, чтобы не прозевали и брали его». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 497).
482 Сентябрь 23
В «Вечерней Москве» — заметка о возвращении Вл. И. Немировича-Данченко в Москву.
Октябрь 3 – 9
Занят выпуском премьеры «Врагов».
Октябрь 9
В «Правде» и в «Известиях» напечатано обращение Немировича-Данченко «К театральным работникам», призыв к соревнованию «на лучшее обслуживание Красной Армии».
Октябрь 10
В «Правде» напечатана рецензия О. Литовского — «Спектакль социальной правды (“Враги” М. Горького в Московском Художественном театре)».
Октябрь 14
Беседует со всеми актерами, занятыми в спектакле «Враги».
Вместе с художником В. В. Дмитриевым, автором инсценировки Н. Д. Волковым и режиссером спектакля В. Г. Сахновским просматривает макет декораций к «Анне Карениной» (сцены: «Во дворце», «У Карениных», «Железная дорога»). Приходит к выводу, что «необходимо искать большую лаконичность декораций». (Из протокола репетиции).
Октябрь 16
У себя в кабинете репетирует сцены Анны и Вронского с А. К. Тарасовой и М. И. Прудкиным.
Октябрь 21
В «Красной газете» (Ленинград) — интервью Вл. И. Немировича-Данченко о гастролях Музыкального театра.
Октябрь 22
В Ленинграде занят распределением ролей в «Любови Яровой». Предполагает роль коммуниста Кошкина поручить, Б. Г. Добронравову, а для роли Ярового пригласить М. Ф. Астангова.
Октябрь 24
«Сахновский мне сказал, что у него один раз были занятия с Москвиным по “Булычову”… Главное, что он (Москвин) хочет показать, — это “не на той улице я жил”. … У него нет обреченности и безнадежности, потому что он все время верит 483 во что-то светлое, что есть и к чему он придет. В этом смысле, как говорит Сахновский, он ближе к Вашему замыслу, чем Леонидов». (Из письма Бокшанской. Архив Н-Д, № 3371/11).
Октябрь 25
В письме Вл. И. Немировича-Данченко к О. С. Бокшанской: «Я ведь с Москвиным два раза беседовал о Булычове довольно подробно. Если мне удастся помочь ему освободиться от малейшего наигрыша, быть простым до конца, то он сыграет великолепно». (Архив Н-Д, № 499).
Октябрь 28
К. С. Станиславский просит узнать, когда Владимир Иванович вернется из Ленинграда, так как хочет с ним иметь «большой разговор по всем театральным делам». (Из письма Бокшанской. Архив Н-Д, № 3371/14).
Ноябрь 7
В «Горьковце» — заметка о работе над «Врагами»: «Владимир Иванович… входил во все мелочи и от его внимания не ускользал ни один “гвоздик”. Особенно много внимания он уделял молодым актерам… От его внимания не ускользала ни одна случайная перестановка слов или даже союзов. Иногда, не имея в руках текста пьесы, Владимир Иванович останавливал репетицию и говорил актеру: “А разве у Горького так сказано?”, и не было случая, чтобы Владимир Иванович ошибся». (П. Н. Гжельский, «Верным путем»).
Из статьи М. М. Тарханова о репетициях «Врагов»: «Я удивляюсь тому, как Владимир Иванович сумел схватить ту живую нить спектакля, которая всех нас буквально захватила… Приходит такая сила, которая ведет меня к тому художественному образу, облик и черты которого вытекают из художественных и политических задач спектакля. Без особого труда я ухожу от ранее намеченного образа к более внутренне необходимому, во имя полного звучания всего ансамбля». («Победа театра», «Горьковец»).
Ноябрь 8
Приезжает из Ленинграда в Москву.
Ноябрь 9
В антракте спектакля «Гроза» обращается с приветствием к А. Стаханову, Н. Изотову и другим передовым рабочим, сидящим в зрительном зале Художественного театра: «Для меня стахановское движение определяет повышенный тонус не только физической работы и даже не только вообще усиленное 484 производство, — для меня в этом какой-то крепкий залог огромного повышения этического роста советского человека.
Я не знаю, какой человек Стаханов. Вероятно, как бы он ни был хорош, и у него [есть] недостатки, и, может быть, даже крупные недостатки. Но я всем существом чувствую, что тот энтузиазм, то горение, которое охватило этого советского работника в его специальном труде, не только не может остаться бесследным и для его личности, но все его существо наверняка выжигает все то, что могло бы бросить тень на эту личность. Я говорю, что и в нем, как и у всех стахановцев завтрашнего дня и дальнейших дней, самый этот… энтузиазм будет иметь большое влияние на рост личности… Чувствую всем существом, что человек, сознательно или несознательно создавший такое движение, не только не может быть уже плохим человеком, но иду еще дальше — уже не смеет быть плохим человеком. Тот факел, который он взял в руки и который уже освещает дальнейший путь этого движения, заставит и Стаханова и всех стахановцев быть настороже всей своей жизни вообще». (Машинопись с авторской правкой. Архив Н-Д, № 7337/1).
Ноябрь 11
Смотрит репетицию «Анны Карениной», картину «У Бетси».
Ноябрь 12
В газете «За индустриализацию» — фото: Владимир Иванович с Стахановым, Изотовым и Молостовым.
Ноябрь 15
Вместе с Сахновским репетирует «Анну Каренину» (сцены: «Падение», «У Карениных», «У Сережи»).
Ноябрь 29
Из беседы Немировича-Данченко с режиссерами периферийных театров: «Часто при “застольной” работе нет подъема. А творчество без подъема немыслимо. Можно сидеть спокойно, разговаривать об очень красивых вещах, говорить об образе, и все-таки в результате ничего не создать. Ибо для того, чтобы что-нибудь создавать, нужно, чтобы вся природа, — режиссерская или актерская — была взвинчена. Без темперамента ничего нельзя сделать… Когда зазвенит этот нерв, тогда только начинается настоящая творческая работа.
… Систему Константина Сергеевича я всецело признаю. Без нее актер, по-моему, не может сформироваться. … Может быть, самое высокое актерское искусство заключается в том, что я посылаю мысль… в наш нервный аппарат… Затрагиваются какие-то нервы, именно те самые, которые нужны. (Проф. 485 Сперанский хорошо назвал нервную организацию всего человеческого существа трофикой)». (Архив Н-Д, № 7544).
Декабрь 2
Проводит режиссерское совещание по плану спектакля и распределению ролей в «Борисе Годунове»: «Значит, устанавливаем: 1-е — по поводу историзма, — Пушкина не поправлять. Пусть за то, что он написал, он и отвечает; 2-е — это не драма черной совести, а социальная трагедия»312*. (Из протокола совещания по «Борису Годунову». Музей МХАТ).
Декабрь
«В постановке “Бориса Годунова” биться за проведение идеи. Борис хочет опираться на народ — и не может этого! Рвется к этому — всю энергию на это отдает». (Из режиссерских заметок. Архив Н-Д, № 23).
Декабрь 31
Смотрит репетицию пьесы Булгакова «Мольер».
1936
Январь 1
Горький посылает Немировичу-Данченко второй вариант пьесы «Васса Железнова». «Говорят — и пишут, — что Вами отлично разыгрываются “Враги”. Очень хочется посмотреть, но я уже двигаюсь по земле осторожно…». (М. Горький, Собр. соч., т. 30, стр. 415).
Январь 4
Приходит на репетицию пьесы Булгакова «Мольер»: «Я четыре ночи не спал, думая, — как бы не ошибиться и быть полезным». (Из протокола беседы с исполнителями).
Январь (начало)
Вводит В. Н. Попову в роль Катерины («Гроза» Островского): «Две встречи с самим Владимиром Ивановичем дали мне больше, чем месяцы рядовых репетиций», — писала В. Н. Попова. («Горьковец» от 22 марта 1936 г.).
Январь 9
Вместе с Н. М. Горчаковым репетирует первый акт пьесы «Мольер».
486 Январь 10
В письме А. М. Горького к В. В. Иванову о его пьесе «12 молодцов из табакерки»: «Отличный материал для сатирической комедии. Я думаю, что Н[емирович]-Данченко именно так и взглянет на него, а Вам против этого взгляда не протестовать бы!» (М. Горький, Собр. соч., т. 30, стр. 419).
Январь 10 – 13
Находится в Ленинграде вместе с Музыкальным театром.
Январь 14
Выступает на режиссерском совещании по постановке «Борис Годунов»: «Свет в этом спектакле должен сыграть огромную роль. Как-то так сделать — как будто вся декорация; одна и та же, но вот светом выхвачен из нее какой-то кусочек и все понятно. Никакого антракта или самый крохотный. Акт в Польше. Какая-то дверь и вдруг ничего нет, а там, где была дверь, идет битва. … Только не на кругу. 23 картины на повороте — это ужасно. Двадцать пять лет мы уже этим кругом пользуемся — одно уж это смущает.
… Как вправить актерское переживание в пушкинский стих.
… Только стих — это декламация, только переживание — это проза. Стих — это партитура. То же самое актерское чувство надо найти только в этой данной форме стиха». (Из протокола совещания. Музей МХАТ).
Январь 15
«В нашем театре все стремятся к социалистическому реализму». (Из протокола первой беседы с исполнителями «Бориса Годунова». Музей МХАТ).
Январь 16, 20, 29
Ведет репетиции пьесы М. Булгакова «Мольер».
Январь 24
В неотправленном письме к Станиславскому: «Может быть, в самом деле, нам нужно поторопиться, считаясь с нашим возрастом и силами, найти настоящий синтез наших двух различных направлений.
… Во всех репетициях, во всех работах с актерами, даже при приглашении новых актеров, считаюсь с тем, что они хорошо должны знать то, что называется системой Станиславского. Но от этого… до мастерства актера еще огромный путь. … Вы отрицаете режиссерское “показывание”… Когда мы с Вами заговорили о спектакле “Враги”, то Вы мне сказали так: “Ну, полно-те, кто же не знает, что Вы там показывали актеру каждое движение руки и ноги!” И в этом замечании чувствовалось, что Вы этим показам не придаете такой большой 487 цены, как я313*. … В конце концов, ведь и Вы и я, можно сказать, почти не меняли нашего направления с момента возникновения Художественного театра. … Но как разные темпераменты, разные индивидуальности и в то же время не склонные подчиняться, мы идем дорогами разными». (Архив Н-Д, № 1821).
Январь 28
Читает статью в «Правде» «Сумбур вместо музыки» об опере Д. Шостаковича «Катерина Измайлова».
Январь 29
В «Советском искусстве» опубликовано приветствие Ромену Роллану, подписанное К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко.
Февраль 2
Слушает чтение пьесы бр. Тур и Л. Р. Шейнина «Простое дело».
Февраль 2 – 15
Выпускает спектакль «Мольер».
Февраль 4
В письме к Горькому: «… я или взвинчиваюсь на здоровую горячую работу, или не могу взять перо в руки, чтобы написать хотя бы короткое письмо. … Мне пьеса решительно понравилась314*. Должен признаться Вам, что с работой над “Врагами” я по-новому увидал Вас как драматурга. Вы берете кусок эпохи в крепчайшей политической установке и раскрываете это не цепью внешних событий, а через характерную группу художественных портретов, расставленных, как в умной шахматной композиции. Сказал бы даже, мудрой композиции. Мудрость заключается в том, что самая острая политическая тенденция в изображаемых столкновениях характеров становится не только художественно убедительной, но и жизненно объективной, непреоборимой. Вместе с тем Ваша пьеса дает материал и ставит требования особого стиля, если можно так выразиться, — стиля высокого реализма. Реализма яркой простоты, большой правды, крупных характерных 488 черт, великолепного, строгого языка и идеи, насыщенной пафосом. Такой материал сейчас наиболее отвечает моим сценическим задачам, — разрешите сказать, — моему театральному искусству, формулой которого является синтез трех восприятий: жизненного (не “житейского”), театрального и социального. Мужественность и простота. Правда, а не правденка. Яркий темперамент. Крепкое, ясное слово». (Избранные письма, стр. 405 – 406).
Февраль 14
Встречается с композитором Б. Асафьевым, просит его написать музыку к спектаклю МХАТ «Борис Годунов».
Отмечается 15-летие Музыкального театра имени В. И. Немировича-Данченко.
Февраль 25
Вл. И. Немирович-Данченко награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Февраль 27
Из статьи В. И. Качалова о Немировиче-Данченко — «Великолепный мастер»: «Мне дорог, близок и ясен внутренний образ этого тончайшего художника — с глубоким и живым умом, этого великолепного мастера, этого непревзойденного учителя и мудрого руководителя театра». («Вечерняя Москва»).
Февраль – март
Н. П. Гаврилов лепит скульптурный портрет Вл. И. Немировича-Данченко.
Март 2
Благодарит товарищей, поздравивших его с награждением: «Благодарю за пережитые минуты». (Избранные письма, стр. 407).
Март 15
«Я хотел обратить внимание художника315*, Судакова и др. на разницу между фактическим расстоянием от рампы до линии ломов (аршин 12 – 13) и перспективным воображаемым — аршин 50. Живые фигуры на балконах и в окнах будут обнаруживать фальшь. Поэтому тем более придется дать там следы бомбардировки, заколотить окна, сорвать повисший барьер балкона и т. д. Чтоб оправдать отсутствие людей». (Записка к Бокшанской. Архив Н-Д, № 508).
489 Март 16
«Как радостно и свободно дышится здесь теперь всем деятелям искусств, братски объединенным великой идеей строительства социализма». (Из приветствия участникам Декады: украинского искусства в Москве. Избранные письма, стр. 407).
Март 18
Дома ведет репетицию оперы «Тихий Дон».
Март 24
«Мог ли минуту думать, что актерам нельзя высказываться [в печати] о своем театре. Вопрос этики начинается с того, как это делают. … Только вдумчивость, глубина и добросовестность обязательны для всякого выступающего открыто, но для своего имеются еще какие-то особо подчеркнутые обязательства, или особое чувство порядочности. Вот, я думал, об этом-то и поговорили бы между собой в труппе. … Раньше, когда я был свободнее, я такие вопросы поднимал. И это очень поддерживало в труппе необходимость строгой морали…». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 515).
Март 27
В присутствии К. Тренева смотрит репетицию «Любови Яровой».
Март 28 – 29
Беседует с режиссерами и исполнителями «Любови Яровой».
Март 31
Дома вечером репетирует вторую картину «Тихого Дона».
Апрель 2 – 4
Вместе с И. Я. Судаковым и И. М. Раевским репетирует «Любовь Яровую».
Апрель 7
Репетирует оперу «Тихий Дон»: дуэт Наташи и Григория и сцену Аксиньи и Митьки.
Апрель 8, 9
Работает над сценой Любови Яровой и Ярового.
Апрель 9
Пишет приветствие X съезду Ленинского комсомола: «Вы создадите молодую мудрость». («Горьковец» от 11 апреля 1936 г.).
490 Апрель 10
Репетирует «Любовь Яровую».
Апрель 13, 14
На репетиции оперы «Тихий Дон» устанавливает новые мизансцены.
Апрель 15, 16
Репетирует «Анну Каренину».
Апрель 17
После общей репетиции первого действия «Анны Карениной» работает с Н. П. Хмелевым над ролью Каренина.
Апрель 18
Репетирует шестую картину «Тихого Дона».
Апрель 20 – 22
Репетирует с Тарасовой, Прудкиным и Хмелевым «Анну Каренину».
Апрель 23 – 26
На репетициях оперы «Тихий Дон» в Музыкальном театре.
Апрель 27 – 29
Репетирует сцены первого и третьего актов «Любови Яровой» с Еланской, Добронравовым и другими исполнителями316*.
Май 3
Репетирует четвертое действие «Любови Яровой»317*.
Май 4, 5
Ведет репетиции «Тихого Дона».
Май 8
На репетиции «Тихого Дона» работает с оркестром.
491 Май 9, 13
Ведет репетиции пятой картины «Тихого Дона»318*.
Май 14
Просматривает репетицию отдельных картин «Бориса Годунова», поставленных С. Э. Радловым и Н. Н. Литовцевой. «Пока это отличное чтение стихов, часто горячее, но без ярких характеров, образов; это старый театр, который играл все “вообще”». (Из протокола репетиции).
Май 15
Работает с Качаловым над монологом Годунова «Достиг я высшей власти».
Май 17
Репетирует сцену Бориса и Шуйского в «Борисе Годунове». Определяет сквозное действие Шуйского: «“Хочу быть царем”. Для того, чтобы стать царем — давай мутить народ!» (Из протокола репетиции).
Май 21
Перед премьерой оперы «Тихий Дон» напоминает артистам труппы, работникам сцены, артистам оркестра о значении этого советского оперного спектакля.
Май 24
Репетирует «Любовь Яровую».
Май 25 – 31
Ведет репетиции оперы «Тихий Дон».
Май 25
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца выступает с приветственной речью, обращенной к артистам Казахстана, гастролирующим в Москве. («Известия» от 26 мая 1936 г.; «Советское искусство» от 29 мая 1936 г.).
492 Май 31
Премьера оперы И. И. Дзержинского «Тихий Дон» в Музыкальном театре имени Немировича-Данченко. Среди зрителей — автор романа «Тихий Дон» Михаил Шолохов.
Июнь (начало)
После премьеры продолжает работу над отдельными картинами «Тихого Дона».
Июнь 5
Из статьи «М. Шолохов об опере “Тихий Дон”»: «Наиболее сильное впечатление на меня произвели… сцена с сумасшедшим в третьем акте и финальная сцена этого же действия — отъезд казаков на крышах вагонов на родину. … Заключительная сцена третьего акта разработана с большим режиссерским мастерством». («Советское искусство»).
Июнь 18
Смерть А. М. Горького.
Июнь 19
Из статьи Немировича-Данченко «Театр горьковского мироощущения»: «Пишу под первым впечатлением потрясающего известия. Надо ли говорить, каким ударом является оно для всего коллектива Художественного театра?
… Тридцать четыре года прошло со времени первого представления “На дне”. Это было нечто взрывчато-блестящее, без всякого преувеличения — небывалое на русской сцене слияние сверкающей художественной радости с политическим пророчеством, насыщенным непоколебимой верой в грядущее освобождение.
… Появление Алексея Максимовича у нас было для Художественного театра и большой, политической встряской». («Правда»).
Июнь 20
«Как ни подготовляли нас бюллетени, все же известие о кончине Алексея Максимовича потрясло неожиданностью. … Художественный театр потерял в Алексее Максимовиче блестящего друга своей блестящей молодости, друга, который пришел к нам как громадный художник и в то же время в мироощущении театра произвел настоящую политическую революцию». (В. И. Немирович-Данченко, «Мы потеряли ближайшего друга», «Горьковская коммуна»).
493 Июль 8
Получил оттиск книги319*. «… А тут еще пришли гранки американского издания… В конце концов в Берлине все 8 – 9 дней пришлось усиленно и спешно работать.
… Роман Вирты прочел320*. Очень хороший. Однако не представляю себе пьесы из этого романа. Надо писать совсем заново все. Кроме того, боюсь, что при всей силе и глубине, с какими можно сделать на этот сюжет пьесу, спектакль окажется тяжело-мрачным, без облегчающего вздоха при финале». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 519).
Июль 11
Интересуется, как использован материал романа Вирты «Одиночество» композитором Т. Хренниковым и драматургом А. Файко. «Самый опасный момент — финал. В романе он хорош, а театр требует в финале сильного вздоха облегчения, — здесь его нет и нет». (Из письма к Е. Е. Лигской. Избранные письма, стр. 410).
Июль 19
«Да, то, что у нас начали играть не пьесу, а свои роли, — большая беда. Это ведет прямехонько к развалу театра, к такому положению, когда актеры порознь будут нравиться, будут любимы, а спектакль в целом будет оставлять холодным. Это — Малый театр перед приходом Художественного». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 521).
Июль 22
«Относительно статьи Судакова. Так сказать, патетическую линию постановки [“Любовь Яровая”] он передает хорошо. Немного франтит подъемными фразами, хорошо бы проще, яркие слова не всегда выражают силу, — но в общем хорошо по этой части. Что касается других линий постановки, то Судаков делает ошибку, которую никак нельзя оставить. Он рассказывает не пьесу Тренева. А играть-то будем как ни как пьесу Тренева. Углубленную, кое от чего очищенную, но все же написанную писателем с сильным сатирическим уклоном. Судаков увлекся данной мною романтической линией Любови и ее мужа, хорошо ее схватил, но в пересказе пьесы рисует в тех же тонах и всех других персонажей. Не в том тоне ведет рассказ, в каком будет идти пьеса. Не схватывает общего стиля. Я уверен, что на деле, на репетициях, он этой ошибки не делает, а статья неправильно отражает основной тон треневской индивидуальности». (Из письма к В. Г. Сахновскому. Архив Н-Д, № 2641).
494 Август 23
В письме Татьяны Павловой из Италии: «Дорогой Maestro, горячо любимый Владимир Иванович, вот пишу Вам, а Вы уже совсем близки к отъезду в Россию — как бы и мне хорошо с Вами туда; … здесь все и всё Вас помнит и мечтает о Вас — и я на каждом шагу говорю: Владимир Иванович так сказал бы… и когда работаю, стараюсь думать — как бы Владимир Иванович это подсказал. … Как помню “Вишневый сад” — как люблю это прошлое…» (Архив Н-Д, № 5276).
Сентябрь 6
Вл. И. Немировичу-Данченко присваивается звание народного артиста СССР.
Сентябрь 8
Из Берлина (по телефону) Немирович-Данченко шлет благодарность за награждение: «Важнейшей проблемой театра я считаю слияние высших задач искусства с лучшими социальными идеями человечества. … Глубоко ценю признание всесоюзного значения за трудом всей моей жизни». («Известия» от 9 сентября 1936 г.).
Сентябрь 11
Среди других поздравлений получает поздравительную телеграмму от Казахского госдрамтеатра.
Сентябрь 16
Колхозники поздравляют Немировича-Данченко с наградой. (Газета «Колхозная правда»).
Сентябрь 19
Получает телеграмму о смерти своего брата Василия.
Сентябрь 20
«Я уверен, что долгие, долгие годы я буду впитывать в свою еще не совсем зрелую актерскую душу то могучее, что возвышает Вас над всеми, что скрыто в Вашем гении…» (Из письма Н. П. Хмелева. «Ежегодник МХТ» за 1945 г., т. II, стр. 337).
Сентябрь 26 – 29
Проводит четыре репетиции «Любови Яровой». Беседует с художником Н. П. Акимовым о декорациях первого акта.
Сентябрь 29
В связи с 20-летием литературной деятельности Всеволода Иванова пишет ему: «Сердечно поздравляю Вас, великолепного художника, зорко видящего пошлость за красивой звонкой 495 фразой и крепко верящего в торжество социалистической идеи. Меня всегда волнует чистота и честность Вашего творчества, в котором нет места сентиментальности. — Таким я Вас знаю, таким люблю и ценю Вас». (Избранные письма, стр. 411).
Октябрь 1
Тренер просит принять новый финал четвертого и пятого актов «Любови Яровой» и новый вариант сцены Яровой с Малининым. (См. письмо К. А. Тренева. «Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 420).
Октябрь 2 – 31
Проводит девятнадцать репетиций «Любови Яровой».
Октябрь 9
Не удовлетворен репетицией «Любови Яровой». Дома работает с С. В. Халютиной над ролью Горностаевой.
Октябрь 17
На репетиции «Любови Яровой» ищет финал второго действия. Вводит новые эпизодические роли.
Октябрь 20
Репетирует с Б. Н. Ливановым сцену Шванди, потом беседует с Н. П. Акимовым о декорациях первого и третьего действий «Любови Яровой».
Октябрь 21
«Разрабатывает офицерскую сцену, которой начинается третье действие “Любови Яровой”». (Из протокола репетиции).
Октябрь 22
Репетирует третье действие «Любови Яровой».
Октябрь 26
Работает над сценами Пановой и Любови Яровой.
Октябрь 27
Меняет планировку третьего действия «Любови Яровой».
Октябрь
Т. Н. Хренников приносит отдельные музыкальные отрывки будущей оперы «В бурю».
Встречается с Д. Д. Шостаковичем и Вс. Ивановым для переговоров о создании новой советской оперы.
496 Ноябрь 1
«После трех моих встреч с Вл. И. Немировичем-Данченко, — рассказывает Н. Вирта, — я решил написать пьесу на тему своего романа “Одиночество”. Эти беседы настолько меня воодушевили, что в течение двух дней я написал первый акт». («Вечерняя Москва»).
Ноябрь 2
Просматривает макет декораций художника Рабиновича к «Борису Годунову».
Ноябрь 2 – 29
Проводит пятнадцать репетиций «Любови Яровой».
Ноябрь 13
В «Красной газете» (Ленинград) напечатано интервью Немировича-Данченко: «Исключительное внимание партии и правительства к народному творчеству дает прекрасные результаты… Вот теперь в театре народного творчества выступают донские и кубанские казачьи хоры. Старик казак запевает песню: какими-то мелкими нотками передает изумительную, своеобразную напевность народного стиха. Такие песни я слышал в детстве на Кавказе, у старого персидского кладбища. Ни один оперный певец — разве только Мазини в арии Надира — не доходит до этого умения. А ведь, например, песня индийского гостя в “Садко” так и должна исполняться, как сказ, а не как ария. Через народное искусство в оперу должно прийти большое настоящее мастерство».
Ноябрь 17
На репетиции «Любови Яровой» говорит, что у А. И. Чебана в роли коммуниста Кошкина «особенно хороши глаза и улыбка». Просматривает и одобряет его грим и костюм. (Из протокола репетиции).
Ноябрь 27
Репетирует четвертое действие «Любови Яровой» со сцены Шванди и Кошкина, потом пробует разные варианты планировки.
Ноябрь 29
В своем кабинете вместе с И. Я. Судаковым и И. М. Раевским работает с исполнителями «Любови Яровой» (О. Н. Андровской, К. Н. Еланской, Б. Г. Добронравовым, Б. Я. Петкером и В. А. Поповым).
Декабрь 1
Беседует с молодежью МХАТ: «Все то, что я говорю, недалеко 497 от того, что думал К. С. Станиславский, когда посылал телеграмму на юбилей вахтанговцев: “Изучайте организм человека”. Я не знаю работ Константина Сергеевича последних лет… У него физические задачи или физическое самочувствие играют громадную роль. Когда мною употребляется слово “физический”, а в телеграмме “изучайте организм человека”, то я думаю, что это все вертится в той же области. Только у нас разные подходы». (Из стенограммы. Архив Н-Д, № 7558/2).
Декабрь 2 – 27
Весь декабрь почти каждый день напряженно работает над спектаклем «Любовь Яровая».
Декабрь 27
Из статьи Немировича-Данченко «Любовь Яровая»: «Зерно пьесы и ее бытовой фон — революция. … Сквозное действие… торжество революции. Конкретно — это торжество Кошкина, который, не теряя большевистского самообладания, должен отступить, отступая — подготовить новое наступление, и в результате торжествует победу. … Романтическая прелесть пьесы заключается в том, как эта замечательная женщина… способная ощутить в себе огромную любовь, так исстрадавши ее, заражается огромной ненавистью к прежде дорогому человеку на почве политической розни». («Горьковец»). (В этот же день статья была опубликована в «Вечерней Москве»).
Декабрь 29
Руководители партии и правительства смотрят спектакль «Любовь Яровая». («Известия» от 31 декабря 1936 г.).
498 1937 – 1941
Режиссура «Анны Карениной». Речь на заседании Президиума
ЦИК СССР. «Социалистический реализм… путь — единственно настоящий,
правильный». Юбилейный год Художественного театра. Режиссура «Горя от ума».
Постановка «Половчанских садов». Репетиция оперы Т. Хренникова «В бурю».
Воплощение образа Ленина на оперной сцене. «Три сестры» Чехова, Замысел «Гамлета».
Председатель Комитета по Государственным премиям. Режиссура «Кремлевских
курантов».
1937
Январь 2
Встречается с композитором Хренниковым, чтобы прослушать третью картину его оперы «В бурю».
Январь 6
В письме к Немировичу-Данченко Тренев указывает на отдельные недостатки спектакля «Любовь Яровая». (См. «Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 421).
Январь 7
В «Правде» напечатаны заметки Немировича-Данченко о Декаде грузинского искусства.
Январь 11
В «Советском искусстве» вышла статья Немировича-Данченко «Сцена и жизнь» (к 50-летию сценической деятельности А. А. Яблочкиной).
Тренев пишет в «Горьковце»: «Самое сильное впечатление произвела на меня работа Вл. И. Немировича-Данченко с актерами. Работа его над толкованием образа часто поражала меня, помимо необычайной глубины, таким изумительным раскрытием замыслов автора, подобного которому я не только не встречал, но часто и не ожидал… Поднятые театром на большую высоту образы “Любови Яровой” овеяны у него горячим дыханием революции».
499 Январь 12
«Вчера поздно вечером позвонила сюда А. А. Яблочкина… Она разыскивала Вас со специальной целью благодарить за статью, которая доставила ей трудно передаваемую радость именно потому, что она так живо воскресила в ней воспоминания детства, юности, воспоминания о матери, отце. Никогда никто не написал о ней именно так, и это ее взволновало да слез — она так говорила. … И сказала, что если Вы не приедете к ее юбилею, это будет настоящим огорчением для нее». (Из письма Бокшанской. Архив Н-Д, № 3373/2).
Январь 17
Был на юбилее А. А. Яблочкиной в Малом театре.
Январь 20
Смотрит репетицию трех актов «Анны Карениной» в гримах и костюмах.
Январь 21
Леонид Леонов посылает Немировичу-Данченко пьесу, впоследствии названную им «Половчанские сады»: «В основном я, конечно, беллетрист, а пьеса сразу попадает в Ваши руки. Тревоги мои множатся в неописуемой прогрессии». (Из письма Л. М. Леонова. «Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 426).
Январь 26
На репетиции «Анны Карениной».
Январь 28
Смотрит макеты художника В. Г. Меллера к пьесе А. Корнейчука «Банкир».
Январь 29
«В любом театре, даже самом лучшем, за несколько десятилетий не могут не накопиться огромные залежи традиций и привычек. И нельзя идти вперед, если не обладаешь смелостью критически взглянуть на них, чтобы преодолеть одни и творчески развить другие». (Горьковскому драмтеатру. Избранные письма, стр. 412).
Февраль 4 – 28
Проводит шесть репетиций «Анны Карениной».
Февраль 5
Ведет репетицию оперы «Тихий Дон».
500 Февраль (до 10)
Готовится к выступлению на торжественном заседании, посвященном 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина. (Черновой набросок. Архив Н-Д, № 7750).
Февраль 15
Репетирует «Анну Каренину». Подробно останавливается на сцене «У Бетси», добивается четкости в «кусках» и мизансценах. Напоминает о сквозном действии сцены — «осуждать Анну и требовать строжайшего соблюдения правил приличия. … В смехе светского общества нужно искать красок осуждения. Смех должен быть не веселый, а злой, смех светских людей, пользующихся случаем позлословить». (Из протокола репетиции).
Февраль 26
Леонид Леонов просит встречи с Владимиром Ивановичем для обсуждения роли Отшельникова («Половчанские сады»). (Из письма Л. Леонова к Немировичу-Данченко. «Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 427).
Март 2
После просмотра сцены «У Облонских» Владимир Иванович анализирует взаимоотношения действующих лиц, намечает линию физического поведения Стивы Облонского, уточняет «куски», оговаривает «приспособления». Показывает В. Я. Станицыну ритм и темп его сцены с Н. П. Хмелевым (Карениным). Потом снова повторяет сцену, предлагая новые задачи. Подробно разрабатывает сцену Долли (Е. А. Алеевой) и Каренина (Н. П. Хмелева).
Март 3
Репетирует сцену «Во дворце». Говорит исполнителям маленьких эпизодических ролей: «Надо пользоваться каждой минутой, чтобы усилить сквозное действие пьесы. … Когда будете искать [характерность], — ищите от зерна сквозного действия всей пьесы. Никто не должен забывать сквозного действия всей пьесы, т. е. катастрофы с Анной Карениной из-за фарисейства и лицемерия того общества, которое изображает Толстой. Жестокость, фарисейство, лицемерие. Вот в этой области надо искать характерных красок, потому что если вы будете искать просто яркой характерности, вне этой области, получится то, что теперь крепко называют формализмом. А насыщенная идея всегда убережет вас от формализма». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 287, 290).
501 Март 4
Репетирует сцены «В театре» и «Во дворце».
Март 5
Репетирует сцену Лидии Ивановны и Каренина во дворце, напоминает М. А. Дурасовой о «самочувствии озабоченности» у Лидии Ивановны. Ставит вопрос о правильном понимании системы Станиславского: «Всегдашнее наше расхождение с теми, кто неверно понимает “систему”, заключается в самом понимании выражения “идти от себя”321*.
Актер ищет от себя верное определение зерна сцены. Когда зерно сцены верно определено, — не бойтесь искать от себя выражения этого зерна любыми, самыми неожиданными, самыми смелыми приспособлениями. … Может быть, я упорно направляю вас на какую-то форму, но нужно, чтобы форма пришла от ваших собственных переживаний и размышлений, а не от моих». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы, Письма, стр. 291 – 292).
На сцене филиала МХАТ мизансценирует картину «У Бетси». Говорит о светскости как о непринужденности. «Пожалуйста, держитесь свободнее. “Зашнурованность” никогда не будет выражением светскости». (Там же, стр. 295).
Показывает сцену появления Анны, потом разрабатывает сцену Анны и Каренина.
Март 8
Репетирует сцену «В театре». Анализирует отношение матери Вронского (М. П. Лилиной) к сыну и Анне. Останавливается подробно на поведении Картасовой и Бетси, идет на сцену и сам показывает А. О. Степановой, как Бетси разговаривает с Вронским, как раскрывается здесь сущность ее характера, «зерно» роли. Потом показывает объяснение Анны и Вронского после сцены «Театр». Добивается того, чтобы у зрителя создавалось впечатление, что Анна изгоняется светским обществом. После слов Картасовой: «Позорно сидеть рядом с этой женщиной», — «перед Анной вырастает та каменная стена, которая отталкивает ее, которая несет ей гибель». (Из стенограммы репетиции «Анны Карениной»).
Март 9, 10
Репетирует сцену «Во дворце», мизансценирует картину «Скачки».
Март 11
Говорит о том, что маленькую проходную сцену «В конюшне» 502 нужно играть так же насыщенно, как большой акт. Темп должен определяться тем, что через десять минут начнутся скачки. М. И. Прудкину нужно знать физическое самочувствие Вронского в этой сцене. Это — самочувствие ожидания скачек… Очень большое ожидание, напряженное, а не беготня. Поведение участников массовой сцены «Скачек» будет находиться в зависимости от того, как будет проявлять эту тревогу сама Анна. «Если Алла Константиновна [Тарасова] будет играть очень сильно, так же сильно вскочит и крикнет: “Стива! Стива!” — то и вы так будете реагировать… чтобы не вышло так, что вы реагируете очень сильно, а она скромно играет, или наоборот». (Из стенограммы репетиции «Анны Карениной»).
Март 12
Репетирует первый акт «Прекрасной Елены» в Музыкальном театре.
Март 14
Репетирует сцену «В конюшне», требует большой точности: «В маленьких сценах больше заметна мазня, чем в больших». Много раз повторив сцену «В конюшне», переходит к сцене «Скачек», устанавливает взаимоотношения Анны и светской толпы: «У Толстого говорится, что она в этой сцене бьется, как птица в клетке. Вы и есть клетка… У женщин зерно этой сцены, сквозное желание: “Вот ты скоро полетишь под поезд и туда тебе и дорога”».
Показывает Тарасовой и Хмелеву, как они должны уходить со скачек: «Ваш проход должен быть медленнее. Анна вся трясется, Каренин сдерживается. Он заставляет ее своей фигурой идти медленнее. Она идет, оглядывается, как будто на вожжах, как будто ее задерживают»322* (Из стенограммы репетиции «Анны Карениной»).
Март 16, 17
Репетирует сцену «У Сережи».
Март 20
Репетирует с Тарасовой и Прудкиным сцену встречи Анны с Вронским в библиотеке. Возражает против того, чтобы в начале сцены Анна читала книгу: «Здесь очень смелые и дерзкие сценические задачи — уйти в переживания от бытовизма, превратиться в классическую фигуру, которая стоит у окна и говорит такие вещи, потому что она на пороге смерти и бездны… 503 Это состояние, когда сознание начинает путаться… когда ужас надвигается, надвигается, наполняется… сознание начинает бледнеть, таять… Можете вы вот так стоя рассматривать Обираловку323* и надвигающийся поезд? Ужас, который надвигается. Давайте упражняться — вот идет поезд. Надвигающийся паровоз — вот что вам предстоит… Спасения нет (показывает) — растет, растет, растет! И, конечно, меня раздавит… Сейчас сердце лопнет». (Из стенограммы репетиции «Анны Карениной»).
Март 21
Снова работает над сценой встречи Анны и Вронского в библиотеке. Анализирует отношение Вронского к Анне: «Джентльменский тон честного, порядочного человека… Элегантный тон. Это уже не любовь. Великолепный порыв, который был в первом действии, заменился порядочностью». (Там же).
Март 22
Смотрит репетицию четырех действий пьесы А. Е. Корнейчука «Банкир», после беседует с участвующими: «Мне не нравится у автора последний акт. Как из этого выкручиваться? Патока! Оптимизм такой, будто бы сладким объелся. Тут с автором будут споры». (Из стенограммы репетиции).
Март 23
Ведет репетицию «Банкира». Анализирует образы. Говорит о выборе задачи, которая определяет ритм, о том, что угадывание ритма дает подход к образу, что игра на улыбке — это штамп: «Я объявляю бой улыбке». (Там же).
Март 26 – 29
Репетирует «Анну Каренину».
Март 28
Смотрит спектакль «Мещане» в Центральном театре Красной Армии. (В «Вечерней Москве» от 31 марта — фото Вл. И. Немировича-Данченко с А. Д. Поповым — руководителем театра, Е. С. Телешевой — режиссером спектакля, И. С. Федотовым — художником спектакля и В. Е. Месхетели — начальником театра).
«Могу смело сказать, что давно так не увлекался артистическим талантом, как глядя Зеркалову в “Мещанах”324*. Чудесное, большое дарование!», — говорил в январе 1938 г. 504 Владимир Иванович. (Из статьи бр. Тур «У Немировича-Данченко», «Известия» от 10 января 1938 г.).
Март 29
Ведет репетицию «Анны Карениной». Останавливается на сцене разрыва Анны и Вронского. Показывает, как нужно ее играть. «Вошла подавленная. Вопль. Смерть подходит. Чтобы уже играть “Обираловку”. А фигура — точно за ним устремленная, как-то руку вытянула. “Все, только жить” — встала. Это было и пройдет — и пошла лихорадка. Это какое-то омертвение — смерть! Когда сидит. Потом поднялась. Только жить — а потом лихорадочные действия…». (Из стенограммы репетиции).
Март 31
На репетиции «Анны Карениной». Ищет физического самочувствия влюбленности Анны и Вронского в первой сцене. Считает, что Вронский — Прудкин слишком мрачен: «как перед его, а не ее трагедией. … То, что он едет за ней… это дает устремленность, но какая устремленность, какого цвета: красная, желтая, синяя, темно-багровая?» (Там же).
Апрель 3 – 5
На репетициях «Анны Карениной».
Апрель 8
Репетируя сцену, в которой Вронский пытается покончить с собой, спрашивает у Прудкина: «Какое у вас физическое самочувствие?» М. И. Прудкин: «Не могу найти себе места». Владимир Иванович: «Нет, не могу заснуть — вот физическое самочувствие». (Из стенограммы репетиции).
В сцене «Бетси и Каренина» устанавливает мизансцены, точно раскрывающие характер их отношений. (Там же).
Апрель 9
На репетиции сцены «В театре» говорит: «Это, может быть, и правдиво, но недостаточно театрально, а потому и не заражает». (Там же).
Апрель 10
Репетируя «Анну Каренину», показывает Тарасовой, как должна идти сцена разрыва Анны с Вронским: «После его ухода внутри у нее клокочет, а внешне она выполняет все действия. Пишет письмо, потом берет конверт, пишет. “Ах да, я могу еще послать телеграмму” — вот новая мысль. Телеграмму, куда телеграмму?.. Пришла уже немного сумасшедшая. Вот такой темп. Сумасшедшие глаза — и так пойдет в Обираловку…». (Там же).
505 Апрель 13
Просит актеров не терять ни одной секунды во время исполнения. «Зачем отрывать одну фразу от другой, если они составляют одну мысль. А вы между каждой фразой делаете паузу… не схвачено бодрое общее внутреннее ощущение ритма». (Там же).
Апрель 16
В «Комсомольской правде» напечатана статья Вл. И. Немировича-Данченко «Большой, радостный спектакль»: «Я хорошо знаю и очень люблю это гениальное творение Глинки. Лет 40 тому назад… я всячески стремился поставить оперу “Руслан и Людмила” на сцене Большого театра. Но царские чиновники боялись всякого новаторства и свято оберегали укоренившиеся в “императорской” опере штамп и рутину».
Апрель 21
На первом представлении «Анны Карениной».
Апрель 22
Из статьи Немировича-Данченко «“Анна Каренина” на сцене МХАТ»: «Уже в подходе к “Воскресению” была огромная разница с тем, как театр работал над “Живым трупом”. Теперь же идеологическое направление театра стало еще глубже и строже…». («Правда»).
Апрель 27
«За выдающиеся успехи в области театрально-художественного творчества» МХАТ награждается орденом Ленина.
Апрель 28
Получает телеграмму от художника В. В. Дмитриева: «Искренне поздравляю Вас — главного виновника высокой награды, полученной театром». (Архив Н-Д, № 3937).
Апрель 29, 30
В Музыкальном театре работает с В. А. Канделаки над образом Калхаса в «Прекрасной Елене».
Май 1
В «Горьковце» напечатана статья Вл. И. Немировича-Данченко «Радость искусства».
Май 5
«Поздравляю с высокой наградой огромного художника. Счастливы люди, с которыми он работает. Вера Инбер». (Телеграмма. Архив Н-Д, № 4172).
506 Май 3 – 17
Ведет репетиции «Прекрасной Елены».
Май 7
Выступает с речью на заседании Президиума ЦИК СССР по случаю награждения МХАТ орденом Ленина: «Благодарность наша за награду громадна. Мы признательны не только за данную нам награду, мы признательны за данные нам возможности получать эти награды.
… Перед нами путь ясный — социалистический реализм…
Этот путь — единственно настоящий, правильный». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 51 – 52).
Май 15
Смотрит репетицию «Банкира» А. Корнейчука в гримах и костюмах.
Май 16
В присутствии автора беседует с актерами по репетиции пьесы «Банкир»: «От стремления к простоте вы попадаете в упрощенность и становитесь мало театральными. Вы можете сказать — как, Владимир Иванович проповедует театральность?! Да, непременно театральность, но театральность не декламационную, не фальшивую, а театральность большой, насыщенной простоты, ау вас то и дело будничность и простота, которая скучна». (Из стенограммы репетиции).
Май 21 – 22
На репетициях «Бориса Годунова» отмечает отдельные актерские удачи, но не скрывает своей неудовлетворенности общими итогами работы: «Народ не стал главным действующим лицом». (Из протокола репетиций).
«Вот Шекспира хоть сейчас могу ставить, а Шиллера — нет. Как играть с навыками Художественного театра все эти проклятья, рыдания и убийства, которые встречаются в каждом акте». (Там же).
Май 23, 26
Работает с Качаловым над сценой смерти Бориса Годунова: «У вас нет базы — физического самочувствия, того самочувствия, когда губы обсохли и жажда мучит. Без этого вы сходите на привычную горячность. Только через пути физической задачи можно прийти к Художественному 507 театру. В чем здесь это ваше физическое состояние? В ходьбе… сел… встал. Тут же у него какие-то дела, приказы, печати… одна навязчивая мысль… “прав Грозный”, а у самого все горит, кровь приливает (проигрывает сцену). Не хочется ни натурализма, ни выхолощенности и абстрактности… Хочется меньше картинности». (Там же).
Май 27
Из записей В. В. Глебова по репетициям «Бориса Годунова»: «Владимир Иванович все больше и больше разгорается в работе, и чувствуется, что она его начинает захватывать».
Май 27 – 29
Работает с В. И. Качаловым над ролью, Бориса Годунова.
Май 29
Проводит совещание в дирекции по поводу поездки МХАТ на международную выставку в Париж. Предлагает везти отдельные сцены «Годунова», так как в них заняты В. И. Качалов, И. М. Москвин, Л. М. Леонидов.
Июнь
Вышла из печати книга П. А. Маркова «Вл. И. Немирович-Данченко и Музыкальный театр его имени».
Июнь 2
В присутствии Корнейчука Владимир Иванович делает замечания по генеральной репетиции «Банкира».
Июнь 4
Репетирует с Качаловым сцену смерти Бориса Годунова: «Удивительно, как Владимир Иванович незаметно для актера может увести его с неверного пути… Сегодня, например, чуть только В. И. Качалова потянут стихи на декламацию или пафос, как Владимир Иванович сейчас же предлагает какую-нибудь бытовую черточку — то Борис в это время надевает кафтан, то ему дают воды, — и, выполняя это, Василий Иванович невольно отходит от декламации и становится живым человеком. За эти несколько репетиций Владимир Иванович колоссально много дал, сцены зазвучали по-новому, ярко, поэтично и жизненно». (Из записей В. В. Глебова. Музей МХАТ).
Июнь 5
«Хотя Владимир Иванович и простился с нами, но все же В. И. Качалов уговорил его еще раз пройти сцену Бориса Годунова с детьми. Репетируя, Владимир Иванович говорил о том, что в театральных школах нужно заниматься “этюдами 508 физического самочувствия”, от простых до самых тончайших: “Физическое самочувствие дает жизнь и ритм на сцене”». (Там же).
Июнь (после 5)
Уезжает на лечение в Карловы Вары.
Июнь 20
«… насчет оформления “Одиночества”. Т. е. — Волков325*. Хотелось бы, чтоб он поставил перед собой задачу построже, поглубже и важнее всего: музыкальную! Чтоб он не пошел по линии реальнейшего драматического спектакля. Вот мы с Вами видели макеты “Земли”326*. Там много очень хорошего, но нам это не подошло бы. … Надо что-то искать в смысле облегчения. Найти какой-то принцип, по которому технически было бы не раскидисто, но и не было бы конструкционно-однообразно. А потом и важнейшее: да, реально, живое, но не натуралистично! Прислушаться еще к музыкальным образам Хренникова?.. Как омузыкалить живую избу, улицу деревенскую и пр.? … Чтоб ему [Волкову] захотелось вскрыть какие-то любимейшие свои мечты. Нет никакой надобности ездить для этого в Тамбовскую губ. Но, может быть, поездка его согреет…» (Из письма к П. А. Маркову. Избранные письма, стр. 412 – 413).
Июнь 22
Татьяна Павлова пишет, что итальянский актер Сильвио д’Амико и 12 его учеников по академии поедут в Париж, чтобы посмотреть спектакли МХАТ. «Мое к Вам обожание, maestro, не имеет границ. Сейчас живу мечтой увидеть в Париже Вашу работу — иногда по ночам не сплю, думая, — как это будет, что увижу… Хоть один вечер проведите с нами всеми — только моя энергия могла создать эту поездку». (Из письма к Немировичу-Данченко. Архив Н-Д, № 5277).
Июнь 29
«Очень прошу и Рабиновича и Радлова заняться переработкой палаты Годунова, где он ведет сцену с Басмановым и умирает. Сделать опочивальню…». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 537).
Июль 22
«И ведь для роли крупного режиссера еще не достаточно 509 чисто артистического и организационного мастерства. Еще надо завоевать право владеть душами людей, преданных искусству. Заразительность, тактика, мудрость, духовное самоусовершенствование…» (Из письма к П. С. Златогорову. Архив Н-Д, № 762).
Июль 28
Приезжает в Париж. «Париж одна из самых обаятельных столиц мира. Трудно даже объяснить, в чем это обаяние. При большом размахе отсутствие крикливости, вкус как будто бы и в строениях, и в магазинах, и в тротуарах, и в мостовых. Кипучее движение людей по Елисейским полям или по бульварам, а в то же время отсутствие грубой толкотни. Какая-то открытость нравов, привычка быть на улице и легко проявляющаяся склонность к веселью, к шутке, к ловкой, красивой выдумке; великолепная звенящая французская речь. … неугомонные выкрики газетчиков и как-то весь этот шум никогда не заслоняет мысли о всей истории страны, об ее великих достижениях культуры, науки, искусства и особенна об ее великой революции.
А тут еще всемирная выставка, на которой… два главнейших павильона… Советского Союза и Германии. Советский Союз дал замечательную статую Мухиной, Германия, как всегда, больше удивляла… импозантно казарменными линиями». (В. И. Немирович-Данченко, «Поездка МХАТ на Парижскую выставку». Машинопись. Архив Н-Д, № 7348/2).
Август (начало)
В Париже перед началом гастролей репетирует народные сцены из «Врагов», «Любови Яровой», «Анны Карениной», говорит об ответственности МХАТ, выступающего «полпредом советского искусства на международной выставке». («Комсомольская правда» от 4 августа 1937 г.).
Август 4
Выступает в здании советского полпредства перед французскими журналистами, актерами, литераторами, рассказывает им о творчестве МХАТ.
Август 7
Первый спектакль МХАТ в Париже — «Враги» М. Горького. «Театр был полон. Я давно не помню такого гула, который стоял в зале до начала спектакля… А по окончании началась настоящая овация. Я получил письма с самыми горячими приветствиями». (В. И. Немирович-Данченко, «Поездка МХАТ на Парижскую выставку». Архив Н-Д, № 7348/1).
510 Август 9
«Вторым спектаклем мы давали “Любовь Яровую”. … Совершенно явно было, что в зрительном зале столкнулись два политических лагеря… В особенности горячо приняла спектакль молодежь, как русская, так и французская». (Там же).
Из статьи В. О. Топоркова «“Любовь Яровая” в Париже»: «Но самое радостное было после спектакля, когда за кулисы пришли тт. Громов. Юмашев и Данилин…
В артистическом фойе быстро организовался импровизированный митинг, на котором присутствовали также находящиеся в Париже советские спортсмены и писатели А. Фадеев и А. Толстой. … И замечательно высказал обуревавшие всех нас чувства В. И. Немирович-Данченко, который заявил: — Как жаль, что зрители, присутствовавшие на сегодняшнем спектакле, не видят этой встречи. Они бы лишний раз увидели, в чем сила и мощь нашей замечательной родины — великого Советского Союза». («Вечерняя Москва» от 10 августа 1937 г.).
Август 10
«Нам стало ясно, что мы интересны для публики, близкой к народному фронту, настроенной сочувственно к Советскому Союзу. Написал статью Луи Арагон. Был у нас за кулисами во время спектакля “Анна Каренина” Ромен Роллан… На обеде в президиуме Театрального общества присутствовал Уэллс». (В. И. Немирович-Данченко. «Поездка МХАТ на Парижскую выставку». Архив Н-Д, № 7348/1).
Август 18
Выступает на приеме в Международном театральном объединении и говорит «о театре, как о факторе мирного сближения народов». («Чествование МХАТ в Париже». «Правда» от 19 августа 1937 г.)
Август 21
В «Известиях» — статья Немировича-Данченко «Наши гастроли подходят к концу».
Август 25
Уезжает из Парижа.
Август 29
Из Швейцарии (Морж) пишет В. Г. Сахновскому: «Предлагаю “Половчанские сады” поручить Вам полностью. То есть приступить теперь же к созданию с автором экземпляра. Между прочим, представляя себе постановку, не вижу, 511 чтоб братья казались бездельниками. Даже на отдыхе видно, что это люди работающие». (Архив Н-Д, № 1453).
Сентябрь (начало)
Отдыхает в Женеве.
Сентябрь 7
Приезжает в Берлин.
Сентябрь 20
«Макет Б. Волкова к “Одиночеству” решен им уже в основном принципе, который, на наш взгляд, отвечает Вашим желаниям. … Шлепянов не удовлетворен своим прежним проектом макета “Риголетто” и решил его переработать, приближаясь к тем принципам и требованиям, которые Вы ему ставили». (Из письма П. А. Маркова. Архив Н-Д, № 3374/23).
Октябрь
Работает в жюри конкурса на лучшую пьесу к 20-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Пишет отзывы о пьесах Вс. Иванова, А. Корнейчука. (См. «Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 433 – 436).
«… можно одолеть и одну из труднейших задач: вывести на сцену великих вождей Октября, любимцев народной памяти, — вывести тактично, без вульгаризованного бытовизма, но и без сухой абстрактности. Автору, охваченному глубокой, органической любовью к победам революции и к самим победителям, а также глубокой, органической ненавистью к врагам революции, удастся и тот пафос, без которого немыслима пьеса 20-летия Октября». (Из отзыва о пьесе А. Корнейчука «Правда». Там же, стр. 434).
Октябрь 17
Читает рукопись сценария Вс. Вишневского «Мы русский народ». «… Налицо серьезные достоинства: строгость, монументальность композиции при ясной и выдержанной динамической линии — история одного полка; большой темперамент, руководимый мыслью, а не растрепанными нервами; простота без вульгарности. Должен, однако, признаться, что особенно художественного “раздражения” я не получил — того неожиданного, от чего сразу обдает радостью новизны и острой правды. Есть хорошие фигуры, но мы к ним уже привыкли, а те, которые поновее, как Вятский, полковник, поручик, кажутся надуманными и неубедительными. И пафос: искренний, конечно, но все того же звучания, к какому ухо так привыкло в нашей литературе боевых сцен, где мужественность и величие 512 содержания часто уступают сентиментальности. Автор несомненно владеет тем классическим юмором и теми традиционными красками героизма, которые являются характерными чертами гения русской нации. … При требованиях более глубоких, художественных ждешь и более самобытных красок». (Черновик. Архив Н-Д, № 7712/2).
Октябрь 22
Утверждает распределение ролей спектакля «Горе от ума», приуроченного к 40-летнему юбилею МХАТ.
Октябрь 23
Репетирует «Прекрасную Елену».
Октябрь 30
Из выступления по радио накануне 20-летия Великой Октябрьской социалистической революции: «И я хочу сказать вам всем, честно работающим гражданам нашего прекрасного Союза… В художественных образах, которые мы создаем средствами нашего искусства, живет ваш дух и ваша творческая сила». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 43 – 44).
Ноябрь 1, 2
Начинает работу над «Горем от ума». Проводит первое режиссерское совещание и беседу с труппой. Поручает В. Я. Виленкину работу с отдельными исполнителями по овладению грибоедовским стихом.
Ноябрь 3 – 4
На генеральных репетициях пьесы Н. Вирты «Земля» говорит, что картина «В церкви» «нужна для идеологии пьесы: сюда приходит молиться Сторожев, и весь тон его молитвы необычайно важен в развитии этого образа». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 252 – 253).
Ноябрь 4
Продолжает беседу по «Горю от ума»: «Играя Чацкого, надо помнить, что Грибоедов называл его в рукописи Чадским, потому что шел от Чаадаева. Я бы играл Чацкого таким, который вырастает в крупнейшую политическую фигуру. Будет ли он на Сенатской площади? Трудно угадать. Хотелось бы верить, что будет. А перед началом пьесы он обязательно влюблен… Софья должна быть такой, которая оправдывает все поведение Чацкого. … Самое главное — быть живыми людьми этой эпохи… Начинается действие. Утро, брезжит свет… Атмосфера для настроения есть. Лиза спала, проснулась… 513 Физическое самочувствие этого “спала” должно быть найдено. Затем стучится — так стучится, чтобы слышали… Когда они (куски жизни) пережиты, тогда стихи заставят эти переживания быть более заостренными и легкими». (Из стенограммы репетиции).
Ноябрь 5
Премьера спектакля «Земля».
Ноябрь 10 – 29
В Ленинграде, оде гастролирует Музыкальный театр его имени, выпускает спектакль «Прекрасная Елена».
Ноябрь 10
Узнает о смерти Николая Баталова: «Вместе со всем коллективом скорблю об утрате прекрасного артиста, много сделавшего в свою короткую жизнь для воскресающей молодости Художественного театра». (Из телеграммы к Бокшанской. Архив Н-Д, № 541).
Ноябрь 14
Из Ленинграда пишет Бокшанской: «К сожалению, уверен, что выпускать “Бориса Годунова” без меня нельзя. Я должен как следует доработать, чего режиссерам не удалось сделать. Впрочем, сделаю это охотно». (Архив Н-Д, № 543).
Декабрь 1
После премьеры «Прекрасной Елены» пишет Бокшанской: «Чувствую себя очень хорошо, и физически и по настроению. В комнате у меня колоссальные корзины цветов и бронзовые эллинские фигуры, — все подношения при открытом занавесе “Елены”». (Там же, № 547).
Декабрь 2
Из дневника Глебова: «В отсутствии В. И. Немировича-Данченко на репетиции “Горя от ума” зашел разговор о том, как работает Владимир Иванович.
А. О. Степанова: Его настоящими слезами или смехом не надуешь.
Е. С. Телешева: Да, у него такой глаз, от которого ничего не спрячешь».
Декабрь 11
В МХАТ ведет репетицию «Смерти Пазухина» (за столом).
Декабрь 15
«Всю свою сознательную жизнь до Великой Октябрьской 514 революции я принадлежал к той категории русской интеллигенции — либеральной, радикальной, — которая искала выхода из окружавших ее общественных противоречий. Я искал выхода, но не находил его…
… Право, будь я моложе, того и гляди, взялся бы теперь за пьесу! Все, что казалось мне неизмеримо сложным и запутанным сорок лет назад, ныне для меня так ясно, так просто и, главное, оказалось вполне осуществимым. Прежние бесплодные мечтания воплотились в жизнь». (Из речи перед труппой. Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 53 – 54).
Декабрь 15 – 17
Возвращается после перерыва к репетициям «Горя от ума».
Декабрь 20
Репетирует с Качаловым и Андровской первую сцену Фамусова327* и Лизы. Разбивает сцену на «куски».
Декабрь 26 – 28
Репетирует первый акт «Горя от ума».
1938
Январь 1
В «Правде» опубликована статья Вл. И. Немировича-Данченко «Юбилейный год Художественного театра».
Январь (начало)
Работает с Т. Хренниковым, Н. Виртой и А. Файко над либретто оперы «В бурю».
Январь 4
Просматривает и утверждает эскизы художника В. Ф. Рындина к спектаклю МХАТ «Достигаев и другие».
Январь 4, 5
Ведет репетиции «Горя от ума», говорит о неразрывности физического и словесного действия, о том, что действие не разрывает стиха, а делает его жизненнее, художественнее. «Надо слушать то, что говорит Софья, непременно слушать, и слушать и действовать». (Из стенограммы репетиции).
515 Январь (до 8)
Слушает оперу «Броненосец “Потемкин”» в Большом театре.
Январь 8 – 16
Ведет репетиции «Горя от ума», на одной из них говорит о сложности актерского искусства: «Ничтожную часть секунды не туда взглянул — уже что-то не то. На ничтожный волосок интонация не та и уже нехорошо». (Из стенограммы репетиции).
Январь 17
«В нашем искусстве мы часто так стараемся докладывать мысли, что получается хорошо, умно, но серо и скучно, лишено театрального огня, а раз театрального огня нет, то тут начинает качаться реализм постановки… Соединить это — самое трудное». (Там же).
Январь 20
Предостерегает актеров от того, чтобы они выполняли ближайшие задачи без «второго плана», так как это ведет к примитиву. «Отношение к событиям, происходящим в пьесе, — и есть чувство». (Там же).
Январь 21
Репетирует финальную сцену пьесы Корнейчука «Банкир».
Январь 27
Подписывает обращение ко всем работникам науки, литературы и искусств, призывающее достойно встретить XX годовщину РККА и Военно-Морского Флота.
Февраль 1
Беседует с режиссерами и актерами периферии — делегатами Всесоюзного съезда профсоюза работников искусств: «Главная разница между Художественным театром и громадным большинством театров в том, что мы путем таких застольных репетиций, путем таких поисков живого отзвука в душе актера на задачу данного образа добиваемся того, чтобы актер пришел на сцену сам собой и ничего не играл… А в большинстве театров (в этом разница искусства) играют: … и характер, и слова, и фразу, играют “пьяного” или “трезвого”, играют “молодую даму” и т. д. … Причем иногда играют и самое простоту.
… Смотришь иногда спектакль в ином театре и думаешь: как это серо и бедно по фантазии! … Поставлю комнату, окно в сад, направо дверь в столовую, налево — в кабинет, потолок 516 есть, люстра висит, в натурализме упрекнуть нельзя, от реализма не ушел, о формализме не может быть и речи…
Вульгаризация идет дальше, по идеологической линии.
… В чем заключается социальный элемент? Если мы искренно отдаемся работе, нося в себе настолько глубоко наши социальные идеи, что они становятся нашими непрерывными социальными чувствами… нам нечего бояться сделать какую-то ошибку, впасть в какой-нибудь “уклон”.
… Сентиментальность — другой громадный грех перед искусством. Сейчас, ради “социального” успеха, у нас сентиментальность подчас заливает театр. Не могу передать, до чего становится мне приторно от этого сентиментализма: “… так трогательно!” — а в сущности говоря, — неверно, неверно, неверно!!
Когда актер на сцене говорит: “Я видел Ленина” — я жду подтекста: “Я видел Ленина, который мир перевернул”, а оказывается, актер считает нужным говорить об этом “с приятностью”.
… Сентиментализм, в сущности, — игра на приятном настроении зала и поэтому, по моему мнению, на некоторой дешевке в художественном отношении. Это, может быть, идет от моды, от желания быстрого успеха, и это снижает серьезное искусство.
… никто не скажет, что это уклон в сторону формализма, раз этот спектакль шел, насыщенный содержанием, и идеологическим и жизненным. А мы начинаем бояться: а вдруг скажут?
… если делать хороший упор на идеологию… то это [формализм и натурализм] не такие “жупелы”, чтобы можно было из-за них отказываться от смелых исканий в искусстве». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы, Письма, стр. 249 – 253).
Февраль 2
На репетиции ищет мизансцены для Чацкого. Возражает против того, чтобы Чацкий произносил монолог в середине сцены, так как это может создать впечатление чего-то «условно-театрального, театрально-нарочитого». (Из стенограммы репетиции).
Февраль 5
Репетирует «Горе от ума», добивается того, чтобы в Софье «синтетически» сливались черты будущей крепостницы Фамусовой с дымкой влюбленности семнадцатилетней девушки328*. (Там же).
517 Февраль 15, 16
На репетиции «Горя от ума» подробно характеризует творчество актера Художественного театра Б. Н. Ливанова и указывает на недостатки, мешающие ему играть Чацкого. Работает с В. Я. Станицыным над ролью Фамусова. (Там же).
Февраль 17 – 20
Несмотря на тяжелую болезнь жены, продолжает работу над вторым актом «Горя от ума».
Февраль 17 – 18
Из записи в дневнике Вл. И. Немировича-Данченко: «Начиная с 17-го или 16-го я уже был, как она выражалась, ее “душевным врачом”. 17, 18-го, я томился мыслью о безнадежности. При прежних ее заболеваниях у меня этого никогда не было». (Архив Н-Д, № 7975).
Февраль 19
«В филиале МХАТ днем я, кажется, делал прием… Настроение у меня было подавленное. И в какой-то момент при мысли о Коте329* я не удержался и, стиснув у глаз пальцы, старался скрыть набежавшую слезу». (Там же).
Февраль 20
«Нельзя без волнения думать и говорить о бесстрашной четверке зимовщиков полярной станции “Северный полюс”. … Что особенно волнует в этой беспримерной эпопее — это величие и простота в покорении стихии. … простота глубочайшей преданности своей стране, простота самого героизма». (Из статьи Вл. И. Немировича-Данченко «Величие и простота». «Советское искусство»).
Февраль 25
Смерть жены.
Февраль 27
«Милый и дорогой Владимир Иванович.
В последние годы между нами было много недоразумений, запутавших наши добрые отношения.
Постигшее Вас тягчайшее горе возвращает мои мысли к прошлому, тесно связанному с дорогой покойницей. Думая о ней, я думаю и о наших прежних, хороших отношениях. Под впечатлением этих воспоминаний мне хочется писать Вам.
… Мне хочется по-дружески сказать Вам, что я искренне и глубоко страдаю за Вас и ищу средства помочь Вам.
518 Может быть, мой дружеский, сердечный порыв придаст Вам сил, хотя бы в самой малой степени, для перенесения посланного Вам тяжелого испытания.
Искренне преданный и любящий Вас К. Станиславский». (Избранные письма. Приложения, стр. 509 – 510).
Февраль 28
«Даже в самые тяжелые для Вас дни Вы думали о нашей работе и интересовались ею». (Из письма участников постановки «Горе от ума». Архив Н-Д, № 6579).
Март 1
Из письма В. В. Дмитриева: «Пользуюсь случаем высказать отдельно мое глубокое сочувствие Вам… мне понятны чувства, которые испытываете Вы». (Архив Н-Д, № 3938).
Март (до 8)
В правительственном санатории в Барвихе Владимир Иванович дважды занимался с М. М. Тархановым ролью Фамусова.
Март 8
«Есть сведения о Владимире Ивановиче, что числа 15-го он собирается приступить к репетициям». (Из протокола репетиции «Горя от ума»).
Март (до 20)
Из санатория в Барвихе пишет Станиславскому: «Не мог сразу ответить на Ваше ласковое письмо, не в силах был писать…
Ваше письмо и венок от Вас и Марии Петровны330* — все это очень тронуло меня. И тоже вернуло к прошлому. В последние годы я часто возвращаюсь к воспоминаниям, — особенно к первым годам нашей замечательнейшей совместной работы.
… Конечно, прежде всего люди “запутали” наши добрые отношения. Одни, потому что им это было выгодно, другие — из ревности. Но и мы устраивали для них благодарную почву сеять вражду. Сначала естественно и неизбежно — рознью наших художественных приемов, а потом, очевидно, не умел я еще преодолеть в себе какие-то характерные черты, ставившие нас в виноватое положение друг перед другом. Вероятно, в одинаковой степени и я и Вы. И не хотели выправить эти вины. И вот наросла их целая гора, такая наросла гора розней и виноватостей, что даже только для того, чтобы нам за 519 нею увидеть друг друга, должна была случиться такая катастрофа, как вот эта смерть моей дорогой Екатерины Николаевны.
А нашей с Вами связи пошел 41-й год. И историк, этакий театральный Нестор, не лишенный юмора, скажет: “вот поди ж ты! уж как эти люди — и сами они, и окружающие их — рвали эту связью сколько старались над этим, а история все же считает ее неразрывною”.
Очень, очень благодарю Вас за дружеский порыв, и передайте, пожалуйста, сердечнейший привет Марии Петровне.
Всем сердцем желаю Вам быть здоровым и крепким». (Избранные письма, стр. 413 – 414).
Март 20
Возвращается в Москву из Барвихи.
Март 23
«Вчера получено от Владимира Ивановича сообщение, что он болен ангиной и просит без него не ослаблять темпы работы и репетировать так, как бы сами выпускают пьесу» (Из протокола репетиции «Горя от ума»).
Март 26
Просит прислать ему списки участников народных сцен в «Горе от ума».
Апрель 4
Из телеграммы Треневу: «Пользуюсь случаем выразить Вам мое высокое уважение и любовь». (Избранные письма, стр. 414).
Апрель
Находится в кремлевской больнице, потом в правительственном санатории. «Только благодаря невероятнейшим заботам правительства я остался цел». (Из беседы с режиссерами МХАТ 29 августа 1938 г. Архив Н-Д, № 7564).
К. С. Станиславский просит два раза в день сообщать ему о здоровье Владимира Ивановича.
Май 18
Е. С. Телешева, В. В. Дмитриев и В. В. Глебов навестили в Барвихе выздоравливающего Владимира Ивановича: «Он имеет сведения из разных источников о благополучии в работе над “Горем от ума”. Критика декораций третьего акта его не смущает, так как она, по-видимому, идет от тех, кто привык, что “Горе от ума” игралось чуть ли не во дворце». (Из протокола репетиции).
520 Май 25
В письме Н. П. Хмелева к Немировичу-Данченко: «Я хочу сказать Вам о том, что творческие мысли мои об искусстве, о театре, что самое прекрасное и значительное в моей сценической жизни — связано с Вашим именем, с Вашим учением, с Вашей глубокой творческой мудростью, которая всегда питает лучшие стороны моего понимания театра…
Преданный Вам и глубоко любящий Вас Ваш ученик Н. Хмелев». (Избранные письма. Приложения, стр. 520 – 521).
Июнь 29
Режиссеры П. А. Марков и П. С. Златогоров показывают Владимиру Ивановичу свою работу по первой и второй картинам оперы «В бурю».
Июль 10
Выезжает за границу.
Июль 31
«В Берлине пробыл всего два дня. Противно было и оставаться там и оставлять валюту. В Париже тоже всего три дня. Здесь (наверху, над Эвианом) чудеснейший воздух. … Благодаря щедрости Правительства я провожу и поездку и пребывание в самых великолепных условиях, что, как Вы понимаете, заменяет и количество времени, данного на отдых». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 550).
Август 6 – 7
Станиславский, умирая, в бреду вспоминая Владимира Ивановича, спрашивает: «А кто теперь заботится о Немировиче-Данченко? Ведь он теперь… “белеет парус одинокий”. Может быть, он болен? У него нет денег?» (Записи медсестры Л. Д. Духовской. Сборник «О Станиславском», изд. ВТО, стр. 551).
Август 8
Владимир Иванович узнает о кончине Константина Сергеевича ночью, в поезде на станции Негорелое, возвращаясь в Советский Союз.
Август 9
Прямо с вокзала приезжает на похороны Станиславского. Встречает траурную процессию у ворот кладбища. У могилы Константина Сергеевича произносит прощальную речь: «… моя память хранит так много переживаний за сорок один год, так много переживаний, охватывающих не только искусство, но и личную жизнь, что, потрясенная, она не дает мне возможности быть красноречивым.
521 … И мне хотелось бы, чтобы все находящиеся здесь, у гроба, мои товарищи по Художественному театру дали только одну клятву: клянемся относиться к театру с той глубокой и священной жертвенностью, с какой относился Станиславский». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 393 – 394).
Август 12
Был на репетиции оперы «В бурю».
Август 14, 15
На репетиции оперы «Риголетто» говорит: «Риголетто негодяй, он издевается над несчастным стариком Монтероне, над страдающим Чепрано ради тога, чтобы угождать негодяю из негодяев герцогу. Риголетто — отрицательный образ, а не симпатичный. А он обыкновенно играется с первого действия симпатичным. Гораздо сильнее, трагичнее, глубже, шире, поэтичнее, что такой образ — глубоко отрицательный». (Из стенограммы репетиции. Музей Музыкального театра).
Август 17 – 23
Репетирует «Горе от ума».
Август 26
Работает с М. И. Прудкиным над ролью Чацкого.
Август 27
Репетирует сцену клеветы в «Горе от ума». Предостерегает актеров: «Чтобы не было сразу внешнего приближения к карикатуре… чтобы повеяло настоящей жизнью». (Из стенограммы репетиции).
Август 29
«Я беспрерывно испытываю одно чувство: что неловко мне жить на свете. Ушел Константин Сергеевич, ушли другие мои сверстники, как Чехов, Южин. … Но после того, как я получил такой залп пожеланий, чтобы я выздоровел, я думал, и сейчас думаю, что, может быть, я еще нужен». (Из беседы с труппой Художественного театра. Архив Н-Д, № 7564).
В дневнике Л. М. Леонидова запись: «Большая речь Немировича-Данченко. … когда сказал, что сезон начинаем без Станиславского, заплакал. Но речь сказал бодрую, что, увидев всю труппу, он понял, что жив театр». (Л. М. Леонидов, Воспоминания, статьи, беседы, переписка, записные книжки, стр. 410).
522 Август 31
Репетирует четвертый акт «Горя от ума», показывает Прудкину, в чем и как проявляется неудовлетворенность Чацкого… «Нужно беречь правильный стихотворный ритм, так как это помогает и правильному ритму внутреннему». (Из стенограммы репетиции).
Сентябрь 1
Репетирует третий акт — бал в «Горе от ума», добивается того, чтобы «на сцене была консервативная грибоедовская Москва, которая несет гибель свободному духу, чтобы были действительно “зловещие старухи” и “зловещие старики”, была сатира, а не водевиль». (Там же).
Сентябрь 3
Говорит О. Л. Книппер-Чеховой, что той внешней характерности, которую она нашла в роли Хлестовой, недостаточно: «Это у Вас не “от себя”, очень внешне, и, главное, не думаю, чтобы Вы в себе это чувствовали… Какие-то задачи у Вас отсутствуют: в каком физическом самочувствии Вы пришли, какое отношение к Софье, к Тугоуховским?» (Там же).
Сентябрь 5
В грибоедовском спектакле краски должны быть «яркие, сочные, а не полутона». (Там же).
Сентябрь 8
Перед репетицией беседует с исполнителями маленьких эпизодических ролей в «Горе от ума». Разбивает участников бала на четыре группы. Предлагает каждому написать анкету того образа, который он должен создать («роли-анкеты»). Советует идти от себя, от внутренних задач: «… на балу может быть огромное разнообразие в характеристиках, в приспособлениях, в “музыкальных тембрах”, но задача общей сцены должна быть единой, в задачах не допускается никакой пестроты». (Там же).
Сентябрь 9 – 17
Проводит семь репетиций третьего акта «Горя от ума». Мизансценирует, уточняет ритм сцен и «кусков». Определяет поведение каждого актера на каждом новом «этапе» бала.
Сентябрь 17
После репетиции пьесы «Достигаев и другие» Леонидов записывает в дневнике: «Не стыдно показать Немировичу-Данченко». (Л. М. Леонидов, Воспоминания, статьи, беседы, переписка, записные книжки, стр. 411).
523 Сентябрь 20, 21, 26 – 28
Ведет репетиции «Горя от ума».
Сентябрь 22
Работает с Качаловым над ролью Чацкого: «В идеологическом смысле это очень ярко… Так просто, так легко, так содержательно вы никогда не играли». (Из стенограммы репетиции «Горя от ума»).
Сентябрь 26
Из впечатлений Немировича-Данченко от генеральной репетиции пьесы «Достигаев и другие»: «В третьем действии у С. Г. Ярова в роли Лаптева должен быть больший революционный пафос; Н. И. Дорохин создал настоящий образ большевика революционера331*, Ф. В. Шевченко все время в роли Меланьи несет “второй план”, все время живет своим — ненавистью к революции; режиссеры Л. М. Леонидов, И. М. Раевский должны обратить внимание на то, что спектакль еще перегружен паузами, подробностями, “вроде все главное”». (Из стенограммы репетиции).
Октябрь 3, 4
На репетиции «Горя от ума» работает с Качаловым и Тархановым. Доволен результатами работы Книппер-Чеховой над ролью Хлестовой: «И новее и жизненнее». (Из стенограммы репетиций).
Октябрь 5 – 17
Проводит девять репетиций «Горя от ума». Раскрывает взаимоотношения действующих лиц, уточняет их физическое самочувствие, определяет ритм сценического поведения332*, ищет точных и содержательных мизансцен; после общих сцен работает с отдельными исполнителями. Часто пользуется приемом режиссерского «показа». (Там же).
Октябрь 12
В письме к Тарханову: «Силу Ваших актерских свойств, Вашей богатой сценической палитры я особенно чувствовал все последнее время в наших встречах по “Горю от ума”». (Избранные письма, стр. 415).
Октябрь 17
«Ночью не спал, все думал о третьем акте “Горя от ума”, перебирал 524 в памяти всех действующих лиц: все играют хорошо, а чего-то нет. Значит, я виноват. Надо еще поработать, чтобы получилось нечто цельное, гармоничное. … А в этом акте есть перебарщивание в натурализм, т. е. подробности, не имеющие отношения к пьесе». (Из стенограммы репетиции).
Октябрь 21 – 26
Ведет репетиции «Горя от ума».
Октябрь 26
В ознаменование 40-летия МХАТ СССР имени Горького награждается орденом Трудового Красного Знамени.
Указом Верховного Совета СССР Глинищевский переулок, где проживает народный артист СССР Вл. И. Немирович-Данченко, переименован в улицу Немировича-Данченко.
В «Правде» опубликована статья К. Тренева «В. И. Немирович-Данченко».
Из статьи Л. М. Леонидова «Создатели Художественного театра»: «Немирович-Данченко актером никогда не был. И все же он прекрасно показывает актерам, перевоплощается, меткими деталями и штрихами рисует контуры задуманного образа, своим вдохновенным порывом зажигая всех участников спектакля. … И я лично могу сказать, что одним из моих (по мнению зрителей и критики) наиболее удачных актерских созданий был образ Дмитрия Карамазова, над которым я работал под руководством Владимира Ивановича. … И целый ряд других моих ролей… включая последнюю работу над Егором Булычовым, шаг за шагом лепился вместе с этим великолепным, изумительным мастером современного театра». («Известия»).
Из статьи Вл. И. Немировича-Данченко «Театр мужественной простоты»: «Художественный театр был революционным еще до Октября не только в искусстве, но и в жизни. Все наши тяготения, настоящие, душевные, были направлены к борьбе за прекрасное, свободное в жизни. Но бытовые условия, необходимость иметь связи со слоями, против которых шла революция, все это чрезвычайно отрицательно сказывалось на нашем политическом существовании.
… И с помощью этих, пришедших к нам от революции, новых идей мы выбрались из тупика. … Театр медленно, но прочно зажил жизнью революции, той жизнью, какая создавалась кругом. … Да, теперь это театр Горького!» (Там же).
Октябрь 27
Торжественное юбилейное заседание, посвященное 40-летию МХАТ. Присутствуют все члены Политбюро.
525 Из выступления Вл. И. Немировича-Данченко: «Наш сегодняшний праздник трогателен и прекрасен. О нашем настроении я могу сказать самыми простыми словами: мы счастливы. … Мы все сейчас великолепно сознаем, что если бы не было Великой Октябрьской социалистической революции, наше искусство потерялось бы и заглохло.
… Как честные художники, мы оценили грандиозную мощь революции и замечательное обаяние простых и мужественных людей, делающих эту революцию.
… Приблизившись к народу, мы увидели перед собой в театре изумительную аудиторию, необычайно чуткую ко всему глубокому и прекрасному. Мы увидели, что революция не только не помешала культурному расцвету, как это казалось некоторым представителям буржуазной интеллигенции, а наоборот, создала благодатную почву для подлинного расцвета культуры. Партия и правительство чутко и ласково следили за процессом нашей идейной эволюции. Это привело к тому, что я могу сейчас, в этот торжественный вечер, перед лицом всей советской общественности сказать, что мы, старики, прошедшие через три революции, пронесшие нашу любовь к искусству через все этапы развития Художественного театра, сейчас сильно, ярко и безоговорочно перековались в подлинно советских граждан, для которых нет ничего ценнее, чем интересы нашей великой Родины, чем идеалы социализма, который мы все вместе беззаветно строим». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 151 – 153).
Октябрь 30
Премьера «Горя от ума» в Художественном театре.
Ноябрь 6
В письме Веры Инбер: «Никогда не забуду работы под Вашим руководством. Это одно из чудесных воспоминаний, которое я изредка, по праздникам, извлекаю из своей памяти и любуюсь им». (Архив Н-Д, № 4174).
Ноябрь 27
Николаи Вирта приносит свою книгу «Закономерность» с надписью: «Немировичу-Данченко — признательный ученик».
Декабрь 3
Созывает старейших актеров Художественного театра для того, чтобы решить вопрос: ставить или не ставить пьесу Чехова «Три сестры»?
Декабрь 4
После просмотра репетиции «Половчанских садов» Л. Леонова беседует с режиссерами В. Г. Сахновским и П. В. Лесли.
526 Декабрь 8
«Мне казалось, что “Половчанские сады” будет совершенно новая настоящая советская пьеса в духе “Чехов в современности”, “Чехов в социалистическом реализме”, не Чехов дореволюционный, а каков он был бы теперь… Чехов в современном мажоре». (Из стенограммы репетиции).
Декабрь 9
Репетируя «Половчанские сады», раскрывает, что такое «второй план». «Даже когда птица ходит, видно, что она умеет летать. Так и здесь. Они ходят, разговаривают, а я вижу, что они великолепные большевики, потому что они сильные, уверенные хозяева жизни. Хотя приехали на отдых, но у каждого есть крепкая, большая мысль — работа». (Там же).
Декабрь 11
Говорит о различии Леонова и Чехова: «… В пьесах Чехова — тоска по лучшей жизни. А у Леонова совсем другое. Здесь другая поэзия… У Чехова — тоска по жизни, а здесь жизнь пришла очень сильная, яркая. И театр и поэт показывают сильных людей, с благородными чувствами, людей, которые строят заводы, пускают новые паровозы, и все это не для своего личного счастья, а для торжества общечеловеческой идеи, для социализма, для коммунизма». (Там же).
Декабрь 15, 23
Просматривает репетиции возобновляемого спектакля «Смерть Пазухина».
Декабрь 26 – 28
Проводит три репетиции «Половчанских садов» в присутствий автора. Говорит актерам о том, как важно выбрать верную задачу. «Выбор задачи лежит не на поверхности роли (первые слова, первые обстоятельства данной фабулы), а в каких-то подводных течениях, в зависимости с: стиля спектакля и жанра: драма ли это, комедия, или трагедия и т. д.» (Из стенограммы репетиции).
Декабрь 30
На репетиции «Половчанских садов» ищет и устанавливает мизансцены первого акта.
Декабрь (конец)
Беседует с Н. Виртой по поводу его пьесы «Заговор»333*. «Все эти критические замечания по образам, по конструкции пьесы 527 вызывали во мне не протесты, а новые мысли, новые решения ситуаций, положений и т. д. — это была творческая критика большого мастера, настраивающая на работу, толкающая на новые поиски». (Н. Вирта, «Театр получит новую пьесу». «Горьковец» от 1 января 1939 г.).
1939
Январь 16
Впервые встречается с исполнителями «Трех сестер». Подробно и точно анализирует пьесу и образы: «Наша задача должна быть простая, можно оказать, художественно честная: мы должны взять эту пьесу и относиться к ней, как к новой, со всей свежестью нашего художественного подхода». (Из стенограммы репетиции).
Январь 19
«Тургенев, Гончаров, Островский, Гоголь, Писемский — все это разные писательские образы. В чем они разные? Разбирать это аналитически очень важно для вашей актерской деятельности, для того, чтобы прийти к созданию авторского стиля в спектакле, к созданию верных образов.
… определение внутренних актерских задач диктуется автором, лицом автора, не только данным куском текста, но именно лицом автора». (Из беседы с молодежью. Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 225).
Январь 20
Ведет репетицию «Половчанских садов». Указывает на то, что боязнь пафоса в изображении строителей жизни может привести актеров к тусклости, банальности, сентиментальности: «Или мы играем Леонова, или не играем. А если играем, нам на свои лады переделывать никак нельзя. Не бойтесь играть очень ярко». (Из стенограммы репетиции).
Январь 21
«Боязнь красивости убивает стремление к красоте — вот недостаток нашего Художественного театра». (Там же).
Январь 24
Работает над сценой Маши и Ручкиной в первом акте «Половчанских садов» (с В. А. Вронской и С. С. Пилявской).
Январь 28
Репетирует четвертое действие «Смерти Пазухина».
528 Январь 29
Беседует с директорами и режиссерами периферийных театров: «В сущности говоря, директор, администрация, здание театра, все служащие, художники, декорации, оркестр — все это существует только для того, чтобы актер пришел на сцену и сыграл спектакль. Только для этого! Вот для этих секунд, минут проявления творческого гения, творческой вдохновенности, творческой передачи в публику замыслов писателя…
Директор театра, по-моему, должен иметь какое-то “директорское” дарование». (Г. А. Заявлин, «Вл. И. Немирович-Данченко — директор театра», «Ежегодник МХТ» за 1946 г., стр. 425 – 426).
Февраль 3
Репетирует «Половчанские сады». Набрасывает эскиз образа Маккавеева. Показывает, как он ходит, в каком ритме, о чем думает и т. д. Говорит М. П. Болдуману: «На каком-то маленьком случайном куске вы останавливаетесь, привлекаете внимание и снижаете значение самого содержания. Я говорю про эту пестроту мелочей, ненужную для пьесы, для сквозного действия и идеологии. Никакого раздражения у Маккавеева нет. Вы снижаете Маккавеева, а я его защищаю. Он заботится о плане, который пойдет в Москву на утверждение. Он хочет, чтобы план выполнялся». (Из стенограммы репетиции).
Февраль 4
На репетиций сцены сыновей из второго акта «Половчанских садов» помогает актерам создавать образы советских людей: «… Никакой нервности… это — всякая сила: сила уверенности, сила физическая, сила мысли, сила пафоса, сила коллектива, сила всей страны, вся простая, ясная, крепкая, здоровая силища. Мысль моя здоровая, желания мои здоровые, отношение к женщине здоровое, к работе — здоровенное, чувство к родине — ясное, чистое, крепкое, сильное, здоровое. Никакого местечка нет для нервного сомнения, рефлексии. Дряблое — это не здесь, вон с дороги. Надо строить заводы, дороги, вооружение… Вот они все такие. В этом и силища Маккавеевых». (Там же).
Февраль 5
Анализирует на репетиции «Половчанских садов» образ озлобленного, опустошенного врага Пыляева. Обращает внимание на то, что «все называют его Пыляев (пыль, пыльный человек), а он именует себя Пылаев (пылать)». Намерен просить Леонова «разработать это так ясно, чтобы зритель 529 уловил смысл этого, а не воспринял бы как путаницу в фамилиях». (Там же).
Февраль 8 – 9
Ведет репетиции второго акта «Половчанских садов». Находит «вольные», без определенного рисунка мизансцены, образующиеся от того, что каждый идет «по какой-то своей дорожке действия». (Там же).
Февраль 18
Поздравляет бойцов, командиров и политработников РККА «с великим днем принятия присяги». (Черновик, статьи для «Красной звезды». Архив Н-Д).
Март 23
Режиссеры П. А. Марков и П. С. Златогоров показывают Владимиру Ивановичу подготовленные ими пять картин оперы Т. Хренникова «В бурю».
Март 25
Беседует с режиссерами и исполнителями оперы «В бурю», доказывает, что в центре первой картины должна быть не деревенская гулянка, а эвакуация коммунистов, чтобы с самого начала ощущалась тема бури, борьба коммунистов с бандой Антонова. Анализирует образ коммуниста Листрата.
Март 26
Нездоров. В столовой своей квартиры репетирует сцену Маши и Отшельникова334* из третьего акта «Половчанских садов»: «Я все более и более замечаю, что я театральнее, чем Художественный театр: я люблю большие театральные взрывы. Но, конечно, не штампованные, а настоящие». (Из стенограммы репетиции).
Март 28
На репетиции оперы «В бурю» говорит: «Наше искусство найдет себя по-настоящему только в советской опере, потому что советская опера пишется по нашему направлению глубокого внутреннего психологического содержания. Мы благодаря советской опере придем к достижениям. И тогда нас уже не догнать… В старой опере — зеркальное отражение психологии, а не сама психология»335*.
530 Март 29
Репетирует картину «У Мавры», встречу двух братьев — Листрата и Леньки336*. (Опера «В бурю»).
Март 31
На репетиции шестой картины оперы «В бурю» добивается того, чтобы участники хора стали живыми реалистическими фигурами крестьян. «У вас задача — прослушать Фрола Баева серьезно, глубоко. Это жизненный вопрос каждой хаты, каждой семьи, каждой деревни — всей страны. Поэтому мелко, сладко принимать рассказ Фрола о встрече с В. И. Лениным никак нельзя. И настроение глубоко серьезное». (Из стенограммы репетиции).
Апрель 1
Дома репетирует отдельные сцены «Половчанских садов».
Апрель 2
Беседует с художником В. В. Дмитриевым и режиссером В. Г. Сахновским о декорациях «Половчанских садов».
Апрель 3
Приветствует Декаду киргизского искусства в Москве.
Апрель 8
Работает с актерами, занятыми в «Половчанских садах».
Апрель 9
«Сущность Пыляева — бешенство зависти и ненависти, и сущность эту актер должен обнаружить. … К Маккавееву у него зависть, как и ко всем победителям жизни. “Половчанские сады” — победа социализма, а Пыляев разлагающийся ненавистник, который ненавидит это, завидует, чувствует, что все кончилось… На границе у него скверный шпионаж, мелкий, дряной, на котором он погибнет. Это гнойный волдырь зависти и ненависти, который даже скрыть нельзя». (Из стенограммы репетиции).
Апрель 10
На репетиции «Половчанских садов» говорит, что пьеса, в которой ощущается силища новой жизни, поэзия труда Половчанских садов, «победа социалистической работы», по его мнению, засорена сценой вечеринки, сценой Дуси и Виктора и т. д. «Я нисколько не умаляю достоинств Леонова, 531 очень высоко его ценю. Тем не менее театральный вкус его мне не очень по душе»337*. (Там же).
Апрель 11
Проверяет шумы военных маневров в «Половчанских садах», потом репетирует третий акт.
Апрель 14 – 29
Проводит еще одиннадцать репетиций «Половчанских садов».
Апрель 29
После репетиции «Половчанских садов» беседует с Леоновым.
Май 3
Волнуется перед приближающейся премьерой пьесы Леонова: «Как будто это третья-четвертая постановка в моей жизни, а не сотая. Примут — счастье, не примут — несчастье… Общее спокойствие у меня есть, и вас хочу заразить им… Мы искали новых сценических возможностей, чтобы привнести на сцену то лучшее в Леонове, что мы в нем оценили, — поэзию и благородство его образа мысли в какой-то приподнятости от жизни и тем не менее в жизненности, в каком-то влиянии на него лучших образцов русской литературы, в какой-то душевной простоте». (Из стенограммы репетиции).
Май 4
«У театра была опасность либо попасть в плакат, либо захолодить… Очень важно… для хорошего реального искусства, чтобы во втором действии из этого простого реализма выросла философская идея». (Из выступления на заседании реперткома по «Половчанским садам». Стенограмма. Музей МХАТ).
Перед премьерой дорабатывает отдельные сцены «Половчанских садов», говорит актерам: «… Играть современную пьесу надо так, как Качалов читает Маяковского. Если вы будете крепко убеждены, что несете Родине всю свою жизнь и все свое внимание, но не впадете при этом ни в мелкую “простецкость”, ни в декламационность, сохранив настоящий реализм, — вы можете смело говорить на сцене 532 громкие, большие слова и не бояться фальши. Это — путь слияния искусства Художественного театра с советской драматургией». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи, Речи. Беседы. Письма, стр. 316).
Май 6
Выступает перед зрителями первого спектакля «Половчанских садов».
Май 7, 8
В Музыкальном театре ведет репетиции первого акта оперы «В бурю».
Май 9
Вносит изменения в финал второй картины третьего действия «Половчанских садов», репетирует финал четвертого действия.
Май 10
В газете «Ленинская смена» (город Горький) в связи с гастролями МХАТ напечатана статья Немировича-Данченко «Волнующая встреча». «Здесь, в городе Горьком, на гигантских заводах и фабриках, созданных народом под руководством партии большевиков, тысячи старых кадровых рабочих, осуществивших горьковские мечты, вспоминают его постоянно… Для них… мы будем счастливы распахнуть занавес в спектаклях театра Максима Горького…».
Май 11
Репетирует первую картину оперы «В бурю»: «Имейте в виду, что есть на сцене всегда какой-то центр, куда направлено все внимание зрителя. Если кругом происходят еще какие-то действия, совершенно отрезанные, совершенно чужие этому главному действию, то они только портят. Это очень дурная натуралистическая манера, что в толпе каждый живет какой-то своей жизнью. Вся толпа должна жить тем, что привлекает внимание зрителя к главному действию, тем, что происходит в центре. Уход партизан, столкновение Листрата со Сторожевым — это очень важно. Если в толпе один будет заниматься ружьем, другой сумкой, третий разговором, что якобы дает живую толпу, — это устарелый дурной прием. Сорок лет тому назад Художественный театр к этому прибегал и давно это бросил. А в опере это совершенно недопустимо. Необходимо помнить о главном, а главное — это все время война двух лагерей. … Придумывание каких-то задач, не связанных с главной осью, — беда нашего театра» (Из стенограммы репетиции).
533 Май 13
Днем в театре репетирует сцену приезда Антонова, вечером, у себя дома, работает с А. Е. Кузнецовой и З. М. Эфросом над дуэтом Наташи и Леньки из оперы «В бурю».
Май 14, 15
Работает над вторым действием оперы «В бурю».
Май 16
«Мелодрама — когда внешнее выражение сильнее внутреннего». (Из стенограммы репетиции оперы «В бурю»).
Май 19
Репетирует четвертую картину оперы «В бурю». На репетиции присутствует композитор Т. Хренников.
Май 20
Работает с исполнителем роли В. И. Ленина — И. А. Петровым и исполнителем роли Фрола Баева — А. А. Корсуновым.
Май 21
На репетиции оперы «В бурю» отказывается от привычно помпезного оперного финала, ищет формы строгой и мужественной, раскрывающей идейное, психологическое и эмоциональное содержание последнего эпизода.
Май 22, 23
Ведет репетиции оперы «В бурю». Работает с актером И. Г. Блинковым, играющим Фрола. Придает большое значение тому, как Фрол рассказывает о своей встрече с В. И. Лениным. (Из стенограммы репетиции).
Май 25
Работает с И. А. Петровым над ролью В. И. Ленина: «Не нужно бояться пауз, не скачите. Вообще у вас есть план очень правильный и хороший. У меня было опасение, что наиграете, но нет, вы сильно этим всем живете». (Там же).
Май 26
Ведет репетицию оперы «В бурю» в присутствии делегатов конференции по советской опере.
Май 27
Репетируя оперу «В бурю», говорит о том, что режиссер и актер, отображая жизнь, должны уметь отбросить случайное и отобрать наиболее яркое и отчетливое.
534 Май 28
Репетирует партизанские сцены из оперы «В бурю». Напоминает о том, что каждый «артист хора играет коммуниста, героя, готового на любые жертвы ради победы». (Из стенограммы репетиции).
Май 30
На репетиции «В бурю» Владимир Иванович утром и вечером работает с А. Н. Аникиенко над ролью коммуниста Листрата. Указывает ему на то, что он неверно переходит от арии к прозаической речи (Листрат отдает распоряжение, диктует приказы). «Это должна быть музыкальная роль… У вас распоряжения вдруг прозаические, не из оперы, не из музыкального произведения, даже не из сценического… Должно быть так, как будто вы стихотворение читаете, подъем у вас должен быть, и от этого подъема перейдете опять к арии». (Там же).
Май 31
Тихон Хренников посвящает свою оперу «В бурю» Владимиру Ивановичу.
Июнь 1
Говорит о том, что в спектакле «В бурю» запечатлены принципы его Музыкального театра338*. «Артист у нас живет страстью образа, и пение — это его средство». (Из стенограммы обсуждения спектакля «В бурю». Музей Музыкального театра).
Июнь 11
Находится на даче в Горках и передает для выставки к конференции режиссеров свое высказывание о драматурге Треневе: «Чем Тренев зажигает режиссера? Правда. Вкус. Живые образы. Юмор. Язык, не механически записанный из жизни, а творчески из жизни созданный. Большая, сквозная идея. Великолепная выдумка. Несмотря на сценическую бесформенность, каковую надо преодолевать театральной техникой». (Машинописная копия. Архив Н-Д, № 7742).
Июль 9
«… мы только 4-го переехали из Парижа сюда, в Evian.
535 … по приезде в Париж я почувствовал себя таким усталым… В 10 часов я уже был в постели. Это в Париже-то! В разгар сезона.
… Когда встречаются разногласия между мною и единогласием в нашем управлении, я не возражаю. Оставляю за собой право врываться в решительных случаях. Так насчет “Периколы” не возражаю, но остаюсь при особом мнении. Для “кассы”, может быть и хорошо, но это будет после “Елены” много шагов назад! А тогда я и кассе радоваться не способен.
Вообще… боюсь торжества такой тенденции… все вширь и вширь. А не вглубь. … Вширь — это значит сплошные замены первых сил вторыми, это значит — мириться каждодневно то с одним ляпсусом, то с другим, не замечать, как изо дня в день снижаются требования, а вместе с этим растет и самодовольство…». (Из письма к Е. Е. Лигской. Избранные письма, стр. 416 – 417).
Август
В журнале «Театр» (№ 8) — статья П. И. Новицкого «Станиславский и Немирович-Данченко».
Август 26
В письме М. П. Лилиной к С. М. Зарудному: «Судьба столкнула меня здесь [в Барвихе] с Владимиром Ивановичем. Он был прост и внимателен. Выглядит он хорошо и сегодня уже возвращается в Москву на работу; говорит: уйду с головой в “Три сестры”. Но не удастся ему восстановить то, что было». (Архив М. П. Лилиной. Музей МХАТ).
Август 27
Встречается с труппой Художественного театра перед началом сезона. «Набрался я большой энергии и приехал сюда теперь опять немножко прежним директором. Так и ждите от меня и каких-то реформ (аплодисменты) может быть, и каких-то больших неприятностей… Без настоящей радости творчества нет. А вот эту творческую радость в наших работах, репетициях я полностью не улавливаю! Ее было мало…». (Из стенограммы выступления. Архив Н-Д).
Август 29
В письме к труппе МХАТ: «Уже давно на всех репетициях я твержу о необходимости самого внимательного отношения к авторскому тексту, требую точной передачи фразы, … впредь буду рассматривать упорный отход от авторского текста как нарушение трудовой дисциплины…». (Избранные письма, стр. 418).
536 Август 31, сентябрь 4
Встречается с молодежью МХАТ, которая читает ему рассказы, басни, стихи, показывает отрывки из спектаклей.
Сентябрь 1
Спустя три года после премьеры «Любови Яровой» беседует с исполнителями, говорит о том, что «утеряно настоящее зерно спектакля и сошли на веселый ремесленный спектакль». Репетирует сцену освобождения коммуниста Кошкина и митинг в финале акта: «Когда вы несете Кошкина, у вас горят глаза победой, торжеством, а не мягкой, приятной радостью. Огневая победа… Нельзя прекращать настроение революционной расплаты… В самой высокой степени мужественность, без всякой сентиментальности. А то это сахар, патока, слащаво…» Владимир Иванович показывает актерам, исполняющим роли рабочих, как они относятся к Яровой, просит их «не терять физического действия» и доносить слово так, чтобы оно было насыщено главной художественной задачей. Предлагает провести несколько репетиций. «Ведь спектакль от сезона к сезону должен быть лучше». (Из стенограммы репетиции).
Сентябрь (после 3)
Из письма режиссеру спектакля «Любовь Яровая»: «Мои впечатления о спектакле 3 сентября. … В большинстве сцен первых трех актов я чувствовал себя в настоящем Художественном театре. Этого со мной не было в спектакле “Любовь Яровая” давно. … Исполнители первых ролей… сумели благодаря великолепному мастерству переключить свое самочувствие от невольного стремления к грубой плакатности, чем отличалось исполнение предыдущих спектаклей, к глубокому внутреннему содержанию.
Плакатность выражалась в крикливой подаче слов или эффектных фраз, в невнимании к тому, что требует мысль, в отсутствии искания того ответа нервов, какого требуют мысль, идея спектакля, зерно, сквозное действие и т. д. … актеры … достигли того, что вся плакатность улетучилась и осталась жизнь настоящих художественных образов во всех подробностях спектакля». (Избранные письма, стр. 418 – 419).
Сентябрь 4
На занятиях с молодежью говорит о том, как нужно показывать на сцене большевика Давыдова из «Поднятой целины» Шолохова. Добивается, чтобы молодой актер донес то, что так удалось Шолохову в «Поднятой целине», — национальный склад русского, советского героизма, шолоховское понимание национального характера, того, «что есть в гении 537 нашего народа: соединение громадного героизма с невероятной простотой и юмором, не оставляющим русского человека чуть ли не за три секунды до смерти. Слияние этого есть гений нации». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 237).
Сентябрь 5
Приходит на репетицию «Трех сестер». «Владимир Иванович скромно садится несколько поодаль от столика, заботясь о том, чтобы его вид не напоминал экзаменатора. Репетиция начинается. Актеры, с трудом преодолевая волнение, входят в образ, в пьесу». (В. В. Глебов, «Владимир Иванович в работе над спектаклем “Три сестры”», «Горьковец» от 24 апреля 1940 г.).
Беседуя после репетиции с актерами и режиссерами Н. Н. Литовцевой и И. М. Раевским, Владимир Иванович определяет «зерно» спектакля: «тоска по лучшей жизни… чтобы это звучало каждую секунду… неудовлетворенность настоящим. Это в душе актера постепенно наживается, вынашивается. … У Чехова все действующие лица обособленные. Общение должно быть поэтическим, художественным, а не наглядно прямолинейным». (Из стенограммы репетиции).
Сентябрь 9
«Как так глубоко жить образом, чтобы можно было на сцене очень много молчать? … Думать о “зерне”, как можно глубже об этом думать. … О том, чем вы всеми нервами будете жить… и упорно ассоциировать это с собственными переживаниями… ваша мысль должна полететь на нервную систему, на трофику так называемую. … В конце концов моя мысль нащупает те самые нервы, которые нужны, которые бы в жизни реагировали. Так, мне кажется, наживается образ… Надо распахать свою актерскую душу… Главное — ничего не играть… ни характеров, ни образов, ни настроений, ни положений, ни чувств». (Там же).
Сентябрь 10
«Текст у Чехова приподнятый, поэтический, как стихотворение в прозе. Если попадете в декламацию, это будет плохо. Но мы не можем уйти в декламацию — настолько мы реальные актеры». (Там же).
Сентябрь 11
Ведет репетицию «Трех сестер».
Сентябрь 12
Перед открытием сезона беседует с коллективом Музыкального театра: «Легко это или не легко, нам надо стремиться 538 поднять вокал». (Из стенограммы беседы. Музей Музыкального театра).
Сентябрь 14
После репетиции «Трех сестер» А. К. Тарасова, репетировавшая роль Маши, говорит Владимиру Ивановичу: «Вы нам задаете очень большую, трудную задачу. … А как нажить внутренний груз?» Владимир Иванович: «Как Блок читал свои стихи — почти не возвышая голоса, но чувствовалась такая громадная глубина. … Мне хочется заразить вас не только общностью идеи чеховской пьесы, но и общностью чеховских приемов. … Надо брать сущность. И от сущности придет и стиль и характерность». (Из стенограммы репетиции).
Сентябрь 15
Работает с Н. П. Хмелевым над ролью Тузенбаха. «Если Тузенбах будет бодрый до горьковских нот, я скажу: это не чеховское произведение. У него нет бодрости горьковской». (Там же).
Сентябрь 16
«Что вы думаете сейчас, когда за кулисами готовитесь к выходу? Куда мысль посылаете? По-моему, надо непременно к зерну пьесы — тоска по лучшей жизни и “долг”. А как это у меня проходит в роли?.. Накопить это, чтобы не выйти на сцену пустым. А потом уже мысль о ближайшей задаче: сейчас моя ближайшая задача на сцене такая-то».
Исходя из «ближайшей задачи», выросшей из зерна спектакля, Владимир Иванович поправляет Н. П. Хмелева, который слова Тузенбаха, обращенные к Соленому («такой вы вздор говорите…»), смягчает улыбкой. Улыбка, по мнению Владимира Ивановича, не нужна, так как в четвертом акте Соленый убивает Тузенбаха, «и не нужно терять ничего из того, что обнаруживает враждебность их отношений». (Там же).
Сентябрь 19
Дома снова читает пьесу «Три сестры».
Сентябрь 20
Ведет репетицию «Трех сестер». Определяет, какое «физическое самочувствие» в ночь пожара у разных людей, — у старой няньки, которая сбилась с ног, у Кулыгина, который устал и испытывает желание соснуть, у Вершинина, нервы которого трепещут, у Чебутыкина, находящегося в состоянии запоя, и т. д.
539 Сентябрь (конец)
Ведет репетиции оперы Т. Хренникова «В бурю».
Сентябрь
В журнале «Литературный критик» (№ 8 – 9) напечатана статья А. Роскина «Немирович-Данченко и его книга» (о книге «Из прошлого»).
Октябрь 1
Репетирует пятую картину оперы «В бурю» — «В Кремле» (в приемной у Ленина). Обдумывает сцену появления Ленина, ищет точные и содержательные мизансцены, раскрывающие значение встречи В. И. Ленина с тамбовскими крестьянами. Говорит И. А. Петрову: «У вас шло больше всего от характерности, от желания воссоздать сходство с В. И. Лениным… (Владимир Иванович снова показывает всю сцену Ленина). Все должно стать глубже и сильней. Вот я не играю характерности, а живу только содержанием сцены… Ленин должен решить большое, громадное дело… действует Ленин, к которому крестьяне пришли за правдой, словно вся драма предыдущих актов пришла сюда — в эту сцену, в кабинет Ленина. Утверждение большевистской ленинской правды — идея оперы “В бурю”». (Из стенограммы репетиции).
Октябрь 2
На репетиции оперы «В бурю» говорит о задачах хора в четвертом действии: «Вы все со страшной жадностью слушаете Фрола Баева, потому что в каждом слове Баева есть громадная правда. Вся опера в исканиях этой большой правды: нет правды, нет правды, Антонов пришел — нет правды! Как найти правду? И вот наконец Фрол Баев пошел за большой правдой в Кремль, к Ленину и принес эту правду. Вы жадно ловите каждое его слово, от этого зависит вся жизнь — всем своим существом, вот как вы слушаете. Ни одного равнодушного лица, ни одной равнодушной позы… Напряженнейшее внимание, никаких движений… насыщенность настоящими человеческими переживаниями… Приближаетесь к слову “Ленин”». (Там же).
Октябрь 3 – 5, 7
Ведет репетиции оперы «В бурю».
Октябрь 8
Первое представление оперы «В бурю».
Октябрь 9
В газете «Горьковец» напечатана статья Немировича-Данченко 540 о Б. В. Щукине — «Тяжелая утрата»: «От мягкого юмора в “Турандот”, от этой обаятельной простоты и тонкой, изящной интимности с театральным залом; через глубокий по социальному и психологическому содержанию образ Булычова, в мужественной артистической форме, без малейшей сентиментальности и холодного рационализма, сдержанной и в то же время яркой, сценической и навсегда запоминающейся; к чудесному, меткому и захватывающему рисунку в роли Ленина, — вот в двух словах короткий, но блестящий путь Щукина. И как скорбно, что этот путь так рано оборвался!..».
Октябрь 11
В «Правде» — статья В. И. Немировича-Данченко и П. А. Маркова «К постановке оперы “В бурю”».
Октябрь 22
Говорит А. Н. Грибову после репетиции «Трех сестер»: «У вас в Чебутыкине артистическое зерно исполнения, художественное зерно очень хорошее, верное, крепкое, согретое… Но распределено… слишком равноценными кусками. Какой-то кусок сильнее должен быть». (Из стенограммы репетиции).
Октябрь 26 – 28
Репетирует «Три сестры». Работает с В. А. Орловым над ролью Кулыгина; спорит с Б. Н. Ливановым о трактовке образа Соленого; подробно останавливается на сцене Андрея и Ферапонта, исполняемой В. Я. Станицыным и Н. А. Подгорным; проходит с А. К. Тарасовой сцену «покаяния» Маши.
Октябрь 29
Просмотрев два акта балета Б. В. Асафьева «Ночь перед рождеством», поставленного Ф. В. Лопуховым, В. П. Бурмейстером, П. А. Марковым, беседует с балетным коллективом Музыкального театра: «Много выдумки хорошей. И М. С. Сорокина (Солоха) и А. А. Урусова (Оксана) превосходны». (Из стенограммы беседы. Музей Музыкального театра).
Октябрь 30
Из письма Асафьева: «А я — увы — композитор с детских и юных лет. Меня за это ласкали Стасов, Репин, Лядов… Мне особенно дорог Ваш привет и то, что “Ночь [перед рождеством]” пойдет в Вашем, любимом мною театре». (Архив Н-Д, № 3114).
Ноябрь 1
После репетиции «Трех сестер» работает с художником 541 В. В. Дмитриевым над макетом декораций третьего действия: «В основном макет принят, но необходимо его сделать более близким к первому акту — сейчас это как будто комната другого дома». (Из протокола репетиции).
«Посылаю Вам… “Кесарь и комедианты”. Извините, что беспокою Вас, — читать второй раз да еще такую длинную пьесу. Искренне благодарен Вам за Ваше отеческое обо мне попечение и отеческие надежды, — думаю, что когда-нибудь оправдаю их. Всеволод Иванов». (Архив Н-Д, № 4139/1).
Ноябрь 2
Дома работает с Тарасовой над ролью Маши.
Ноябрь (до 9)
Владимир Иванович предлагает Леонидову вместе ставить трагедию Шекспира «Гамлет».
Ноябрь 10, 11, 13
На репетициях «Трех сестер» работает над сценами Ирины и Тузенбаха с А. О. Степановой и Н. П. Хмелевым. Потом занимается с А. К. Тарасовой (Машей) и В. Л. Ершовым (Вершининым). Ищет жизненных и точных мизансцен, в которых заложено «зерно» спектакля, его идея и сущность.
Ноябрь 18
Посылает приветственную телеграмму правительственному Комитету по празднованию юбилея Коста Хетагурова.
Ноябрь 29
Вместе с художником Дмитриевым и исполнителями «Трех сестер» уточняет, когда именно в первом и втором действиях будет поворачиваться круг сцены, в каком ритме, темпе и т. д.
Декабрь 2
Репетирует первый акт «Трех сестер», следя за тем, чтобы не потускнели чеховская бодрость, чеховский юмор: «Ирина сияет, Тузенбах в бодром, крепком настроении, он шутит, предупреждая, что Вершинин будет обязательно говорить о своих девочках»339*. (Из стенограммы репетиции).
542 Декабрь 8
У себя дома с Качаловым работает над ролью Вершинина.
Декабрь 9
Мизансценирует первое действие «Трех сестер» до монолога Тузенбаха — «Тоска по труде». Чтобы создалось впечатление большей обособленности, одиночества Маши, пересаживает ее (А. К. Тарасову) к столу справа (раньше она сидела в середине комнаты, в кресле). Показывает К. Н. Еланской, как ходит Ольга, на ходу поправляя тетради, останавливаясь у рояля, охваченная воспоминаниями. Ирину ставит у окна (раньше предполагалось, что она будет поливать цветы). «Ирина в достоянии огромного подъема, “полета”. Тузенбах все время ходит. То одной (сестре), то другой рассказывает». (Из стенограммы репетиции).
Декабрь 10
«Как произносить монолог Тузенбаха “Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая сильная буря”? Сидя или стоя? Пафос монолога провести через художественность. А как провести? Жизненностью. А жизненности может помочь мизансцена. В каком-нибудь другом театре режиссер захочет подчеркнуть социальный характер этого монолога, предложит актеру встать в позу! И даже аплодисменты будут в зале и критика за это похвалит. Но нам не это интересно»340*. (Там же).
Декабрь 11, 14
Ищет живописно-выразительных, сценичных и в то же время жизненных мизансцен, не нарушающих логики поведения каждого действующего лица.
Декабрь 15, 16
Репетирует первое действие «Трех сестер». В протоколах репетиций запись: «Владимир Иванович мизансценировал почти весь первый акт. Осталось закончить только сцену Андрея с Наташей и приход офицеров в финале акта».
Декабрь 19
В «Правде» сообщение ТАСС — «Успех оперы “В бурю”»: 543 «Большой подъем вызвала картина, когда появляется В. И. Ленин, образ которого воссоздан артистом И. А. Петровым».
Декабрь 20 – 23
Ведет репетиции «Трех сестер».
Декабрь 28
На репетиции «Трех сестер» спорит с Ливановым о роли Соленого. Говорит ему, что у него пропадает чеховский юмор, что он не видит чеховской усмешки: «У вас по-актерски очень выразительно, но это еще не тот образ, он у вас немного романтический. А у Чехова Соленый под романтизм работает, а не то что Соленый — романтик… Можно впасть в карикатуру — тогда ничего не выйдет». (Из стенограммы репетиции).
Декабрь 29
Репетирует второе действие «Трех сестер». Работает с А. П. Георгиевской над ролью Наташи. «В первом акте она вошла барышней, а здесь — хозяйкой». (Там же).
1940
Январь 1
В газете «Горьковец» фото — Владимир Иванович на избирательном участке в день выборов в местные Советы депутатов трудящихся.
Январь 4, 5
Вызывает к себе на квартиру Тарасову, Болдумана, режиссера Раевского для работы над ролями Маши и Вершинина.
Январь 8
«Владимир Иванович вместе с режиссурой, актерами и постановочной частью просматривал выгородки декораций третьего и четвертого действий “Трех сестер”. Тут же на сцене делались наметки мизансцен. Третий акт остался почти без изменений. В четвертом вместо крыльца поставлена терраса для Чебутыкина. Декорации все утверждены и пошли в работу». (Из протокола репетиции).
«В высшей степени обрадован Вашим вниманием к “Ночи”341* и тем, что спектакль осуществлен под Вашим авторитетнейшим 544 руководством». (Из письма Б. В. Асафьева к Немировичу-Данченко. Архив Н-Д, № 3115).
Январь 9
Ведет репетицию «Трех сестер». Говорит А. Н. Грибову: «У вас в третьем действии тоска тягучая. По-моему, у Чебутыкина тоска буйная, в клочья рвет тоска, а не тоска второго действия»; характеризует психофизическое самочувствие Вершинина: «Жить хочется чертовски»; «Маше становится жутко, страшно и радостно». (Из стенограммы репетиции).
Январь 10 – 16, 24
Ведет репетиции «Трех сестер».
Январь 26
«Очень настаиваю на том, что в спектакле надо вскрыть мысль Чехова, а не только лирику. Лирика придет сама собой, от настроения, от комнаты, от пения». (Из стенограммы репетиции).
Просматривает макет декораций первого акта «Трех сестер». «Оставив всю прежнюю планировку, художник и постановочная часть изменили, по совету Владимира Ивановича, тон переднего занавеса и сукон на сцене. По панели стенок сделан орнамент по примеру занавеса. На падуге, находящейся на середине сцены, помещена “Чайка”. За окнами вместо сада те же сукна, на фоне которых редкие голые стволы берез». (Из протокола репетиции).
Январь 28
Из стенограммы репетиции «Трех сестер»: «Самое важное — синтетическое самочувствие образа»342*.
Февраль 28
Из письма Владимира Ивановича к неизвестному адресату: «С месяц назад я заболел, очень сильно. … Можно было ожидать конца, ведь 81 год! Но оказалось, сколочен крепко. Вот уже две недели я в санатории “Барвиха”… Благодарю Вас за чуткое и трепетное письмо.
545 Одиночество? Я так окружен множеством людей, которым я нужен и многие из которых поэтому меня даже любят, что полосы одиночества не могут быть длительны. И оно никогда не тяготит меня. А “призрак смерти” пока никогда не страшил меня, хотя он всегда от меня недалеко… Если же есть все-таки много мыслей и чувств, которыми ни с кем не делишься, — да словно остерегаешься обидеть эти мысли и чувства, не обратились бы они в болтовню… Что же поделаешь?..» (Избранные письма, стр. 421 – 422).
Март 14 – 28
Каждый день репетирует «Три сестры».
Март 26
В «Известиях» напечатаны заметки Немировича-Данченко об игре молодых актеров в спектаклях Музыкального театра «Паяцы» и «Цыганы».
Апрель 1
Режиссеры П. А. Марков и Д. В. Камерницкий показывают Немировичу-Данченко пять картин поставленной ими оперы советского композитора Л. И. Ходжа-Эйнатова «Семья».
Апрель 2
Перед репетицией «Трех сестер» говорит: «Мучительно думаю, все перебираю… чего еще не хватает». (Из стенограммы репетиции).
Апрель 3, 4
Репетирует «Три сестры»: «Мне этот спектакль очень дорог… Когда прошло сорок лет, нет смысла ставить по-старому. В работе над “Тремя сестрами” мы пошли вперед343*. И по глубине, и по простоте… Искусство должно быть молодо». (Там же).
Апрель 11
Смотрит всю пьесу «Три сестры», потом беседует с исполнителями. Говорит Ливанову об исполнении роли Соленого: «У вас выходит монстр. У вас великолепный синтез глубины и артистически сделанной характерности. Но глубина постепенно может быть меньшей и меньшей, а характерность большей… Обратите на это внимание. Глядите, чтобы не вышло: среди обыкновенных людей — монстр». (Там же).
546 Апрель 14
Репетирует с Болдуманом все сцены Вершинина. Работает над финальными сценами первого и третьего действий.
Апрель 16
Делится впечатлениями о генеральной репетиции «Трех сестер»: «У К. Н. Еланской последний монолог — “Придет время, счастье и мир наступят на земле” — это подарок… Сама взволновалась, слеза появилась, взмахнула и бросила в зал. Это было очень сильно. Это секунды, для которых существует театр… самое настоящее вдохновение». (Из стенограммы репетиции).
Апрель 17 – 20
Генеральные репетиции «Трех сестер».
Апрель 18
Из воспоминаний театрального критика Ю. Юзовского о генеральной репетиции «Трех сестер»: «Поднялся занавес. Два акта, включая антракт, я сидел как прикованный — я не помню, чтобы я в своей жизни когда-либо испытывал что-либо подобное, подобную духовную полноту и счастье, я не знаю, какое из благ мира могло бы сравниться с этим благословенным утром в Московском Художественном театре. Я понял, что спектакль этот вечен, что он есть вершина искусства, что миллионы и миллионы пройдут сквозь этот спектакль, как сквозь очистительную купель, что это то духовное оружие, которое помогает людям в их жизни». (Архив Н-Д, № 8369).
Апрель 21
Проводит репетиции отдельных сцен «Трех сестер» за столом. Просит, чтобы в третьем действии на сцене чувствовалась тревога ночи, переходящая в предутреннюю тишину.
Апрель 22
Проводит беседу с руководителями театральной самодеятельности.
Апрель 24
Из письма комитета комсомола МХАТ: «Мы выражаем Вам восхищение спектаклем “Три сестры” и благодарим Вас за все то бесконечно многое, чем Вы обогащаете советское искусство». («Горьковец» от 24 апреля 1940 г.).
Апрель 29
В Музыкальном театре на репетиции оперы «Семья» Владимир Иванович говорит о том, что оперный певец, создавая 547 драматический образ, должен найти психофизическое самочувствие изображаемого человека.
Апрель
Получает афишу из Монтевидео (Уругвай), где «Цену жизни» играли на испанском языке.
Май 9
Двадцатилетие Музыкального театра имени Вл. И. Немировича-Данченко.
Май 11
На репетиции оперы «Семья» Владимир Иванович вспоминает, как дирижировал композитор Направник: «Он никогда не горячился. Останавливал оркестр и говорил: “Прошу пиано… еще раз пиано”. У оркестрантов пот льется, а он: “Еще раз, еще раз пиано”». (Из стенограммы репетиции).
Май 17
В МХАТ проводит первую беседу о «Гамлете»: «Я хотел бы, чтобы сегодняшний день был днем историческим: мы приступаем к Шекспиру. Художественный театр уже пять рал ставил Шекспира. Но для меня это будет как бы в первый раз по-настоящему. Мечта моя поставить Шекспира так, чтобы бросить вызов и нанести сокрушительный удар традициям якобы романтической школы. Потому что это не живые люди, не настоящая поэзия, а подслащенный лживый пафос; потому что это не живая человеческая речь… Я пойду смелей к Шекспиру… чтобы это было наполнено жизненной простотой, но уже простотой не маленьких переживаний, а больших страстей. Чтобы язык стихотворный звучал поэтично». (Из стенограммы беседы).
Май 17 – 19
На репетиции сцены «Гулянки» в опере «Семья» советует танцы «испещрять бытовыми подробностями, чтобы ощущались психологические взаимоотношения танцующих».
Май 20
«Сегодня беру “Литературную газету”. Пишут о спектакле “Фландрия”, большая статья “Возрождение романтизма”. Прямо жить не хочется, до того злишься! Пятьдесят пять лет бьюсь с этим и ничего не могу поделать. Вот видите, — они там наврали, нафальшивили, надекламировали — и это называется “возрождение романтизма”». (Из стенограммы репетиции «Гамлета»).
548 Во время обсуждения макета декораций говорит Дмитриеву, что ему хотелось бы, чтобы в «Гамлете» на сцене «был замок и море холодное, свинцовое… снегопада не надо. Что ни спектакль, то снег.
… Я Гамлета представляю необычайно жизнерадостным… Нигде это не проявится в действии, но это жизнелюбивая натура, которая так потрясена гадостью жизни». (Там же).
Май 21 – 22
В Музыкальном театре на репетициях оперы «Семья».
Май 27
Вместе с Ю. А. Завадским, П. А. Марковым, В. А. Канделаки и В. В. Дмитриевым обсуждает макет Дмитриева к опере З. П. Палиашвили «Даиси». Хвалит макет второго действия и настаивает на том, чтобы в декорациях первого акта ощущались реальная жизнь, быт, чтобы они не были похожи на традиционно «романтические» оперные декорации к «Демону». Владимир Иванович не советует Дмитриеву устанавливать на сцене одновременно храм и замок, так как от этого в декорациях вместо одного центра образуется два. Дмитриев соглашается. «Это мудрые слова», — говорит он. (Из стенограммы. Музей Музыкального театра).
Июнь 25 – 26
Начинает работать над книгой о мастерстве актера. Диктует стенографистке отдельные наброски и называет их «Для себя, разные мысли». В главе «Зерно спектакля» определяет «зерно» «Врагов», «Воскресения», «Трех сестер», «Леса». В «Лесе» должны быть «дебри фарисейства, невежества, среди которых образ Несчастливцева является великолепной романтической фигурой. А в пьесе важна, существенна какая-то грустная противоположность артистической оторванности Несчастливцева от действительности… Без такого глубокого, яркого противоречия между душой артиста [Несчастливцева] и невежеством “леса” нет романтизма, нет поэзии». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 164).
Июль 10
Пишет о системе К. С. Станиславского: «Конечные цели у нас были одни и те же. Это для меня совершенно бесспорно». (Из письма к Вл. Терещенко. Архив Н-Д, № 1934).
Июль 11 – 13
У себя на даче, в Заречье, пишет воспоминания о тифлисских театрах, детстве и юности. (См. «Новый мир», 1943, № 1).
549 Июль 17
К Владимиру Ивановичу приезжают композитор Тихон Хренников и поэт Виктор Гусев.
Июль
Работает над главой «Второй план», подчеркивает значение «физического самочувствия» среди других задач роли: «По опыту не только моему в последних спектаклях, но уже испробованному другими режиссерами, найденное самочувствие может производить совершенно чудодейственные результаты. Сцена неожиданно становится очень жизненной, образ неожиданно становится ярким, живым». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи, Беседы. Письма, стр. 168).
Июль – август
В главе «О театре романтическом и реалистическом» противопоставляет «обветшалой, ложной форме» романтического театра, «театру фикции», в котором нет ощущения жизни, искусство Художественного театра. «Когда говорят, что Художественный театр не может ставить Шекспира, я отвечаю: чем спектакль “Братья Карамазовы” ниже самого сильного шекспировского спектакля? … а “Царь Федор”? Почему это не шекспировский спектакль? Я уже не говорю об огромном успехе в театре “Юлия Цезаря” или очень хорошем успехе “Двенадцатой ночи”. А Сатин в “На дне” — не романтизм? Чем он менее романтичен, чем, скажем, “Рюи Блаз” Гюго? Но публика представляет себе романтизм непременно в костюме со шпагой и с пером на шляпе. А Бранд в исполнении Качалова — не романтизм?
… Художественный театр… старался найти свое русло и для того, что можно называть романтизмом. Почему Штокман не романтик?! … почему сам Станиславский не романтик, сам, весь, в своей жизни?! Чистейший романтик!» (Там же, стр. 169, 174).
Август 14
Пишет отзыв о романе В. Гроссмана «Степан Кольчугин». (Архив Н-Д, № 8155).
Август 14, 15, 16
Диктует стенографистке главу «О простоте актера». Намечает вопросы: 1. Переживания; 2. Естественность; 3. Заразительность; 4. Обаяние; 5. Искренность; 6. Создание образа; 7. Театральность; 8. Индивидуальность; 9. Личность актера. (См. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I, стр. 17 – 24).
550 Август 29
Перед открытием сезона выступает с речью перед труппой Художественного театра: «Не нужно бояться слова “поэзия”, не нужно думать, что поэзия — это непременно лунный свети фальшивая интонация, не надо бояться слов “подъем”, “пафос”, не нужно думать, что “подъем”, “пафос” — это значит непременно ложный внешний прием, внешняя декламационность. Какой путь к тому, чтобы актер мог нести на сцену весь свой громадный пафос и мастерство, будучи вместе с тем уверенным, что он останется на сцене живым человеком? … В том-то и заключается громадная сила русского искусства, что оно может охватывать поэтически самые будничные черты быта… Без поэзии нет искусства.
… Разве мы не живем в самую яркую романтическую эпоху? А делают ее люди простые. … Для нас главное заключается в том, чтобы найти большое, яркое поэтическое воплощение этой простоты. Это есть наше искусство, и это есть наш романтизм. Это наша единственная дорога». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 174 – 177).
Сентябрь 3
Из письма к М. Н. Кедрову об исполнении роли Захара Бардина во «Врагах»: «Вы идете на сцену не с теми задачами, Вы идете рисовать, технически оч[ень] умело, бытовую фигуру… А надо идти с чувством смертельной борьбы за существование.
… Качалов играл с огромным темпераментом и в отнюдь не замедленном темпе и все-таки был либеральный кисель»344*. (Избранные письма, стр. 427).
Сентябрь 3, 4
В письме к В. К. Новикову345*: «Зачем Вы так кричите? … Приветствую боязнь впасть в “мягкие”, жизненные полутона, так легко снижающие ритм до мелко-бытового. Хорошо, что в Вашей сценической энергии чувствуется, что Вы охвачены общей атмосферой эпохи, горячей, насыщенной, гневной, что Ваши задачи — крупного масштаба, а не только мастерского рисования фигуры. Но разве Вы не можете сохранить силу внутренних замыслов без этого непрерывного крика?..» (Там же, стр. 428).
Сентябрь 13
Советует режиссерам спектакля «Семья» в сцене разоблачения переменить свет так, чтобы солнце заходило со стороны 551 зрителя и бросало блики на фигуры главных действующих лиц.
Сентябрь 16
Первое пленарное заседание Комитета по Государственным премиям в области искусства и литературы под председательством Вл. И. Немировича-Данченко.
Сентябрь 25
Алексей Толстой дарит «Пьесы» с надписью: «Дорогому учителю Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко с любовью Алексей Толстой». (Музей-квартира Вл. И. Немировича-Данченко).
Сентябрь – октябрь
Леонидов присылает пьесу Н. Ф. Погодина «Кремлевские куранты» и сообщает о ходе репетиций: «… Я давно хотел показать Вам свою черновую работу, но Вы так заняты, что я не смел Вас беспокоить». (Архив Н-Д, № 4641).
Октябрь (начало)
Читает роман Константина Федина «Санаторий Арктур», подаренный автором.
Октябрь 10
Из стенограммы режиссерского заседания по «Гамлету»: «Я не принимаю этого Ренессанса, эти фижмы, трико, перья. До чего они истрепаны театральностью… а как начнут говорить стихами, — вот и въедут в эту рутину, в этот театральный шаблон… Эти люди [действующие лица “Гамлета”] жили. Они ели кашу, хлеб резали, они воспринимали и холод и мороз… Мир огромных страстей. Я иду к Шекспиру от наших актеров и от нашего искусства, если же это будет трико, пряжки, туфли, — вот и до свиданья, Шекспир стал конфетным, в лучшем случае — гетевским! Надо это совершенно убрать».
Октябрь 11
Впервые встречается с исполнителями «Гамлета», определяет задачи и колорит постановки: «поэзия каких-то больших ломок, бурь и метелей». Анализирует образы: у короля влюбленность в королеву сливается с честолюбием и властолюбием; королева полна «нехорошим счастьем»; Офелия — «рабское создание», очаровательное и очень любящее Гамлета; у Призрака — «неизбывная тоска и скорбь». (Из стенограммы репетиции).
552 Октябрь 15
Просматривая новый вариант макета художника Дмитриева к опере «Даиси», говорит: «Горизонт сейчас очень интересный. А связывается ли он с этим жилищем?» Дмитриев отвечает: «Он по тону связан». Владимир Иванович: «А по принципу?» (Из стенограммы. Музей Музыкального театра).
Октябрь 22
Во Всероссийском театральном обществе по случаю 20-летия Музыкального театра имени Вл. И. Немировича-Данченко состоялось чествование его основателя — Вл. И. Немировича-Данченко.
Октябрь 28
Ученица Немировича-Данченко по Музыкальному театру артистка Н. Ф. Кемарская пишет о нем в журнале «Театральная неделя» (№ 14): «Главное достоинство Владимира Ивановича как режиссера — это умение вскрыть и угадать творческую индивидуальность актера, огромное доверие к нему и редкое терпение, с которым он дает возможность этой индивидуальности развиться».
Ноябрь 3
Дарит юбилярам Музыкального театра цветы и значки с надписью: «Спасибо! Вл. Немирович-Данченко».
«Только благодаря Октябрьской революции существует этот театр». (Из речи на торжественном вечере в Музыкальном театре. Музей Музыкального театра).
Ноябрь 11 – 26
Руководит работой Комитета по Государственным премиям.
Декабрь 9 – 20
В фойе Музыкального театра репетирует оперетту «Перикола» Ж. Оффенбаха. Предостерегает режиссуру и актеров, чтобы они возобновление старого спектакля, сыгранного девятнадцать лет тому назад, не свели к повторению прежних мизансцен, к копированию приемов, найденных тогда: «Напишу книгу “Старые штампы” — в назидание молодым актерам». (Из стенограммы репетиции. Музей Музыкального театра).
Декабрь 18
Из письма Леонидова к Немировичу-Данченко: «Доводить ли работу до выпуска [“Кремлевских курантов”] мне одному 553 с М. О. Кнебель или рассчитывать на Ваше участие в пьесе? Мое мнение, что пьеса без Вас выпущена быть не может. … я же отлично сам понимаю, какое глубокое звучание Вы можете дать спектаклю. … Конечно, все это пока сыро и не совсем уверенно, но Вы через эту сырость и неуверенность почувствуете, как должна прозвучать пьеса». (Архив Н-Д, № 4642).
Декабрь 21
«Веселье придет не от того, что будете прыгать и размахивать руками, а от великолепной музыкальной четкости. Я в первый раз сейчас получил большое удовольствие и от оркестра и от темпа на сцене». (Из стенограммы репетиции «Периколы». Музей Музыкального театра).
Декабрь 23
Вместе с балетмейстером В. П. Бурмейстером репетирует народные танцы в «Периколе»: «у вас танцы на большой энергии, а здесь должны быть зной, истома, насыщенная страстность». (Там же).
Декабрь 26 – 28
Ведет репетиции «Периколы».
Декабрь
Беседует с работниками искусств Прибалтики.
1941
Январь 11
Леонидов и Кнебель показывают Немировичу-Данченко проделанную ими работу по «Кремлевским курантам».
Январь 17
Приступает к репетициям пьесы Н. Ф. Погодина «Кремлевские куранты». «Должна быть бодрость. Но бодрость будет от того, что вы будете дышать огромной верой и огромной убежденностью, а не от того, что вы будете быстро приходить и быстро говорить». (Из стенограммы репетиции).
Январь 18
Работает с Тархановым над ролью Забелина (сцена «У Иверской»). Предлагает изменить порядок картин в пьесе. Первая — «У Иверской», вторая — «Метрополь», третья — «Опушка», четвертая — «Изба» и пятая картина, идущая не на мосту, как у автора, а на фоне древней Кремлевской стены… 554 «Сразу — Москва, плакат346*, эпоха… Сразу новая Москва, а не деревня347*. Это вроде пролога… А потом уже Ленин и ленинская мечта». (Там же).
Январь 21
Просматривает макет Дмитриева к «Гамлету». Находит, что сцена восстания народа должна проходить не в зале, а в переходах замка, на лестницах, коридорах.
Январь 23
В присутствии Погодина ведет репетицию картины «У Иверской». Спорит с режиссером спектакля Леонидовым о пятой картине, в которой В. И. Ленин встречается с матросом Рыбаковым: «Пятая сцена скорее лирическая, чем героическая…». (Из стенограммы репетиции).
Январь 24
Репетирует сцену «В избе». «Важно в этой обстановке то, что приходит Ленин. Рыжов348* — весь в Ленине. Чебан349* — весь в Ленине, вас (Базарову)350* интересует Ленин. Говорит со старухой, а сама все время смотрит на дверь». (Там же).
Январь 28
Работает с Грибовым над ролью В. И. Ленина. (В избе Ленин рассматривает цилиндр: «Замечательная штука!», а потом спрашивает: «Вы знаете, что такое Пролеткульт?»). Немирович-Данченко советует Грибову: «Посмотрел цилиндр — “замечательная штука!” — и пошел на свое место, к столу; “Вы знаете, что такое Пролеткульт?” — пошел и сел. Если вы бросите рассматривать эти вещи и заговорите о Пролеткульте, — будет ясно, что вас занимает Пролеткульт, а не вещи театрального реквизита. Если же вы заняты вещами, то тем самым вы не заняты Пролеткультом».
После репетиции вместе с Леонидовым и Дмитриевым просматривает новую декорацию пятой картины — «Кремлевскую стену». (В режиссерской редакции Л. М. Леонидова и М. О. Кнебель, как и у автора, пятая сцена проходила на мосту).
«Немирович-Данченко: В этой картине Ленин мечтает. Не “через двести — триста лет”, как у Чехова. Он мечтает 555 всегда пламенно… Где же будет происходить действие, на мосту или на скамье у Кремлевской стены?
Леонидов: Мост — это вещь беспокойная, а здесь у стены он [В. И. Ленин] уютно сядет, и я боюсь, что весь его план электрификации пропадет в этом уюте.
Немирович-Данченко: Я понимаю вас. Но, может быть, оттого, что кругом спокойствие, этот нервный комок будет ощущаться еще острее.
Дмитриев: Я думаю, что древность стены даст монументальность всему этому.
Немирович-Данченко: Кремлевская стена ближе нам. Разница в поэтическом ощущении.
Леонидов: Когда Ленин стоит на мосту, за мостом — Кремль, а за Кремлем — Россия, я чувствую, какая ответственность лежит на нем.
Немирович-Данченко: Это эффектнее… У Кремлевской стены естественнее. Ленин прямо из Кремля пришел сюда.
Леонидов: Этот фон кремлевский очень помогает.
Немирович-Данченко: Скажут, — и то хорошо, и это хорошо. В смысле поэтичности — мост доходчивее. Но и у стены можно сделать поэтично. Только поэтичность будет другого характера: Константин Маковский и Владимир Маковский. … Тот вариант — убогая Москва, неприбранная. А здесь — построен новый мост.
Грибов: Конец здесь эффектнее.
Дмитриев: Эту пьесу надо осерьезить, и в этом смысле вариант со стеной мне кажется более солидным. А вариант с мостом мне кажется более легкомысленным, в нем нет серьезности революции. В этой стене больше суровости». (Из стенограммы репетиции).
Февраль 5
В письме к Бокшанской Владимир Иванович пишет, что у него было «желание сблизиться с М. Н. Кедровым на почве чеховских спектаклей». (Архив Н-Д, № 561).
Февраль 6
Из санатория в Барвихе посылает письмо Е. Е. Лигской: «Слушал по радио “Периколу”. Два акта.
… вступление играется до неприятности небрежно, нестройно. Сразу, первое впечатление — недисциплинированного оркестра.
… Конечно, необходимо чувствовать зрителя, необходимо мастерское преодоление его невнимания или равнодушия, но страх, что “не дойдет”, заставляет подчеркивать, навязывать, и это грубит само искусство. Очень трудно. А хотелось бы, чтобы актеры чутко понимали, что художественно вкусно, а что аляповато. Эта работа и делает мастера. Мы на пути — 556 дикция отличная, желание огромное, план роли ясен — только еще беречь чувство художественного вкуса». (Избранные письма, стр. 428 – 429).
Февраль (после 9)
Отвечая на письмо В. Г. Сахновского, пишет о создании спектаклей, «достойных славы и ответственности Художественного театра. … И никакие вопросы самолюбия, сострадания и текущих удобств не должны засорять эти спектакли в их каждодневном движении». (Архив Н-Д, № 1457).
Февраль 24
Смотрит новый спектакль Музыкального театра — «Любовь поэта» («Сказки Гофмана») Ж. Оффенбаха. Режиссер П. А. Марков. Художник Б. Р. Эрдман.
Февраль 25
В беседе о спектакле «Сказки Гофмана» признается, что боится своими замечаниями «сдунуть найденное»: «приятное ощущение какого-то хорошего энтузиазма, который всех вас охватывает». (Из стенограммы беседы. Музей Музыкального театра).
Февраль 26
Просматривает декорацию картины «Опушка леса» в «Кремлевских курантах», показывает актерам, как нужно играть, чтобы в центре этой сцены было ожидание Ленина, мысли о Ленине.
Февраль 27
Ведет репетицию картины «Метрополь» [«Кремлевские куранты»]: «Жалко, что пропадают фразы с юмором. Погодин этим и отличается, что у него много сценического юмора. … В этой сцене должна быть верная психология, а не знакомый сценический комедийный эффект… Как только нарушается верное направление темперамента, начинаются комедийные штучки. Есть в исполнении комедийные штучки, не идущие от основы, от сущности». (Из стенограммы репетиции).
Март 5
Репетирует сцену встречи Ленина с рабочими ночью на набережной у Кремлевской стены. Говорит исполнителям роли рабочих: «Почему вас это тянет на сентиментальность? — … вот он, величайший человек, — такими глазами смотрите на него (Вл. И. показывает), и никакой улыбки, мягкости…
Тут страшно попасть в сентиментальность, но страшно попасть и в трафарет…
… (А. Н. Грибову). Если схватите по всей роли “молнии”, 557 они и дадут вождя — Ленина. А не добренького, милого, мягкого…
… Можно уйти в великолепные рассуждения, и очень горячие, и очень сильные рассуждения. А хочется не рассуждений, а молниеносных выбрасываний мыслей. Я об этом так много говорю потому, что это наиболее ярко выражает гениальность.
… Когда эту линию схватите, тогда скажу: есть и гениальный вождь, а не только великолепный портрет». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 323, 324, 326).
Март 7
В присутствии Погодина ведет репетицию «Кремлевских курантов», говорит Грибову: «Все у него [Ленина] будет вдохновенно, поточу что [он] всем существом отдается своим огромным идеям. … И ваши теплые, ласковые глаза надо нет-нет и переводить на “молнии”. Наладить свое актерское существо на то, что вдруг глаза засверкают огнем, сжигающим, но и созидающим. Тут никакой сентиментальности. Самое страшное: Ленин — и сентиментальность. А нам нужен пламенный вождь. Без этого образ Ленина никак не приму!» (Там же, стр. 327).
Март 15 – 19
Ведет репетиции «Кремлевских курантов». Работает с Н. И. Боголюбовым над ролью матроса Рыбакова. Хочет, чтобы в нем была народная сила, правда революции, вера в вождей революции.
Март 18
Произносит речь на митинге в Художественном театре, созванном в связи с присуждением Государственных премий артистам МХАТ.
Март 19
«Ростовская область станица Вешенская Михаилу Александровичу Шолохову. Глубоко удовлетворен присуждением Вам премии. Сердечный привет. Немирович-Данченко».
Телеграмма А. П. Довженко: «Искренно за Вас радуюсь».
Телеграмма С. М. Эйзенштейну: «Приветствую и шлю искреннее поздравление».
Телеграмма А. Н. Толстому: «Примите мое сердечное поздравление. Рад, что “Петр” все-таки попал в список». (Архив Н-Д, № 8158).
Репетирует картину «У Забелиных» («Кремлевские куранты») с М. М. Тархановым и О. Л. Книппер-Чеховой: «Я Забелина 558 представляю крупным. … крупно, дерзко не принимающим революции. Если бы Забелин был врагом, он был бы сильным и злым врагом. Но он не может быть врагом. … для него ничего не может быть выше науки, значит, он не враг, а ближайший друг социализма, и ему растолкуют это». (Из стенограммы репетиции).
Март 22
Работает над ролью Забелиной с Книппер-Чеховой. Анализирует сцену Забелина и дочери. (Репетируют Тарханов и Пилявская).
Март 25
«Ваш замечательный талант великого учителя сценического искусства немало помог мне в мои ранние артистические годы». (Из письма В. В. Барсовой. Избранные письма. Приложения, стр. 524).
Март 25, 26
Репетирует «Кремлевские куранты». Добивается, чтобы влюбленность Рыбакова в Ленина была рельефной, красивой, большой. Говорит Боголюбову: «У вас это обледнено, лишено какого-то самого настоящего пафоса». (Из стенограммы репетиции).
Март 27
«Для того чтобы я нашел мизансцену, мне непременно надо найти зерно сцены, важнейшие “куски” сцены». (Там же).
Март 28, 29
Ведет репетиции «Кремлевских курантов». Подробно останавливается на сцене возвращения Забелина из Кремля. (Репетирует с Тархановым).
Апрель 1
Работает с Грибовым над ролью Ленина.
Апрель 4
По просьбе Владимира Ивановича Погодин написал текст роли В. И. Ленина в сцене «На опушке». Новый вариант сцены автор читает на репетиции351*.
Апрель 4, 5
Вместе с режиссером спектакля М. О. Кнебель репетирует сцену «У Иверской». «Товарищи, извините меня, что я вас терзаю. Но я хочу, чтобы в Художественном театре не было ни 559 одного кусочка плохого. Это такая трудная сцена. Какие-то две секунды — пустая пауза, мертвая. Еще что-то… Есть такие кусочки, которые я сорок лет слышу в разных театрах. Кому это нужно? Надо, чтобы были характерные фигуры». (Из стенограммы репетиции).
Апрель 8 – 10
Репетирует «Кремлевские куранты». Приходит к выводу, что должен быть написан новый финал пьесы. Говорит об этом Погодину352*.
Апрель 15
Репетирует сцену В. И. Ленина с английским писателем («Кремлевские куранты»)353*. Считает важным показать в нем филистера, с той мещанской моралью, которая владеет буржуазной Европой: до чего же он плоть от плоти, кровь от крови мещанского понимания вещей. В то же время нельзя сводить исполнение к штампу этакого «театрального иностранца», к франтоватому костюму, лакированным туфлям и самодовольно-нахальному тону. Здесь подразумевается Уэллс, знаменитый писатель, изучавший социально-экономические вопросы и приехавший в Россию, чтобы своими глазами увидеть социальный эксперимент. Спор Ленина с Уэллсом не нужно упрощать. (Из записей Л. М. Фрейдкиной).
Апрель 16 – 19
Ведет репетиции «Кремлевских курантов». Работает с М. П. Болдуманом и А. Н. Грибовым.
Апрель 19
Работает с Грибовым над ролью Ленина: «Вы опять сбиваетесь на интимный тон. — Вам нужно поднять всех. Здесь огромный подъем, а вы чего-то боитесь. Вы не даете простора гневу. Молнии должны лететь из ваших глаз и сверкать. В этой сцене самый настоящий пламень (показывает). “Это ж навсегда” — в этих словах Ленина нет предела пафоса». (Из стенограммы репетиции).
Апрель 22 – 26
Ведет репетиции «Кремлевских курантов». Хвалит Тарханова за исполнение роли Забелина: «Такого серьезного Тарханова — я не видел».
М. М. Тарханов: «Я должен быть благодарен, что вы меня окунули в эту серьезность». (Там же).
560 Май 6, 7
Репетирует «Кремлевские куранты».
Май 14
Посылает телеграмму А. М. Бучме: «В дни расцвета Вашей актерской жизни желаю надолго сохранить свежесть и заразительность Вашего прекрасного таланта». (Избранные письма, стр. 430).
Июнь 5
«Потом Шолохов… вспомнил, что в свое время Вы так убедительно уговаривали его переделать “Тихий Дон” для драмы… Но как-то он не собрался это сделать». (Из письма Бокшанской. Архив Н-Д, № 3382/8).
Июнь 15
В газете «Советская Белоруссия» — письмо В. И. Немировича-Данченко: «Всей душой желаю, чтобы прекрасная советская традиция обмена художественными достижениями братских республик принесла новые плоды в гастролях МХАТ в Минске».
561 1941 – 1943
Великая Отечественная война. «Вместе со всем народом».
Новые творческие планы. В городе своего детства — Тбилиси. Беседы с
труппой Театра имени Руставели. Замыслы шекспировских постановок — «Король
Лир», «Антоний и Клеопатра». Государственная премия за спектакль «Кремлевские
куранты». Статья «Кого мы защищаем? Кого и что в Отечественной войне спасаем?»
Интерес к советской прозе — отзывы о «Падении Парижа» И. Эренбурга,
повести Л. Кассиля «Великое противостояние» и др. Пьесы
А. Толстого и Вл. Соловьева об Иване Грозном. На репетициях «Русских
людей» К. Симонова. Вторая Государственная премия. «Лицо нашего театра».
Мысли об искусстве, высказанные на репетициях «Пиковой дамы», «Последних дней»,
«Последней жертвы». Смерть. Постановление Совнаркома СССР об увековечении
памяти народного артиста Союза ССР Вл. И. Немировича-Данченко.
1941
Июнь 22
«Нет ни одного человека, который, узнав сегодня о чудовищном вероломстве фашистского германского правительства, не был бы целиком охвачен чувством национального гнева и патриотического энтузиазма. … Я твердо знаю, что советский театр сделает все, чтобы его работа была полезной и нужной в осуществлении открывающихся перед нами великих всенародных задач», (Из статьи для ТАСС. Архив Н-Д, № 7373).
Июнь 25
В «Горьковце» напечатана статья Немировича-Данченко «Готовы к защите Родины».
Июнь 27
В «Правде» — статья Немировича-Данченко: «Работники искусств — вместе со всем народом».
Июль 4
«Нет большего преступления перед историей, как порабощение одних народов ради шкурного блага других». (Из речи для иностранного радиовещания. Архив Н-Д, № 7374).
Июль
Ведет репетиции «Корневильских колоколов» в Музыкальном театре.
562 Июль 16
«Все мы, все народы нашего братского Союза переживаем грандиознейшую эпоху истории человечества, когда великая правда жизни должна утверждаться жертвенностью множества людей, может быть лучших из нас. В эту пору особенно глубоко ощущается крепкая духовная связь всех нас, преданных идее мира, всех нас, отдающих борьбе за эту идею все силы, энергию, волю, саму жизнь». (Из черновика статьи в газету «Красный Флот». Музей Музыкального театра).
Август 9
Со старейшими актерами Малого и Художественного театров эвакуируется правительством в Нальчик.
Август 15, 16
«Тут [в Нальчике] встретил и Шапорина… Мясковского, Прокофьева, который собирается написать здесь оперу “Война и мир”, и Грабаря, уверявшего, что надо поселиться поближе друг к другу… А уж позднее — Климова, Ульянова, Рыжову». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 563).
Август (середина)
В Москве Оперный театр имени К. С. Станиславского сливается с Музыкальным театром имени Вл. И. Немировича-Данченко.
Август 23
В Нальчике проводит беседу с коллективом Кабардинского театра.
Август (до 24)
«Вдали от дел тяжко». (Из срочной телеграммы в МК ВКП (б). Текст приводится в письме к Е. Е. Лигской от 24 августа 1941 г. Архив Н-Д, № 955).
Август 25
«Отступаем. Тяжело. Неужто за Волгу? Нет, до Волги не дойдут». (Из записей А. А. Ефремова о встречах с Вл. И. Немировичем-Данченко в Нальчике. Личный архив А. А. Ефремова).
Август 27
«Помню Ваши слова, что Вы всегда без театра, вне театра тоскуете, скучаете. Вернее, если тоскуете или скучаете, то это непременно, когда Вы вне театра». (Из письма Бокшанской. Архив Н-Д, № 3383/8).
Август 29
Просит композитора Ю. Шапорина передать Комитету по 563 делам искусств, что он рвется в Москву. Посылает телеграмму за телеграммой.
Август 31
«Владимир Иванович уже собирается обратно в театр». (Из письма Качалова к сыну (В. В. Шверубовичу). «Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. II, стр. 638).
Сентябрь 3
В Нальчике работает с Москвиным и Тарасовой над сценами Фрола Федулыча и Юлии Тугиной из «Последней жертвы» Островского.
Сентябрь (середина)
Начал репетировать «Антония и Клеопатра» Шекспира с Тарасовой и Качаловым.
Сентябрь
Задумал постановку «На всякого мудреца довольно простоты» с актерами Малого и Художественного театров.
Сентябрь – октябрь
«У Вл[адимира] Ив[анов]ича всякие планы новой творческой работы». (Из письма Качалова к сыну (В. В. Шверубовичу). «Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. II, стр. 638).
Сентябрь 17
«В. И. Немирович-Данченко решил писать книгу “О спектакле”, о процессе создания спектакля: 1) почему ставится пьеса, что лежит в ее основе, 2) распределение ролей и т. д. Он сказал мне: “Смогу ли я писать? Слишком я люблю жизнь, саму жизнь… Вот хочется совершенствоваться в английском языке: А может уж поздно… Мне бы еще пятнадцать лет жизни…”». (Из записей Ефремова о встречах с Немировичем-Данченко в Нальчике).
Сентябрь 21
Днем смотрит «Женитьбу Фигаро» в Кабардинском театре: «Не ожидал, что встречу в Нальчике такую школу, такое хорошее направление реального искусства…
Национальное вливается в большое общее русло искусства». (Из письма к А. А. Ефремову. Избранные письма, стр. 430 – 431).
Сентябрь 28
Работает с А. А. Ефремовым над ролью Глумова в комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты». «Глумов внешне воспитан, скромен. В сцене с Мамаевым из первого акта он не должен наигрывать глупость, притворство». (Из 564 записей Ефремова о встречах с Немировичем-Данченко в Нальчике).
Сентябрь 29
«Не понимаю, как можно выкидывать [в “Пушкине”]354* последнюю картину. Идеологически, политически она необходима. И очень яркая. Безнадежная? А какая же надежность могла быть при Николае Первом? Великого поэта хоронят тайком! Как же отказаться от этой картины? Очевидно, режиссура не нашла еще формы, глубокой, простой формы, великолепного исполнения.
… Да, если даже Ольга Сергеевна [Бокшанская] не поняла этой моей (да и всех здешних) смятенности между Москвой, Нальчиком, мыслями о ближайшем будущем, работой в своем деле, путями — опасными или нет, событиями военными, оставленными родными, вынужденным безделием, вечерней и ночной тоской, — если даже так знающая меня Ольга Сергеевна не поняла, не ощутила, — то, очевидно, эта задача по психологии очень уж трудная. А описать ее в письме тоже не легко. Да, нет! Поймет и без описаний!..» (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 2947).
Октябрь (начало)
Репетирует отдельные сцены из «Последней жертвы» Островского.
Октябрь 12
«… Сегодня я как будто в первый раз ощущал великолепнейший день. Два дня был сплошной туман и мокрый снег. И холод! Здесь туман с дождем особенно нудны, особенно безнадежны; кажется, никогда в жизни не увидишь больше солнца…
Правда, все переживания, даже приятные от изумительного дня, подернуты тоской. Но с этим, уж ничего не поделаешь. В такие дни еще больше ноет “зубная боль в душе”. Тут и “прощай, жизнь!”, и облачное, туманное будущее, полное надежд для молодых и сильных, и — с неотвязной ноющей тоской настоящее. И как это ни сентиментально, а приходится признаться, что в душе все что-то плачет…
Я что-то не помню в своей жизни такого длительного ощущения одиночества». (Из письма к Е. Е. Лигской. Избранные письма, стр. 432).
Октябрь (до 28)
Приходит извещение от Комитета по делам искусств о переводе Немировича-Данченко в Тбилиси: «К сожалению, меня Комитет не забыл и в Москву не пускает. Почему, я не понимаю. 565 Я не боюсь бомбежек и спал в укрытии». (Из записей Ефремова о встречах с Немировичем-Данченко в Нальчике).
Выезжает из Нальчика. В Орджоникидзе Владимира Ивановича встречает художественный руководитель Театра имени Руставели А. А. Васадзе. По Военно-Грузинской дороге они едут в Тбилиси.
Октябрь 28
Приезжает в Тбилиси. «Стоило мне провести один день в моем родном городе Тбилиси, чтобы увидеть те поистине чудесные завоевания, какие произошли и здесь». (Из статьи «Защитим нашу Родину, нашу свободу», «Заря Востока» от 7 ноября 1941 г.).
Ноябрь 7
«В эти дни никакими силами не оторвать мысли от фронта… И я себе представляю сердце нашей страны, нашу Москву в эти дни… бодрой, собранной, готовой на все жертвы, чтобы спасти нашу свободу и уничтожить со всеми корнями гнуснейшее явление человеческого существования — фашизм». (Там же).
Ноябрь 29
«… Я здесь нахожусь вот уже месяц. Пока заканчиваю те воспоминания о моих первых театральных впечатлениях в Тбилиси, которые Вы знаете, и через неделю хочу выступить с ними в отдельном вечере (сбор с этого вечера отдам на оборону).
… Предполагаем еще поставить (уже начали репетиции) “Мудреца”.
… А я, очевидно, буду проводить мое искусство в театрах Руставели, Марджанишвили и в Большом оперном.
27-го смотрел Хораву и Васадзе в “Отелло”. Хорава Отелло замечательный. Нахожу даже, что это явление театральное.
… Но все мои мысли и волнения крепко опираются на присущий мне успокаивающий оптимизм, который, впрочем, сейчас опирается на глубочайшую веру в то, что все это тяжелое скоро окончится и все нанесенные нам раны будут живо затягиваться». (Из письма к Бокшанской. Избранные письма, стр. 433).
Декабрь 7
В Тбилиси состоялся творческий вечер Вл. И. Немировича-Данченко в фонд обороны.
566 Декабрь 10
Готовясь к беседам в Театре имени Руставели, записывает: «Создатель спектакля — режиссер или актер, должен быть социально воспитанным человеком. Когда он начинает работу, он и как художник, и как гражданин, и просто как член человеческой семьи должен обладать чуткостью в вопросах этики, идейности, политической устремленности, гражданственности». (Архив Н-Д, № 7376/1 – 2).
Декабрь 15
«Как только донеслось до нас о провале генерального наступления на Москву, начались мечты — планы возвращения». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 566).
Декабрь 18
В газете «Заря Востока» напечатана статья Вл. И. Немировича-Данченко «Сценическая юность».
Декабрь (до 23)
Готовится к постановке «Короля Лира», набрасывает характеристики действующих лиц. «Как художник театра сначала делает эскизы всех вторых персонажей, а уж потом главных лиц спектакля, — так и режиссер. Чем ближе приближается он к главному ведущему актеру, тем осторожнее он в выборе красок из своей фантазии и из своего опыта. Он вникает в зерно, в сквозное действие, в обстановку, он устанавливает рисунок автора, то, что психологически и бытово незыблемо, но не покушается на краски, на ритм — до тех пор, пока, сговорившись с актером, не почувствует его замыслы, его тяготения. И уж почувствовав его, начнет или подбрасывать, или мягко, издалека оспаривать…
Посмотрим. Разберемся. Разберемся в том, каковы главные драматургические и психологические пружины самочувствия Лира при первом выходе. Каково его физическое самочувствие.
Лир на самой вершине хорошего расположения. … Он так избалован поклонением, что не замечает лести. … Лесть кругом — это стало его атмосферой, его кислородом. Он блестящий король по умению пользоваться королевской властью. Но он дурной король по пониманию своих обязанностей перед народом. … Он воспитал кругом себя лесть и “слишком мало радел о тех, кто впроголодь блуждал без крова”. Он, как герои древнеклассической трагедии, сам виноват в своей судьбе». (Из режиссерских заметок к «Королю Лиру». Рукопись. Архив Н-Д, № 68/1).
Декабрь 23
«Вы, актеры грузинского театра, романтики по природе, вам подходит романтическое на сцене. Мы скоро столкнемся 567 с вопросом о романтизме, когда начнем работать над “Лиром”. Какое бы ни было направление спектакля, форма спектакля, актер должен создавать живого человека, становиться им. Искренность до дна. Фальшивая театральная романтика убивает всякое значение театра. Если театр лжет — он вреден. Поэзия в искусстве — награда за честное и глубокое проникновение в правду». (Из стенограммы первой лекции в Театре имени Руставели. Там же, № 7377).
Декабрь
Из книги Александра Берта «Москва 41 года», изданной в Лондоне, о постановке Немировича-Данченко «Три сестры»: «Я никогда не видел более совершенной постановки… В течение всех четырех часов не прозвучала ни одна фальшивая нота»355*.
1942
Январь – февраль
Во время болезни в гостинице «Тбилиси» готовится к постановке «Короля Лира»: «… Лир раб лести!.. Он окружен лестью. Только шут не льстит.
… Власть явление не такое простое, как кажется. Она полна искусов. Потому что люди хитры. Власть может порождать насилие, несправедливость и впереди всего лесть. Правитель, не разбирающийся в этом, на каждом шагу может оказаться несправедливым и нести за это кару». (Из неоконченного режиссерского наброска: «Зерно» «Короля Лира». Архив Н-Д, № 67/1).
Февраль 16 – 20
Ведет заседания Комитета по Государственным премиям. Встречается на этих заседаниях с И. Э. Грабарем, Ю. А. Шапориным, Н. Я. Мясковским, А. А. Хоравой, М. Э. Чиаурели, А. К. Гулакяном, У. А. Гаджибековым, А. Б. Гольденвейзером.
Февраль 16
На заседании комитета во время обсуждения портрета летчика Юмашева, написанного художником П. П. Кончаловским, говорит: «Если судить по фотографии, это замечательная вещь. Как хорошо было бы показать этот портрет в Англии, Америке, — вот какие у нас люди! Простота, 568 в простоте сила уверенности». (Из стенограммы заседания. Архив Н-Д, № 8165).
Февраль (до 19)
Пишет отзыв о повести Льва Кассиля «Великое противостояние»: «Должен признаться, что давно не читал рассказа, написанного с такой искренностью, простотой, трогательностью и каким-то особым ароматом. Рассказ не блещет такими чертами литературного произведения, которые бы сразу ставили его наряду с вещами высших квалификаций, скажем, рядом с Толстым или Шолоховым. И поэтому речь может идти, очевидно, только о второй премии, но эту вторую премию я готов защищать… всей аргументацией, на какую я только был бы способен.
… Во всем рассказе я не встретил ни одной фальшивой ноты. Все время забываешь, что это не настоящий дневник девочки, а сочинение Льва Кассиля. Есть моменты, захватывающие до слез. … В последние годы сложилась даже какая-то стандартная программа большого романа… Автор должен изучить на месте во всех подробностях какое-нибудь производство. … Целый ряд авторов проделывает эту работу с очень большой добросовестностью. … Конечно, авторы понимают, что эти люди, их взаимоотношения, их драмы, любовные или комические столкновения, их стремления, ошибки, преступления — все это является главной задачей. Я готов верить, что они это понимают, что не для того же пишутся романы, как художественные произведения, чтобы я, читатель, познавал во всех подробностях то или иное производство. Потому что, если у меня будет эта задача, я, вероятно, буду адресоваться к более достоверным и компетентным источникам, чем художественное произведение. … Художественная задача — прежде всего во вскрытии человека. Я верю, что автор это понимает. И у некоторых из них, как, например, в романе “Фарт”356*, фигуры обрисованы разнохарактерно, разнообразно, и рисуется целый ряд сцен, вполне возможных, как будто бы вполне естественных, но почему же эти вещи лишены увлекательности? … Возьмешь, прочтешь несколько страниц и опять легко отложить. Почему они лишены той внутренней динамической силы, той заразительности, которая прежде всего отличает художественное произведение… Почему все эти фигуры, взятые как будто метко и верно, не становятся читателю близкими? Читатель остается равнодушным к их судьбе.
… Почему само произведение, труд, который на него тратится, лишены, не знаю как назвать, поэзии, аромата, чего-то, что обнаружило бы заразительный пафос авторского ощущения. 569 … И в результате — или картинность фигуры, как большей частью происходит с типом хорошего большевика в романе (Черепанов в “Фарте”), или просто фальшь (одна из первых же любовных сцен в “Городе меди”357*)» (Архив Н-Д, № 8164).
Февраль 19
На заседании Комитета по Государственным премиям говорит: «В “Падении Парижа” И. Эренбурга есть и внутренний мир людей, и разложение правительства, и все столкновения, которые привели Францию к гибели. Все сделано очень ярко». (Там же, № 8167).
Февраль 27
«Я прочел пьесу Вл. Соловьева [“Великий государь”]. Ни в какое сравнение с пьесой Толстого на ту же тему идти не может358*. Образы какие-то худосочные. Включая и самого Грозного. … Но хуже всего, что и сам Грозный какой-то меланхолик. … Автор не любит театра, не знает его исканий, не интересуется его ростом, довольствуется старыми, избитыми формами. И этот набивший оскомину шестистопный ямб под старинку! … Есть, конечно, и хорошие куски. Остроумна, интересна и по замыслу и по выполнению картина с чернецом, лучшая в пьесе. Вот стараюсь припомнить еще подобную и не нахожу. Целая картина: монолог Грозного? Пожалуй. Актер большого темперамента может произвести впечатление. … В языке, хотя и не оригинальном, попадаются удачные метафоры и афоризмы. Автор поэт, и потому ему очень удался сказитель. Но можно ли так заканчивать трагедию? Экземпляр, бывший у меня, называется черновиком. Может быть, все недостатки от недожитости автором и образов и трагедии? Но не оставляет подозрение, что автор не обладает темпераментом для трагических замыслов». (Из письма к М. Б. Храпченко. Черновик. Архив Н-Д, № 1973).
Зима – весна
«Как часто в те времена работники грузинских театров собирались у Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Как длительны и содержательны были эти беседы, с каким вниманием слушали мы медлительную, вдумчивую речь этого величайшего мастера сцены, гениального режиссера и знатока искусства. Хозяин наш был щедр. Он одарял нас своими крылатыми мыслями. Глубоко и серьезно вникал он во все детали нашей культурной жизни, помогал нам словом, советом, показом. Подолгу и внимательно смотрел он наши кинокартины, знакомился с актерами, учил их». (Из статьи 570 М. Э. Чиаурели «Высокое мастерство», «Литературная газета» от 23 октября 1948 г.).
Апрель 11
Вл. И. Немировичу-Данченко, Б. Н. Ливанову, А. Н. Грибову присуждается Государственная премия за спектакль «Кремлевские куранты».
Апрель 30
«И до чего мне досадно, если Толстой не позаймется пьесой еще и еще359*. … Лучше Хмелева — Грозного не выдумать. … Моя мечта — право, несмотря на мой возраст, стало мечтой — “Антоний и Клеопатра”. Ах, как я хорошо и много надумал». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 5916).
Май 15
В гостинице «Тбилиси» читает пьесу К. Симонова «Русские люди» и посылает срочную телеграмму Москвину в Саратов: «Пьеса Симонова с большими достоинствами. Мужественная режиссура преодолеет налет сентиментальности. Выдержит ли испытание времени после сотни представлений в других театрах и когда содержание начнет отходить в прошлое? Будет зависеть от яркой непосредственности исполнителей без актерщины…». (Архив Н-Д, № 100).
Май 16
«“Антоний и Клеопатра”, “Антоний и Клеопатра”, только этим и занят. Предполагал поставить здесь360*, но болезнь все смяла. Ведь я болен с 23 декабря, с одним небольшим перерывом дней в 10, которые меня и свалили.
… когда я здесь говорил, как я задумал Антония, то тот и другой и третий актеры загорелись — сейчас играть…». (Из письма к Бокшанской. Избранные письма, стр. 443, 445).
Май (после 19)
Прочел в «Правде» статью композитора Д. Шостаковича о спектакле Большого театра «Иван Сусанин»361*. Высказывает свое мнение о задачах оперного театра, о путях воспитания актера-певца: «В Музыкальном театре моего имени для певца существует не только дирижер, не только ритм, не только темпы, не только оттенки, но все звучание оркестра до такой степени внедрилось в исполнение актера, что 571 как бы руководит всем его поведением на сцене». (Заметки. Архив Н-Д, № 236).
Май 30
«“Гамлет” для ожидаемой театральной залы будет несвоевременен. Поэзии сомнений, пессимизму временно не будет места. “Антоний и Клеопатра” имею готовый проспект работы. Возможна небывалая инсценировка. Бурное красивое соединение трагического с высокой комедией.
Нельзя упускать Толстого. Исполнение Грозного Хмелевым может стать историческим. … Островского надо ставить… Без современной пьесы нельзя. Но не забудем — нам никогда не удавались ни второй сорт, ни приготовленное наспех». (Из телеграммы к Хмелеву. Архив Н-Д, № 1962).
Май 31
В письме к В. В. Дмитриеву о замысле «Антония и Клеопатры»: «Нет-нет, подумывайте. Над двумя вещами. Первая — не попасть в оперную “Аиду” или “Семирамиду” — в кашемир и сложенные ручки “стилизации”. И вторая — в изобретении такой сценической техники, чтоб можно было делать сцену за сценой еще втрое скорее, чем в “Анне Карениной”. Кое-что я уже надумал… (Вспомним мой план круглого, непрерывного занавеса).
Начало — пир у Клеопатры, страстный, то изнеженный, то бурный — Египет — какой-то, в самом деле, нежный и страстный. А потом — Рим, железный, мраморный, суровый, прекрасный в суровости. На всю постановку два крупных плана, резко противоположных. … Словно борьба двух миров: одного — мужского, завоевательного, в расцвете мощи, другого — женского, изнеженного, угасающего… Между ними Антоний, стихия, ураган, а не человек — и женщина. Женщина, о какой будут говорить две тысячи лет!..» (Избранные письма, стр. 446).
Июнь 2
«Когда дух поэзии отлетает от кулис, от администрации, от выходов на сцену, — отлетит и от спектакля». (Из письма к Бокшанской. Там же, стр. 447).
Июнь 4
В письме к Москвину: «Не могу отделаться от мысли, что “Гамлет” не своевременен. Я ли уж не хочу этой постановки! Я ли не взлелеял ее десятками лет!
… И вот все же думаю — “Гамлет” не ко времени. Разбираясь в репертуаре, мы представляем себе настроение залы, звучание пьесы, когда она пойдет — скажем, через год… После войны, после пережитых волнений, зрительной залы 572 бодрой, налаживающей новую полосу жизни. Жаждущей веры в лучшее… И вдруг — мятущийся в сомнениях Гамлет, пессимистически настроенный поэт и шесть смертей в одной последней сцене!.. Что было бы замечательно в годины спокойных размышлений и мечтаний, то может показаться ненужным в вечера, еще дышащие тяжелейшими испытаниями, в часы жажды яркой комедии, пафоса без малейшей меланхолии, проблем полнокровных, мужественных». (Там же, стр. 451 – 452).
Июнь 5
В письме К. А. Тренева: «Пишу Вам, дорогой Владимир Иванович, не имея, в сущности, никакого дела, если не считать самого большого дела — большой душевной потребности сказать Вам пару-другую задушевных слов.
… Живо вспомнил, как 2 года тому назад мы вместе выздоравливали в Барвихе и иногда, встретясь у комнатного фонтанчика, запросто и душевно беседовали о дорогих людях и вещах. … Наткнулся как-то на “Губернаторскую ревизию”… — я и сын с большим убеждением сказали, что это настоящая большая литература, примыкающая во многом к Чехову. … Изумительная повесть, после которой так понятно, почему ключ к “Чайке” оказался именно у Вас». («Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 422 – 423).
Июнь 19
«В “Русских людях” распределение ролей вызывает у меня некоторые сомнения. … На первом месте задача верно схватить аромат, своеобразие авторских образов. … Глаза Симонова, а не престо хороших актеров». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 574).
Июль 5
«Мы тут позанялись “Лесом” — Качалов и Книппер. Новые горизонты открываются, когда берешься за пьесу не от знакомых, старых сценических образов, а от жизни, психологии и пьесы». (Из письма к Бокшанской. Там же, № 574/2).
Июль (после 9)
Пишет статью о народном артисте СССР Климове, скончавшемся в Тбилиси.
Июль 16
Из письма В. В. Дмитриева: «Ваше короткое изложение экспозиции “Антония”, несмотря на краткость, очень точно и выразительно и в общем и в частном. Мне кажется, что философическая концепция Ваша чрезвычайно интересна и Ваши профессионально-режиссерские замечания не менее. 573 Я думаю, что важнее в “Антонии” не воспроизведение Египта или Рима в увражно реставраторском плане, не сцены из античной жизни и быта, а “плен любви” в контрасте с суровой государственной машиной Рима. Поэтому не пирамиды, сфинксы, пальмы, а жар солнца и жар любви “женщины, которую помнят 2000 лет”. И не портики, колонны, статуи и тоги Рима, такого, как на снимках Римского Форума, а строгие “сильные” неумолимые громады… Еще в “Антонии” много батальных или военных сцен, — очень интересно, как Вы их трактуете? … Обдумываю все это и жажду встречи с Вами возможно скорее». (Архив Н-Д, № 3939).
Июль (до 24)
Хмелев приезжает к Немировичу-Данченко в Тбилиси для обсуждения творческих планов МХАТ: «С Николаем Павловичем мы беседовали отлично. 7 встреч по 3 – 1 1/2 часа без перерыва. И искренно. И глубоко». (Из письма к Бокшанской от 24 июля 1942 г. Архив Н-Д, № 576).
Июль
В Тбилиси пишет статью для Всеславянского антифашистского комитета: «Кого мы защищаем? Кого и что в Отечественной войне спасаем?» (См. «Ежегодник МХТ» за 1944 г., стр. 761 – 763).
Август 26
«Мои заметки о “Лице нашего театра” готовы». (Из неоконченного письма к Е. Е. Лигской. Архив Н-Д, № 956).
Сентябрь 2
Правительство организовало быстрый и удобный перелет Владимира Ивановича в Москву.
Сентябрь 23
«Вот уже три недели, как я в Москве. … В Москве тихо, пусто. А в моем театре каждый день полно публики. Как будто и войны нет никакой. … Вечерами темно, спектакли начинаются в 6 часов. Я много работаю. Здоров. … Погода была испортилась, холод, ветер, а вот сегодня за окнами солнце, чистое небо». (Из письма к Г. К. Окольничьей. Архив Н-Д, № 2941).
Октябрь – ноябрь
В Музыкальном театре проводит пять репетиций оперы Б. А. Мокроусова «Чапаев».
574 Ноябрь 7
Был на премьере «Фронта» А. Корнейчука в МХАТ.
Ноябрь (после 12)
Вспоминая репетиции «Кремлевских курантов», которые вел Немирович-Данченко, Погодин пишет: «Я ведь работал почти во всех театрах в Москве и могу сравнивать.
Ничего подобного я ведь нигде не видел. … Для меня лично репетиции эти — университет.
… Мы часто с ним [А. Н. Грибовым] по этому поводу говорили, как, например, преобразилась сцена на набережной, когда было предложено ему состояние “гневного человека”. Не знаю, утратил это состояние Грибов или нет… но тогда это было удивительно просто решено». (Из письма Н. Ф. Погодина. «Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 430).
Ноябрь 19
О постановке оперы Б. А. Мокроусова «Чапаев» Владимир Иванович говорит: «Нет героического духа, которым должна быть пронизана былина о народном герое. Это было жизненно, вернее сказать, по-житейски, но внутренне люди ходили пустые — они только исполняли мизансцены и хорошо пели. Необыкновенно снижено, фотографично, без художественного подъема сделано декоративное оформление. … Для этой оперы нужно было найти какую-то особенную форму, которая диктовалась героическим началом. … Мое волнение, мое беспокойство за театр не ограничивается неудовлетворенностью от этого спектакля». (Из стенограммы выступления. Архив Н-Д, № 190/1).
Ноябрь 21
На репетиции пьесы К. Симонова «Русские люди» говорит: «Хорошо распахано все, очень искренно». Хвалит Б. Г. Добронравова (Сафонова), И. М. Кудрявцева (Козловского) и молодую актрису А. М. Комолову, играющую Валю: «Я очень рад за Комолову — талант ее начался с “Любови Яровой”.
… В Глобе у А. Н. Грибова недостаточно чувствуется фельдшер. А. Н. Грибову, В. А. Орлову (Васину) и другим исполнителям надо искать характерности». Напоминает об искусстве характерности у К. С. Станиславского. (Из стенограммы репетиции).
Ноябрь 23
Обращает внимание режиссеров, ставивших «Русские люди», — В. Я. Станицына и М. О. Кнебель на то, что часто игнорируется физическое самочувствие действующих лиц. «Например, когда бойцы возвращаются и говорят: “Ну, на 575 этот раз отбились!” — никакого физического следа, что эти люди только что сильно отстреливались и дрались… Или… [Сафонов] несколько ночей уже не спит. … Придаю этому физическому самочувствию огромное значение, потому что от него побегут линии к психофизике, а стало быть, и к созданию образа. … Никак не могу примириться с интерпретацией образа Харитонова. … Оправдывать какими угодно философскими мотивами трусливость, оправдывать в то время, когда это качество является резкой и яркой противоположностью храбрости и мужеству, — считаю идеологически неприемлемым. … Должен признаться, что никогда не думал раньше, что во мне трусость может вызывать такое гадливое отношение». (Избранные письма, стр. 457 – 459).
Ноябрь 30
Репетирует сцену прощания командира батальона Сафонова и Вали (Добронравова и Комоловой): «Сейчас у вас пошло на лирику, на легкость. А Валя на смерть идет. Любовь громадная. Все это дает ритм не такой комнатно-любовной лирики». (Из стенограммы репетиции).
Декабрь 5
«Я охвачен по отношению к войне самым горячим оптимизмом… хорошо по своему возрасту знаю, что такое русский народ и русский солдат». (Из стенограммы беседы с труппой Музыкального театра).
Декабрь (после 10)
Домой к Владимиру Ивановичу приходит К. Симонов.
Декабрь 24
Подписывает письмо о шефстве МХАТ над ремесленными, училищами.
Декабрь
Пишет отзыв о пьесе Михаила Козакова «Дарья». (Архив Н-Д, № 7707/1).
1943
Январь 19
Погодин присылает свою новую пьесу «Сотворение мира».
Январь 26
Из письма к фронтовикам И. Гейхтшману и А. Лещанкину: «… мы непрерывно помним о всех наших славных бойцах и своей работой стараемся оправдать их жертвы ради свободы 576 и существования свободной нашей дорогой Родины». (Избранные письма, стр. 462).
Январь 27
После большого перерыва встречается с исполнителями «Гамлета».
Февраль 2
Репетирует сцену королевы и Гамлета с Еланской и Ливановым. Добивается «синтетической сложности» образа королевы в «Гамлете»: ее страсть к Клавдию, ее «чувство виноватости перед сыном», материнское в отношениях с ним, сравнивает ее с леди Анной Шекспира («Ричард III») и донной Анной Пушкина («Каменный гость»). «Такая королева и Гамлет — два океана переживаний… До смерти отца Гамлет жизнерадостный, ничем не омраченный. Смерть короля. Печаль. Но капля яда, которая отравила сознание, была в том, что мать — чистая, чудесная вышла замуж за Клавдия. Отсюда берет свое начало тема Гамлета: Что это за мир, в котором такие вещи возможны?! Что это такое? Что же это такое?! Как это может быть?!. Начинает на все окружающее смотреть другими глазами. Исстрадался. … В сцене с матерью Гамлет на грани безумия, а не трезво рассуждающий и обвиняющий.
… Существовало театральное искусство, основанное на фигуре, дикции, голосе, темпераменте. Пришло время к Шекспиру подойти нам, стремящимся к психологическому вскрытию. Но… мы должны быть насыщены той страстностью, с какою писал Шекспир. И тогда Шекспир покажется для нашего поколения новым». (Из стенограммы репетиции).
Февраль 3, 5
Вместе с В. Г. Сахновским ведет репетиции «Гамлета».
Февраль 9
Репетирует сцены Офелии и Гамлета с И. П. Гошевой и Б. Н. Ливановым: «У Крэга была такая установка: один Гамлет, а остальное — мразь и ничтожество. Офелия была просто дурочка362*. Образ у меня: вначале девушка, сияющая радостью жизни. Наивное непосредственное сияние. Стихийное тяготение к Гамлету. Самая настоящая влюбленность. Уже отец и брат начинают затуманивать это сияние. Потом безумие Гамлета… Ворвалось что-то страшное, свершилось что-то необыкновенное, небывалое в ее жизни. … И вот ее смятенность, растерянность… все потемнело, сияние исчезает. И 577 вдруг — бац! — Мертвый отец. И убил кто? — Гамлет. Маленький мозг не выдержал — и сошла с ума». (Из стенограммы репетиции).
Февраль 10, 13
Ведет репетиции «Гамлета».
Февраль 12
В письме А. Д. Попова: «Прошло более месяца после нашей встречи, и я до сих пор думаю о ней; на репетициях проверяю ряд высказанных Вами мыслей. … В свои пятьдесят лет я почувствовал себя снова “берущим”, — а не только “отдающим”. В работе над “Бессмертным” — Арбузова и Гладкова (пьеса о партизанах) оказалось очень благоприятствующим проверить великолепную силу “физического самочувствия” (предлагаемые обстоятельства: на морозе — в лесу, голод, ранения и огромная физическая усталость). Ложная патетика, горячность, пафос, абстрактный темперамент, все эти враги органический жизни и подлинной правды великолепно укрощаются и снимаются, если только актеру удается зацепить верное “физическое самочувствие”». (Архив Н-Д, № 5398).
Февраль 13
Получает от Леонида Соболева его книгу «Морская душа» с надписью: «Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко с глубоким уважением». (Музей-квартира Вл. И. Немировича-Данченко).
Февраль 14
Вместе с М. Б. Храпченко, А. В. Покровским, В. В. Барсовой, А. И. Хачатуряном, А. М. Герасимовым, А. Г. Мордвиновым сообщает партии и правительству о средствах, собранных работниками искусств в фонд обороны. Работники искусств Союза ССР собрали, кроме ранее внесенных 48.185.572 рублей, дополнительно 13.723.130 рублей на строительство танков и самолетов.
Февраль 24
Из заметок Владимира Ивановича «Что мне нравится во “Фроле Скобееве”» для либретто363*: «Во-первых, сценическая динамика.
578 2. Настоящие сценические комические положения. Каскад истинно смешного.
3. Блестящая роль для баритона — лучше Фигаро.
4. Превосходные два дуэта — и тенора с меццо в первом действии и баритона с сопрано во втором, — великолепное гаданье.
5. Чудесные задачи для композитора, интересные штучки музыкальной выдумки: так, например, — петь Фролу под старуху, стонать сопрано в постели, ей же, т. е. Аннушке, — выть на весь дом и т. д.
Да и не потребовать ли мамку дать мужскому голосу, — какому?.. То ли хриплому басу, то ли характерному тенору? Была же в семидесятых годах известная, отличная актриса на роли старух — г. Пузинский.
6. Хорошие роли вообще. Включая братишку.
7. Возможность распоряжаться по-новому текстом прозы.
8. Интересные задачи для композитора в области русской старины». (Личный архив А. К. Гладкова).
Февраль 26
«Чтобы не было так, как играли обычно, т. е. за версту уже видно, что Розенкранц и Гильденштерн негодяи. В таком случае зритель не понимает, почему такой умный, как Гамлет, не замечает этого. Пришли два приятеля, молодых товарища Гамлета, и прежде всего собутыльника». (Из протокола совещания по «Гамлету»).
Февраль 27
Работает с художником Дмитриевым над макетом декораций «Гамлета». «Не менее важны и нужны бытовые черты. Чтобы сделать из этого жизнь — погода, физическое самочувствие, быт… как будто мы Чехова ставим. Эти элементы в Шекспире набрать ужасно трудно, а без них легко попасть на “представление Шекспира”». (Из записей по «Гамлету» В. В. Глебова. Музей МХАТ).
Февраль 28
Экстренное заседание штаба постановки «Гамлета» на квартире Владимира Ивановича. «Последние дни штаб меня торопил с просмотром макета “Гамлета”. Ночи у меня уходят на раздумывание… От фона кольчуги будет очень мрачный спектакль. Фон в спектакле имеет колоссальное значение. Если бы в “Анне Карениной” был черный или розовый фон, то ведь это был бы совсем другой спектакль. … Меня пугает мрак, мрачный Гамлет». (Там же).
Март 12
Режиссеры В. Я. Станицын и В. О. Топорков приглашают 579 Владимира Ивановича на черновую генеральную репетицию пьесы М. Булгакова «Последние дни», и он включается в работу по выпуску спектакля: «… На почтовой станции надо дать атмосферу нехорошего. И ничего больше не нужно. Тогда вся сцена Биткова364* не прозвучит, как его покаяние. Появится, несомненно, другой ритм.
Вся сцена живет тем, “кого везут”. Что-то трагическое есть в том, что после того, как мы видели уютную квартиру, дворец, богатый салтыковский дом, спектакль кончается самой плохой избой. В этом какая-то необыкновенная глубина у Булгакова. Петербургский блеск, великолепная квартира, дворец, бал и т. д. — и вдруг: глушь… закоптелый потолок, сальные свечи… холодище… и какие-то жандармы… Это везут Пушкина. Жмутся от холода; передохнуть — и ехать дальше…
Надо, чтобы я почувствовал: “Буря мглою небо кроет…”». (Из стенограммы репетиции. Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 341).
Март 17
На репетиции «Последних дней» спорит с объективистским толкованием картины «У Салтыкова»: «Когда посмотришь сцену у Салтыкова, кажется, что сделана картина легкая, комедийная, больше на смехе. А между тем, если задать себе вопрос о роли Салтыкова по отношению к зерну пьесы, то получим совсем другой ответ.
О чем пьеса? Трагедия Пушкина. Вот о чем.
… Вторая картина: Пушкин — поэт. Литературный завтрак. … И тут идет какая-то травля Пушкина.
… Я бы сказал мало злые вы все, очень добродушна общее актерское отношение к самому произведению. Добродушно актерское отношение к судьбе Пушкина. Вас мало разозлило то, как относятся к Пушкину и дома, и во дворце, и в литературе. Вам мало, что затравили, “солнце России”, “солнце поэзии”. Там, где-то в мозжечке актера, где помещается идеологическое отношение к своей роли, — там инертно, слабо, не серьезно, не зло.
… Не хватает того, чтобы у меня отложилось впечатление трагедии Пушкина». (Там же, стр. 329 – 330).
Март 18
Признается, что в последние годы жизни попал в такую полосу, когда решение вопросов теории искусства интереснее для него постановки того или иного спектакля… Таков вопрос «о “грузе”, который должен накопить актер, работая над сценическим 580 образом. Как его добиться? Возьмем, например, образ князя Долгорукова. (Вл. И. Немирович-Данченко обращается к А. П. Кторову.) Расскажите, кого вы играете? Говорите от первого лица — “я”, а не со стороны — “он такой, сякой”, — и я увижу, какую вы пьесу играете: трагедию, комедию, водевиль … я увижу ваше отношение к трагедии Пушкина: жалеете или негодуете.
“… что самое важное для меня в этом образе?”… “Ненависть к Пушкину”. Это я, Кторов, и буду наживать. Не наигрывать, а наживать. … С беспредельным темпераментом — это ненависть. Отравить его? Отравил бы.
… Нужно задавать себе вопросы: я здесь кто такой? Мое отношение к окружающим? И потом — самые ближайшие задачи: завтрак, знакомые, гости… пришел, поздоровался, сел… Эти задачи — они называются физическими действиями — я и буду выполнять. Но с тем внутренним грузом, с которым я пришел. Если этого груза не нажить, а идти только поверху, то начнете “играть”. И сейчас же появится театральная улыбка, которая обыкновенно скрывает то, что актер “не нашел”.
Когда я, зритель, буду смотреть пьесу, я это внешнее поведение актера не унесу домой, а вот груз ваш я унесу. … разгадывание за внешним поведением того, чем живет актер, есть самое драгоценное в искусстве актера, и именно это “я унесу из театра в жизнь”. Великолепно сыгранное: “смешно”, “плакал”, это испытывается как наслаждение во время спектакля. Спектакль кончился — и смех кончился, и слезы. А это я унесу с собой… Вот здесь и заключается разница между МХАТ и другими театрами». (Там же, стр. 331 – 332).
Март 20
За многолетние выдающиеся достижения в области театра Вл. И. Немировича-Данченко удостаивается звания лауреата Государственной премии.
Выступает на митинге в Художественном театре: «… нам предстоит: во-первых, выиграть войну, в чем никто ни одной секунды не сомневается; и после войны работать очень много, тяжело и сильно, потому что придется все заново ставить на ноги.
… я только этим и занят: что будет с МХАТ дальше? … Что будет с моим уходом? Вот-вот-вот я уйду, от возраста никак не скроешься… Кто будет вести дальше это искусство? Потому что люди могут стареть, а искусство стареть не смеет». («Ежегодник МХТ» за 1943 г., стр. 650).
«Корифей советского театра» — статья о Вл. И. Немировиче-Данченко в «Вечерней Москве».
581 Март 21
Из Свердловска от Т. Хренникова получает телеграмму: «Счастлив каждому Вашему награждению. Нетерпением ладу приезда Москву, чтобы лично расцеловать, благодарить за каждый час совместных бесед. Сердцем с Вами». (Музей-квартира Вл. И. Немировича-Данченко).
На совещании по организации Школы-студии при МХАТ говорит о необходимости воспитывать актеров, «ответственных в своем поведении и творчестве». (Из стенограммы. Архив Н-Д, № 7582).
Март 25
Беседует с Б. Г. Добронравовым о роли Несчастливцева в «Лесе» Островского.
Март 27
Репетирует финальную картину «Последних дней». (Обращается к артисту Н. Д. Ковшову, играющему роль А. И. Тургенева): «Попробуйте себе наговорить громадные монологи ваших переживаний. “Я — друг дома, Пушкина считаю солнцем поэзии русской, великим поэтом. Как я увлекался его стихами!.. И вот я должен его везти таким воровским, подлым образом хоронить… с этим жандармом… Вот оно, царство-то нашего Николая!” (Владимир Иванович показывает). У меня в душе накипь негодования. Вот я собираюсь играть Тургенева. Я начинаю ненавидеть что-то очень сильно, насколько у меня хватает темперамента. “Я должен был бы стать декабристом, погибнуть, чтобы не участвовать во всей этой мерзости. Подлость — другого слова у меня нет! И это — с Пушкиным!” Станция… знакомая фигура станционного смотрителя… “Лошадей нет!” — ну, конечно (улыбнулся иронически). Холодище вдобавок… “Дайте мне чаю”. (Владимир Иванович показывает: хлебнул чай и обжегся.) Горячо! … От всего этого начинает складываться синтетическое самочувствие. Одна сплошная линия. Я сильно зацепил ненависть крупного интеллигентного человека. … И это пронизано физическим холодом… Я уже не буду такой… (Владимир Иванович показывает: сидит прямо, прямо перед собой смотрит), а вот такой: плечи опущены, голова наклонена вниз, взгляд вниз. И скрывать нужно: “Потом еще наговорят Бенкендорфу, что Тургенев ругался”». (Из стенограммы репетиции. Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 341 – 342).
Март 28
Вызывает режиссера М. О. Кнебель, рассказывает ей о своем замысле «Леса», просит ее работать с Б. Г. Добронравовым 582 над ролью Несчастливцева: «Физическое самочувствие. Пешком идет из Керчи в Вологду. Дошли… Очень устал. Устал физически. Устал от театра. Груз нажить духовный. Сколько чувств, страстей накопилось, сколько образов в хорошем благородном мозгу! Актеру надо наживать, переживать страсти большие… Когда все это разольется по нервам, вдруг: усталость, старик. … Играет так вдохновенно, что заставляет купца отдать деньги. Это не шутка… Ищите вдохновения, вдохновения. Огонь, настоящий огонь — это главное. … До полного самозабвения… И вдруг наступает оцепенение, усталость мысли. Образ. Это то, что меня волнует больше всего. … Мне нужен актер, как создатель образа». (Из рассказа М. О. Кнебель о встрече с Владимиром Ивановичем. Архив Н-Д, № 74).
Март 30
В Музыкальном театре беседует с режиссерами, дирижером и исполнителями «Пиковой дамы» Чайковского: «Играть мы будем “Пиковую даму” Чайковского, а не Пушкина. … Самое существенное, самое важнейшее, чем наполнена, чем насыщена опера, чрезвычайно далеко от Пушкина. Атмосфера трагедии. … Музыкально — у меня ассоциируется с Шестой симфонией Чайковского. При приближении к “Пиковой даме” я нахожусь в такой же музыкальной атмосфере, как и в Шестой симфонии. Не только трагедия событий, а трагедия страстей. Не играть страстей, не представлять их, а ими жить». (Из стенограммы. Архив Н-Д, № 176/2).
Вечером слушает «Пиковую даму» в Большом театре.
Апрель 1
«Кто может меня упрекнуть в том, что я пренебрегаю формой? В конце концов форма — самое важное, но форма, которая создана всеми элементами плюс психологическая правда. Форма как форма слишком мало дает. Форма, лишенная идейной и психологической правды, приводит к самому простому формализму. … Чайковский весь на психологии. … Я себе представляю этот спектакль у нас не похожим на то, как его до сих пор показывали. Обыкновенно это очень пышное представление… Комната Лизы чуть ли не дворцовая гостиная; большой бал и т. д. А я себе представляю: драматический эпизод обыкновенных людей, которые охвачены до одержимости, до ненормальности страстями. Весь быт оттуда идет: Петербург, Двор, гранит, памятники, белые ночи… Это все создало такой трепетный, точно наполненный блуждающими огнями, мирок. … Я готов еще резче говорить о простоте житейской драмы для того, чтобы стянуть с ходуль 583 пышного спектакля. Это не только не уменьшает, а усиливает задачи сильного темперамента, страшного темперамента и Лизы, и Германа, и графини». (Из стенограммы беседы о «Пиковой даме». Архив Н-Д, № 176/3).
Апрель 2
Ведет репетицию финальной сцены «Последних дней»: «Как мне надоела “простота”!» [О том, что серо, без поэзии, поэтического подъема читаются пушкинские стихи «Буря мглою», о том, что художественную простоту подменяют простотцой]. (Из стенограммы репетиции).
Апрель 3, 5
Беседует с участниками спектакля «Последние дни». «Ему [Тургеневу] нужно сказать эти стихи особенно скорбно… “Буря мглою” — рыдать сейчас будете… Не наигрывайте, а от души скажите. … Вслушивайтесь в бурю и проще говорите. Драматический монолог». (Там же).
Апрель 7
Говорит В. Я. Станицыну, В. О. Топоркову, П. В. Вильямсу, И. Я. Гремиславскому и всем исполнителям «Последних дней»: «Спасибо вам… А теперь — замечания: перетянули, т. е. “перепаузили”. И перетишили (тихие голоса). Эти два качества старого МХАТ сильно прозвучали. От этого надо уйти». (Там же).
Апрель 8
Перед премьерой «Последних дней» беседует с исполнителями и режиссурой.
Апрель 10
Смотрит спектакль «Последние дни».
Апрель 16
«Я себе представляю: башенная стена… идет похоронная процессия. … кладбище запущенное… И кусты какие-то и сорные травы… какие-то деревца стоят и камни. Не могу отделаться от мысли, что кладбище уходит куда-то вниз. Процессия будет идти сверху вниз». (Из беседы с художником В. В. Дмитриевым о новом варианте декораций к «Гамлету». Стенограмма. Музей МХАТ).
Апрель 18
Делает замечания по репетиции «Последней жертвы»365*. «Мы видели его в последний раз еще 18 апреля — в чудесном настроении, 584 в каком-то особенном возбуждении. Правда, он жаловался, что “побаливает” и показывал рукой, что побаливает грудь. Чуть морщился от боли, потом отвлекался от нее рассказом об интересной для него встрече… После небольшой паузы вдруг сказал: “Хорошо жить! Вот так просто — хорошо жить!”». (Из воспоминаний Бокшанской. Цитирую по статье О. Л. Леонидова «О. С. Бокшанская». «Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I, стр. 654).
Вечером в Большом театре смотрит балет «Лебединое озеро».
Ночью, вскоре после возвращения из театра, сердечный припадок.
Апрель 20
Отправлен в Кремлевскую больницу.
Апрель 25
Ночью смерть.
Апрель 26
Извещение ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР о смерти народного артиста Союза ССР Вл. И. Немировича-Данченко.
В «Правде» опубликовано постановление Совнаркома СССР об увековечении памяти народного артиста Союза ССР Владимира Ивановича Немировича-Данченко.
Из некролога «Памяти Вл. И. Немировича-Данченко»: «Владимир Иванович Немирович-Данченко навсегда останется в памяти советского народа, которому он преданно и честно служил, как выдающийся строитель советской социалистической культуры, как вдохновенный и любимый художник». («Правда»).
Апрель 27
Похороны на Новодевичьем кладбище.
В Аргентине (Буэнос-Айрес) газета «Ля Ора» поместила портрет Вл. И. Немировича-Данченко и статью о нем: «Смерть застала этого старика с необычайно молодой душой, окруженного любовью своего народа и восхищением всего мира, в момент, когда Советский Союз с несравненным героизмом защищает все завоевания своего творческого труда, среди которых сценическое искусство достигло гигантских высот». (Перевод с испанского Н. Крымова. Музей МХАТ).
585 Апрель 28
«Вчера столица хоронила Вл. И. Немировича-Данченко. Мимо урны с трахом проходят тысячи трудящихся, отдавая последний долг выдающемуся деятелю русского искусства». (Из статьи «Похороны Вл. И. Немировича-Данченко», «Правда»).
В «Правде» заметка: «В США чтят память Вл. И. Немировича-Данченко».
Апрель 30
На Кубе, в гаванской газете «Ой» — некролог: «Умер Немирович-Данченко — основатель МХАТ».
Май 1
Соболезнование по поводу смерти Вл. И. Немировича-Данченко, подписанное известными писателями, артистами, драматургами, режиссерами и другими деятелями культуры Китая. («Правда»).
Май 8
В газете «Литература и искусство» — статья «Американские отклики на смерть Вл. И. Немировича-Данченко»: «Немирович-Данченко оказал прекрасное влияние на свободный театр во всех странах. — Бесконечно жаль, что его уже нет в живых и что он не увидит европейские театры, когда они вновь станут свободными».
586 Указатель использованных источников
1. Архивы
Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Отдел рукописей. Москва.
Центральный государственный исторический архив. Ленинград.
Центральный государственный архив литературы и искусства СССР. Москва.
Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства СССР. Москва.
Институт мировой литературы имени А. М. Горького. Архив Горького. Москва.
Институт русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом). Отдел рукописей. Ленинград.
Государственная театральная библиотека имени А. В. Луначарского. Ленинград.
Архив Государственного Русского музея. Ленинград.
Архив Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина. Москва.
Архив Государственного музея Л. Н. Толстого. Москва.
Дом-музей К. С. Станиславского. Москва.
Музей-квартира Вл. И. Немировича-Данченко. Москва.
Архив Музея Государственного музыкального театра имени народных артистов СССР К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Москва.
Архив Музея Государственного театра имени Евг. Вахтангова. Москва.
Архив (личный) А. К. Гладкова.
Архив (личный) семьи Гославских.
Архив (личный) Б. Е. Захавы.
Архив (личный) А. А. Ефремова.
Архив (личный) Б. Л. Изралевского.
Архив (личный) О. Л. Книппер-Чеховой.
Архив (личный) Ф. Н. Михальского.
2. Музей МХАТ СССР имени А. М. Горького
Архивы:
внутренней жизни театра, репертуарной части театра.
587 Первой, Второй и Третьей студий МХТ.
Музыкальной студии МХАТ.
Филармонического училища.
С. Л. Бертенсона.
О. С. Бокшанской.
Г. С. Бурджалова.
О. Л. Книппер-Чеховой.
М. П. Лилиной.
В. В. Лужского.
Вл. И. Немировича-Данченко.
Н. А. Подгорного.
А. А. Санина.
В. Г. Сахновского.
К. С. Станиславского.
Л. А. Сулержицкого.
Неопубликованные материалы Музея МХАТ
«Воспоминания о генеральной репетиции спектакля “Три сестры”» Ю. Юзовского.
Дневник дежурных членов Товарищества МХТ, 1917 г. Дневники и протоколы репетиций:
«Анна Каренина» по роману Л. Н. Толстого.
«Бесприданница» А. Н. Островского.
«Блокада» Вс. В. Иванова.
«Борис Годунов» А. С. Пушкина, 1907 г.
«Будет радость» Д. С. Мережковского.
«Брак поневоле» Ж.-Б. Мольера.
«Воскресение» по роману Л. Н. Толстого.
«Враги» М. Горького.
«Горе от ума» А. С. Грибоедова.
«Гроза» А. Н. Островского.
«Дети солнца» М. Горького.
«Дядюшкин сон» по повести Ф. М. Достоевского.
«Егор Булычов и другие» М. Горького.
«Живой труп» Л. Н. Толстого.
«Каменный гость» А. С. Пушкина.
«Лизистрата» Аристофана.
«Любовь Яровая» К. А. Тренева.
«Мольер» М. А. Булгакова.
«Нахлебник» И. С. Тургенева.
«Одинокие» Г. Гауптмана.
«Осенние скрипки» И. Д. Сургучева.
«Пир во время чумы» А. С. Пушкина.
«Пугачевщина» К. А. Тренева.
«Ревизор» Н. В. Гоголя.
«Роза и Крест» А. А. Блока.
«Три сестры» А. П. Чехова, 1940 г.
«Чайка» А. П. Чехова, 1905 г.
588 Дневники и протоколы спектаклей МХАТ (1904 – 1943).
Записи репетиций В. П. Баталова.
Записи репетиций В. В. Глебова.
Записи репетиций «Кремлевских курантов» Ю. Явника.
Протоколы заседаний Правления МХТ, 1917 г.
Протоколы заседаний Совета МХТ, 1911 г.
Протоколы и стенограммы бесед с актерами МХАТ.
Протоколы собраний Товарищества МХТ, 1917, 1918 гг.
Протоколы совещаний по спектаклям «Борис Годунов», «Гамлет», «Любовь Яровая».
Протоколы «творческих понедельников» МХТ, 1919 г.
Протоколы уроков Вл. И. Немировича-Данченко в Музыкальной студии, 1921 г.
Режиссерские планы, режиссерские и суфлерские экземпляры пьес и материалы по работе с художниками, композиторами, производственными цехами и т. д. (1898 – 1943).
Стенограммы репетиций спектаклей МХАТ (1937 – 1943).
3. Печатные издания
а) Книги
Абалкин Н., Система Станиславского и советский театр, «Искусство», М., 1950.
«Анна Каренина» в постановке Московского ордена Ленина Художественного академического театра СССР имени Горького, изд. МХАТ, М., 1938. Афиногенов А. Н., Статьи. Дневники. Письма. Воспоминания, «Искусство», М., 1957.
Бекетова М. А., Александр Блок, изд. «Алконост», Пгр., 1922.
Бирман С., Путь актрисы, изд. ВТО, М., 1959.
Блок А. А., Сочинения в двух томах, т. 2, Гослитиздат, М., 1955.
Вахтангов Е., Записки. Письма. Статьи, «Искусство», М.-Л., 1939.
Ветлин М., Русские дороги, Париж, 1944.
Виленкин В. Я., И. М. Москвин на сцене Московского Художественного театра, изд. Музея МХАТ, М., 1946.
Виленкин В. Я., Вл. И. Немирович-Данченко. Очерк творчества, изд. Муз. театра имени нар. артиста СССР Вл. И. Немировича-Данченко, М., 1941.
Вишневский А. Л., Клочки воспоминаний, «Academia», Л., 1928. ВКП (б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. 1, Партиздат ЦК ВКП (б), 1936.
Боровский В. В., Сочинения, т. 2, Соцэкгиз, Л., 1931.
Гитович Н. И., Летопись жизни и творчества А. П. Чехова, Гослитиздат, М., 1955.
Горький А. М., Письма к Е. П. Пешковой, «Архив А. М. Горького», т. V, Гослитиздат, 1955.
Горький А. М., Письма к писателям и к И. П. Ладыжникову. «Архив А. М. Горького», т. VII, Гослитиздат, 1959.
Горький М., Собрание сочинений в тридцати томах, Гослитиздат, М., т. 28, 1954; т. 29, 1955; т. 30, 1955.
589 Гоян Г. Гликерия Федотова, «Искусство», М.-Л., 1940.
Гусев Н. Н., Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого, Гослитиздат, М., 1958.
Дикий А, Повесть о театральной юности, «Искусство», М., 1957.
Дурылин С. Н. Мария Николаевна Ермолова, изд. АН СССР, М., 1953.
«Ежегодник императорских театров», 1909, вып. 2.
«Ежегодник Московского Художественного театра» за 1943 г., изд. Музея МХАТ, М., 1945.
«Ежегодник Московского Художественного театра» за 1944 г., т. I, изд. Музея МХАТ, М., 1946.
«Ежегодник Московского Художественного театра» за 1945 г., т. II, «Искусство», М., 1948.
«Ежегодник Московского Художественного театра» за 1946 г., «Искусство», М., 1948.
«Ежегодник Московского Художественного театра» за 1947 г., «Искусство», М., 1949.
«Ежегодник Московского Художественного театра» за 1948 г., «Искусство», М., т. I, 1950; т. II, 1951.
«Ежегодник Московского Художественного театра» за 1949 – 1950 гг. «Искусство», М., 1952.
«Ежегодник Московского Художественного театра» за 1953 – 1958 гг., (рукопись в изд. «Искусство»).
Зограф Н. Г., Малый театр второй половины XIX века, изд. АН СССР, М., 1960.
Крыжицкий Г., Немирович-Данченко о работе над спектаклем, изд. «Советская Россия», М., [1958].
Ленин В. И., Сочинения, 4-е изд., т. 5; т. 26.
«Ленин о культуре и искусстве», сб., «Искусство», М., изд. 1938 и 1956.
Ленский А. П., Статьи. Письма. Записки, «Искусство», М., 1950.
Леонидов Л. М., Воспоминания, статьи, беседы, переписка, записные книжки, «Искусство», М., 1960.
Летопись жизни и творчества А. М. Горького, изд. АН СССР, М., вып. I, 1958; вып. II, 1958; вып. III, 1959.
«Мария Николаевна Ермолова», сб. «Искусство», М., 1955.
Марков П. А., Вл. И. Немирович-Данченко и Музыкальный театр его имени, изд. Муз. театра имени нар. артиста СССР Вл. И. Немировича-Данченко, М., 1937.
Марков П. А. Режиссура Вл. И. Немировича-Данченко в Музыкальном театре, изд. ВТО, М., 1960.
Мгебров А. А., Жизнь в театре, «Academia», Л., 1929.
«Московский Художественный театр», сб., изд. журн. «Рампа и жизнь», М., т. I, 1913; т. II, 1914.
«Московский Художественный театр в иллюстрациях и документах», изд. МХАТ, М., т. I, 1938; т. II, 1945.
Немирович-Данченко Вл. И., «Горе от ума» в постановке Московского Художественного театра, ГИЗ, М.-П., 1923.
Немирович-Данченко Вл. И., Избранные письма, «Искусство», М., 1954.
Немирович-Данченко Вл. И., Из прошлого, «Academia», М., 1936.
590 Немирович-Данченко Вл. И., Статьи. Речи. Беседы. Письма, «Искусство», М., 1952.
«О творческом наследии Вл. И. Немировича-Данченко», сб., ВТО, М., 1960.
«О Станиславском», сб., изд. ВТО, М., 1948.
Пашенная В., Искусство актрисы, «Искусство», М., 1954.
«Первая русская революция и театр», сб., «Искусство», М., 1956.
Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер, т. I, изд. «Мир», М., 1934, т. II, изд. «Художественная литература», М., 1936.
«Письма М. Н. Ермоловой», сб., изд. ВТО, М.-Л., 1939.
Плеханов Г. В., Сочинения, т. IV, ГИЗ, М.-Пгр., 1923.
Рахманинов С. В., Письма, Гос. муз. изд., М., 1955.
Роскин А., «Три сестры» на сцене МХАТ, изд. ВТО, Л.-М., 1946.
Ростоцкий Б. И., К истории борьбы за идейность и реализм советского театра, изд. АН СССР, М., 1950.
Ростоцкий Б., Чушкин П., «Царь Федор Иоаннович» на сцене МХАТ, изд. ВТО, М.-Л., 1940.
Сахновский В. Г., Мысли о режиссуре, «Искусство», М.-Л., 1947.
Соболев Ю., Вл. И. Немирович-Данченко, изд. «Светозар», Пгр., 1918.
Станиславский К. С., Собрание сочинений, «Искусство», М., т. I, 1954; т. V, 1958; т. VI, 1959; т. VII, 1960.
Станиславский К. С., Статьи. Речи. Беседы. Письма, «Искусство», М., 1953.
Сурков Е., К. А. Тренев, изд. «Советский писатель», М., 1953.
Толстой А. Н., Полное собрание сочинений, т. 15, Гослитиздат, М., 1953.
Толстой Л. Н., Полное собрание сочинений, т. 54, Гослитиздат, М., 1935.
Тренев К. А., Пьесы. Статьи. Речи, «Искусство», М., 1952.
Фрейдкина Л. М., Владимир Иванович Немирович-Данченко, «Искусство», М.-Л., 1945.
Фрейдкина Л. М., Полвека Художественного театра, изд. ВТО, М., 1948.
Чехов А. П., Полное собрание сочинений и писем, тт. 14, 16, 17, 18, 19, 20, Гослитиздат, М., 1944 – 1951.
Чехова М. П., Письма к брату А. П. Чехову, Гослитиздат, М., 1954.
Шнейдерман И., Мария Гавриловна Савина. 1854 – 1915, «Искусство», Л.-М., 1956.
Эфрос Н. Е., Московский Художественный театр. 1898 – 1923. ГИЗ, М.-П., 1924.
Эфрос Н. Е., «На дне». Пьеса М. Горького в постановке Московского Художественного театра, ГИЗ, М., 1923.
Южин-Сумбатов А. И., Записи, статьи, письма, «Искусство», М., 1951.
Юзовский Ю., Максим Горький и его драматургия, «Искусство», М., 1959.
Юзовский Ю., М. Горький на сцене МХАТ. О спектакле «Враги», изд. ВТО, М.-Л., 1939.
Янковский М., Римский-Корсаков и революция 1905 года, Гос. муз. изд., М.-Л., 1950.
б) Статьи
«Американские отклики на смерть В. И. Немировича-Данченко» — «Литература и искусство», 1943, 8/V, № 19 (71).
591 Андреева М. Ф., «Поездка в Крым» — сб. «А. П. Чехов. Забытое и несобранное», изд. «Правда», М., 1940.
Берсенев И. Н., «Выдающийся художник театра» — «Театральная неделя», 1940, № 22.
Бескин Эм., «Пожар Вишневого сада» — «Зрелища», 1923, № 42.
Богатырев Ш. Ш., «МХТ и Пражский Национальный театр начала века» (рукопись).
Бокшанская О. С, «Из переписки с Вл. И. Немировичем-Данченко» — «Ежегодник МХТ» за 1943 г.
Бромлей Н. Н., «Десять лет» — «Программы Московских гос. и академических театров и зрелищных предприятий», 1923, № 15.
Буква, «Петербургские наброски» — «Русские ведомости», 1885, 27/X, № 296.
Верт А., «Лондон — Москва» — «Советское искусство», 1941, 2/X, № 39 (774).
Вирта Н., «Театр получит новую пьесу» — «Горьковец», 1939, 1/I, № 1.
«Вл. И. Немирович-Данченко о том, почему и как поставлена “Лизистрата”» — «Зрелища», 1923, № 54.
«Возвращение к актеру. Интервью Вл. И. Немировича-Данченко» — «Обозрение театров», 1909, 25/X, № 885.
Волков Н. Д., «Творческий путь Л. В. Собинова» — сб. «Л. В. Собинов. Жизнь и творчество», Музгиз, М., 1937.
«В США чтят память В. И. Немировича-Данченко» — «Правда», 1943, 28/IV, № 109.
Гжельский П. Н., «Верным путем» — «Горьковец», 1935, 7/XI, № 4.
Гиацинтова С., «Режиссер и становление актера» — сб. «Мастерство режиссера», «Искусство», М., 1956.
Глаголь С., «Miserere» — «Столичная молва», 1910, 20/XII, № 157.
Глебов В. В., «Владимир Иванович в работе над спектаклем “Три сестры”» — «Горьковец», 1940, 24/IV, № 14 (114).
Глиэр Р., «Великий мастер музыкального спектакля» — «Вечерняя Москва», 1943, 28/IV, № 99.
«“Горе от ума” в МХАТ (беседа с В. И. Немировичем-Данченко)» — «Искусство трудящимся», 1925, № 10.
Горький М., «Еще о “Карамазовщине”» — «Русское слово», 1913, 27/X, № 248.
Горький М., «О “Карамазовщине”» — «Русское слово», 1913, 22/IX, № 219.
Гремиславский И. Я., «Режиссеры и художники МХАТ» — «Искусство», 1938, № 6.
Златогоров П., «Идея должна звучать в каждом эпизоде» — «Советское искусство», 1952, 26/XI, № 95.
Златогоров П., «Немирович-Данченко и оперный театр» — «Советская музыка», 1959, № 2.
Заявлин Г. А. «Вл. И. Немирович-Данченко — директор театра» — «Ежегодник МХТ» за 1946 г.
Иванов Ив., «Театр и музыка. Малый театр. Спектакль 30-го октября. “Новое дело”, комедия в 4 д., Влад. Немировича-Данченко» — «Русские ведомости», 1890, 1/XI, № 301.
Камерницкий Д., «Вл. И. Немирович-Данченко и советский оперный спектакль» — «Советская музыка», 1953, № 5.
«“Карменсита” — самая большая удача русских» — «Дейли ньюс», 1926, 5/I.
592 Качалов В. И., «Великолепный мастер» — «Вечерняя Москва», 1936, 27/II, № 47.
«К гастролям студии имени В. И. Немировича-Данченко. У Немировича-Данченко» — «Ленинградская правда», 1928, 29/V, № 123.
«Кино-Америка. Беседа с народным артистом Вл. И. Немировичем-Данченко» — «Советский экран», 1928, № 7.
«Кино в Америке. Вл. И. Немирович-Данченко о своих заграничных впечатлениях» — «Вечерняя Москва», 1928, 24/I, № 20.
Кнебель М., «О некоторых вопросах режиссерской методологии Вл. И. Немировича-Данченко» — сб. «Вопросы режиссуры», «Искусство», М., 1954.
Кнебель М., «С веком наравне» — «Театр», 1958, № 12.
Книппер-Чехова О. Л. «Из воспоминаний» — «Ежегодник МХТ» за 1949 – 1950 гг.
«Корифей советского театра» — «Вечерняя Москва», 1943, 20/III, № 66 (5814).
«К постановке “Пугачевщины” в МХАТ» — «Искусство трудящимся», 1925, № 21.
Кут А., «Встречи режиссеров с В. Немировичем-Данченко и К. Станиславским» — «Советское искусство», 1935, 23/II, № 9 (235).
Леонидов Л. М., «Создатели Художественного театра» — «Известия», 1938, 26/X, № 250.
Леонидов О. Л., «О. С. Бокшанская» — «Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. 1.
Литовский О., «Спектакль социальной правды (“Враги” М. Горького в Московском Художественном театре)» — «Правда», 1935, 10/X, № 280.
Литовцева Н., «Годы учения» — «Советский театр», 1936, № 11.
Литовцева Н., «Из прошлого Московского Художественного театра» — «Ежегодник МХТ» за 1943 г.
Луначарский А., «Народному артисту республики В. И. Немировичу-Данченко» — «Искусство трудящимся», 1925, № 26.
М., «“Лизистрата” — к открытию МХАТ (Из беседы с Немировичем-Данченко)» — «Правда», 1923, 15/IX, № 208.
Марголин С., «Патетическая комедия» — «Театр и музыка», 1923, № 28.
Марков П., «Лизистрата» — «Театр и музыка», 1923, № 33.
Мацкин А., «Анна Каренина» — «Театр», 1937, № 3.
Мацкин А., «Молодость художника» — «Театр», 1958, № 12.
Мацкин А., «У истоков творчества» — «Ежегодник МХТ» за 1951 – 1952 гг.
М. З., «Памяти О. О. Садовской» — «Вестник театра», 1920, № 49.
Михайловский Н. К., «Литература и жизнь» — «Русское богатство», 1896, № 12.
Москвин И. М., «Моя первая роль» — «Горьковец», 1938, № 16 – 17.
Москвин И., «Слава русского театра» — «Правда», 1943, 26/IV, № 108.
«Мысли и впечатления» — «Цинциннати дейли тайме стор», 1926, 8/IV.
«Народный артист В. И. Немирович-Данченко в Музыкальной студии» — «Современный театр», 1928, 21/II, № 8.
«Наши беседы. Беседа с народным артистом республики В. И. Немировичем-Данченко» — «Современный театр», 1928, № 5.
Н. Г., «Театр и музыка» — «Русские ведомости», 1884, 24/XI, № 326.
Н. Г., «Театр и музыка» — «Русские ведомости», 1887, 31/X, № 300.
593 Немирович-Данченко Вл. И., Вступительная статья к книге «Московский Художественный театр. Пьесы А. П. Чехова (“Чайка”, “Дядя Ваня”, “Три сестры”, “Вишневый сад”, “Иванов”)», альбом «Солнце России», СПб., 1914.
Немирович-Данченко Вл. И., «М. Горький и Художественный театр (к 30-летнему юбилею литературной деятельности писателя)» — «Театр», 1922, 31/X, № 5.
Немирович-Данченко Вл. И., «Горький и Художественный театр», — сб. «Горький», ред. А. И. Груздев, М.-Л., 1928.
Немирович-Данченко Вл. И. (псевд. Инкогнито), «Дневник журналиста, 23-го января» [«Бабье царство» А. П. Чехова] — «Новости дня», 1894, 24/I, № 3810.
Немирович-Данченко Вл. И. (псевд. Инкогнито), «Дневник журналиста, 21-го января» [«Черный монах» А. П. Чехова] — «Новости дня», 1894, 22/I, № 3808.
Немирович-Данченко Вл. И., «Любовь Яровая» — «Вечерняя Москва», 1936, 27/XII, № 297.
Немирович-Данченко Вл. И., «О М. Н. Ермоловой» — сб. «Галерея сценических деятелей», т. II, изд. журн. «Рампа и жизнь», М., 1914.
Немирович-Данченко Вл. И., От редактора — в книге Н. Эфрос, «“Три сестры”. Пьеса А. П. Чехова в постановке Московского Художественного театра», изд. «Светозар», Пгр., 1919.
Немирович-Данченко Вл. И., «Речь, произнесенная на съезде режиссеров 19 марта» — «Русский артист», М., 1908, № 13.
Немирович-Данченко Вл. И., Марков П., «К постановке оперы “В бурю”» — «Правда», 1939, 11/X, № 282.
М. Нир., «Беседа с М. Горьким» — «Театр», 1914, 15/II, № 1459.
Нич., «Четверо о пятом» — «Голос Москвы», 1909, 13/XII, № 286.
«Новая постановка МХАТ. Вл. Ив. Немирович-Данченко о “Блокаде”» — «Вечерняя Москва», 1929, 25/II, № 46.
Новицкий П. И., «Станиславский и Немирович-Данченко» — «Театр», 1939, № 8.
«Новые постановки Художественного театра СССР. Беседа с народным артистом республики В. И. Немировичем-Данченко» — «Комсомольская правда», 1935, 26/II, № 47 (3042).
«Открытое письмо М. Горькому» — «Русские ведомости», 1913, 26/IX, № 221; «Утро России», 1913, 26/IX, № 221.
«Памяти В. И. Немировича-Данченко» — «Правда», 1943, 26/IV, № 108.
«Переживания Художественного театра. Беседа с Вл. И. Немировичем-Данченко» — «Русское слово», 1909, 22/X, № 242.
Петров Н., «Пути режиссуры» — «Театральный альманах», изд. ВТО, 1946, кн. 1 (3).
Погодин Н., «Владимир Иванович» — «Литература и искусство», 1943, 1/V, № 18.
Попов А., «Воспоминания и размышления» — «Театр», 1959, № 11; 1960, № 10.
Попов А., «Художник глубокой и страстной мысли (100-летие со дня рождения Вл. И. Немировича-Данченко)» — «Советская культура», 1958, 23/XII, № 152 (866).
594 Попова В. Н., «Как я работала над ролью Катерины» — «Горьковец», 1936, 22/III, № 6 (12).
«Постановка “Ревизора”. Беседа с Немировичем-Данченко» — «Русское слово», 1908, 18/XI, № 268.
«Похороны Вл. И. Немировича-Данченко» — «Правда», 1943, 28/IV, № 109.
«Превосходная Кармен» — «Ивнинг уорлд», 1926, 5/I.
Роскин А., «Немирович-Данченко и его книга» — «Литературный критик», 1939, № 8 – 9.
Рогачевский М. Л., «Московский Художественный театр в эпоху первой русской революции», — сб. «Первая русская революция и театр», «Искусство», М., 1956.
«Русские освежают “Кармен”, делая творение Бизе новым» — «Цинциннати инквайрер», 1926, 6/IV.
Сахновский В., «История двух спектаклей. (Мысли режиссера)» — «Советское искусство», 1934, 11/VI, № 27 (193).
Сахновский В. Г., «А. Н. Островский на сцене Московского Художественного театра» — «Ежегодник МХТ» за 1943 г.
Сахновский В. Г., «Работа над спектаклем “Егор Булычов и другие”» — сб. «К постановке “Егор Булычов и другие”, сцены в 3-х действиях Максима Горького», изд. Управления театрами НКП РСФСР, М., 1934.
Семашко Н., «За “Пугачевщину”» — «Известия», 1925, 6/X, № 228.
С. К., «День в Ясной Поляне» — «Новости дня», 1900, 14/X, № 6250.
С. К. [Кругликов Семен], «Общедоступный театр» — «Новости дня», 1898, 23/IV, № 5349.
Скабичевский А., «Владимир Иванович Немирович Данченко» — «Новое слово», 1896, декабрь, кн. 3.
Солодовников А. В., «Жизнь — театр — зритель» — «Театр», 1960, № 6.
Солодовников А. В., «Художественный театр и советская культура» — «Ежегодник МХТ» за 1947 г.
Станицын В., «Мудрый мастер» — «Правда», 1943, 26/IV, № 108.
Станицын В. Я., «Немирович-Данченко — режиссер» — «Театральная неделя», 1941, М., № 5.
Судаков И., «Значение идейного замысла в создании спектакля» — сб. «Мастерство режиссера», «Искусство», М., 1956.
«Сумбур вместо музыки. Об опере “Леди Макбет Мценского уезда”» — «Правда», 1936, 28/I, № 27.
Тарасова А., «Совесть актера» — «Правда», 1943, 26/IV, № 108.
Тарханов М. М., «Победа театра» — «Горьковец», 1935, 10/XI, № 4.
«Творить можно только в России (Вл. И. Немирович-Данченко об американском кино)» — «Комсомольская правда», 1928, 15/II, № 39.
«Театральная жизнь. Большой театр накануне реформы» — «Современный театр», М., 1928, № 26 – 27.
«Театр и музыка» — «Русские ведомости», 1888, 10/XII, № 340.
«Театр и музыка» — «Русский курьер», 1882, 7/X, № 276.
Топорков В. О., «“Любовь Яровая” в Париже» — «Вечерняя Москва», 1937, 10/VIII, № 182.
Тренев К. А., «Автор о спектакле» — «Горьковец», 1937, 11/I, № 1 (28).
595 Тренев К. А., «В. И. Немирович-Данченко» — «Правда», 1938, 26/X, № 296.
Тренев К. А., «Встречи с театром» — «Литературная газета», 1938, 26/X, № 59 (766).
Тренев К., «Они учатся и учат других» — «Театр и драматургия», 1934, № 3.
«Триумф русских в музыкальной драме» — «Нью-Йорк тайме», 1926, 5/I.
Тур, бр., «У Вл. И. Немировича-Данченко» — «Известия», М., 1938, 10/I, № 8.
«Умер Немирович-Данченко — основатель МХАТ» — «Ой», Гавана, 1943, 30/IV.
«Успех оперы “В бурю”» — «Правда», 1939, 19/XII, № 349.
Финк В., «Чествование МХАТ в Париже» — «Правда», 1937, 19/VIII, № 228.
Фрейдкина Л., «Героика и актеры психологической школы» — сб. «Актеры и роли», «Искусство», М.-Л., 1947.
Фрейдкина Л., «Вл. И. Немирович-Данченко» — сб. «Мастера МХАТ», «Искусство», М.-Л., 1939.
Фрейдкина Л. М., «Вл. И. Немирович-Данченко и Е. Б. Вахтангов» — «Ежегодник МХТ» за 1946 г.
Фрейдкина Л., «Вл. И. Немирович-Данченко и советский театр» — «Театр», 1948, № 10.
Фрейдкина Л., «В. И. Немирович-Данченко — театральный критик» — «Театр», 1940, № 3.
Фрейдкина Л., «В. И. Немирович-Данченко — театральный педагог Филармонии» — «Записки ГИТИС имени А. В. Луначарского», «Искусство», М., 1940.
Фрейдкина Л., «Режиссура Вл. И. Немировича-Данченко и система Станиславского» — «Театр», 1951, № 2.
Фрейдкина Л., «Соблазны и принципы (по неопубликованным материалам)» — «Театр», 1958, № 12.
Фрейдкина Л., «А. П. Чехов и Вл. И. Немирович-Данченко» — сб. «А. Чехов», Ростиздат, 1945.
Чиаурели М. Э., «Высокое мастерство» — «Литературная газета», 1948, 23/X, № 85 (2468).
Чушкин Н. Н., «Путь художника» — «Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. 1.
«Школа актера (беседа с засл. артисткой республики А. О. Степановой)» — «Горьковец», 1936, 11/IV, № 7 (13).
«М. Шолохов об опере “Тихий Дон”» — «Советское искусство», 1936, 5/VI, № 26 (312).
Шостакович Д., «Думы о пройденном пути» — «Советская музыка», 1956, № 9.
Щирина С. В., «Дело № 722» — «Театр», 1959, № 9.
Э—ман Я., «Говорит В. И. Немирович-Данченко» — «Литературная газета», 1934, 4/III, № 26 (341).
[Эфрос Н.], «Рим» — «Новости дня», 1903, 2/X, № 7293.
Юзовский Ю., «Отчего люди не летают?» — «Литературная газета», 1935, 10/I, № 2 (493).
596 Указатель упоминаемых произведений Вл. И. Немировича-Данченко366*
1. Романы, повести, рассказы
«Астроном» — 151.
«Банкоброшница (Из жизни на фабрике)» — 10, 90.
* «Барин» — 106.
«Бахчевник» — 142.
«Бессонная ночь» — 129.
«Богомолка» — 151.
* «В меблированных комнатах» — 103.
«Губернаторская ревизия» — 20, 22, 97, 129, 130, 133, 135, 136, 154, 572.
«Детский праздник» — 126.
«Для детей» — 117.
* «Dolce far niente» — 93.
«Домовой» — 121.
«Драма за сценой» («Артисты») — 97, 129, 130, 133, 136.
«Драма на почтовой станции» — 83.
«Карасюк» — 93.
«Картина Ольги Саджинской» — 90.
«Крепкое слово» — 112.
* «Лавры» («Дилетанты») — 106.
«Литературные хлеба» — см. «На литературных хлебах».
«Мертвая ткань» — см. «Старый дом».
«Мимо жизни» — 119, 120 – 122, 126.
«Мой маленький роман» — 98.
«Надя» — 126.
«На литературных хлебах» — 97, 105, 109, 116, 133, 199.
«На чужбине» — 107.
«Николенька» — 109.
«Она не смела плакать» — 109.
** «Пекло» — 10, 13, 97, 143, 145, 146, 151.
«Последний вечер» — 126.
«При жене» — 110.
«Румяна» — 116.
«Старый дом» («Мертвая ткань») — 119, 126, 128, 131, 133, 199.
«У Марьиной рощи (Быль)» — 117.
«У могильного креста» — 106.
«Упрямый ребенок» — 95.
«Фарфоровая куколка» — 90, 93.
«Хорошая девушка» — 119.
«Хороший случай» — 114.
«Этюды» — см. «Астроном», «Богомолка», «Каменный бог».
2. Пьесы, инсценировки, сценарии, либретто
«Банкрот во Франции» — 92.
** «Барышня Лиза» («Узор из роз») — 405.
** «Без любви» — 94.
* «Брат и сестра» — 397.
«Братья Карамазовы» — 261.
«В мечтах» («Около жизни», «Вне жизни», «Мечтатели») — 19, 25, 26, 162, 171 – 173, 177, 181, 183.
** «Деньги» — 404.
* «Земля» — см. «Курган».
«Золото» — 18, 19, 97, 123, 125 – 126, 154, 298 – 300, 318, 397.
* «Игрушка» («Жизнь — игрушка») — 106, 198.
* «Клевета» — 397.
* «Клеопатра» («Нильская змейка») — 397, 406.
* «Красавица» — 220.
* «Курган» — 29, 30, 197, 198, 251.
«Лихая сила» — 94.
** «Маски» («Месть художника») — 410.
* «Мечты и действительность» — 397.
** «Миллионерша» — 397.
«Николай Ставрогин» — 35, 286, 296 – 298, 442.
* «Ниццская драма» («Угасшая правда», «Клевета») — 198.
«Новое дело» — 16 – 20, 97, 103, 106 – 108, 112, 113, 116, 117, 122.
* «Одна» («Последняя привязанность») — 198.
«Последняя воля» — 18, 97 – 102, 141.
** «Ревизия» — 154.
«Ростовщики» — см. «Новое дело».
* «Сарданапал» — 403.
598 «Село Степанчиково» (с В. М. Волькенштейном) — 317, 318, 443.
«Соколы и вороны» (с А. И. Южиным-Сумбатовым) — 92, 93, 95.
«Счастливец» — 18, 95, 96, 98, 109, 117, 118.
* «Тени» — 405.
* «Учитель» — 199.
«Цена жизни» — 14, 18 – 20, 97, 133 – 137, 139, 302, 320, 404, 443, 445, 547.
* «Честный кассир» — 397.
3. Статьи, очерки, воспоминания
** «Автобиография» — 61.
«Автобиография» — 15, 62 – 65, 68.
** «Андреев Леонид» — 351, 352.
«“Анна Каренина” на сцене МХАТ» — 505.
«Артисты и критики» — 115.
«Без поэзии нет искусства» — 550.
«Бодрые песни» — 116.
«Большой, радостный спектакль» — 505.
«Варшавская драма» — 108.
«Величие и простота» — 517.
«В. Лужский» — 233.
«Волнующая встреча» — 532.
«Вопреки театральной традиции» — 466.
«Воспоминания о гастролях МХТ за границей» — см. «Художественный театр за границей».
** «Воспоминания о первых театральных впечатлениях» — 64.
«Воспоминания о театральных деятелях 1883 года» — 90.
** «Воспоминания о Сулержицком Леопольде Антоновиче» — 326.
«В последний раз» — 111.
** «Встреча с Чайковским» — 108.
«Второй план» — 549.
«Вы создадите молодую мудрость» — 489.
«П. П. Гнедич» — 116.
«“Горе от ума” в Московском Художественном театре» — 258, 259.
«М. Горький и Художественный театр» — 352.
«Горьковскому драматическому театру» — 499.
«Готовы к защите Родины» — 561.
«Грядущие силы» — 112.
«Дневник журналиста»367*:
[«Бабье царство» А. П. Чехова] — 5.
[«Кармен» Адель Борги] — 124.
[«Черный монах» А. П. Чехова] — 5.
599 ** «Докладная записка в цензуру (“Власть тьмы”)» — 179.
«Драматический театр»:
«Бенефис г[осподина] Дурново. — “Старый друг — лучше новых двух”. — Г[осподин] Дурново, как актер. Г[оспо]жи Садовская и Федорова. — “Кандидат в городские головы”. — Театральная безурядица и перетасовка. — “Гамлет” в Большом театре. — Комедия г[осподина] Вучетича “В крутых берегах”. — A propos о “Легких средствах” И. В. Шпажинского» — 71.
«Бенефис г[оспо]жи Ермоловой: “Мера за меру”, комедия В. Шекспира. — “Слабая струна”, водевиль. — Артистический кружок: бенефис г[оспо]жи Аграмовой. — “Поздний расцвет”. — Театральные дела “Кружка”» — 73.
«Бенефис г[оспо]жи Никулиной: “Новейший оракул”, комедия в пяти действиях, соч. А. А. Потехина. — Бенефис г[осподина] Вильде» — 81.
«Бенефис г[оспо]жи Федотовой. — “Много шуму из ничего”, комедия Шекспира. — Достоинства и недостатки нашей труппы, проявившиеся в этой пьесе. — Что поделывает дирекция? — Как относится публика к шекспировским комедиям. — Серьезная и комическая сторона комедии. — Развитие их. — Характеристика лиц, как главное достоинство всех произведений Шекспира. — Беатриче и Бенедикт. — Естественность их столкновений. — Исполнение пьесы. — Комедия “Странное стечение обстоятельств”. — Г[осподин] Писарев и г[оспо]жа Стрепетова» — 72.
«Бенефис режиссера труппы Малого театра, г[осподина] Черневского. — “Нищие духом” Н. Потехина. — Исполнение пьесы. — Г[оспо]жа Федотова и г[осподин] Ленский. — “Громоотвод”, комедия А. Сумбатова. — Задача молодого автора. — Наблюдательность кн. А. Сумбатова» — 72.
«Бенефисы г[оспод] Александрова, Никифорова и Живокини. — Г[осподин] Давыдов. — “Мария Тюдор” Виктора Гюго и “Когда-то было в старину”. — Ее перевод, сделанный г[осподином] Новицким. — Исполнение драмы. Как следовало бы раздать роли? — Бедность нашей труппы» — 71.
«Бенефисы г[оспод] Дурново и Александрова. — По поводу новой комедии “Дело Плеянова”, в 4 действиях, соч. Виктора Александрова» — 78.
«Вакантное место, комедия в 4-х действиях, соч. А. А. Потехина. — “Искорка”, комедия в одном действии» — 81.
«Разбор комедии “Дикарка”, соч. А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева. — Как отнеслась к пьесе пресса? — Может ли “Дикарка” назваться пьесой идеи? — Отчего серьезные вопросы отодвинулись в “Дикарке” на второй план? — Значение пьесы в литературном отношении и в сценическом. — Характеры и передача их артистами Малого театра и Артистического кружка. — Кстати о бенефисе г[оспо]жи Мартыновой» — 72.
«Гастроли г[оспожи] Сары Бернар. — Репертуар пьес. — Труппа. — Последние требования французской и русской театральной критики. — По поводу несчастного случая в прощальный спектакль г[оспожи] Сары Бернар» — 84.
«Г[осподин] Т. Сальвини в “Отелло” и “Гамлете”. Простота у г[осподина] 600 Сальвини и у русских актеров. Г[осподин] Росси и г[осподин] Сальвини» — 87.
«“Горе от ума” на сцене Малого театра» — 73.
«“Грех да беда на кого не живет”, с участием М. И. Писарева» — 73.
«Девиз нашей дирекции. — Инспектор репертуарной части и как исполняются у нас его обязанности. — Условия обстановки артиста. — Бенефисная система. — Легкий обзор истекшего сезона» — 74.
«“Дикарка” в театре Петровского парка, с участием М. Г. Савиной» — 82.
«Драма А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева на сценах Малого театра и Артистического кружка. — “Иудушка” в театре близ памятника Пушкина» — 79.
«Итоги двух недель. — “Второй брак”, соч. г[осподина] Ге. Два слова об исполнении пьесы здесь и в Петербурге. — “Горе от ума” в костюмах эпохи в театре Солодовникова. Г[осподин] Градов-Соколов. — Грибоедовский вечер в Артистическом кружке. — Бенефис г[осподина] Ленского: “Испанский дворянин”» — 73.
[Итоги театрального сезона 1881/82 г.] — 85.
«Комедия А. Н. Островского “Сердце не камень”. — Как ее приняла публика и кто в этом виноват? — Реальное изображение жизни в комедия. — Поэтическая нитка ее. — Что нового в “темном царстве” подметил А. Н. Островский? — Исполнение пьесы» — 72.
«Малый театр. Еще новая пьеса И. В. Шпажинского: “В забытой усадьбе”». — 80.
«“Медовый месяц”, Соловьева. — Г[осподин] Писарев и его игра в этой пьесе. — Остальные исполнители. — Артистический кружок. — Его горькая доля. — “Елизавета, королева английская” на сцене Кружка и “Таланты и поклонники” там же» — 85.
«Неделя в частных театрах. — Дебюты в театре близ памятника Пушкина. — Спектакли в Артистическом кружке. — Бенефисы П. А. Стрепетовой и г[осподина] Стружкина» — 82.
«Новая комедия Островского “Таланты и поклонники”. — Из быта провинциальных артистов. — Содержание комедии Островского. — Характеристика лип. — Исполнение пьесы в Малом театре» — 85.
«Новая пьеса И. В. Шпажинского “Как ни быть, лишь бы жить”. Беглый взгляд на деятельность И. В. Шпажинского вообще» — 78.
«О наших “любителях”. — “Гамлеты”. — Истинные любители. — Тип провинциального актера-туземца. — “Женитьба Белугина” в К. — Как Белугин-отец и Сыромятов поменялись своими ролями. Провинциальные любители. — Почему en somme столичные любители бесполезнее провинциальных Любительские театры. — Репетиции. Важность их. — Режиссер. — Состав любителей. — Маленький совет для большой пользы» — 75.
«Ожидаемые нововведения. — “Фофан”, комедия в трех действиях И. В. Шпажинского. Исполнение ее на сцене Малого театра в бенефис г[осподина] 601 Никифирова. — “Театр близ памятника Пушкина”. — Рецензент и актер» — 76.
«Паки и паки о литературно-театральном комитете. — Переписка защитников его с г[осподином] Плещеевым. — Несколько слов о рецензенте и его положении. — Бенефис г[осподина] Лентовского: “Самозванец Луба”, историческая драма в 4 действ., И. В. Самарина. — “Лес”, в театре Солодовникова. — Г[осподин] Писарев в роли Несчастливцева и г[осподин] Андреев-Бурлак в роли Счастливцева. — Дебютантка в Артистическом кружке» — 74.
«По поводу бенефиса г[осподина] Рябова. — Песня о Ваньке-ключнике. — “Ванька-ключник”, Антропова. — Г[осподин] Рыбаков. — “Старшая и меньшая”, ком. — Г[осподин] Андреев, дебютант на водевильные роли» — 75.
«По поводу “Записок сумасшедшего”, соч. Гоголя на сцене» — 83.
«По поводу постановки в Малом театре комедии И. С. Тургенева “Месяц, в деревне”. — Комедия Тургенева в первой и во второй редакциях. — Сценическое значение и устарелость комедии. — Купюры. — “Сценичные” пьесы из репертуара Малого театра. — Общее исполнение пьес, ставящихся в Малом театре. — Школа игры артистов Малого театра и ее существенный недостаток. — Нечто по поводу сравнения Малого театра с театром близ памятника Пушкина. — Параллель исполнителей “Месяца в деревне” на обеих сценах. — Роли Натальи Петровны и Веры в “Месяц в деревне”. — Г[оспожа] Федотова и остальные исполнители» — 81, 82.
«Провинциальные актеры и актрисы в Москве. — Участие их в спектаклях на частных сценах. — Как относится к ним дирекция и нужны ли ей новые сотрудники? — В Артистическом кружке: “Блуждающие огни”, “Приемыш”, “Разбойники”. — Г[оспо]жа Кузьмина» — 74.
[«Светит, да не греет» в Малом и Александринском театрах] — 79, 80.
«Театр близ памятника Пушкина: бенефис г[осподина] Чарского. “Старый барин”, комедия в 5 действиях, соч. А. И. Пальма» — 80.
«Театр в д[оме] Малкиеля: “Отелло”. — Артистический кружок: “Поздний расцвет”. — Бенефис г[оспо]жи Яблочкиной. — “Разбойники”. — “Дорого обошлось”, ком.» — 78.
«Театр Петровского парка: “Горе от ума”. — Как относится к бессмертной комедии казенный театр? — Обстановка эпохи. — Исполнение комедии. — Г[осподин] Горев в роли Чацкого. — Гастроли М. Г. Сашиной. — М. Г. Савина в комедии и драме. — Успех М. Г. Савиной. — По поводу смерти Н. М. Никифорова» — 83.
«Театр Солодовникова. “Гамлет” и “Доходное место”. — Г[осподин] Чарский. — Бенефис г[осподина] Писарева: “Горькая судьбина”» — 74.
«Царь Борис» на сцене Петровского парка. — Еще об исключительной партии посетителей этого театра. — Г[осподин] Андреев-Бурлак и его хроническая болезнь. — Борис по Пушкину и по Толстому. — Постановка и исполнение «Царя Бориса». — «Из семейной хроники», ком. И. В. Самарина — там же. — По поводу прекращения газеты «Суфлер» — 83.
602 «Дух твой с нами (Памяти Н. С. Бутовой)» — 351.
«Дуэль» А. П. Чехова — 5, 117.
** «Заметки о первой русской революции» — 204.
«Заметки о театре» — 423.
** «Замечания по пьесе “Заговор” Н. Вирты» — 526.
** «Заметки о сценарии “Воскресение”» — 402, 403.
«Записка членам Товарищества МХТ» — 177.
«Защитим нашу Родину, нашу свободу» — 565.
«Избаловались» — 111.
«Из вокальной гастрономии» — 110, 111.
** «Из воспоминаний о В. А. Гиляровском» — 89.
«Из пожеланий к 17-й годовщине Октября» — 455.
«Из прошлого» — 97, 102, 105, 131, 147, 169, 217, 445, 446, 457, 468, 493, 539.
«Из театрального дневника» — 89.
«Инсценировка чеховских настроений» — 186.
«Интересный спектакль» — 108.
«Искусство театра» — 293.
** «История моей драмы “В мечтах”» — 172, 177, 183.
** «Как ставить “Бориса Годунова” и как его играть» — 229.
«Когда мы, мертвые, пробуждаемся» — 163, 165.
«Кого мы защищаем? Кого и что в Отечественной войне спасаем?» — 437, 561, 573.
«К театральным работникам» — 482.
«Лед тронулся» — 124.
«Лицо нашего театра» — 56, 474, 475, 534, 561, 573.
«Люди театра не забудут А. В. Луначарского» — 457.
«Мольер в Москве» — 114.
«Москва в мае 1896 года. Письма о коронации» («Ходынка») — 11, 132, 133.
«Москвичи и итальянцы» — 124.
«Московский общедоступный театр» — 152.
«Московский Художественный театр за границей» — 220.
«Мы потеряли ближайшего друга» — 492.
«Надежда» — 318.
«На развалинах дворянства» — 90.
«На современный вкус» — 110.
«Наши гастроли подходят к концу» — 510.
«Наши провинциальные театры (Упадок драматического искусства. — Несостоятельность столичных трупп. — Таланты в провинции. Зависимость провинциальных актеров от антрепренеров. — Выход из этой зависимости посредством “société des artistes”. — Труппа харьковская, орловская, виленская, киевская, société в Тифлисе и труппа ростовская)» — 67.
«Недоразумение» — 124.
«Немножко правды» — 110.
«Нужны опыты» — 416.
** «Об американцах» — 412.
603 ** «Обещанные воспоминания о первой классической Тифлисской гимназии» — 65.
«Образцовая школа» — 11, 113, 114.
«Обращение к публике Пушкинского спектакля» — 415.
«О вероломстве фашистов» — 561.
«О драматургии А. Е. Корнейчука» — 472.
«О простоте актера» — 549.
«О простоте в театре» — 477.
«Освобожденное творчество» — 14, 465.
«О театре романтическом и реалистическом» — 549.
** «Отклик на статью Мейерхольда и Бебутова “Одиночество Станиславского”» — 43, 160, 352, 353.
«О Г. Н. Федотовой. Из воспоминаний» — 280, 281.
«Партийность в искусствах» — 114.
** «Первые театральные воспоминания» — 63.
«Первые театральные воспоминания» — 64, 548, 565.
«Первый выход г[осподина] Иванова-Козельского в “Русском театре”» — 88.
«Петруччио и Катарина» — 90.
«Письмо Вл. И. Немировича-Данченко» — 560.
«Письмо в редакцию» (с К. С. Станиславским) — 418.
«Письмо к режиссеру спектакля “Анна Каренина” В. Г. Сахновскому» — 500.
** «Письмо к читающему» — 408.
«Письмо режиссеру спектакля “Любовь Яровая”» — 536.
** «Поездка МХАТ на Парижскую выставку» — 509, 510.
** Поздравление бойцам, командирам и политработникам РККА — 529.
«По поводу “Юлия Цезаря” у мейнингенцев (Письмо в редакцию)» — 92.
«Последняя жертва» — 67.
** «Правда художника» — 318.
Предисловие к альбому «Московский Художественный театр, пьесы А. П. Чехова» — 310.
Предисловие к книге Н. Эфроса «“На дне”. Пьеса М. Горького в постановке Московского Художественного театра» — 161, 179.
Предисловие к книге Г. Гояна «Гликерия Федотова» — 66.
** «Приветствие А. Стаханову, Н. Изотову и др.» — 483, 484.
«Приветствие Цететису» — 423.
«Простота героических чувств» — 466, 467.
«Простота, ясность, художественная честность» — 452.
«Работники искусств — вместе со всем народом» — 561.
«Радость и гордость» — 476.
«Режиссерские указания к “Новому делу”» — 18, 97, 108.
«Радость искусства» — 505.
«Сон театрала» — 110.
«Спор» — 110.
«Старое по-новому» — 115.
«Сцена и кулисы» (с Н. П. Кичеевым) — 68 – 71, 73 – 75, 85.
«Сценическая юность» — 66, 566.
«Тайна сценического обаяния Гоголя» — 249, 250.
604 «Театрально-литературный комитет» — 115.
** «Театральные воспоминания» — 113.
«Театральные школьники» — 122.
«Театральный альбом» — 114 – 116.
«Театральный вопрос» — 86.
«Театр горьковского мироощущения» — 492.
«Театр и музыка»368*:
[«Анджело» В. Гюго. П. А. Стрепетова] — 81.
«Бенефис г[осподина] Живокини» — 77.
«Бенефис г[оспожи] Живокини, “Успех”, ком. в 4 действиях, соч. В. В. — Поступок г[осподина] Вильде» — 77.
«Бенефис г[осподина] Музиля: “Невольницы”, комедия в 4 действиях, соч. А. Н. Островского (14 ноября)» — 79.
«Бенефис г[осподина] Музиля» — 85.
«Бенефис г[осподина] Садовского (6 ноября)» — 79.
[«Бешеные деньги» в «Театре близ памятника Пушкина»] — 85.
[«Борис Годунов» в Малом театре] — 78.
«“В старые годы”, драма в 5 д., соч. Шпажинского» — 98.
«“Гамлет” (9 апреля)» — 87.
«Гамлет» на «Пушкинской сцене» — 86.
[Гастроли Е. Н. Горевой] — 98.
«Гастроли Сары Бернар» — 84.
«Г[оспо]жа Никулина в “Майорше”» — 70.
[«Гроза» в Малом театре] — 71.
[«Гроза», П. А. Стрепетова] — 80.
«Дебют г[осподина] Плещеева» — 70.
[Дебют О. О. Садовской] — 70.
[«Дочь века» А. И. Сумбатова-Южина] — 80.
[«Каширская старина» в Малом театре] — 75.
[Коклен-старший] — 103.
«Малый театр. — “Отжитое время”, драма соч. Сухово-Кобылина» — 86, 87.
[«На всякого мудреца довольно простоты» в «Театре близ памятника Пушкина»] — 76.
[«На хуторе» П. П. Гнедича] — 84.
«Первое представление Т. Сальвини» — 87.
«Первый выход Полины Антоновны [Антипьевны] Стрепетовой» — 79.
«“Правительница Софья”, историческая драма, в пяти действиях, соч. В. Крылова и П. Полевого» — 99.
«Представления г[осподина] Т. Сальвини (“Отелло”, 7 апреля)» — 87.
«Прощальный бенефис г[осподина] Вильде. В первый раз — “В Шильонском замке”, трагедия в 5 действиях, соч. А. Ф. Федотова» — 100.
[«Разбойники» Шиллера в Артистическом кружке] — 72.
[«Разбойники» Шиллера. Немецкая труппа] — 87, 88.
[«Руслан и Людмила» в Мариинском театре] — 94.
605 [«Свадьба Кречинского» в «Театре близ памятника Пушкина»] — 77.
[«Свои люди, сочтемся» А. Н. Островского. Бенефис В. Н. Андреева-Бурлака] — 82.
«Спектакль с участием П. А. Стрепетовой. (“Каширская старина”, 7 мая)» — 87.
«Спектакль с участием П. А. Стрепетовой. (“На бойком месте”, 9-го мая)» — 87.
«Спектакль с участием г[оспо]жи Стрепетовой. (“Мария Стюарт”, 12-го мая)» — 87.
«Спектакль с участием П. А. Стрепетовой. (“Василиса Мелентьева”, 16-го мая)» — 87.
«“Татьяна Репина”, комедия в 4-х действиях, А. С. Суворина (бенефис г[оспо]жи Никулиной)» — 101.
[«Театр близ памятника Пушкина»] — 76.
[Труппа Малого театра] — 75.
[«Укрощение строптивой» в Малом театре] — 71.
«“Федра” на сцене Малого театра» — 105.
[«Эмилия Галотти» в «Театре близ памятника Пушкина»] — 77.
[«Эрнани» В. Гюго в Малом театре] — 104.
«Театр и школа» — 126.
«Театр мужественной простоты» — 333, 524.
«Тихому, ясному свету (Памяти М. Г. Савицкой)» — 270.
«Товарищество актеров» — 101.
«Трудно переоценить» — 498.
** «Тренев К. А.» — 534.
** «Тринадцать театральных нянек» — 175.
«Труппе МХАТ» — 535.
** «Тургенев И. С.» — 62, 452.
«Тяжелая утрата» — 540.
«У развалин монастыря» — 93.
«Участникам декады украинского искусства» — 489.
«Формы театра Ибсена» — 414.
«Ходынка» — см. «Москва в мае 1896 года. Письма о коронации».
«Художественный театр за границей» — 218, 303.
«Художественный театр — М. Горькому» — 440.
«Через 30 лет» — 476.
«Честь» — 115.
«Чудная греза» — 110.
«Школы» — 114.
«Щедрин в Художественном театре» — 308, 309.
«Юбилейный год Художественного театра» — 514.
«С. В. Яблочкина» — 115.
4. Театральное наследие
** Беседа с М. О. Кнебель о постановке пьесы А. Н. Островского «Лес» — 581, 582.
Беседа с режиссерами периферийных театров — 484, 485, 487.
606 Беседа с режиссерами и актерами периферии — делегатами Всесоюзного съезда профсоюза работников искусств — 512, 515, 516.
Беседа с труппой Художественного театра — 521.
«“Вишневый сад” в Московском Художественном театре» — 423.
Выступление на I конференции музыкальных драматургов — 461, 462.
Выступление на II пленуме Союза советских писателей — 477.
** Выступления на «творческих понедельниках» МХТ — 205, 341 – 343.
«Для себя, разные мысли» — 548.
** Из беседы с актерами Музыкального театра — 409.
** Из беседы с актерами Художественного театра перед началом репетиций пьесы Л. Н. Андреева «Анатэма» — 250, 251.
** «История постановки. Беглые заметки. Приложение к дневнику репетиций спектакля “Будет радость”» — 315.
** Заметки и наброски [Социальное воспитание артиста] — 566.
** Заметки о репетиции спектакля «Последняя жертва» — 583.
Замечания по спектаклю «Последние дни» («Пушкин») — 579 – 581.
«Музыкальным студийцам» — 355, 356.
** «Обращение к труппе» — 258, 343, 390.
* «О спектакле» — 563.
** Ответ на анкету «Известий» — 367.
** Отзыв о сценарии Вс. Вишневского «Мы, русский народ» — 511.
** Отзыв о романе В. Гроссмана «Степан Кольчугин» — 549.
** Протоколы беседы и репетиций спектакля «Борис Годунов» — 486, 506, 507.
** «Пятнадцать месяцев около американского кино» — 399, 405, 407, 412.
Режиссерские заметки:
** «Анатэма» — 250.
** «Дочь Анго» — 347.
** «Иванов» — 201.
** «Карменсита и солдат» — 370.
** «Месяц в деревне» — 250.
** Музыкальная студия — 346.
** «Оперный театр» — 570, 571.
** Режиссерские заметки к спектаклю «Борис Годунов» — 485.
** Режиссерские материалы к пьесе А. С. Грибоедова «Горе от ума» — 208.
** Режиссерские материалы к трагедии В. Шекспира «Король Лир» — 561, 566, 567.
** Режиссерский план пьесы А. С. Грибоедова «Горе от ума» — 152, 207, 208, 216.
** Режиссерский план пьесы А. П. Чехова «Иванов» — 152.
Режиссерский план пьесы Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» — 152, 163, 164.
Режиссерский план пьесы Г. Ибсена «Столпы общества» — 175, 178.
Режиссерский план трагедии В. Шекспира «Юлий Цезарь» — 158, 189.
Режиссерский экземпляр комедии А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» — 254, 255.
** Речь на гражданской панихиде по Г. С. Бурджалову — 381.
607 Речь на заседании Президиума ЦИК СССР 7 мая 1937 года по случаю награждения МХАТ орденом Ленина — 506.
Речь на похоронах К. С. Станиславского — 520, 521.
** Речь на праздновании 100-летнего юбилея А. Н. Островского — 366.
Речь на торжественном заседании в день сорокалетнего юбилея МХАТ — 325, 525.
Речь на торжественном заседании в МХАТ СССР имени Горького по случаю 35-летнего юбилея театра — 455.
Речь об А. Н. Островском — 137.
** Речь, обращенная к французским журналистам — 479.
Речь перед труппой МХАТ — 316.
Речь по радио накануне 20-летия Великой Октябрьской социалистической революции — 512.
Стенограмма беседы с актерами МХАТ — 135.
Стенограмма беседы с молодежью МХАТ — 314, 496, 497, 527, 536, 537.
Стенограмма беседы с труппой Музыкального театра — 409.
Стенограмма беседы с труппой МХАТ — 463.
Стенограмма беседы («Пиковая дама» П. И. Чайковского) — 582, 583.
Стенограмма беседы («Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха) — 556.
Стенограмма обсуждения макета декораций («Даиси» З. Палиашвили) — 548, 552.
Стенограмма обсуждения оперы Б. А. Мокроусова «Чапаев» — 574.
Стенограмма первой лекции в Театре имени Руставели — 567.
Стенограммы репетиций спектаклей:
«Анна Каренина» по роману Л. Н. Толстого — 7, 501 – 505.
«Банкир» А. Е. Корнейчука — 503, 506.
«Борис Годунов» А. С. Пушкина — 74.
«В бурю» Т. Н. Хренникова — 530, 532 – 534, 539.
«Гамлет» В. Шекспира — 547, 548, 551, 576, 577, 583.
«Горе от ума» А. С. Грибоедова — 512 – 516, 518, 519, 521 – 524.
«Достигаев и другие» А. М. Горького — 523.
«Кремлевские куранты» Н. Ф. Погодина — 7, 553 – 559.
«Любовь Яровая» К. А. Тренева — 536.
«Ночь перед Рождеством» Б. В. Асафьева — 255, 540.
«Перикола» Ж. Оффенбаха — 552, 553.
«Половчанские сады» Л. М. Леонова — 7, 490, 526 – 532.
«Последние дни» М. А. Булгакова — 583.
«Риголетто» Д. Верди — 521.
«Русские люди» К. М. Симонова — 574, 575.
«Семья» Л. А. Ходжа-Эйнатова — 547.
«Три сестры» А. П. Чехова — 7, 527, 537, 538, 540 – 546.
Стенограмма совещания по советской опере — 464.
Стенограмма совещания Театрального отдела Наркомпроса — 339, 340.
«Товарищам по театру перед новым сезоном» — 436.
** «Требования, подсказанные мне моим личным вкусом» — 17, 221.
** «Что мне нравится во “Фроле Скобееве”» — 577, 578.
608 Именной и предметный указатель
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н
О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Абрамова Мария Морицевна — 103, 104.
Аверкиев Дмитрий Васильевич — 577.
«Каширская старина» — 75.
«Княгиня Ульяна Вяземская» — 101.
«Фрол Скобеев» — 577.
Аганбекян Артавазд Аркадьевич — 60.
Аграмов Михаил Васильевич — 171.
«Адриенна Лекуврер» Э. Скриба — 84.
Адуев Николай Альфредович — 371.
Адурская Антонина Федоровна — 9, 207.
Айхенвальд Юлий Исаевич — 293.
Академия наук — 390.
«Академия сценических искусств при МХАТ» (проект) — 448.
«Academia», изд. — 493.
Акимов Николай Павлович — 488, 494, 495.
Акимова Софья Павловна — 88.
«Акционерная компания общедоступных театров и аудиторий» — 138, 139.
Алеева Евдокия Андреевна — 444, 500.
Александр III – 126.
Александров Анатолий Николаевич — 464.
Александров В. — см. Крылов В. А.
Александровский А. — 67.
Алексеев Константин Сергеевич — см. Станиславский К. С.
Алексей Максимович — см. Горький А. М.
Алчевский Иван Алексеевич — 271.
д’Альварец Маргерит — 392.
Амплуа (терм.) — 75.
«Анафема» — см. Л. Н. Андреев, «Анатэма».
«Анго» — см. Ш. Лекок, «Дочь Анго».
Анджапаридзе Верико Ивлиановна — 570.
Андреев Леонид Николаевич — 12, 33, 34, 36, 176, 177, 195, 217, 218, 223, 226, 230, 237, 240, 248, 249, 253, 259, 280, 283, 287, 290, 292, 294, 295, 299, 302 – 305, 310, 313, 314, 319, 322 – 324, 340, 351, 352.
«Анатэма» — 12, 33, 248 – 250, 252 – 255, 257.
«Анфиса» — 259.
«Бездна» — 176.
«Екатерина Ивановна» — 34, 225, 283, 285, 287, 288, 290, 292, 294, 320.
«Жизнь Человека» — 223, 226, 230, 232, 237, 238.
«Не убий» — 299.
«Профессор Сторицын» — 292.
«Самсон в оковах» — 305, 314, 352.
«Сашка Жегулев» — 280.
«Царь Голод» — 240.
Андреева (Желябужская) Мария Федоровна — 31, 156, 161, 198, 207, 211, 305.
Андреев-Бурлак Василий Николаевич — 16, 74, 82, 83.
Андровская Ольга Николаевна — 414, 435, 437, 466, 474, 496, 514.
Аникиенко Александр Никанорович — 530, 534.
Ансамбль (терм.) — 18, 53, 331, 465, 483.
Ан-ский (псевд. Рапопорта Семена Акимовича) — 393.
«Гадибук» («Дыбук») — 393.
«Антоний» — см. В. Шекспир, «Антоний и Клеопатра».
Д’Аннунцио Габриель — 207, 226, 244, 248, 279.
«Франческа да Римини» — 244.
Арагон Луи — 510.
Арбузов Алексей Николаевич — 577.
609 «Бессмертный» (с А. К. Гладковым) — 577.
Арго Абрам Маркович — 371.
Аренский — 199.
Аренский Антон Степанович — 382.
«Бахчисарайский фонтан» — 382, 392, 413, 480.
Аристотель — 127.
Аристофан — 41, 44, 155, 360, 362, 365.
«Лизистрата» — 6, 41, 44 – 47, 155, 360 – 369, 371, 372, 376, 391.
Артем (Артемьев) Александр Родионович — 16, 281, 305.
«Артист», журн. — 18, 103, 106 – 108, 117, 120, 126, 128.
Артистический кружок — см. Московский артистический кружок.
«Артисты Москвы — русской армии и жертвам войны», газ. — 318.
Асафьев Борис Владимирович — 488, 540, 543, 544.
«Ночь перед Рождеством» — 255, 540, 543.
Асланов Николай Петрович — 316.
Асланова Елизавета Петровна — 60.
Ассоциация театральных и музыкальных критиков (Ассоциация театральных, музыкальных и кинокритиков при Доме печати) — 413, 424.
Астангов Михаил Федорович — 481, 482.
Афиногенов Александр Николаевич — 4, 9, 13, 421, 440 – 442, 444, 445, 449, 454, 467, 469, 470, 476, 477.
«Ложь» — 449.
«Страх» — 13, 421, 440 – 442, 444, 445, 465.
Аш Шолом Моисеевич — 222, 238.
Бабель Исаак Эммануилович — 467.
Базарова Нина Васильевна — 554.
Байрон Джордж Гордон — 41, 228, 403.
«Сарданапал» — 403.
Бакалейников Владимир Романович — 379.
Бакст (Розенберг) Лев Самойлович — 271, 272.
Бакунин Михаил Александрович — 36, 320.
Бакшеев Петр Алексеевич — 319.
Балиев Никита Федорович — 262, 321.
Балтрушайтис Юргис Казимирович — 176.
Бальзак Оноре де — 16.
Бальмонт Константин Дмитриевич — 12, 196, 199, 294.
Барановская Вера Всеволодовна — 276, 305.
Баратов Леонид Васильевич — 44, 366, 378, 382, 418, 423, 425, 430, 433.
Барнай Людвиг — 218.
Баров Александр Александрович — 294.
Барримор Джон — 395, 400 – 402, 409, 410.
«Дон Жуан», фильм — 400.
Барсова Валерия Владимировна — 352, 388, 558, 577.
Бассерман Альберт — 292.
Баталов Владимир Петрович — 386, 390.
Баталов Николай Петрович — 47, 353, 381, 414, 427, 437, 513.
Баттистини Маттиа — 124.
Бауман Николай Эрнестович — 31, 216.
Бахрушин Алексей Александрович — 303.
Бебутов Валерий Михайлович — 43, 352.
«Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. О. Бомарше — 142, 563.
Бекетова Мария Андреевна — 319.
Бёклин Арнольд — 207.
Белинский Виссарион Григорьевич — 65.
Беллини Винченцо — 64.
Белокуров Владимир Вячеславович — 529.
Белый Андрей (псевд. Бугаева Бориса Николаевича) — 412.
Бен-Ами Джакоб (псевд. И. Щирина) — 393.
Бендина Вера Дмитриевна — 435.
Бенуа Александр Николаевич — 35, 260, 263, 266, 271, 284, 291, 293, 296 – 298, 300, 301, 305, 309 – 313, 438.
«Berliner Tageblatt», газ. — 218.
Берсенев Иван Николаевич — 305, 345, 362.
Бескин Эммануил Мартынович — 368, 454.
Бертенсон Сергей Львович — 8, 360, 399, 400 – 403, 405 – 410, 420, 421, 441.
Бетховен Людвиг ван — 379.
«Эгмонт» — 379.
«Искатели жемчуга» — 111, 496.
«Кармен» — 45, 110, 111, 124, 368, 370 – 374, 376 – 378, 392, 395, 396.
«Карменсита и солдат»369* — 45, 46, 378, 391, 392, 415, 465.
Блинков Иван Григорьевич — 533.
Блок Александр Александрович — 4, 8, 12, 32, 38, 241, 317, 319, 322, 323, 327, 337, 353, 538.
«Песня судьбы» — 241.
«Роза и Крест» — 38, 317, 319, 322 – 324, 326 – 328, 330 – 332, 337, 340, 372.
Боборыкин Петр Дмитриевич — 28, 124, 132, 155, 162, 255.
«Дамы» — 162.
Богатырев Шоэль Шулимович — 219.
Боголюбов Николай Иванович — 557, 558.
Бокшанская Ольга Сергеевна — 4, 355, 359, 363, 364, 366, 368, 370 – 378, 400, 404, 408, 420, 421, 427, 428, 435 – 439, 441 – 445, 449, 468 – 470, 481, 483, 488, 489, 493, 499, 508, 513, 520, 555, 560, 562, 564 – 566, 570 – 573, 584.
Болдуман Михаил Пантелеймонович — 479, 528, 543, 546, 559.
Большая сквозная идея (терм.) — 9, 52, 534.
«Борис» — см. А. С. Пушкин, «Борис Годунов».
Бородай Михаил Матвеевич — 162.
«Борьба», газ. — 175.
Браудо Евгений Максимович — 378.
«Ницше — философ-музыкант» — 378.
Бренко Анна Алексеевна — 16.
Бромлей Надежда Николаевна — 242, 363.
«Броненосец “Потемкин”» О. Чишко — 515.
Брюсов Валерий Яковлевич — 12, 373.
Бубнов Андрей Сергеевич — 442, 446.
«Будильник», журн. — 69 – 71, 73 – 75, 85, 88 – 90.
Буква (псевд. Василевского Ипполита Федоровича) — 92.
Булгаков Михаил Афанасьевич — 56, 398, 416, 421, 442, 444, 485, 486, 564, 579.
«Дни Турбиных» — 42, 398, 400, 403.
«Последние дни» («Пушкин») — 56, 561, 564, 579 – 581, 583.
«Булычов» — см. А. М. Горький, «Егор Булычов и другие».
Бунин Иван Алексеевич — 161, 308.
Бунчиков Владимир Абрамович — 456.
Бурджалов Георгий Сергеевич — 37, 163, 175, 381.
Бурмейстер Владимир Павлович — 540, 553.
Бутова Надежда Сергеевна — 37, 308, 309, 351.
Бучма Амвросий Максимилианович — 560.
Бьёрнсон Бьёрнстьерне — 121, 160, 176.
«Жертва политики» — 176.
611 «Мария Шотландская» [«Мария Стюарт в Шотландии»]370* — 121.
«Новобрачные» — 160.
Вагнер Рихард — 114.
«Зигфрид» — 207.
Вальц Карл Федорович — 163, 164.
Ван-Гог Винцент — 57.
«Оливковые деревья» — 57.
Варламов Александр Егорович — 115.
«Моего вы знали ль друга» (романс) — 115.
Варламов Константин Александрович — 96, 101, 112, 116.
Васадзе Акакий Алексеевич — 565.
Васильева Вера Сергеевна — 91.
Васнецов Виктор Михайлович — 234.
Вассерман Якоб — 407.
«Иллюзии мира» — 407.
Вахтангов Евгений Багратионович — 4, 40 – 42, 266, 269, 275, 337, 338, 341, 342, 344, 350, 352, 357, 358, 361, 362, 393, 467.
«Записки. Письма. Статьи» — 275.
В. В. — см. Вильде Н. Е.
Вебер Карл Мария фон — 271.
«Приглашение к танцу» («Invitation en valse»371*) — 271.
Ведекинд Франк — 226.
«Дух земли» — 226.
«Пляска смерти» — 226.
«Ящик Пандоры» — 226.
«Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка — 44, 361.
Вендерович Валентина Леонидовна — 248.
Вера — см. Гаевская В. Н.
«Аида» — 571.
«Травиата» — 6, 49, 111, 158, 207, 259, 421, 450, 456 – 458, 461, 462, 464, 466, 471, 472, 474, 475, 477.
«Эрнани» — 124.
Верт Александр — 567.
Верхарн Эмиль — 303.
Вершилов Борис Ильич — 429, 432.
Веселитская (псевд. В. Микулич) Лидия Ивановна — 25.
«Мимочка» — 25.
Веселовский — 153.
Веселовский Алексей Николаевич — 115, 209.
«Вестник Европы», журн. — 65, 258, 259.
«Вестник театра», журн. — 43, 341, 348, 352.
«Вечерняя Москва», газ. — 411, 424, 426, 450, 458, 477, 482, 488, 496, 497, 503, 510, 582.
Вийон Франсуа — 399.
«Франсуа Вийон» («Любимый бродяга»), фильм — 399, 405.
Виленкин Виталий Яковлевич — 64, 235, 463, 512.
Вильде (псевд. В. В.) Николай Евсеевич, Евграфович (Карл Густав) — 77, 91.
«Успех» — 77.
Вильямс Петр Владимирович — 9, 429, 450, 475, 583.
Вирта Николай Евгеньевич — 9, 493, 496, 508, 512, 514, 525, 526, 527.
«Заговор» — 526.
«Закономерность» — 525.
«Одиночество» — 493, 496, 508, 511.
Висновская Мария — 108.
Витте Сергей Юльевич — 29, 197, 204, 219.
Вишневский Александр Леонидович — 37, 143, 168, 176, 186, 226, 231, 242, 254, 422.
Вишневский Всеволод Витальевич — 9, 454, 477, 511, 512.
«Первая Конная» — 434.
Власовский — 389.
612 Внутренние задачи (терм.) — 7, 522, 527.
Внутренние монологи (терм.) — 7, 55, 581.
Внутренний (жизненный) груз (терм.) — 55, 538, 579, 580, 582.
Внутренний замысел (терм.) — 351, 550.
Внутренний образ (терм.) — 265.
Вознесенский Ал. — 357.
Волгина Софья Петровна — 92.
Волков Борис Иванович — 491, 508, 511.
Волков Николай Дмитриевич — 158, 482.
Волков Федор Григорьевич — 278.
Волькенштейн Владимир Михайлович — 317, 359.
«Станиславский» — 359.
Воровский Вацлав Вацлавович — 260.
«Вперед», газ. — 333.
Вронская Варвара Алексеевна — 437, 527.
Всероссийская промышленная и художественная выставка — 133.
Всероссийский съезд режиссеров — см. Первый Всероссийский съезд режиссеров.
Всероссийское театральное общество — 552.
Всеславянский антифашистский комитет — 573.
Всесоюзный съезд профсоюза работников искусств — 515.
«В спорах о театре», сб. — 293.
Второй план (терм.) — 7, 55, 515, 523, 526, 549.
Второй пленум Союза советских писателей — 476, 477.
Второй Всероссийский съезд режиссеров — 249.
Второй Всероссийский съезд сценических деятелей (Второй съезд сценических деятелей) — 170.
Вяльцева (Бискупская) Анастасия Дмитриевна — 252.
Гаевская Вера Николаевна — 123.
Гаврилов Николай Павлович — 488.
Гаджибеков Узеир Абдул Гусейн оглы — 567.
Гальперин Михаил Петрович — 347.
Гамсун Кнут — 207, 209, 220, 249, 265, 269, 428.
«Драма жизни» — 207, 209, 210, 220, 223, 225, 226.
«Пан» — 220.
«У врат царства» — 249, 254.
«У жизни в лапах» — 265, 268, 269, 332.
Гапон Георгий Аполлонович — 204.
Гарбо Грета — 397.
«Любовь» («Анна Каренина»), фильм — 407.
Гардении — 303.
Гарденины — 28.
Гауптман Гергарт — 8, 23, 33, 152, 158, 218, 242, 250.
«Бегство Габриэля Шиллинга» — 242.
«Микаэль Крамер» — 171.
«Одинокие» — 23, 152, 156 – 158, 160, 162, 192, 215.
«Потонувший колокол» — 140.
«Праздник примирения» — 304.
«Gazzeta del Popolo», газ — 443.
Гейтц Михаил Сергеевич — 434, 436, 437, 439, 441.
Гейхтшман И. — 575.
Гельцер Анатолий Федорович — 134.
Гельцер Екатерина Васильевна — 184, 271, 373.
Георгиевская Анастасия Павловна — 543.
Герасимов Александр Михайлович — 577.
Германова Мария Николаевна — 231, 232, 236, 252, 292, 311.
Героическое на сцене (терм.) — 13, 33, 50, 52, 222, 329, 425, 466, 467, 536, 537, 554, 574.
Герцен Александр Иванович — 226.
Гест Морис — 359.
Гете Иоганн Вольфганг — 551.
Гжельский Павел Николаевич — 483.
613 Гзовская Ольга Владимировна — 235, 263, 283, 323, 327.
Гиацинтова Софья Владимировна — 262, 353, 406.
Гиляровский Владимир Алексеевич — 89, 179.
Гинденбург Пауль — 321.
Гиппиус Зинаида Николаевна — 306.
Гитович Нина Ильинична — 102, 154, 166.
«Летопись жизни и творчества А. П. Чехова» — 102.
«Богема», фильм — 405.
«Красная буква», фильм — 405.
Главискусство (Главное управление по делам искусств) — 415.
Главное управление по делам печати — 173, 218, 228.
Главрепертком (Главный комитет по контролю за репертуаром и зрелищами) — 433, 434.
Глаголь С. (псевд. Голоушева Сергея Сергеевича) — 268.
Гладков Александр Константинович — 577, 578.
«Бессмертный» (с А. Н. Арбузовым) — 577.
«Фрол Скобеев», либретто — 577.
Глама-Мещерская Александра Яковлевна — 76.
Глебов Василий Васильевич — 456, 465, 466, 471 – 475, 507, 513, 519, 537, 578.
Глинка Михаил Иванович — 352, 505.
«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») — 233, 234, 570.
Глиэр Рейнгольд Морицевич — 362, 365, 382.
«Клеопатра» («Египетские ночи») — 382, 392, 415.
Глори Мари — 476.
Гнединское ремесленное училище — 106, 113, 114.
Гнедич Петр Петрович — 84, 103, 116, 124, 125, 128.
«На хуторе» — 84.
«Стоячие воды» — 124.
«Годунов» — см. М. П. Мусоргский, «Борис Годунов» и А. С. Пушкин. «Борис Годунов».
Гоголь Николай Васильевич — 43, 61, 63, 64, 66, 83, 113, 115, 155, 174, 204, 249, 250, 345, 437, 527.
«Записки сумасшедшего» — 83.
«Мертвые души» — 43, 155, 174, 437 – 440, 442, 447.
«Ревизор» — 34, 42, 148, 226, 242, 243, 245 – 248, 254, 345, 347, 354.
Голейзовский Касьян Ярославович — 345.
Головина Наталья Павловна — 104.
«Голос Москвы», газ. — 257, 293.
Голсуорси Джон — 332.
«Борьба» — 332.
Гольденвейзер Александр Борисович — 567.
«Хозяйка гостиницы» — 140, 141, 303, 304, 314, 438.
Гольцев Виктор Александрович — 145.
Гончаров Иван Александрович — 527.
Горев Аполлон Федорович — 237, 246, 247, 251.
Горев Федор Петрович — 120.
Горева Елизавета Николаевна — 98.
Горский Александр Алексеевич — 346.
Гортынская Мария Петровна — 347.
Горчаков Николай Михайлович — 414, 427, 434, 438, 485.
Горький (Пешков) Алексей Максимович — 3, 4, 6, 8, 10 – 12, 16, 23, 24 – 30, 33, 35 – 37, 50, 152, 160 – 162, 164 – 166, 172, 173, 175 – 183, 185, 189, 191, 194 – 196, 198 – 201, 207 – 215, 222, 223, 250, 259, 260 – 262, 269, 284, 288, 295, 297 – 302, 304, 305, 312, 317, 332, 344, 352, 354, 390, 399, 413, 417, 421, 440, 441, 446 – 448, 451, 453, 454, 459, 460, 464, 469, 476, 480, 482, 483, 485 – 487, 492, 509, 524, 532, 538.
«Варвары» — 211.
614 «В людях», сцены, составленные П. С. Сухотиным по произведениям А. М. Горького — 453, 454.
«Враги» — 14, 26, 49, 50, 53, 421, 463, 467, 470, 474, 476 – 480, 482, 483, 485 – 487, 509, 548, 550.
«Дачники» — 12, 26, 28, 29, 37, 152, 191 – 196, 199.
«Дети» — 262.
«Дети солнца» — 30, 152, 207 – 217, 223, 262.
«Достигаев и другие» — 448, 451, 514, 522, 523.
«Егор Булычов и другие» — 421, 447, 454 – 460, 464, 470, 482, 483, 524, 540.
«Жизнь Матвея Кожемякина» — 33, 259.
«Жизнь Клима Самгина» — 11.
«Мещане» — 12, 25, 26, 28, 32, 152, 164, 165, 172 – 175, 180, 261, 503.
«На дне» — 12, 25, 26, 28, 29, 30, 152, 161, 175, 177, 179 – 183, 185, 186, 215, 216, 219, 225, 240, 261, 312, 319, 355, 360, 376, 429, 492, 549.
«Старик» — 332.
«Горьковец», газ. — 146, 454, 483, 485, 489, 490, 497, 498, 505, 527, 537, 539, 543, 546, 561.
«Горьковская коммуна», газ. — 492.
Гославский Евгений Петрович — 109, 123, 154, 157, 163.
«Свободный художник» — 154, 157, 163.
«Солдатка» — 109.
Государственная академия художественных наук — 417.
Государственная комиссия по просвещению — 333.
Государственные премии — 557, 561, 570, 580, 584.
Готовцев Владимир Васильевич — 242, 264.
Гофмансталь Гуго фон — 218.
Гошева Ирина Прокофьевна — 576.
Гоян Георг Иосифович — 66.
Грабарь Игорь Эммануилович — 562, 567.
Градов-Соколов Леонид Иванович — 67.
Грассо Джиованни де — 246.
Гремиславский Иван Яковлевич — 307, 312, 583.
Гремиславский Яков Иванович — 188.
Гречанинов Александр Тихонович — 271.
Грибков Владимир Васильевич — 437.
Грибов Алексей Николаевич — 51, 54, 55, 437, 439, 467, 540, 544, 554 – 559, 570, 574.
Грибоедов Александр Сергеевич — 377, 512, 522.
«Горе от ума» — 34, 68, 73, 152, 207 – 209, 216, 217, 222, 226, 254, 258, 259, 280, 321, 322, 330, 377, 383, 384, 443, 498, 512 – 519, 521 – 525.
Грибоедовская премия — 19, 73, 117, 136, 183.
Грибунин Владимир Федорович — 282, 308, 318, 346, 381, 384, 419, 438, 439, 448.
Григорьев Петр Иванович — 65.
«Девушка себе на уме» — 65.
Громов Михаил Михайлович — 510.
Гроссман Василий Семенович — 549.
«Степан Кольчугин» — 549.
Грот Николай Яковлевич — 267.
«Гугеноты» Дж. Мейербера — 467.
Гулакян Армен Карапетович — 567.
«Ромео и Джульетта» — 6, 158, 365.
«Фауст» — 259.
Гуревич Любовь Яковлевна — 284, 291, 306, 314, 317.
Гусев Виктор Михайлович — 549.
Гусев Николай Николаевич — 105.
«Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого» — 105.
615 ГЦТМ имени А. А. Бахрушина — 60, 153, 303.
Гюго Виктор — 16, 71, 81, 104, 124, 176, 223, 467, 549.
«Анджеле» — 81.
«Мария Тюдор» — 71.
«Рюи Блаз» — 549.
Давыдов Владимир Николаевич — 18, 80, 101, 135, 372, 449.
Далматов Василий Пантелеймонович — 96.
Данилин Сергей Алексеевич — 510.
Даргомыжский Александр Сергеевич — 348.
«Каменный гость» — 348.
Дарский Михаил Егорович — 21.
«Двенадцатый год», историческая хроника А. Бахметьева — 283.
Дебри — 476.
Дей Марселина — 401.
Дейкун Лидия Ивановна — 262.
«Дейли ньюс», газ. — 392.
Действие (терм.) — 45, 255, 504, 514, 532, 534, 548.
Декада грузинского искусства в Москве — 498.
Декада киргизского искусства в Москве — 530.
Декада украинского искусства в Москве — 489.
Декрет СНК об объединении театрального дела — 346.
«Демон» А. Г. Рубинштейна — 71, 73, 193, 548.
Депре Сюзанна — 312.
Дзержинский Иван Иванович — 478, 492.
«Тихий Дон» — 49, 50, 421, 478, 489 – 492, 499, 508.
Дзержинский Леонид Иванович — 491.
Дикий Алексей Денисович — 262, 276, 282, 319, 338, 339.
Диккенс Чарльз — 308.
«Сверчок на печи» — 308.
Димитров Георгий Михайлович — 461.
Дмитриев Владимир Владимирович — 9, 52, 55, 57, 427 – 429, 433, 467, 474, 482, 505, 518, 519, 530, 541, 548, 552, 554, 555, 571, 572, 578, 583.
«Дно» — см. А. М. Горький, «На дне».
Добронравов Борис Георгиевич — 39, 47, 463, 473, 475, 482, 490, 496, 574, 575, 581.
Добужинский Мстислав Валерианович — 8, 256, 260, 266, 279, 283 – 285, 293, 297, 298, 322, 324, 328, 331, 337.
Довженко Александр Петрович — 557.
Долгоруков Павел Дмитриевич — 221.
«Дон-Кихот» М. Сервантеса да Сааведра — 279.
Доницетти Гаэтано — 64.
«Лукреция Борджиа» — 110.
Дорохин Николай Иванович — 435, 437, 453, 523.
Дос Пассос Джон Родриго — 48, 412.
«Вершины счастья» — 412.
Достоевская Анна Григорьевна — 270.
Достоевский Федор Михайлович — 3, 12, 35, 242, 263, 270, 286, 297, 298, 300, 301, 315, 317, 326, 336, 396, 402, 417, 424.
«Бесы» — 12, 35, 36, 225, 242, 284, 286, 296 – 304, 315, 442.
«Братья Карамазовы» — 6, 34, 43, 225, 242, 261 – 266, 270, 280, 315, 421, 524, 549.
«Дядюшкин сон» — 421, 424, 425, 427, 429 – 431, 443, 444.
«Идиот» — 242.
«Николай Ставрогин»372* — см. «Бесы».
«Подросток» — 242.
«Село Степанчиково»373* — см. «Село Степанчиково и его обитатели».
«Село Степанчиково и его обитатели» — 317, 318, 330, 331, 443.
616 «Дочь рынка» — см. Ш. Лекок, «Дочь Анго».
Драматические классы Филармонии — см. Филармоническое училище.
Дрейфус Альфред — 27.
Дризен Николай Васильевич — 270.
Дубасов Федор Васильевич — 217.
Дуглас — см. Фербенкс Дуглас.
Дузе Элеонора — 8, 16, 137, 240, 312, 359, 443.
Дурасова Мария Александровна — 501.
Дуров Владимир Леонидович — 441.
Дурылин Сергей Николаевич — 227.
Духовская Любовь Дмитриевна — 520.
Дьяченко Виктор Антонович — 67, 82.
«Современная барышня» — 67.
Дюма Александр (сын) — 462.
Дягилев Сергей Павлович — 271, 272.
Дядя — см. Корф Н. В.
Еврипид — 464.
Егоров Владимир Евгеньевич — 226, 232, 243, 256, 265, 268.
Егорова Мария Платоновна — 221.
«Ежегодник МХТ» за 1944 г., т. I – 104, 573.
«Ежегодник МХТ» за 1945 г., т. I – 180.
«Ежегодник МХТ» за 1948 г., т. I – 89, 511.
«Еженедельное обозрение», газ. — 99.
Екатерина II – 402.
Еланская Клавдия Николаевна — 9, 372, 414, 419, 429, 430, 435, 437, 439, 461, 466, 490, 496, 542, 546, 576.
«Елена» — см. Ж. Оффенбах, «Прекрасная Елена».
Елена Константиновна — см. Малиновская Е. К.
Елпатьевский Сергей Яковлевич — 161.
Ельницкая Татьяна Моисеевна — 60.
Ермолова Мария Николаевна — 4, 16, 68, 69, 71, 73, 75, 83, 84, 89 – 91, 101, 105, 127, 139, 159, 226, 227, 237, 256 – 258, 272, 273, 303, 348, 349, 371, 383, 389, 413, 414.
Ершов Владимир Львович — 430 – 432, 439, 440, 453, 541.
Ефремов Андрей Андреевич — 562 – 565.
Желябужская — см. Андреева М. Ф.
«Женитьба Фигаро» — см. «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. О. Бомарше.
Живокини Дмитрий Васильевич — 71, 77.
«Жизнь», журн. — 169.
«Жизнь искусства», журн. — 415.
Жуков Леонид Алексеевич — 373.
Журин Николай Алексеевич — 65.
Завадский Юрий Александрович — 548.
Задачи (терм.) — 380, 465, 467, 502, 503, 515, 526, 527, 532, 534, 536, 538, 539, 544, 549, 550, 568, 580.
«За индустриализацию», газ. — 484.
Закон внутреннего оправдания (терм.) — 7.
Заньковецкая (Адасовская) Мария Константиновна — 187, 361.
«За правду», газ. — 301.
Заразительность (терм.) — 15, 54, 120, 265, 266, 287, 509, 549.
Зарудный Сергей Митрофанович — 535.
«Заря Востока», газ. — 66, 565, 566.
Захава Борис Евгеньевич — 445.
Заявлин Григорий Арнольдович — 528.
Зеркалова Дарья Васильевна — 503.
Зерно (терм.) — 6, 7, 39, 46, 53, 255, 617 309, 321, 351, 368, 379, 426 – 428, 456, 461, 497, 500 – 502, 536 – 538, 540, 541, 548, 558, 566, 567.
Златогоров Павел Самойлович — 57, 509, 520, 529.
«Наследники Рабурдена» — 85.
Зонненталь Адольф — 218.
«Зрелища», журн. — 365, 368, 369.
Зудерман Герман — 115.
«Огни Ивановой ночи» — 274.
«Честь» — 115.
Зуева Анастасия Платоновна — 431, 453, 466.
Ибсен Генрик — 17, 28, 31 – 33, 115, 120, 131, 144, 151, 152, 154, 163 – 165, 172, 175, 178, 183, 186, 205, 206, 221, 222, 226, 236, 245, 270, 290, 337, 356, 376, 414.
«Бранд» — 17, 31, 32, 152, 208, 220 – 224, 228, 237, 239, 240, 242, 245, 261, 549.
«Доктор Штокман» [«Враг народа»] — 163, 165, 250, 254, 261, 341, 368, 376, 549.
«Император Юлиан» — 226.
«Когда мы, мертвые, пробуждаемся» — 152, 163 – 166.
«Нора» [«Кукольный дом»] — 131, 132.
«Пер Гюнт» — 270, 284, 286, 289 – 291.
«Привидения» («Призраки») — 205, 206, 256.
«Росмерсхольм» — 31, 32, 186, 226, 236 – 240, 337, 341, 357.
«Северные богатыри» — 120.
«Столпы общества» — 28, 154, 175, 178, 182 – 185, 356.
«Эллида» [«Женщина с моря»] — 142, 144, 208, 226, 252, 253.
Иванов Всеволод Вячеславович — 9, 50, 336, 406, 415, 426, 448, 480, 486, 494, 495, 511, 541.
«Блокада» — 49, 50, 336, 415, 416, 418 – 426, 438, 480.
«Бронепоезд 14-69» — 42, 406, 445.
«Верность» — 426.
«12 молодцов из табакерки» — 486.
«Кесарь и комедианты» — 541.
Иванов Иван Иванович — 107, 153, 190.
Иванов-Козельский Митрофан Трофимович — 16, 86, 88.
«Ивнинг уорлд», газ. — 392.
Идейность (терм.) — 17, 53 – 55, 250, 516, 528, 566, 579.
«Известия ВЦИК», газ. — 333, 338, 361, 367, 390, 391, 418, 425, 461, 465, 474, 476, 479, 480, 482, 491, 494, 497, 504, 510, 524, 545.
Изотов Никита Алексеевич — 483, 484.
Ильинский Игорь Владимирович — 375, 389.
Ильиных Антоний Степанович — 569.
«Город меди» — 569.
Императорская академия наук — 303.
Инбер Вера Михайловна — 449, 479, 505, 525.
Искание образа (терм.) — 148, 181, 233 – 235, 239, 303, 323.
«Искусство», журн. — 312, 423.
«Искусство трудящимся», журн. — 383, 384, 387, 388.
«Италия», газ. — 445.
Итальянские актеры — 110, 111, 187.
«Кавалер роз» Р. Штрауса — 395.
Казанцева — 68.
Кайнц Иосиф — 218.
Калинин Сергей Иванович — 437.
Калужский В. В. — см. Лужский В. В.
Кальдерон Педро — 373.
«Дама-невидимка» — 373.
Каменский Анатолий Павлович — 171.
Камерницкий Дмитрий Владимирович — 403, 545.
Канделаки Владимир Аркадьевич — 477, 505, 548.
«Карамазовы» — см. Ф. М. Достоевский, «Братья Карамазовы».
Карпов Евтихий Павлович — 133, 137 – 139.
618 Карсавина Тамара Платоновна — 271.
Карташов Сергей — 434.
Карышев Николай Александрович — 129.
Кассиль Лев Абрамович — 9, 561, 568.
«Великое противостояние» — 9, 561, 568.
Катаев Валентин Петрович — 414, 415.
«Квадратура круга» — 414 – 416.
Качалов Василий Иванович — 4, 37, 160, 202, 217, 224, 229, 233, 239, 240, 252, 254, 255, 264, 266, 270, 277, 280, 283, 285, 287, 290, 306, 310, 311, 322, 337, 345, 353, 368, 379, 409, 411, 419, 422, 425, 429, 435, 440, 452, 453, 455, 456, 478, 488, 491, 506, 507, 514, 523, 531, 542, 549, 550, 563, 572.
Кашман Джузеппе — 111.
Кедров Михаил Николаевич — 47, 413, 437, 453, 463, 467, 468, 476 – 479, 550, 555.
Кемарская Надежда Федоровна — 552.
Керенский Александр Федорович — 329.
Керн Анна Петровна — 74.
Кин (Суровикин) Виктор Павлович — 434.
«По ту сторону» — 434.
Киров Сергей Миронович — 421, 474.
Киршон Владимир Михайлович — 430, 438, 439, 467, 469.
«Северный ветер», либретто — 430.
«Чудесный сплав» — 467.
Киселев Александр Александрович — 155.
Кичеев Николай Петрович (псевд. — Никс) — 68 – 71, 73 – 75, 85, 89.
Кланг — 87.
Клименко Лидия Александровна — 60.
Климов Михаил Михайлович — 562, 572.
Кнебель Мария Осиповна — 52, 431, 437, 553, 554, 558, 574, 581, 582.
Книппер Лев Константинович — 421, 430.
«Северный ветер» — 421, 430, 433.
Книппер-Чехова Ольга Леонардовна — 4, 136, 140, 141, 144, 156 – 158, 164, 167 – 183, 185 – 187, 190, 193 – 195, 197 – 199, 201, 202, 213, 226, 238, 239, 243, 247, 251, 254, 279, 283, 294, 307, 345, 378, 409, 427, 431, 432, 440, 444, 522, 523, 557, 558, 572.
«Князь Игорь» А. П. Бородина — 207.
Ковалевский Максим Максимович — 4.
Ковшов Николай Дмитриевич — 581.
Козаков Михаил Эммануилович — 575.
«Дарья» — 575.
Козловский Иван Семенович — 428.
Коклен Бенуа-Констан (старший) — 16, 103.
Коломийцева Анна Андреевна — 414.
Колупаев Николай Антонович — 205, 209.
«Колхозная правда», газ. — 494.
Колышко Иосиф Иосифович — 237.
«Дельцы» — 237.
Комиссаржевская Вера Федоровна — 178, 183, 184, 186, 234, 245.
Комиссия по литературным премиям — 123.
Комитет по делам искусств — 562, 564.
Комолова Анна Михайловна — 574, 575.
«Комсомольская правда», газ. — 476, 505, 509.
Кондаков Никодим Павлович — 4, 167.
Кондратьев Иван Максимович — 102.
Константин Сергеевич — см. Станиславский (Алексеев) К. С.
Конференция музыкальных драматургов — 461, 462.
Конференция по советской опере — см. Творческая конференция композиторов и работников советской оперы.
Кончаловский Петр Петрович — 9, 350, 567.
619 Коонен Алиса Георгиевна — 242, 248, 251, 441.
Копо Жак — 360.
Коптяева Антонина Дмитриевна — 568.
Кордэ Шарлотта — 37.
Коренева Лидия Михайловна — 247, 264, 289, 294, 337, 355, 444.
«Корневильские колокола» Р. Планкета — 561.
Корнейчук Александр Евдокимович — 4, 9, 421, 472, 476, 499, 503, 506, 507, 511, 515, 574.
«Банкир» — 499, 503, 506, 507, 515.
«Гибель эскадры» — 9.
«Правда» — 511.
«Фронт» — 574.
Королевы — 389.
Короленко Владимир Галактионович — 135.
Короленко Лавр Галактионович — 135.
Корсов Богомир Богомирович — 73.
Корсунов Анисим Андреевич — 533.
Корф Николай Александрович — 129.
Корф Николай Васильевич — 123.
Корчагина-Александровская Екатерина Павловна — 449.
Корш Федор Адамович — 101, 108, 234.
Косминская Любовь Александровна — 217.
Косоротов Александр Иванович — 222, 223.
Котлубай Ксения Ивановна — 363, 366, 382, 430, 431, 444.
Котоньи Антонио — 111.
Кошеверов Александр Сергеевич — 138.
К. Р. — см. Романов К. К.
Красин Леонид Борисович — 354.
Красковская (Пинчук) Татьяна Васильевна — 295.
«Красная звезда», газ. — 529.
«Красная нива», журн. — 414.
«Красный флот», газ. — 562.
Кронек Людвиг — 187.
Красноармейский университет — 350.
Круг внимания (терм.) — 300.
Крылов (Александров) Виктор Александрович — 68, 78, 81, 99, 102, 103, 123, 127.
«Правительница Софья» (с П. Н. Полевым) — 99.
«Круг чтения» — 25.
Кторов Анатолий Петрович — 580.
Кублицкая-Пиоттух (Блок) Александра Андреевна — 4, 317, 319, 327, 337.
Кудрявцев Иван Михайлович — 404, 453, 574.
Кузнецова Мария Николаевна — 271.
Кузнецова Антонина Ефимовна — 533.
Куинджи Архип Иванович — 113.
Куликовы Н. И. и Н. Н. — 79.
«Семейные расчеты» — 79.
«Культура театра», журн. — 351, 352.
Куманин Федор Александрович — 123.
Куницкая Александра Гавриловна — 60.
Куприн Александр Иванович — 10, 161, 329.
«Искусство» — 329.
«Молох» — 10.
Куропаткин Алексей Николаевич — 219.
Кусевицкий Сергей Александрович — 393.
Куски (терм.) — 7, 248, 265, 300, 307, 339, 341, 351, 361, 372, 384, 401, 443, 456, 460, 466, 500, 513, 514, 522, 528, 540, 544, 558.
Кустодиев Борис Михайлович — 307, 314.
Кут А. (псевд. Кутузова Александра Владимировича) — 476.
Кутырин Михаил Сергеевич — 465.
«Джонни» [«Джонни наигрывает»] — 413, 421, 423, 425, 426, 428.
620 Лаврентьев Андрей Николаевич — 302.
Лавров Вукол Михайлович — 145, 159.
Ладыженский Иван Николаевич — 104.
Ладыжников Иван Павлович — 4, 297, 299.
Лазарев Иван Васильевич — 308.
Лазаревский Борис Александрович — 161.
«Лакме» Л. Делиба — 291.
Ланин Николай Петрович — 69.
Лапицкий Иосиф Михайлович — 369.
Ларгин Петр Сергеевич — 437.
Ларин Николай Павлович — 437.
Лебедева Анна Сергеевна — 60, 445.
Левашова Варвара Вячеславовна — 60, 262.
Левидов Михаил Юльевич — 454.
Левитан Исаак Ильич — 155, 342.
Легар Ференц (Франц) — 272.
«Леди Макбет Мценского уезда» — см. Д. Д. Шостакович, «Катерина Измайлова».
«Дочь Анго» [«Дочь мадам Анго»] — 43, 345, 347 – 350, 352, 353, 373, 415, 428.
«Жирофле-Жирофля» — 396.
Ленин Владимир Ильич — 6, 11, 27, 36, 40, 41, 52, 76, 169, 332, 333, 336, 338, 344 – 346, 353, 354, 374, 505.
Образ Ленина в искусстве — 6, 50, 51, 54, 55, 498, 516, 530, 533, 539, 540, 543, 554 – 559.
«Ленинградская правда», газ. — 414.
«Ленинская смена», газ. — 532.
Ленский Александр Павлович — 16, 18, 71, 83, 89, 91, 95, 103, 120 – 123, 129, 134, 135, 142, 144, 148, 150, 157, 232, 234, 241, 255.
Леонидов Леонид Миронович — 4, 47, 52, 191, 193, 229, 238, 239, 249, 264, 270, 289, 290, 295, 297, 305, 306, 308, 309, 381, 382, 384, 409, 429, 440, 456 – 460, 464, 483, 507, 521 – 524, 541, 551 – 555.
Леонидов Олег Леонидович — 584.
Леонов Леонид Максимович — 57, 398, 438, 448, 499, 500, 525 – 528, 530, 531.
«Половчанские сады» — 7, 57, 490, 493 – 500, 510, 525 – 532.
«Скутаревский» — 448.
Лермонтов Михаил Юрьевич — 62, 78.
Лесков Николай Семенович — 336, 376.
«Расточитель» — 376.
Лесли Платон Владимирович — 525.
Лессинг Готхольд Эфраим — 77.
«Эмилия Галотти» — 77.
«Летопись», журн. — 317.
«Летопись жизни и творчества А. М. Горького» — 173 (вып. I), 354 (вып. III).
Лешковская Елена Константиновна — 189, 383.
Лещанкин А. — 575.
Лианозов Григорий Мартынович — 333.
Ливанов Борис Николаевич — 419, 438, 439, 474, 495, 517, 540, 543, 545, 570, 576.
Лигская Евгения Евгеньевна — 493, 535, 555, 562, 564, 573.
Ликург — 326.
Лилина (Алексеева) Мария Петровна — 4, 16, 128, 190, 214, 252 – 254, 262, 264, 270, 275, 282, 289, 294, 299, 301, 306, 322, 337, 409, 501, 518, 519, 535.
Линкольн Авраам — 334.
Липковская Лидия Яковлевна — 271.
Липскеров Константин Абрамович — 46.
«Карменсита и солдат», либретто — 46.
«Лир» — см. В. Шекспир, «Король Лир».
Литвинов Максим Максимович — 455.
621 «Литература и искусство», газ. — 585.
«Литературная газета» — 382, 457, 461, 462, 472, 475, 477, 547, 570.
«Литературное общество» (Петербург) — 294.
Литературно-театральный комитет — 94, 98, 120, 123, 125, 134.
Литературно-художественный кружок — 32, 132, 227, 239.
«Литературный вестник», журн. — 186.
«Литературный критик», журн. — 539.
Литовский Осаф Семенович — 454, 482.
Литовцева Нина Николаевна — 131, 132, 140, 153, 203, 379, 421, 438, 453, 491, 537.
Лихачев Владимир Сергеевич — 114.
Ллойд Франк — 410.
Логика поведения (терм.) — 18, 542, 580.
Lolo — см. Мунштейн Л. Г.
Лопухов Федор Васильевич — 540.
Лорис-Меликов Михаил Тариелович — 76.
Лосский Владимир Аполлонович — 382.
Луговой (Тихонов) Алексей Алексеевич — 122.
Лужский (Калужский) Василий Васильевич — 4, 38, 44, 178, 186, 188, 189, 193, 204, 208, 210, 212, 217, 220, 221, 229, 230, 232, 233, 236, 239, 242, 252, 254, 256, 258, 262, 264, 265, 298, 300, 305, 307, 308, 311, 314, 315, 319, 326, 328, 329, 342, 345, 346, 348, 349, 351, 365, 372, 378, 381, 384, 388, 389, 391, 393, 395, 409, 423, 441.
«Бранд», режиссерский план — 221.
Луначарский Анатолий Васильевич — 4, 29, 40 – 42, 48, 49, 55, 334, 339, 344 – 346, 349, 351, 353, 354, 362, 365 – 367, 369 – 371, 382, 383, 387, 388, 394, 396, 405, 406, 408, 409, 423, 457.
Любительские кружки — 61, 65, 67.
«Любовь поэта» — см. Ж. Оффенбах, «Сказки Гофмана».
Людовик XI – 400.
Лютен — 73.
Лядов Анатолий Константинович — 540.
«Ля ора», газ. — 584.
Мазини Анджело — 110, 111, 496.
Маковский Владимир Егорович — 555.
Маковский Константин Егорович — 155, 555.
Макшеев Владимир Александрович — 91.
Малиновская Елена Константиновна — 4, 40, 343 – 346, 354, 371.
Малютин Сергей Васильевич — 332.
Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович — 103, 162, 292.
Марат Жан Поль — 37.
Марголин Самуил Акимович — 368.
Марджанов (Марджанишвили) Константин Александрович — 268, 269, 274, 275, 291, 441.
Мариотт Э. — 150.
«Счастье Греты» — 150.
Марк Аврелий — 326.
Марков Павел Александрович — 46, 369, 425, 438, 441, 444, 456, 461, 466, 479, 507, 508, 511, 520, 529, 540, 545, 548, 556, 577.
«Вл. И. Немирович-Данченко и Музыкальный театр его имени» — 507.
Маркс Карл — 66.
«Капитал» — 66.
Масанов Иван Филиппович — 98.
Массалитинов Николай Осипович — 283, 319, 330, 337, 345.
Массалитинова Варвара Осиповна — 271.
Масснэ Жюль — 476.
«Дон-Кихот» — 5.
Маша — см. Типольт М. Н.
Маяковский Владимир Владимирович — 52, 531, 554.
Мгебров Александр Авельевич — 236, 238.
Медведева Надежда Михайловна — 91, 96, 132, 153.
Международный институт искусств (Нью-Йорк) — 392.
Международный театральный конгресс (Рим) — 469.
Международное театральное объединение (Париж) — 510.
«Межрабпомфильм» — 481.
Мейерхольд Всеволод Эмильевич — 26, 41 – 44, 140, 141, 156, 207, 208, 210, 352, 361, 864, 368, 375, 383, 413, 462.
Мейнингенцы — см. Театр Театр герцогства Саксен-Мейнинген (придворный).
Мелик-Захаров Сергей Ваганович — 60.
Меллер Вадим Георгиевич — 499.
Мережковский Дмитрии Сергеевич — 12, 36, 39, 259, 306, 315 – 317, 319 – 321.
«Будет радость» — 36, 225, 306, 315, 317, 319.
«Павел I» — 259.
Мериме Проспер — 45, 370, 396.
«Мертвые» — см. Г. Ибсен, «Когда мы, мертвые, пробуждаемся».
Месхетели Владимир Евгеньевич — 503.
Метерлинк Морис — 152, 176, 183, 196, 200 – 202, 226, 266, 271.
«Аглавена и Селизетта» — 208.
«Монна Ванна» — 152, 176, 183.
«Непрошенная» — 196, 200, 202.
«Пелеас и Мелисанда» — 226.
«Синяя птица» — 242 – 246, 248, 254, 266, 334.
«Там, внутри» — 196, 200 – 202.
«Метро Голдвин Майер», кинофирма — 410.
Метцель Людвиг Морисович — 93.
М. З. — 348.
«Миг жизни» — см. М. де Фалья, «Девушка из предместья».
Мизансцена (терм.) — 7, 18, 47, 74, 99, 108, 127, 148 – 150, 156, 168, 188, 193, 202, 205, 208, 210 – 215, 230 – 232, 236, 246, 247, 257, 276, 277, 312, 337, 339, 341, 343, 376, 384 – 386, 443, 453, 456, 477, 500 – 502, 504, 516, 522, 523, 526, 529, 534, 539, 541 – 543, 552, 558, 574.
Мильтон Джон — 229.
«Потерянный рай» — 229.
Минангуа — 73.
Министерство государственных имуществ — 168, 197.
«Мир искусства» — 207.
Мирский — см. Немирович-Данченко И. И.
Митрофанова Ирина Васильевна — 60.
Михайлов (Лопатин) Владимир Михайлович — 354, 355.
Михальский Федор Николаевич — 60, 360 – 363, 379, 394, 403.
Михайловский Николай Константинович — 16, 130, 131.
М. Нир — см. Ниротморцев Мих.
Моисси Александр (Сандро) — 292, 376.
Мокроусов Борис Андреевич — 573, 574.
Молостов И. Ф. — 484.
Молчанов Анатолий Евграфович — 112, 134.
Мольер (Поклеп Жан Батист) — 114, 125, 131, 132, 260, 263, 266, 286, 287, 291 – 293.
«Тартюф» — 124, 125, 263, 266.
623 «Монастырь» — см. П. М. Ярцев, «У монастыря».
Мопассан Ги де — 396.
«Бродяга» — 396.
Мордвинов Аркадий Григорьевич — 577.
Мордвинов Борис Аркадьевич — 466, 479.
Мордкин Михаил Михайлович — 271, 391.
Морес Евгения Николаевна — 440.
Морозов Савва Тимофеевич — 159, 160, 163, 198, 456.
Морозовы — 389.
Москвин Иван Михайлович — 4, 22, 38, 47, 97, 131, 138, 143, 144, 146, 147, 162, 181, 205, 218, 226, 227, 230 – 233, 235, 236, 238, 243, 254, 256, 261, 263, 264, 266, 267, 276, 279, 281, 282, 290, 294, 296, 302, 304, 305, 318, 322, 331, 332, 356, 381 – 384, 389, 391, 401, 409, 411, 437, 439, 440, 456, 482, 483, 507, 563, 570, 571.
«Московская газета» — 121, 122.
«Московская иллюстрированная газета» — 15, 17, 109, 112 – 114, 116 – 121, 126.
«Московская иллюстрированная газетка» — 109, 110.
«Московские общедоступные театры», акционерное общество — 326.
Московский артистический кружок — 61, 67, 72, 73, 78, 79.
Московский университет — 10, 15, 34, 61, 66 – 68, 123, 129, 136, 192, 215, 279, 340.
«Московский Художественный театр, пьесы А. П. Чехова», альбом — 310.
Моцарт Вольфганг Амадей — 64.
«Мудрец» — см. А. Н. Островский, «На всякого мудреца довольно простоты».
Мужественная простота (терм.) — 13, 50, 51, 452, 438, 536, 540, 570.
Музиль Николай Игнатьевич — 72, 79, 85, 88, 91, 99.
Мунт Екатерина Михайловна — 139 – 140.
Мунштейн (Лоло) Леонид Григорьевич — 204.
Муратов Павел Павлович — 371, 376.
Муратова Елена Павловна — 262.
Мусоргский Модест Петрович — 377.
«Борис Годунов» — 377, 378, 393.
Мухина Вера Игнатьевна — 9, 509.
Мчеделов Вахтанг Леванович — 308, 332.
Мэй Лань-фан — 477.
Мясковский Николай Яковлевич — 9, 392, 394, 562, 567.
«Наблюдатель», журн. — 92.
«На дне жизни» — см. А. М. Горький, «На дне».
Найденов Сергей Александрович — 179, 189, 203, 204, 223, 227, 228, 237, 287.
«Авдотьина жизнь» — 203.
«Блудный сын» («Кто он»?) — 204.
«Деньги» — 189.
«Жильцы» — 179.
Направник Эдуард Францевич — 547.
«Народни листы», хаз. — 219.
Народный театр (терм.) — 17, 68, 73, 138, 140, 152, 323, 330.
Натурализм сценический (терм.) — 17, 43, 207, 328, 358, 367, 369, 386, 387, 424, 425, 428, 441, 460, 507, 503, 516, 524, 532, 534.
Н. Г. — 91.
Н. Г. (псевд. Городецкого Николая Михайловича) — 96.
«Наша газета» — 417.
Невежин Петр Михайлович — 141.
«Неделя», журн. — 99.
Нежданова Антонина Васильевна — 5, 279, 280, 291.
Нелидов Владимир Александрович — 227.
624 Немирович-Данченко (урожд. Ягубова) Александра Каспаровна — 15, 61, 62, 64, 165, 308.
Немирович-Данченко Варвара Ивановна — 15, 61, 63, 65, 165, 167.
Немирович-Данченко Василий Иванович — 15, 61, 65, 131, 135, 260, 494.
«Соловки» — 65.
Немирович-Данченко (урожд. Корф) Екатерина Николаевна — 22, 34 – 36, 93 – 95, 105, 106, 118, 129, 143, 227 – 230, 232 – 235, 243 – 245, 252, 256, 259, 260, 262 – 267, 269, 271 – 276, 279, 280, 284 – 288, 290, 291, 295, 297 – 301, 306, 307, 315, 316, 319 – 322, 359, 407, 429, 517, 519.
Немирович-Данченко Иван Васильевич — 61, 65.
Немирович-Данченко (Мирский) Иван Иванович — 61.
Немирович-Данченко Михаил Владимирович — 60.
Немирович-Данченко Михаил Иванович — 61, 65.
Нестор — 519.
«Несчастье особого рода» Эльца, пер. В. С. Пенькова — 95.
Нечаева Серафима Михайловна — 123.
«Нива», журн. — 5, 11, 23, 132, 133, 142, 192.
Нижинский Вацлав Фомич — 271.
Никиш Артур — 279.
Николай — см. Николай I.
Николай II – 29, 31, 126, 197, 204, 221, 288, 289.
«Николай Ставрогин» — см. Ф. М. Достоевский, «Бесы».
Никс — см. Кичеев Н. П.
Никулин Вениамин Иванович — 259.
Никулина Надежда Алексеевна — 70, 96, 160.
Ниротморцев Мих. (псевд. М. Нир) — 304.
Ницше Фридрих — 378.
«Новая Русь», газ. — 245.
Новиков Василий Константинович — 437, 463, 550.
Новицкий Павел Иванович — 535.
«Новое время», газ. — 27, 150, 258, 284.
«Новое слово», журн. — 136.
«Новости дня», газ. — 3, 5, 8, 15, 17, 94, 99, 106 – 112, 114 – 117, 121, 122, 124, 125, 137, 140, 141, 166, 190, 204.
«Новости сезона», газ. — 299.
«Новый зритель», журн. — 383, 414, 415.
Носовы — 389.
«Нью-Йорк тайме», газ. — 391, 392.
«Обозрение театров», газ. — 255.
Оболонская Софья Витальевна — 407.
Образцов Сергей Владимирович — 45.
Общество А. П. Чехова и его эпохи — 360.
Общество драматических писателей — 99, 291.
Общество друзей Музея А. П. Чехова — 423.
Общество искусства и литературы — 16, 17, 104, 108, 138 – 140, 330, 426.
Общество любителей российской словесности — 66, 123, 125, 128, 137, 250, 279, 340.
Общество порайонных общедоступных театров — 304, 305.
Общество русских драматических писателей и оперных композиторов (Москва, Петербург) — 102, 103.
«Одинокие люди» — см. Г. Гауптман, «Одинокие».
«Одесские новости», газ. — 143, 145, 146, 151.
«Ой», газ. — 585.
Окольничья Галина Кондратьевна — 573.
Олеша Юрий Карлович — 421, 424, 427, 444, 477.
«Три толстяка» — 421, 424, 425, 427, 429, 430, 432 – 435.
625 О’Нейл Юджин — 8, 48, 412.
«Воскрешение Лазаря» [«Лазарь смеется»] — 412.
«О перестройке литературно-художественных организаций» — 421, 445, 451.
«О политике партии в области художественной литературы», резолюция ЦК РКП (б) — 388.
Орлов Василий Александрович — 413, 437, 478, 540, 574.
Осипов Константин Викторович — 155.
«О сохранении художественных ценностей и памятников старины», декрет СНК — 40, 338.
Островский Александр Николаевич — 16, 17, 19, 56, 61 – 63, 67 – 70, 72 – 74, 79, 81, 82, 85, 105, 115, 118, 125, 129, 131, 137, 138, 144, 154, 160, 189, 253, 254, 256 – 258, 280, 286, 293, 314, 345, 365, 366, 375, 396, 401, 426, 427, 452, 466, 485, 527, 563, 564, 571, 581.
«Без вины виноватые» — 396.
«Бесприданница» — 15, 68, 69, 144, 162, 345, 426, 427, 437.
«Бешеные деньги» — 85, 286, 396.
«Богатые невесты» — 144.
«Василиса Мелентьева» (с С. А. Гедеоновым) — 118.
«Воевода, или Сон на Волге» — 131, 293.
«Волки и овцы» — 34, 121, 314, 315, 345.
«Воспитанница» — 154.
«Грех да беда на кого не живет» — 73.
«Гроза» — 19, 34, 49, 71, 80, 125, 280, 296, 320, 365, 372, 373, 421, 456, 459, 461 – 467, 471 – 475, 483, 485.
«Дикарка» (с Н. Я. Соловьевым) — 68, 72, 76, 82.
«Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» — 253, 280, 281, 315.
«Доходное место» — 61, 67, 68, 74, 118.
«Женитьба Белугина» (с Н. Я. Соловьевым) — 121.
«Козьма Захарьич Минин-Сухорук» — 157.
«Красавец-мужчина» — 396.
«Лес» — 74, 129, 286, 375, 548, 572, 581.
«На бойком месте» — 70.
«На всякого мудреца довольно простоты» — 34, 42, 76, 225, 254, 255, 257, 258, 261, 270, 286, 287, 360, 563, 565.
«Поздняя любовь» — 144.
«Последняя жертва» — 15, 56, 61, 67, 561, 563, 564, 583.
«Правда — хорошо, а счастье лучше» — 364.
«Праздничный сон — до обеда» — 131.
«Светит, да не греет» (с Н. Я. Соловьевым) — 15, 79, 80.
«Свои люди — сочтемся» — 82.
«Сердце не камень» — 72, 85, 372.
«Снегурочка» — 160, 164, 401, 402.
«Таланты и поклонники» — 15, 68, 85, 129, 452 – 454.
Остужев (Пожаров) Александр Алексеевич — 256.
«Отжитое время» — см. А. В. Сухово-Кобылин, «Дело».
Отношение к происходящим событиям (терм.) — 351, 456, 472, 515.
От себя к образу (терм.) — 54, 351, 456, 464, 465, 501, 515, 522, 580.
Оффенбах Жак — 258, 295, 349, 350, 552, 556.
«Орфей в аду» — 345, 350, 371.
«Парижская жизнь» — 345.
«Перикола» («Птички певчие») — 321, 349 – 352, 354 – 358, 369, 535, 552, 553, 555.
«Прекрасная Елена» — 258, 295, 450, 479, 502, 505, 506, 512, 513, 535.
626 «Сказки Гофмана» («Любовь поэта») — 556.
Павел I – 480.
Павлова Анна Павловна — 271, 292.
Павлова Татьяна Павловна — 443 – 445, 451, 494, 508.
Пазовский Арий Моисеевич — 382.
Палиашвили Захарий Петрович — 548.
Пальм Александр Иванович — 17, 80.
«Наш друг Неклюжев» — 80.
«Просветители» — 80.
«Старый барин» — 80.
Панина Варя (Варвара Васильевна) — 276.
Панова Ирина Вячеславовна — 60.
«Пантеон русского театра» (проект) — 335.
Пастернак Леонид Осипович — 267.
Пашенная Вера Николаевна — 237, 371, 372, 443, 448, 449, 464.
«Паяцы» Р. Леонкавалло — 545.
Певцов Илларион Николаевич — 359.
Пельше Роберт Андреевич — 383.
«Первая русская революция и театр», сб. — 216.
Первый Всероссийский съезд по внешкольному образованию — 345.
Первый Всероссийский съезд режиссеров — 241.
Первый Всероссийский съезд сценических деятелей — 97, 135, 136.
Перевоплощение (терм.) — 18.
Переживание (терм.) — 7, 248, 250, 290, 307, 357, 486, 502, 549, 582.
Перешивалов — 63.
«Петербургская газета» — 75, 102.
«Петербургский листок», газ. — 68.
Петкер Борис Яковлевич — 496.
«Петр» — см. А. Н. Толстой, «Петр I».
Петров Александр Антонович — 307.
Петров Иван Александрович — 533, 539, 543.
Петрова Вера Антоновна — 180.
Петровская — см. Роксанова М. Л.
«Петроград», газ. — 315.
«Петроградский курьер», газ. — 316.
Пешков А. М. — см. Горький А. М.
Пешкова (урожд. Волжина) Екатерина Павловна — 4, 194.
Пиксанов Николай Кириакович — 377, 443.
Пикфорд Мери — 8, 395, 400 – 402.
«Маленькая Анни», фильм — 400.
«Черный пират», фильм — 400.
Пильняк (Вогау) Борис Андреевич — 438.
Пилявская Софья Станиславовна — 527, 529, 558.
«Пир» — см. А. С. Пушкин, «Пир во время чумы».
Писарев Дмитрий Иванович — 65.
Писарев Модест Иванович — 68, 73, 74, 78.
Писемский Алексей Феофилактович — 73, 104, 527.
«Горькая судьбина» — 74.
«Самоуправцы» — 104.
Письмо ЦК РКП (б) «О пролеткультах» — 41, 336, 350.
Пиша — см. Федорова О. Н.
Плевако Федор Никифорович — 109.
Плеве Вячеслав Константинович — 29, 197.
Плещеев Александр Алексеевич — 70.
Плещеев Алексей Николаевич — 4, 104.
Плеханов Георгий Валентинович — 222.
Погожев Владимир Петрович — 141.
Погодин Николай Федорович — 4, 9, 52, 438, 439, 551, 553, 554, 556 – 559, 574, 575.
«Дерзость» — 438.
«Сотворение мира» — 575.
«Кремлевские куранты» — 7, 9, 40, 49 – 55, 498, 551 – 561, 570, 574.
Подгорный Николай Афанасьевич — 240, 360, 381, 540.
Показ режиссерский (терм.) — 65, 213, 456, 486, 487, 501, 523, 556.
627 Покровский Александр Васильевич — 577.
Полевой Петр Николаевич — 99.
Положение о Театральном отделе Наркомпроса — 338.
Поляков Григорий Иванович — 456.
Попов Алексей Дмитриевич — 337, 503, 577.
Попов Благой — 461.
Попов Владимир Александрович — 39.
Попов Николай Александрович — 235.
Попова Вера Николаевна — 485.
Постановление СНК РСФСР «Об улучшении театрального дела» — 437.
Потапенко Игнатий Николаевич — 21, 27, 28, 123, 191, 260, 272, 273.
«На покой» — 27.
Потехин Алексей Антипович — 17, 81, 86, 89 – 91, 95, 127, 155, 173.
«Вакантное место» — 81.
Потехин Николай Антипович — 66, 82.
«Мертвая петля» — 66.
«Правда», газ. — 359, 369, 388, 417, 462, 466, 479, 482, 487, 492, 498, 505, 510, 514, 524, 540, 542, 561, 570, 580, 584, 585.
Правда социальная, жизненная и театральная (терм.) — 7, 50, 114, 168, 326, 338, 356, 443, 481, 488, 516, 540, 542, 582.
Правдин Осип Андреевич — 64, 72, 253.
Предлагаемые обстоятельства (терм.) — 577.
Приемы режиссерско-педагогической работы Вл. И. Немировича-Данченко — 7, 8, 18, 21, 22, 30, 44, 54, 55, 146, 147, 181, 202, 205, 230, 235, 236, 239, 247, 248, 264, 265, 275, 278, 281, 308, 313, 335, 341, 352, 372, 424, 454, 456, 460, 476, 486, 487, 507, 523, 566, 580.
Приемы режиссерско-педагогической работы К. С. Станиславского — 21, 181, 188, 205, 225, 237, 247, 274.
«Призраки» — см. Г. Ибсен, «Привидения».
«Принцесса Турандот» К. Гоцци — 42, 357, 362, 540.
Приспособление (терм.) — 54, 265, 500, 501, 522.
«Проблески», сб. — 129.
«Программы Московских гос. и академических театров и зрелищных предприятий» — 360, 363, 366.
Прокофьев Сергей Сергеевич — 562.
«Война и мир» — 562.
Простота (терм.) — 17, 30, 50, 51, 57, 80, 84, 87, 88, 120, 213, 235, 291, 310, 325, 340, 424, 443, 466, 467, 481, 487, 506, 517, 549, 550, 583.
Прудкин Марк Исаакович — 47, 377, 432, 453, 463, 482, 490, 502, 504, 521, 522.
Пузинский Константин Зефиринович — 578.
«Пути развития театра», сб. — 411.
Пуччини Джакомо — 324.
«Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-Сан») — 324, 475.
Пушкин Александр Сергеевич — 34, 62, 66, 68, 74, 78, 83, 118, 200, 233 – 235, 309, 311, 379, 387, 396, 400, 451, 469, 485, 486, 500, 576, 582, 583.
«Борис Годунов» — 34, 74, 78, 83, 225, 229 – 237, 396, 451, 485, 486, 488, 491, 496, 506 – 508, 513.
«Евгений Онегин» — 396.
«Каменный гость» — 63, 309 – 313, 337, 379, 380, 576.
«Капитанская дочка» — 400.
«Маленькие трагедии» — 34, 477.
«Моцарт и Сальери» — 312, 313, 337.
«Пиковая дама» — 582.
«Пир во время чумы» — 63, 309, 311 – 313, 337.
«Руслан и Людмила» — 234.
«Скупой рыцарь» — 136.
Образ Пушкина в искусстве — 564, 579 – 581.
628 «Пушкин» — см. М. А. Булгаков, «Последние дни».
Пушкинский спектакль Музыкальной студии — см. С. В. Рахманинов, «Алеко»; А. С. Аренский, «Бахчисарайский фонтан»; Р. М. Глиэр, «Клеопатра».
Пушкинский спектакль МХАТ — см. А. С. Пушкин, «Каменный гость», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы».
Пчельников Павел Михайлович — 97, 125, 133, 137 – 139.
Пыжова Ольга Ивановна — 337.
Пятницкий Константин Петрович — 4, 172, 183, 194, 261.
Рабинович Исаак Моисеевич — 44, 363, 365, 418, 422, 459, 472, 496, 508.
«Рабочая газета» — 419.
«Рабочая Москва», газ. — 455.
Радлов Сергей Эрнестович — 491, 508.
Раевский Иосиф Моисеевич — 489, 496, 523, 537, 543.
«Развлечение», журн. — 90, 93.
«Раймонда» А. К. Глазунова — 346.
«Рампа», приложение к журн. «Художественный труд» — 380.
«Рампа и жизнь», журн. — 294.
«Равнее утро», газ. — 304.
«Распутин» — см. А. Н. Толстой и П. Е. Щеголев, «Заговор императрицы».
Рафаэль Санти — 343.
Рахманинов Сергей Васильевич — 4, 8, 39, 48, 118, 122, 319, 323, 329, 382.
«Алеко» — 97, 118, 122, 382, 392, 415.
Ребиков Владимир Иванович — 356.
«Дворянское гнездо» — 356.
Режан Габриэль Шарлотта — 266.
Рейнгардт Макс — 8, 218, 405, 417, 437, 450.
Рембрандт Харменс ван Рейн — 343.
Ремизов Алексей Михайлович — 284, 286.
«Крестовые сестры» — 284.
Репетиция (беседа) за столом (терм.) — 6, 146, 205, 214, 248, 263 – 265, 268, 459, 484, 513, 515, 546.
Репин Илья Ефимович — 155, 540.
Рерих Николай Константинович — 48, 270 – 272, 284, 392.
«Речь», газ. — 294.
Решимов (Горожанский) Михаил Аркадьевич — 88.
Римский-Корсаков Николай Андреевич — 30, 205, 206, 271, 324, 339, 342, 392.
«Садко» — 496.
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» — 324.
«Снегурочка» — 339, 342, 348, 349.
Ритм (терм.) — 42, 248, 339, 429, 443, 473, 500, 503, 505, 508, 522, 523, 528, 541, 544, 575, 579.
Рогачевский Михаил Лазаревич — 216.
«Рогоносец» — см. «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка.
Роксанова (Петровская) Мария Людомировна — 138, 143.
Рок (псевд. Рокшанина Николая Осиповича) — 107.
Романов Константин Константинович — 249.
Романовы — 146.
Романтизм сценический (герм.) — 50, 51, 543, 547 – 550, 566, 567.
Ромашов Борис Сергеевич — 454, 463.
«Бойцы» — 463.
Ромен Жюль — 377.
«Старый Кромдейр» — 377.
«Ромео» — см. Ш. Гуно, «Ромео и Джульетта».
Роскин Александр Иосифович — 539, 545.
Росси Эрнесто — 16, 68, 84, 87.
629 Российская академия художественных наук — 369, 370, 384.
Россини Джоаккино — 64.
«Семирамида» — 571.
«Россия», журн. — 98.
Россов Николай Петрович — 50.
Ростоцкий Болеслав Иосифович — 406.
Рощин-Инсаров (Пашенный) Николай Петрович — 94.
Рубинштейн Николай Григорьевич — 108.
Румянцев Николай Александрович — 230, 297, 298.
«Русская мысль», журн. — 3, 27, 116, 128, 130, 145, 159, 165.
«Русские ведомости», газ. — 3, 17, 88, 91 – 94, 96, 98 – 101, 103 – 107, 218, 220, 270, 280, 303.
«Русские сезоны» (Париж) — 271.
«Русский курьер», газ. — 3, 15, 17, 20, 70 – 90, 95, 99.
«Русское богатство», журн. — 129, 131.
Русское музыкальное общество — 73.
«Русское слово», газ. — 35, 193, 240, 246, 249, 257, 276, 294, 300 – 303, 312, 318, 321.
Русское театральное общество — 206.
Русское техническое общество — 140.
Руставели Шота — 64.
«Витязь в тигровой шкуре» — 64.
«Русь», газ. — 228.
«Русь», кинофирма — 359.
Рыбаков Константин Николаевич — 68, 75, 96, 101, 125, 126, 189, 322.
Рыжов Иван Андреевич — 288.
Рыжов Иван Иванович — 554.
Рыжова Варвара Николаевна — 562.
Рындин Вадим Федорович — 508, 514.
Рышков Виктор Александрович — 223.
«Склеп» — 223.
Рябов Павел Яковлевич — 88.
Рябушинские — 389.
Рябцев Владимир Александрович — 346.
Савина Мария Гавриловна — 8, 16, 18, 68, 80, 82, 83, 89, 90, 96, 100, 101, 112, 113, 127, 134, 136, 228, 318.
Савинова Е. Е. — 238.
Савицкая (Бурджалова) Маргарита Георгиевна — 136, 144, 256, 270.
Садовская Ольга Осиповна — 16, 68, 70, 71, 91, 240, 348.
Садовский Михаил Провович — 63, 79, 88, 91.
Сазонов Николай Федорович — 89, 90, 112, 126.
«Сакс арбейтер цейтунг», газ. — 46, 391.
Сакулин Павел Никитович — 34, 279.
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович — 3, 38, 81, 90, 309.
«Иудушка Головлев» — 79.
«Смерть Пазухина» — 34, 38, 225, 307 – 310, 322, 379, 384, 386, 513, 526, 527.
Сальвини Томмазо — 16, 68, 87.
Самарин Иван Васильевич — 67, 88.
«Перемелется — мука будет» — 67.
Самочувствие (терм.) — см. Физическое самочувствие.
«Самсон» — см. Л. Н. Андреев, «Самсон в оковах».
Санд Жорж (Дюдеван Аврора) — 16.
Санин (Шенберг) Александр Акимович — 165, 181, 369.
Сапунов Клавдий Николаевич — 270, 274, 275, 307.
Саратовский Петр Саввич — 456, 461, 466.
Сарду Викторьен — 118.
«Надо разводиться» (перед. В. А. Крылова) — 118.
«Фландрия» — 547.
Сац Илья Александрович — 253, 266.
Сахновский Василий Григорьевич — 4, 427, 440, 444, 454 – 457, 459, 460, 466, 480 – 484, 493, 510, 525, 530, 556, 576.
Саша — см. Южин (Сумбатов) А. И.
Сашин Владимир Александрович — 256.
630 «Свадьба Фигаро» — см. «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. О. Бомарше.
«Светозар», изд. — 340.
«Север», журн. — 103.
«Северный вестник», журн. — 102.
«Красный занавес» — 457.
«Московский Художественный театр» — 457.
«Русский театр во время революции» — 457.
Семашко Николай Александрович — 391.
«Семья Турбиных» — см. М. А. Булгаков, «Дни Турбиных».
Сентиментализм сценический (терм.) — 51, 251, 325, 342, 424, 462, 463, 516, 527, 536, 540, 556, 557, 570.
Сергеенко Петр Алексеевич — 123, 135.
Серов Валентин Александрович — 271, 272.
Симов Виктор Андреевич — 142, 148, 155, 164, 179, 182, 185, 187, 190, 191, 200, 205, 209, 210, 220, 221, 229, 233, 242, 245, 246, 252, 254, 270, 274, 284, 285, 363, 448.
Симонов Константин Михайлович — 9, 561, 570, 572, 574, 575.
«Русские люди» — 9, 561, 570, 572, 574, 575.
Симонов Рубен Николаевич — 467.
Синельников Николай Николаевич — 363.
Синицын Владимир Андреевич — 444.
«Система» (теория) Станиславского — 7, 43, 264, 265, 268, 272 – 276, 278, 300, 306, 309, 335, 421, 484, 486, 501, 548.
С. К. — 166.
Скабичевский Александр Михайлович — 136.
Скалой Наталия Дмитриевна — 4, 118.
Сквозное действие (терм.) — 53, 255, 368, 427, 456, 461, 472, 490, 491, 497, 500, 528, 536, 566.
Сквозное желание (терм.) — 351, 502.
Скирмунт Сергей Аполлонович — 175.
Скиталец (Петров) Степан Гаврилович — 161.
Скрябин Александр Николаевич — 323.
Сластенина Нина Иосифовна — 404.
«Слово», газ. — 228.
Сметана Бедржих — 219.
«Проданная невеста» — 219.
Смирнова Надежда Александровна — 306.
Смолин Дмитрий Петрович — 353.
«Василиск Холодов» — 353.
Смольцов Виктор Васильевич — 373.
Смышляев Валентин Сергеевич — 319.
Собинов Леонид Витальевич — 5, 158, 279, 280, 364, 381.
Соболев Леонид Сергеевич — 577.
«Морская душа» — 577.
Соболев Юрий Васильевич — 67, 254, 340.
«Вл. И. Немирович-Данченко» — 340.
Собольщиков-Самарин Николай Иванович — 461.
«Советская Белоруссия», газ. — 560.
«Советский театр», журн. — 131, 437.
«Советский экран», журн. — 412.
«Советское искусство», газ. — 451, 454, 462, 466, 469, 475 – 477, 487, 491, 492, 498, 517, 567.
«Советское студенчество», журн. — 66.
«Современник», журн. — 61, 65.
«Современный театр», журн. — 412, 413, 415 – 417, 419, 423.
Соколова Вера Сергеевна — 478.
Соколовская Нина (Антонина) Александровна — 373, 437.
Соллогуб Владимир Александрович — 65.
«Мастерская русского живописца» — 65.
Соловцов Николай Николаевич — 61.
Соловьев Владимир Александрович — 9, 561, 569.
«Великий государь» — 9, 561, 569.
631 Соловьев Николай Яковлевич — 69, 72, 79.
«На пороге к делу» — 69.
Соловьева Вера Васильевна — 238.
Сологуб (Тетерников) Федор Кузьмич — 36, 323, 326, 405.
«Тени» — 405.
«Узор из роз» — 323, 326, 373, 405.
Солодовников Гаврила Гаврилович — 73, 74.
Солонин Петр Федорович — 93.
Сорокина Мария Сергеевна — 540.
«Антигона» — 43.
«Эдип в Колоне» — 315.
«Социал-демократ», газ. — 333.
Социалистический реализм (терм.) — 14, 50, 51, 486, 487, 498, 506, 526.
Союз взаимопомощи русских писателей — 169.
«С.-П. ведомости», газ. — 92.
Спенсер Герберт — 326.
Сперанский Алексей Дмитриевич — 485.
Средин Леонид Валентинович — 4, 159.
Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич — 4, 7, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 28 – 30, 33, 34, 37, 40, 41, 43, 44, 63, 97, 104, 103, 118, 128, 136 – 152, 154 – 164, 166, 167, 171, 172, 176 – 178, 180 – 182, 184 – 189, 191 – 195, 200, 202, 203, 205 – 208, 210 – 217, 219, 220, 222 – 225, 228 – 230, 232 – 234, 236 – 238, 240 – 248, 250 – 255, 257 – 270, 272 – 286, 289 – 291, 293, 294, 296, 299 – 301, 303, 306, 308 – 312, 314, 316, 318 – 320, 322, 325, 328, 330, 331, 335, 337, 340, 348, 349, 352, 353, 355 – 360, 365, 368, 371, 376, 383, 389, 390, 404, 409, 411, 413, 417, 418, 420, 421, 426, 435, 436, 438 – 440, 442 – 444, 447, 448, 452, 454, 455, 457, 458, 460, 462, 465, 468, 474, 476, 477, 483, 484, 486, 487, 497, 501, 518 – 521, 535, 548, 549, 574.
«Вишневый сад», режиссерский план — 192.
«Дети солнца», режиссерский план — 30, 211.
«На дне», режиссерский план — 180.
«Привидения», режиссерский план — 205.
Рукопись о «системе», 1911 (Архив К. С., № 676, 904, 905) — 272, 306.
«Там, внутри», режиссерский план — 202.
«Чайка», режиссерский план — 21, 147, 148.
«Юлий Цезарь», режиссерские наброски — 188.
Станицын Виктор Яковлевич — 500, 517, 540, 559, 574, 578, 583.
Стасов Владимир Васильевич — 540.
Стаханов Алексей Григорьевич — 483, 484.
Стахович Алексей Александрович — 37, 38, 227, 233, 241, 256, 269, 280, 300, 316.
Стахович Михаил Александрович — 267.
Стаховичи — 28.
Степанов Александр Федорович — 384, 386.
Степанова Ангелина Иосифовна — 431, 432, 437, 454, 470, 501, 513, 541.
«Степанчиково», «Село Степанчиково» — см. Ф. М. Достоевский, «Село Степанчиково и его обитатели».
Стиль, стилевой прием (терм.) — 7, 28, 339, 445, 493, 526, 527, 538.
Стоковский Леопольд — 8, 48, 392, 394.
«Столичная молва», газ. — 268.
Столыпин Петр Аркадьевич — 10, 250, 255.
«Столпы» — см. Г. Ибсен, «Столпы общества».
Столяров Григорий Арнольдович — 456, 479.
632 Стороженко Николай Ильич — 115.
Стравинский Игорь Федорович — 271.
«Петрушка» — 271.
Стрепетова Полина (Пелагея) Антипьевна — 16, 68, 79 – 82, 87.
Студии МХАТ (МХТ) — 335, 336, 340, 354, 355, 362, 367, 368, 370, 373, 374, 376, 378.
Драматическая студия и школа — 387.
Музыкальная студия — 6, 8, 40, 44, 46, 336, 342, 346, 349 – 352, 356 – 358, 362 – 364, 369, 373, 374, 376 – 379, 382, 336 – 389, 391 – 397, 403, 413 – 415.
Оперная студия Станиславского — 376.
Студия на Поварской (Театр-студия) — 30, 152, 207, 208, 210.
Первая студия — 289 – 291, 304, 306, 308, 332, 337, 313, 359, 360, 363 – 365, 370, 376.
Вторая студия — 324, 326, 336, 338, 340, 363 – 365, 370, 372, 373.
Третья студия — 42, 343, 350, 357, 362, 364, 365, 370.
Четвертая студия — 356, 363, 371, 376, 409.
Студия Большого театра — 348.
Студия Вахтангова — см. Третья студия МХТ.
Студия «Габима» — 393.
Студия санитарного просвещения — 354.
Суворин Алексей Сергеевич — 27, 100, 101, 104, 125, 149, 150, 184, 185.
Судаков Илья Яковлевич — 365, 377, 414, 415, 418, 419, 422, 427, 429, 431, 438, 439, 441, 444, 449, 459, 474, 488, 489, 493, 496.
Сулержицкий (Сулер) Леопольд Антонович — 37, 232, 262, 266, 267, 280, 315, 326.
Султанова (Леткова) Екатерина Павловна — 270.
Сумбатов А. И. — см. Южин (Сумбатов) А. И.
Сумбатова Мария Николаевна — 123, 408.
Сумбатовы — 273.
Сургучев Илья Дмитриевич — 306, 307, 313, 320.
«Осенние скрипки» — 307, 308, 311 – 314.
Суреньянц Вардкес Яковлевич — 200.
Сухово-Кобылин Александр Васильевич — 17, 68, 77, 86, 87.
«Дело» («Отжитое время») — 68, 86, 87.
«Свадьба Кречинского» — 77.
Сушкевич Борис Михайлович — 362.
Тагор Рабиндранат — 38, 320, 328, 437.
«Король темного покоя» — 38, 320, 324, 327, 325, 330.
«Чигра» — 328.
Таиров Александр Яковлевич — 42, 316, 475, 477.
«Таланты» — см. А. Н. Островский, «Таланты и поклонники».
Таманцова Рипсиме Карповна — 480.
Танев Васил — 461.
Тарасова Алла Константиновна — 47, 381 – 384, 427, 439, 440, 453, 478, 482, 490, 502, 504, 538, 540 – 543, 563.
Тарновский Константин Августович — 68, 76, 82.
Тарханов Михаил Михайлович — 4, 53, 54, 437 – 439, 465, 471, 483, 518, 523, 553, 557 – 559.
Творческая конференция композиторов и работников советской оперы — 533.
«Театр», газ. — 304.
«Театр и драматургия», журн. — 187, 448.
«Театр и жизнь», журн. — 92.
633 «Театр и искусство», журн. — 137, 248.
«Театр и музыка», журн. — 368, 369, 371.
«Театрал», журн. — 135.
«Театральная библиотека», журн. — 117.
Театральная библиотека имени А. В. Луначарского (Ленинград) — 90.
«Театральная Москва», орган текущего театрального дня — 354.
«Театральная неделя», журн. — 552.
«Театральная Россия», журн. — 206, 207.
Театральное общество (Париж) — 510.
Театральное совещание при Агитпропе ЦК ВКП (б) — 336.
Театрально-литературный комитет при дирекции императорских театров — 115, 153.
Театральный музей императорской Академии наук — см. ГЦТМ имени А. А. Бахрушина.
Театральный отдел Наркомпроса — 338, 339.
Театральный съезд — см. IV съезд РТО.
Театры:
Абрамовой М. М. (Общества русских драматических артистов) — 103, 104;
«Аквариум» — 336;
Александринский театр — 18, 20, 73, 79, 89 – 92, 95 – 97, 99 – 101, 116, 126 – 128, 133, 136, 178, 302, 318, 324, 325;
Артеф (Нью-Йорк) — 393;
«Близ памятника Пушкина», «Пушкинская сцена» (театр А. А. Бренко) — 16, 76 – 79, 81, 82, 85, 86;
Большой оперный — см. оперы и балета имени З. Палиашвили;
Большой театр (ГАБТ СССР) — 5, 40, 56, 71, 87, 111, 122, 184, 193, 233, 234, 279, 288, 290, 336, 337, 339 – 346, 348, 349, 354, 367, 373, 376, 383, 415, 425, 480, 505, 515, 570, 582, 584;
Бургтеатр (Вена) — 359;
Виктора Эммануила (Италия) — 443;
«Военный театр» — 336;
герцогства Саксен-Мейнинген (придворный) — 16, 68, 92, 187;
гос. акад. театр драмы имени А. С. Пушкина (Ленинград) — 446;
гос. имени Евг. Вахтангова — 467, 497;
гос. драматический театр (гор. Горький) — 499;
гос. московский музыкальный театр имени народных артистов СССР К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко — 5, 6, 9, 56, 295, 347, 409, 411, 413, 415, 417 – 419, 421, 425, 428 – 430, 433, 439, 440, 445, 446, 453, 457, 459, 464, 465, 471, 474, 478, 482, 486, 488, 490, 492, 502, 505, 507, 508, 513, 532, 534, 537, 540, 545 – 548, 552, 556, 561, 562, 570, 573, 575, 582;
гос. московский театр оперетты — 450;
гос. Реалистический театр — 409;
Grand opéra (Париж) — 271;
Deutsches Theater (Берлин) — 435;
Зимина С. И., бывш. — 329, 336;
имени Ф. Г. Волкова (Ярославль) — 278;
имени К. А. Марджанишвили — 565;
имени МГСПС — 414;
имени МОСПС — 470;
имени Руставели (Тбилиси) — 561, 565 – 567;
императорские театры — 125, 141, 144, 227, 228, 241;
императорский новый театр — см. Новый театр;
634 итальянской оперы (в Москве) — 16, 61, 110, 111, 124;
Кабардинский (объединенный драматический театр) — 562, 563;
Казахский госдрамтеатр — 494;
Камерный театр — 316;
китайский театр Мэй Лань-Фана — 477;
колхозные театра — 478;
Комедии (Москва) — 359;
Корша Ф. А. — 93, 94, 100, 101, 136, 234, 256, 359;
«Летучая мышь» — 321;
Малый театр (гос. акад.) — 15 – 19, 61, 63, 64, 66 – 75, 77 – 82, 84 – 89, 91, 96, 97, 99, 103, 105 – 107, 109, 115, 118 – 121, 125, 128, 131 – 133, 135, 137 – 139, 144, 153, 159, 160, 189, 226 – 228, 235, 237, 239 – 241, 244, 253, 255, 256, 261, 271, 276, 279, 280, 292, 299, 322, 324, 325, 334, 354, 365, 366, 371, 372, 380, 425, 463 – 465, 470, 493, 499, 562, 563;
Мариинский (гос. акад. театр оперы и балета имени С. М. Кирова, Ленинград) — 94, 324, 428;
московские гос. академические театры — 352, 367, 411;
музыкальный театр имени Немировича-Данченко — см. гос. московский музыкальный театр имени народных артистов СССР К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко;
МХАТ СССР имени Горького — 3 – 6, 8, 9, 11 – 14, 17 – 19, 24 – 38, 40 – 44, 46, 47, 56, 97, 113, 131, 136, 138, 140 – 145, 147, 150, 152, 153, 155, 156, 159 – 161, 166, 169 – 171, 173, 174, 176 – 181, 183, 184, 186 – 188, 195, 198, 199, 205 – 210, 215, 216, 218 – 220, 226 – 228, 230, 233, 240, 241, 243, 244 – 246, 249, 255, 257 – 259, 261, 262, 266, 268 – 271, 273, 275 – 260, 283, 285, 288, 290, 292 – 296, 299, 301 – 307, 310, 313, 314, 316, 317, 321 – 328, 330, 334 – 339, 342 – 346, 349 – 359, 362, 364 – 383, 384, 387 – 391, 393 – 395, 398, 400, 403, 404, 406, 408, 411 – 413, 416 – 420, 423 – 428, 433 – 435, 437, 438, 440, 441, 443, 444, 446 – 451, 455, 457 – 459, 460 – 463, 466, 469, 470, 472, 474, 476, 479 – 480, 482, 483, 487, 488, 492, 493, 496, 498, 505 – 510, 512 – 515, 517, 519, 521, 524, 525, 527, 529, 532, 535, 536, 546, 547, 549, 550, 556 – 558, 560, 562, 563, 567, 573 – 576, 580, 583, 585;
Комическая опера — см. Студии МХАТ, Музыкальная студия;
«Сценические классы при МХТ» — 170;
«Творческий понедельник» МХТ — 205, 341, 342, 351;
Театр-студия — см. Студия на Поварской;
Товарищество МХТ — 177, 195, 329, 332, 334 – 336;
Филиал МХАТ — 517;
Школа МХТ — 185, 189, 192, 207, 210, 228, 230 – 232, 243, 252, 253, 262, 279;
Школа-студия при МХАТ СССР имени Горького — 581;
МХТ, МХАТ I — см. МХАТ СССР имени Горького;
Незлобина К. Н. — 253, 254, 298 – 300;
немецкая мейнингенская труппа — см. герцогства Саксен-Мейнинген (придворный);
Новый театр — 141, 144, 148, 157;
Одеон (Париж) — 359;
оперный театр имени К. С. Станиславского — см. гос. московский музыкальный театр имени народных 635 артистов К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко;
оперы и балета имени З. Палиашвили (Тбилиси) — 565;
Рейнгардта М. — 417;
РСФСР I — 44;
Русский драматический театр Н. Н. Соловцова (Киев) — 61, 88, 92;
Свободный театр (Москва) — 299;
Совета Рабочих Депутатов — 330, 333, 336;
«Творчество» (Париж) — 312;
Художественный театр — см. МХАТ СССР имени Горького;
Центральный детский театр — 148;
Центральный театр Красной Армии — 503.
Телешева Елизавета Сергеевна — 427, 429, 432, 434, 503, 513, 510.
Телешов Николай Дмитриевич — 345.
Теляковский Владимир Аркадьевич — 227, 228, 241, 270, 324.
Темп (терм.) — 182, 235, 247, 248, 300, 500, 502, 541.
Темперамент (терм.) — 15, 54, 120, 136, 213, 230, 239, 256, 275, 323, 341, 342, 361, 368, 484, 487, 488, 537, 550, 556, 577, 581, 583.
Тимченко Николай Иванович — 461.
Типольт Мария Николаевна — 123.
Титова Мария Андреевна — 414, 437, 440.
Тихомиров Василий Дмитриевич — 346.
Тихонравов Николай Саввич — 115.
Тициан Вечеллио — 343.
Товарищество артистов (ассоциация) — 67, 86, 101.
Толберг — 410.
Толмедж Констанс — 399.
Толстая Софья Андреевна — 166.
Толстой Алексей Константинович — 22, 23, 83, 143.
«Смерть Иоанна Грозного» — 155, 234.
«Царь Борис» — 83.
«Царь Федор Иоаннович» — 22, 23, 83, 97, 142, 143, 146 – 148, 150, 162, 202, 218, 234, 254, 256, 292, 360, 390, 396, 449, 549.
Толстой Алексей Николаевич — 4, 8, 9, 284 – 288, 298, 302, 306, 307, 320, 337, 411, 510, 551, 557, 561, 569 – 571.
«Волшебный рожок» — 298.
«Выстрел» — 298.
«День Ряполовского» — 288.
«Заговор императрицы» (с Щеголевым П. Е.) — 411, 416.
«Иван Грозный» — 9, 561, 569, 570, 571.
«Касатка» — 320.
«Комедия о любви» — 337.
Пьесы — 551.
«Хромой барин» — 285.
Сочинения, кн. I – 285.
Толстой Илья Львович — 402, 403.
Толстой Лев Николаевич — 3 – 6, 8, 12, 23 – 25, 34, 105, 106, 108, 111, 135, 151, 155, 159, 165, 166, 180, 200, 244, 266, 267, 269, 270, 271, 276, 326, 336, 342, 387, 402, 403, 407, 416, 428, 429, 479, 481, 500, 502, 568.
«Анна Каренина» — 5 – 7, 14, 25, 49, 53, 265, 406, 407, 477, 480 – 482, 484, 490, 498 – 505, 509, 510, 571, 578.
«Власть тьмы, или “Коготок увяз, всей птичке пропасть”» — 4, 179, 180, 437.
«Война и мир» — 4, 5, 106, 265, 266, 441, 442.
«Воскресение» — 5, 6, 14, 23, 24, 49, 155, 402, 403, 416, 421, 428 – 433, 435, 437, 439, 441, 442, 479, 505, 548.
636 «Живой труп» — 5, 34, 225, 270, 274 – 278, 505.
«И свет во тьме светит» — 24, 336.
«Крейцерова соната» — 25.
«От ней все качества» — 271.
«Плоды просвещения» — 97, 105, 108, 154, 166, 238, 279.
«Поликушка» — 401.
«Севастопольские рассказы» [«Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855 года»] — 4.
«Смерть Ивана Ильича» — 460.
«Толстяки» — см. Ю. К. Олеша, «Три толстяка».
Топорков Василий Осипович — 437, 510, 578, 583.
«Трактирщица» — см. К. Гольдони, «Хозяйка гостиницы».
«Тревога», газ. — 480.
Тренев Виталий Константинович — 20, 572.
Тренев Константин Андреевич — 4, 9, 20, 39, 46, 336, 373, 380, 382, 385, 386, 390, 391, 400, 435, 461, 477, 489, 493, 495, 498, 519, 524, 534, 572.
Избранные произведения — 461.
«Любовь Яровая» — 39, 49, 50, 421, 470, 482, 488 – 491, 493 – 498, 509, 510, 536, 574.
«Пугачевщина» — 9, 46, 47, 336, 379 – 391, 393, 400, 402.
«Ясный лог» — 435.
Трепов Дмитрий Федорович — 173, 195.
Третьяков Владимир Владимирович — 274, 275.
Трофимов А. (псевд. Иванова Александра Трофимовича) — 69.
«В золоченой клетке» — 69.
Трубецкой Сергей Николаевич — 215.
«Труд», газ. — 333.
«Трудовая копейка», газ. — 370.
«Турандот» — см. К. Гоцци, «Принцесса Турандот».
«Простое дело» (с Л. Р. Шейниным) — 487.
Тургенев Иван Сергеевич — 6, 62, 64, 66, 81, 93, 134, 155, 200, 226, 256, 260, 279, 281 – 283, 287, 314, 336, 354, 418, 452, 527.
«Где тонко, там и рвется» — 259, 266, 281 – 283, 314.
«Дворянское гнездо» — 452.
«Записки охотника» — 64.
«Затишье» — 452.
«Месяц в деревне» — 81, 82, 155, 226, 250, 251, 256, 261, 266, 270, 279.
«Муму» — 62.
«Накануне» — 452.
«Нахлебник» — 42, 259, 266, 279, 281 – 283, 314, 354 – 356.
«Новь» — 452.
«Провинциалка» — 34, 259, 266, 281 – 283, 314, 356.
«Рудин» — 452.
«Тургеневский спектакль» — см. И. С. Тургенев, «Где тонко, там и рвется», «Нахлебник», «Провинциалка».
Турчанинова Евдокия Дмитриевна — 122.
Уайльд Оскар — 228.
«Саломея» — 223.
Уланова Галина Сергеевна — 9.
«Ульяна Вяземская» — см. Д. В. Аверкиев, «Княгиня Ульяна Вяземская».
Ульянов Николай Павлович — 562.
Ульянова Мария Александровна — 169.
Уманец Райская Ираида Павловна — 88, 89, 91.
Уоткинс Морис — 427.
637 «Реклама» [«Чикаго»] — 427, 429, 432, 433, 435.
Уралов Илья Матвеевич — 247.
«Уриэль Акоста» К. Гуцкова — 69.
Урусова Ангелина Арнольдовна — 540.
«Утро России», газ. — 276, 291.
Училище Малого театра — 112, 121, 142.
Фадеев Александр Александрович — 510.
Файко Алексей Михайлович — 42, 372, 493, 514.
«В бурю», либретто (с Н. Е. Виртой) — 514.
«Девушка из предместья» («Миг жизни»), — 413, 418.
Февр (Febvre) Ф.-А. — 16, 124.
Федин Константин Александрович — 438, 551.
«Санаторий Арктур» — 551.
«Федор» — см. А. К. Толстой, «Царь Федор Иоаннович».
Федоров (Юрковский) Федор Александрович — 99, 127.
Федорова Олимпиада Николаевна — (Пиша) — 276.
Федорова Софья Васильевна — 271.
Федосеева Мария Семеновна — 456, 461.
Федотов Александр Александрович — 128.
Федотов Александр Филиппович — 100, 189.
«В Щильонском замке» — 100.
Федотов Иван Сергеевич — 503.
Федотова Гликерия Николаевна — 16, 63, 66, 68, 71, 72, 85, 88, 96, 98, 102, 106, 113, 143, 231, 280, 281, 383, 384, 387.
«Федра» Ж. Расина — 105.
Фербенкс Дуглас — 8, 395, 400 – 402, 407.
«Багдадский вор», фильм — 401.
«Гаучо», фильм — 407.
«Маленькая Анни», фильм — 400.
«Черный пират», фильм — 400.
Феррари — 392.
Фигнер Николай Николаевич — 110, 111.
Физическая задача (терм.) — 497, 506.
Физическое действие (терм.) — 536, 580.
Физическое и словесное действие (терм.) — 514.
Физическое самочувствие (терм.) — 7, 54, 55, 481, 497, 500, 502, 504, 506 – 508, 513, 522, 523, 538, 544, 547, 549, 566, 574, 575, 577, 578, 581, 582.
Филармоническое училище [Драматические классы школы Филармонического общества] — 18, 114, 118 – 122, 124 – 126, 128, 130, 131, 136 – 144, 147, 154, 160, 170, 381, 423.
Философов Дмитрий Владимирович — 36, 319.
Флеров (Васильев) Сергей Васильевич — 62, 63, 137.
Флобер Густав — 16.
Фокин Михаил Михайлович — 271.
«Пробуждение Розы»374* [«Spectre de la Rose»], хореографическая картина — 271.
Форма спектакля (терм.) — 40 – 43, 47, 144, 250, 343, 347, 424, 501, 516, 582.
Формализм (терм.) — 41, 500, 516, 582.
Франс Анатоль — 306.
«Восстание ангелов» — 306.
Франц Иосиф — 306.
Франц Фердинанд — 306.
«Фру-Фру» А. Мельяка и Л. Галеви — 84.
Халютина Софья Васильевна — 251, 289, 381, 495.
Характерность (терм.) — 18, 30, 182, 638 213, 248, 336, 339, 500, 538, 539, 544, 545, 574.
Хачатурян Арам Ильич — 577.
Хетагуров Коста — 541.
Хмара Григорий Михайлович — 262, 328.
Хмелев Николай Павлович — 4, 9, 47, 381, 400, 404, 414, 427, 434, 437, 444, 478, 490, 494, 500, 502, 520, 538, 541, 542, 570, 571, 573.
Ходжа-Эйнатов Леон Александрович — 545.
«Семья» — 508, 545 – 548, 550.
Хорава Акакий Алексеевич — 565, 567.
Хохлов Константин Павлович — 242, 271.
Хохлов Павел Акинфиевич — 73.
Храпченко Михаил Борисович — 569, 577.
Хренников Тихон Николаевич — 9, 493, 495, 498, 508, 514, 529, 533, 534, 539, 549, 577, 581.
«В бурю» — 49, 495, 498, 503, 514, 520, 521, 529, 530, 532 – 534, 539, 540, 542.
Художественный максимализм (терм.) — 463.
Цаккони Эрмете — 443.
«Царские врата» — см. К. Гамсун, «У врат царства».
Центральный дом работников искусств — 383.
Центральный техникум театрального искусства (Цететис) — 423.
«Цинциннати дейли тайме стор», газ. — 395.
«Цинциннати инквайрер», газ. — 395.
Чайковский Петр Ильич — 5, 55, 56, 97, 107, 108, 267, 396, 582.
«Лебединое озеро» — 184, 346, 584.
«Пиковая дама» — 8, 55, 56, 393, 561, 582, 583.
«Трио (Памяти великого художника)» — 267.
«Черевички» — 108.
Шестая симфония — 582.
Чайковский Модест Ильич — 271.
Чаплин Чарльз Спенсер — 8, 49, 395, 397, 401, 405.
«Золотая лихорадка», фильм — 401.
Чарномский Эмиль Владиславович — 6.
Чарский Владимир Васильевич — 74.
Чебан Александр Иванович — 496, 554.
Черепнин Николай Николаевич — 341.
«Красные маски» [«Маска красной смерти»] — 341, 345.
Черневский Сергей Антипович — 99.
Чернявский Николай Иванович — 67.
«Гражданский брак» — 67.
Чернышев Иван Егорович — 65, 67.
Чернышевский Николай Гаврилович — 65.
Чертков Владимир Григорьевич — 166.
Чехов Александр Павлович — 135.
Чехов Антон Павлович — 3 – 8, 11, 16, 19 – 21, 23 – 25, 27, 47, 97 – 100, 102 – 106, 109, 117, 118, 120, 121, 125, 128 – 131, 133 – 137, 141, 142, 145 – 147, 149 – 154, 156 – 162, 164 – 167, 178 – 187, 189 – 196, 199 – 201, 203, 204, 207, 213, 237, 254, 272, 284, 285, 293, 310, 317, 318, 338, 342, 360, 383, 390, 396, 423, 426, 452, 465, 467, 468, 475, 487, 498, 521, 525, 526, 537, 538, 541 – 544, 554, 555, 572, 578.
«Бабье царство» — 5.
«Вишневый сад» — 9, 20, 190 – 194, 195, 213, 254, 266, 270, 316, 342, 368, 376, 396, 423, 448, 467, 468, 494.
«В усадьбе» — 129.
«Дама с собачкой» — 25.
«Дядя Ваня» — 20, 24, 25, 153, 154, 157 – 159, 180, 185, 186, 213, 218, 254, 318, 321, 376, 404.
«Иванов» — 23, 42, 97, 100, 102, 141, 152, 192, 200 – 203, 237, 238, 321, 338, 339, 465.
«Крыжовник» — 149.
«Лебединая песня» — 99.
«Мертвое тело» — 203.
«Месть» — 184.
«Мечты» — 203.
«Моя жизнь» — 396.
«Мужики» — 137.
«На пути» — 102.
«На чужбине» — 203.
«Остров Сахалин» — 130.
Повести и рассказы — 128, 170.
Пьесы — 137.
«Скучная история» — 103.
«Супруга» — 128.
«Тина» — 396.
«Три года» — 396.
«Три сестры» — 6 – 8, 20, 49, 53, 167 – 169, 293, 309, 310, 334, 376, 468, 477, 498, 525, 527, 535, 537, 538, 540 – 546, 548, 567.
«Унтер Пришибеев» — 203.
«Хамелеон» — 203.
«Цветы запоздалые» — 396.
«Чайка» — 19 – 22, 97, 131, 133, 134, 136, 141, 142, 144, 146 – 151, 153, 157, 162, 166, 184, 207, 209, 210, 213 – 216, 285, 330, 467, 468, 572.
«Черный монах» — 5.
Чехов Михаил Александрович — 346, 360.
Чехова Мария Павловна — 152, 153, 156, 165, 167, 307.
«Письма к брату А. П. Чехову» — 165.
Чеховское общество — см. Общество друзей Музея А. П. Чехова.
«Чешский мир», журн. — 219.
Чиаурели Михаил Эшерович — 567, 570.
«Чикаго геральд», газ. — 395.
«Чикаго ивнинг америкэн», газ. — 395.
Чириков Евгений Николаевич — 161, 196, 201, 204, 215, 223, 238, 253, 265, 322.
«Иван Мироныч» («Замужем») — 196, 204.
«Легенда старого замка» — 223.
«Шакалы» — 265.
Шаляпин Федор Иванович — 5, 8, 48, 193, 271, 316, 404.
Шапорин Юрий Александрович — 562, 567.
Шаров Петр Федорович — 443.
Шарпантье Гюстав — 428.
«Луиза» — 428.
Шверубович Вадим Васильевич — 563.
Шебалин Виссарион Яковлевич — 464.
Шевченко Фаина Васильевна — 262, 319, 471, 523.
Шейнин Лев Романович — 487.
Шекспир Вильям — 6, 17, 28, 55, 56, 71 – 73, 92, 105, 187, 190, 235, 242, 269, 293, 473, 506, 541, 547, 549, 551, 561, 563, 576, 578.
«Антоний и Клеопатра» — 55, 561, 563, 570 – 573.
«Венецианский купец» — 242.
«Гамлет» — 17, 22, 25, 43, 54 – 56, 62, 71, 74, 86, 87, 115, 116, 143, 259, 269, 270, 274, 275, 277, 279, 280, 315, 357, 395, 397, 498, 541, 547, 548, 551, 554, 571, 572, 576 – 578, 583.
«Двенадцатая ночь» — 360, 549.
«Зимняя сказка» — 293.
«Король Лир» — 55, 267, 394, 561, 566, 567.
«Много шуму из ничего» — 72, 235.
640 «Ромео и Джульетта» — 6, 470, 481.
«Ричард III» — 576.
«Укрощение строптивой» — 71.
«Юлий Цезарь» — 9, 17, 28, 92, 152, 187 – 190, 194, 195, 202, 280, 549.
Шехтер Борис Семенович — 464.
Шиллер Фридрих — 16, 39, 72, 87, 176, 272, 286, 296, 326, 333, 364, 389, 425, 506.
«Коварство и любовь» — 286, 296, 297.
«Лагерь Валленштейна» — 272.
«Мессинская невеста» — 249.
Шифрин Ниссон Абрамович — 441.
Шлепянов Илья Юльевич — 511.
Шолохов Михаил Александрович — 492, 536, 557, 560, 568.
«Поднятая целина» — 536.
Шостакович Дмитрий Дмитриевич — 9, 421, 457, 459, 462, 464, 487, 495, 570.
«Катерина Измайлова» [«Леди Макбет Мценского уезда»] — 421, 457, 459, 462, 464, 469, 487.
Шоу Джордж Бернар — 255.
«Цезарь и Клеопатра» — 255.
Шпажинский (Везовский) Ипполит Васильевич — 69, 78, 80, 98, 102, 141.
«В забытой усадьбе» — 80.
«В старые годы» — 98.
«Как ни быть, лишь бы жить» — 78.
«Штокман» — см. Г. Ибсен, «Доктор Штокман».
Штраус Иоганн (сын) — 273.
Штраус Иоганн (внук) — 260.
Штук Франц — 207.
Шуберт Франц — 351.
Шульц Мария Леонидовна — 118.
Шумский Сергей Васильевич — 63.
Шумяцкий Борис Захарович — 481.
Щедрин Н. — см. Салтыков-Щедрин М. Е.
Щепкин Михаил Семенович — 297, 425.
Щирина Слава Владимировна — 153.
Щукин Борис Васильевич — 540.
Щукин Яков Васильевич — 252.
Эйзенштейн Сергей Михайлович — 42, 557.
«Броненосец “Потемкин”», фильм — 400.
«Эллида» — см. Г. Ибсен, «Эллида» [«Женщина с моря»].
«Эпоха», журн. — 93.
Эрдман Борис Робертович — 418, 427, 429, 430, 435, 556.
Эренбург Илья Григорьевич — 9, 561, 569.
«Падение Парижа» — 9, 561, 569.
«Эрик XIV» А. Стриндберга — 396.
Эсхил — 226.
Эфрос Захарий Матвеевич — 530, 533.
Эфрос Николай Ефимович — 161, 179, 181, 190, 198, 248, 257, 307, 370.
Южин (Сумбатов) Александр Иванович — 4, 15 – 17, 25, 30, 48, 61, 62, 64 – 67, 72, 80, 83, 84, 89, 91 – 96, 99 – 102, 105, 106, 109, 114, 118 – 121, 123, 126, 127, 129, 133, 134, 145, 149, 171, 209, 223, 226, 229, 232, 234, 239, 241, 242, 244, 248, 251, 276, 277, 288, 289, 303, 324, 325, 365, 371, 383, 389, 396 – 398, 405, 408, 409, 521.
«Вожди» — 244.
«Дочь века» — 80.
«Записи, статьи, письма», сб. — 248.
«Измена» — 226.
«Листья шелестят» — 84.
«Рафаэль» — 398.
641 «Соколы и вороны» (с Вл. И. Немировичем-Данченко) — 92, 93, 95.
Юзовский Ю. (Иосиф Ильич) — 470, 475, 546.
Юмашев Андрей Борисович — 9, 510, 567.
United artists, кинофирма — 399, 404.
Юон Константин Федорович — 454, 460, 467.
Юрковский — см. Федоров Ф. А.
Юшкевич Семен Соломонович — 256, 258, 260, 261, 265.
«Miserere» — 256, 258, 260, 261, 265, 266, 268.
Яблоновский (Потресов) Сергей Викторович — 257.
Яблочкин Александр Александрович — 64, 65, 499.
Яблочкина Александра Александровна — 101, 273, 376, 425, 498, 499.
Яблочкина Серафима Васильевна — 115, 499.
Яблочкины — 14.
Якубовская Ольга Александровна — 437.
Якунчиковы — 28.
Якушкин Вячеслав Евгеньевич — 208.
Янковский Моисей Осипович — 206.
Яншин Михаил Михайлович — 462.
Яров Сергей Григорьевич — 437, 466, 523.
Ярцев Петр Михайлович — 203.
«У монастыря» — 200, 203, 207.
ПОСТРАНИЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
1* Речь идет о постановках «Юлия Цезаря» и «Вишневого сада» в МХТ.
2* Очерк «Ходынка» написан беспощадно и горестно. Можно предположить даже, что М. Горький, работая над романом «Жизнь Клима Самгина» (глава о Ходынке), читал эти корреспонденции очевидца в «Ниве».
3* Лишь написанная им в 1901 году драма «В мечтах» была поставлена художественным театром.
4* О «недоброй деятельности модного женского движения» см. послесловие Л. Н. Толстого к рассказу Чехова «Душечка», издание «Круг чтения», 1905 г.
5* Октябристами называли «Союз 17 октября» — реакционную политическую партию, довольствовавшуюся подачками царского манифеста 17 октября 1905 года.
6* Приношу искреннюю благодарность за помощь в работе над летописью Музею МХАТ и лично Е. П. Аслановой, Ф. Н. Михальскому, С. В. Мелик-Захарову, В. В. Левашовой, А. Г. Куницкой; Музею Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в лице А. С. Лебедевой и М. В. Немировича-Данченко; научному сотруднику ГЦТМ имени А. А. Бахрушина — Т. М. Ельницкой; сотруднику Научно-исследовательской комиссии по изучению и изданию трудов К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко — Л. А. Клименко; Библиографическому кабинету ВТО в лице И. В. Митрофановой, И. В. Пановой, А. А. Аганбекяна, а также всем лицам, любезно предоставившим свои личные архивы. — Л. Фрейдкина.
7* При дальнейших упоминаниях — Архив Н-Д, №…
8* При дальнейших упоминаниях — Избранные письма.
9* В других рукописях и статьях Немировича-Данченко — Горяинов.
10* Товарищество артистов (фр.).
11* По свидетельству Ю. В. Соболева, эта рецензия начинающего литератора вызвала недовольство редактора-издателя А. Александровского: «… исполнение разбранили все газеты, а его критик хвалит». (Ю. Соболев, Вл. И. Немирович-Данченко, изд. «Светозар», 1918, стр. 15). В книге Ю. Соболева опечатка: вместо Александров следует читать — Александровский.
12* Никс — Н. П. Кичеев; Кикс — Вл. И. Немирович-Данченко.
13* Грибоедовская премия присуждалась лучшей пьесе сезона.
14* В сентябре 1880 года в обзорной статье «Драматический театр» Немирович-Данченко обращает внимание на то, что в Петербурге, в Александринском театре, «Горе от ума» играют «в костюмах эпохи», тогда как в Малом «действующие лица одеты в такие костюмы, какие вздумается шить г[осподину] Лютену и г[оспоже] Минангуа». («Русский курьер», № 254).
15* «Театр близ памятника Пушкина».
В другой статье («Русский курьер» от 18 сентября 1880 г., № 254) Немирович-Данченко писал о том, что открытие частного театра — «это симпатичное и требующее положительной поддержки явление».
16* По-видимому. Немирович-Данченко поверил лицемерным обещаниям министра внутренних дел Лорис-Меликова.
В. И. Ленин в работе «Гонители земства и Аннибалы либерализма» ссылается на подпольный листок, оценивающий политическую программу Лорис-Меликова: «В ней одновременно мелькает “лисий хвост” и стучит зубами волчья пасть» (В. И. Ленин, Соч., т. 5, стр. 38).
Истинные намерения правительства, желавшего либеральными фразами отвлечь общество от борьбы с самодержавием, не были разгаданы тогда начинающим журналистом и критиком Усилившиеся вскоре цензурные притеснения и гонения, запрещение журналов и газет отрезвляют Немировича-Данченко.
17* В другой рецензии Немирович-Данченко пишет, что «Успех», сочинение В. В., — «фарс совсем не русского пошиба». («Русский курьер» от 28 сентября 1880 г., № 264).
18* Слова из роли Аннеты в драме «Семейные расчеты» Н. И. и Н. Н. Куликовых.
19* Драматургия петрашевца А. И. Пальма — «Просветители», «Наш друг Неклюжев», «Старый барин» — защищала взгляды демократического лагеря, по свидетельству Вл. И. Немировича-Данченко, «затрагивала общественные язвы».
20* Жалобы на цензуру, возмущение ее придирками и притеснениями заполняют в эти годы письма Салтыкова-Щедрина, Островского и других писателей-демократов.
21* Летом 1881 г. А. И. Южин играл вместе с М. Н. Ермоловой в Ораниенбауме.
22* При дальнейших упоминаниях — Архив А. И. Южина. ЦГАЛИ.
23* Комедия была принята, но не была поставлена Александринским театром. Режиссерский экземпляр пьесы хранится в Ленинградской театральной библиотеке имени А. В. Луначарского.
24* А. А. Потехин заведовал тогда репертуарной частью петербургских казенных театров.
25* В. А. Макшеев исполнял роль Якова, о котором сказано в ремарке пьесы: «слуга Мамадышева и шут».
26* В журнале «Эпоха» рассказ не был напечатан.
27* Безделье, праздность (итал.).
28* «Без положения».
29* Жена Вл. И. Немировича-Данченко — Екатерина Николаевна (урожд. Корф).
30* Цензурованный экземпляр комедии «Лихая сила» хранится в Архиве Н-Д.
31* Рукопись пьесы «Без любви» хранится в Архиве Н-Д.
32* Тюрянинов — персонаж комедии «Соколы и вороны», юрисконсульт в банке, один из мошенников-дельцов, обличаемые в пьесе.
33* Екатерина Николаевна Немирович-Данченко.
34* В данном контексте — полное право (фр.).
35* Сведения о статьях Немировича-Данченко, напечатанных без подписи, так же как и данные о некоторых его псевдонимах, почерпнуты из письма И. Ф. Масанова к Л. Фрейдкиной от 20 ноября 1939 г.
36* Пьеса В. Крылова и П. Полевого «Правительница Софья».
37* С. А. Черневский — режиссер Малого театра.
38* Имеется в виду театр Корша.
39* В «Избранных письмах» ошибочно указано 6 декабря 1889 г.
40* В 1913 году, когда А. А. Яблочкина хотела поставить «Последнюю волю» в свой бенефис, Немирович-Данченко писал Южину: «Эта пьеса неизмеримо хуже того, что я могу в области драматургии. Там столько вздора, от которого мне стыдно».
И в другом письме к Южину. «По чистой совести, я очень польщен вниманием Александры Александровны, но так же по чистой совести говорю, что этот выбор не стоит ее юбилейного бенефиса». (Архив А. И. Южина. ЦГАЛИ).
41* «Иванов» А. П. Чехова был напечатан в журнале «Северный вестник».
42* Потом он переменил свое мнение об «Иванове» и писал о «вдохновенном соединении простой, живой, будничной правды с глубоким лиризмом». («Из прошлого»).
43* Черновики (фр.).
44* Рассказ «В меблированных комнатах» не был напечатан в журнале «Север».
45* М. М. Абрамова — жена писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка.
46* В «Русских ведомостях» в 1890 г. рассказ не печатался. По-видимому, речь идет о рассказе «У могильного креста» (см. «Артист», 1890, № 10).
47* Мизансцена (фр.).
48* Каботинка (фр.). Это слово было оскорбительным для женщины-актрисы. Оно обозначало актерское тщеславие, пошлость, вульгарность, плохой вкус.
49* Начиная с № 116 — «Московская иллюстрированная газета».
50* В дальнейшем Немирович-Данченко убедится в том, как верно Савина поняла его замысел, и оценит ее художественную смелость, ее неприязнь к сантиментам:
«В конце “Нового дела” после ухода Столбцова в пьесе всего несколько реплик. У Людмилы, его дочери, нет ни слова. Автора в эту последнюю минуту спектакля нисколько не интересуют ее переживания. Но Г. Н. Федотова с этим не мирится. “Как? Мой отец произносит такой горячий монолог, яростно негодует, а я, его дочь, никак не реагирую?!” — “Но он на ваших глазах уже сколько раз произносил такие монологи, — возражает автор. — И вы знаете, что у вас в доме к его затее относятся резко отрицательно. А что вы поддержите материально и его мать и сестру, в этом никто не сомневается”.
Нет, не убедил я мою любимую великую артистку и пришлось приписать какой-то монолог. Но, как я и предвидел, монолог этот публике был не нужен, только задержал развязку и внес перед самым последним занавесом расхолаживающую минуту.
Так пьеса шла в Москве. Для Петербурга я вернул свою редакцию. Однако на репетициях спросил Савину, нужны ли ей какие-нибудь слова любящей дочери в конце пьесы. Она решительно отказалась: “Зачем мне эти сантименты? Я буду сидеть как воды в рот набрала”». («Театральные воспоминания», написанные в 1941 году в связи с предполагавшимся изданием пьес Немировича-Данченко. Архив Н-Д, № 7257).
51* «Да здравствует Франция!» (фр.).
52* Эта программа хранится в архиве Филармонического училища. Музей МХАТ.
53* «Елка» была поставлена в Малом театре в 1896 г. Роль Бибикова исполнял Ф. П. Горев.
54* С 6 ноября 1892 г. «Московская иллюстрированная газета» называлась «Московская газета» — ежедневное издание с еженедельными иллюстрированными приложениями.
55* Пьеса «Золото».
56* П. М. Пчельников — управляющий Московской конторой императорских театров.
57* «Мгла» была напечатана в журнале «Артист», № 41 – 44 (сентябрь – декабрь 1894 г.).
58* О том, что Александр III при смерти.
59* Николай II.
60* Лишь в 1907 г. Немирович-Данченко изменил финал «Золота» «в том-направлении, какое ему было подсказано чутьем» Савиной Валентина уходила от людей, видевших в благотворительности лицемерное оправдание своей, праздности. В уходе Валентины был бунт, осуждение буржуазной среды.
61* Кочевниковы — действующие лица в пьесе «Золото». Это типичнейшие представители буржуазной среды.
62* Карышев Николай Александрович — сотрудник «Русского богатства». Сосед по имению.
63* Эти наблюдения станут основой новой повести Немировича-Данченко «Губернаторская ревизия».
64* В 1895 г. в сборнике «Проблески» напечатан рассказ «Бессонная ночь». Издание «Посредник».
65* Отец жены Владимира Ивановича, известный педагог Н. А. Корф.
66* В 1896 г. в издании Д. П. Ефимова «Губернаторская ревизия» выходит отдельной книгой: 2-е издание — в 1897 г.
67* «Драма за сценой» вышла в «Русской мысли», 1896, кн. 3, 4, 5, 6.
68* Вспоминая работу с Москвиным в Филармоническом училище, Немирович-Данченко писал: «Настоящий “мой” актер, чудесно схватывавший лучшее, что я давал ему от “моей” театральности». («Из прошлого», стр. 71 – 72).
69* См. Н. Литовцева. «Годы учения», «Советский театр», 1936, № 11.
70* Лавр Галактионович Короленко — брат писателя.
71* Идиллическое разрешение социальных противоречий помешало драме «Цена жизни» вырваться за пределы либеральной драматургии 90-х годов. «Цена жизни» была напечатана в журнале «Театрал», 1896, № 100, кн. 50.
72* Все они вошли в труппу Художественного театра.
73* Городская дума отклонила этот проект, продержав его полтора года.
74* «Чайку» Немирович-Данченко хотел поставить в Филармоническом училище. О. Л. Книппер вспоминала об этом: «… Уже наш третий курс волновался пьесой Чехова “Чайка”, уже заразил нас Владимир Иванович своей трепетной любовью к ней, и мы ходили неразлучно с желтым томиком Чехова…». (О. Л. Книппер-Чехова, «Из воспоминаний», «Ежегодник МХТ» за 1949 – 1950 гг., стр. 283).
75* «Царь Федор Иоаннович» — трагедия А. К. Толстого.
76* Новые актеры приглашались в труппу Художественного театра с чрезвычайной осторожностью. Немирович-Данченко несколько дней наблюдал игру А. Л. Вишневского. Станиславский специально ездил в Кусково, чтобы посмотреть спектакль с участием М. Л. Роксановой — ученицы Немировича-Данченко по Филармоническому училищу. Немирович-Данченко писал Станиславскому о том, что актеры будущего театра должны испытываться и «с нравственной и с художественной стороны».
77* Роль царя Федора Иоанновича одновременно репетировали шесть актеров.
78* По преимуществу (фр.).
79* И. М. Москвин, О. Л. Книппер, М. Г. Савицкая играли «Позднюю любовь» в Филармоническом училище.
80* Журнал «Русская мысль» упорно преследовался цензурой. Немирович-Данченко рассчитывал на то, что цензура будет меньше придираться к роману, напечатанному в провинциальной газете.
81* В. И. Немирович-Данченко провел восемнадцать репетиций «Царя Федора Иоанновича».
82* И. М. Москвин, «Моя первая роль», «Горьковец», 1938, № 16 – 17.
83* «Ревизор» был первым спектаклем Нового театра, которым руководил А. П. Ленский. Ныне в помещении Нового театра находится Центральный детский театр.
84* По мизансцене Станиславского, Сорин сидел на скамейке спиной к зрителю (поиски реального, а не театрально условного изображения жизни). Немирович-Данченко, соглашаясь со Станиславским, предостерегал его от чрезмерного подчеркивания найденного приема.
85* А. С. Суворин вместе с Чеховым был на репетициях Художественного театра.
По просьбе Суворина, для постановки «Царя Федора» в Петербурге снимали копии с вышивок боярских костюмов, зарисовывали бутафорию и утварь, монтировку мизансцен Станиславского и т. д. Приехав в Петербург, Суворин использовал все это для постановки «Царя Федора» в своем театре. Заметка Суворина о Художественном театре появилась в газете «Новое время».
86* Спектакль «Счастье Греты» был сыгран всего три раза.
87* «Московский Общедоступный театр». (См. Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 63 – 71).
88* Официально Немирович-Данченко вышел из состава Театрально-литературного комитета 11 мая 1899 г. В рукописном отделе ГЦТМ имени А. А. Бахрушина хранится около ста его рецензий и отзывов о пьесах, обсуждавшихся в Театрально-литературном комитете.
89* Неоконченная рукопись комедии «Ревизия» хранится в Архиве Н-Д.
90* К. В. Осипов — крупный московский капиталист, к которому Художественный театр вынужден был обращаться за материальной помощью.
91* Организационные принципы Художественного театра явились прямой противоположностью бюрократическому аппарату императорских театров.
92* М. Ф. Андреева (по мужу — Желябужская).
93* При дальнейших упоминаниях — «Переписка».
94* Юбилей В. М. Лаврова отмечался в связи с двадцатипятилетием журнала «Русская мысль». В. М. Лавров был редактором-издателем журнала. До революции 1905 года «Русская мысль» держалась либерального направления. После революции 1905 года — орган кадетской партии.
95* В 1921 г. Немирович-Данченко по-другому оценивал Морозова и его участие в делах Художественного театра: «Морозов в самые последние годы своей жизни под влиянием Горького крупно поддерживал подпольную революционную литературу… кончив жизнь самоубийством, он унес в могилу тайну тех явлений, которые спутали и расшатали мировоззрение крупного капиталиста, всей душой сочувствующего надвигающейся революции, но растерявшегося от сложностей». (Рукопись. Архив Н-Д. № 7740/1 – 3).
96* Н. А. Никулина — артистка Малого театра.
97* В книге «Из прошлого» Немирович-Данченко писал в главе о Горьком: «Новый большой талант, какой появляется раз в ряд десятилетий… Из самых недр народа. С судьбой, окутанной легендарными рассказами» (стр. 241).
98* Г. С. Бурджалов провел лето в Норвегии.
99* В письме к В. Г. Черткову 18 августа 1911 г. Немирович-Данченко писал: «Мое посещение Льва Николаевича совпало с тем периодом его духовной работы, когда писание для театра он считал решительным “баловством” — его буквальное выражение». (Архив Н-Д, № 1985).
100* Многотысячная демонстрация в знак протеста против отдачи в солдату студентов, участвовавших в студенческих волнениях. В. И. Ленин назвал эту расправу самодержавия с народом «гнусной бойней».
101* Здания Художественного театра в б. Камергерском переулке (ныне проезд Художественного театра).
102* Немирович-Данченко писал пьесу «В мечтах».
103* «Конфликт между житейской прозой и оторванной от жизни лирикой» — таков был, по более позднему признанию автора, замысел драмы «В мечтах», (Первоначальное название: «Около жизни», «Вне жизни», «Мечтатели»), Этих «мечтателей», эту интеллигенцию, оторванную от жизни, Немирович-Данченко не осуждал. По его же словам, он относился к ней туманно и неопределенно. («История моей драмы “В мечтах”». Архив Н-Д, № 7261).
104* Д. Ф. Трепов (1855 – 1906) — московский обер-полицмейстер; после событий 9 января 1905 г. петербургский генерал-губернатор с диктаторскими полномочиями и товарищ министра внутренних дел.
105* Битву цветов (фр.).
106* Скирмунт Сергей Аполлонович (1863 – 1932) — книгоиздатель, владелец книжного магазина «Труд». Подвергался преследованиям царского правительства за распространение революционной литературы В 1905 г. Московский комитет РСДРП (большевиков) заключил со Скирмунтом договор на издание газеты «Борьба».
107* Эта пьеса в МХТ не была поставлена.
108* Письмо Горького не сохранилось. В воспоминаниях «История моей драмы “В мечтах” Немирович-Данченко приводит отзыв Горького. “Это должно звучать со сцены красиво”. И только. Очевидно, вещь оставила его холодным, а огорчать меня подробностями ему не хотелось». (Архив Н-Д, № 7261).
Горький, по-видимому, не мог согласиться с неопределенным, аполитичным отношением Немировича-Данченко к интеллигенции, оторванной от жизни.
109* Любимовка — имение К. С. Станиславского близ Пушкино (под Москвой).
110* В это время К. С. Станиславский заканчивал работу над режиссерским планом «На дне». (Режиссерский план Станиславского сделан для первого, второго и четвертого актов пьесы. К третьему акту относится лишь одна неполная страница текста. Рукопись режиссерского плана опубликована в «Ежегоднике МХТ» за 1945 г., т. I, стр. 43 – 279).
111* К. С. Станиславский был режиссером спектакля и исполнителем роли Сатина.
112* Речь идет о монологе Луки.
113* В 1903 г. Владимир Иванович писал Станиславскому: «Я занялся “Дном” почти самостоятельно с первых репетиций, то есть проводил главную мысль всякой постановки: что пьеса прежде всего должна быть гармоничным целым, созданием единой души и тогда только онa будет властвовать над людьми, а отдельные проявления таланта всегда будут только отдельными проявлениями таланта». (Архив Н-Д, № 1595).
114* В. Ф. Комиссаржевская в спектаклях Художественного театра не выступала.
115* Режиссер немецкой труппы герцога Мейнингенского, ставивший «Юлия Цезаря» Шекспира.
116* Роль Брута играл К. С. Станиславский.
117* Станиславский и Немирович-Данченко в эти годы ищут новой формы исполнения монолога, не театрально условного, а жизненно реального.
118* Здесь Немирович-Данченко сравнивает свой режиссерский план с режиссерскими набросками Станиславского к «Юлию Цезарю».
119* Речь идет о пьесе «Вишневый сад».
120* «Вишневый сад».
121* По ремарке Чехова: «Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный».
122* На гастролях в Петербурге массовые сцены «Цезаря» ставились заново, с новыми исполнителями.
123* Начавшаяся война с Японией.
124* То есть задуманная и начатая в Ницце.
125* С. Т. Морозов.
126* «И все-таки мое непримиримое отношение к М. Ф. Андреевой, и как к актрисе и как к личности, окончательно развело нас с Горьким. Надо бы мне как-нибудь записать для верной истории разные фазы и подробности наших взаимоотношений», — писал Немирович-Данченко в 1922 – 1923 гг. в письме к Н. Е. Эфросу. (Архив Н-Д, № 2061).
127* Название неоконченной пьесы Немировича-Данченко.
128* «Баденвейлер 15, 8, 12. Антон Павлович внезапно скончался от сердечной слабости. Ольга Чехова».
129* В. Я. Суреньянц — художник, оформлявший метерлинковский спектакль: «Непрошенная», «Слепые», «Там внутри».
130* Пьеса М. Метерлинка.
131* В режиссерском плане К. С. Станиславского.
132* Здесь первая попытка изобразить толпу на сцене приемами символистского театра — приемами стилизации и статуарности. Жанрово-этнографическая толпа в спектакле «Царь Федор Иоаннович», психологическое разнообразие народа в «Юлии Цезаре» заменялись монолитной неподвижной группой.
133* «Авдотьина жизнь» в МХТ не шла.
134* «У монастыря» — семейная, бытовая драма.
135* Можно ли утверждать, что Лужский подымал персонаж чириковской пьесы «Иван Мироныч» «почти до Гоголя»? Более близкой кажется аналогия с Чеховым. В пьесе чиновника Ивана Мироныча и подобных ему называют «людьми в футляре».
У Немировича-Данченко были некоторые основания для такой оценки. Лужский, игравший инспектора гимназии, обывателя и мещанина, беспощадно, по-гоголевски, казнил его смехом. Сил! художественного обобщения придавала фигуре Ивана Мироныча типические черты верноподданного консерватора. «Новости дня» от 30 января 1905 г. обращали внимание на злободневность создания Лужского:
«… И сразу в нем узнали все
Своих знакомых педагогов,
Чудесный стиль их монологов,
Талант копить свои гроши, —
“Уставам” девственную верность
И симметричность, планомерность
Уравновешенной души».
Подпись — Lolo.
136* В 1919 г., по понедельникам, труппа Художественного театра собиралась для творческих бесед, споров, диспутов. Отсюда название — «творческий понедельник».
137* В другом переводе — «Привидения».
138* О Театре-студии см. К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 1. стр. 278 – 287.
139* В 1905 г. Художественный театр ставил «Чайку» с новыми исполнителями.
140* Речь идет о пьесе «Дети солнца».
141* По режиссерскому плану Станиславского, когда Елена возвращается от жены Егора, заболевшей холерой, Протасов, опасаясь заразы, берет пульверизатор и долго опрыскивает платье Елены, пол, где она стояла, себя и т. д.
142* Отвечая Немировичу-Данченко, Станиславский писал: «Недостаток третьего акта, что он может происходить и утром, и ночью, и вечером. Он вне времени и пространства. Как хотите… Мне лично — чувствуется больше всего дождливый, пасмурный день. Смело утверждаю, что лучше Вашего финала придумать нельзя. Тут психология ни при чем. Сходят с ума на миллионы способов. Важно, что этот финал хорошо и очень оригинально заканчивает акт. Я ратую за него усиленно». (Архив К. С.).
В финале третьего акта пьесы Лиза сходит с ума. Роль Лизы исполняла М. Ф. Андреева.
143* О. Л. Книппер-Чехова репетировала роль Меланьи.
144* Трубецкой Сергей Николаевич (1862 – 1905) — профессор Московского университета. В июне 1905 г. входил в состав делегации земских и городских деятелей к Николаю II и выступил перед ним с либеральной речью.
145* А. Н. Куропаткин (1848 – 1926), генерал. В русско-японскую войну командовал армией.
«И в Берлине и в Вене не было ни одной значительной статьи влиятельнейших газет, которая не сказала бы, что русское сценическое искусство еще раз напомнило европейскому обществу о мощи духовных сил России». (Из письма Немировича-Данченко к С. Ю. Витте от 25 апреля 1906 г. Архив Н-Д, № 610).
146* Имеется в виду роспуск 1-й Государственной думы 9 июля 1906 г.
147* Бранд отвергал буржуазную мораль, клеймил половинчатость и компромисс, критиковал буржуазный поря цок. «Всею душою должны Вы хотеть нового, все гнилое, старое — вырвать с корнем», — говорил он.
Это было время «нужды в героическом» (выражение Горького). Бранд мечтал о счастье для человечества, и Немирович-Данченко готов был поверить тому, что Бранд — революционер. Между тем у Ибсена Бранд нападал на старое не во имя революционного переустройства общества, а во имя извечных этических норм и идеалов. Программа нового у Бранда расплывчата и неопределенна. Плеханов указывал на то, что «мораль революционера имеет конкретное содержание, а мораль Бранда… бессодержательная форма». (Г. В. Плеханов, «Генрик Ибсен», Сочинения, т. IV, М., ГИЗ, 1924, стр. 216).
148* «Пелеас и Мелисанда» М. Метерлинка — символическая драма, проникнутая мистическим ужасом и отчаянием.
149* Думая о пьесе «Месяц в деревне» И. С. Тургенева, Вл. И. Немирович. Данченко сожалел о том, что «гражданские мечты» Беляева, студента-разночинца «времен Герцена… совсем не развиты в пьесе». (Из записной тетради 5908 – 1909 гг.).
150* «Император Юлиан» Г. Ибсена.
151* Художник В. Е. Егоров писал декорации к 1, 2 и 3-му действиям «Драмы жизни».
152* М. Н. Ермолова намеревалась временно оставить сцену.
153* В третьем действии революционерка Елена выполняет подпольное партийное поручение. Мать и отец ждут ее всю ночь. Немировичу-Данченко удалось передать напряжение ожидания, тревогу беспокойной ночи.
154* Черновик докладной записки хранится в Архиве Н-Д. (Записная тетрадь 1904 – 1911 гг.).
155* Спектакль успеха не имел. «Спектакль был кислый», — писал Немирович-Данченко жене 3 апреля 1907 г. (Архив Н.-Д, № 2088).
156* И. М. Москвину в этом спектакле была поручена роль Самозванца.
157* В. И. Качалов — Пимен.
158* И. М. Москвин — Дмитрий Самозванец.
159* В своих воспоминаниях о В. В. Лужском, напечатанных в «Ежегоднике МХТ» за 1946 г., Немирович-Данченко писал: «Вообще “Борис Годунов” был лучшей и наиболее самостоятельной работой Василия Васильевича в Художественном театре. Спектакль не задался не по вине режиссуры».
160* По-видимому, имеется в виду постановка Большого театра.
161* У Пушкина в монологе Бориса Годунова «Достиг я высшей власти» явственно слышны мотивы разлада царя и народа, терзающие Годунова не менее, чем укоры нечистой совести. Неосуществленные замыслы политика и государственного деятеля, надеявшегося снискать любовь у народа и снискавшего лишь народные проклятия, — истоки трагедии Годунова. Но в режиссерском замысле, а потом и в спектакле был лишь душевный разлад усталого царя, которого «ни власть, ни жизнь не веселят». Неверной была также трактовка образа Самозванца, в котором Немирович-Данченко видел «избавителя», символическую фигуру «избранника» и «мстителя», карающего Годунова за содеянное преступление.
162* В 1936 г. Немирович-Данченко говорил о «Борисе Годунове», поставленном в 1907 г.: «В этой постановке мы сели между двух стульев — от реалистического метода отошли, а к иному сценическому раскрытию Пушкина не пришли». (В. Я. Виленкин, И. М. Москвин, издание Музея МХАТ, М., 1946, стр. 90).
163* В этой пьесе Л. Андреев изображал революцию как оргию разрушения, анархическую стихию, враждебную культуре, а рабочих рисовал тупыми и жестокими. «Царь Голод» не был принят к постановке в Художественном театре.
164* «Если актер не пройдет через реальные переживания образа, он не может дойти до глубокой жизненности этого образа и непременно будет трафаретным — картонным.
С этими задачами подошел я, когда ставил “Росмерсхольм”. Но это мне совершенно не удалось, и неуспех “Росмерсхольма” произвел на меня такое потрясающее впечатление, что я на два года совершенно остыл к театру». («Переживания Художественного театра. Беседа с Вл. И. Немировичем-Данченко», «Русское слово» от 22 октября 1909 г., № 242).
165* Узнав из письма Южина, что пьеса пропущена цензурой, Немирович-Данченко писал ему: «Если пьеса, с которой никак нельзя было думать, что ее разрешат, появится на сцене, то она приобретет особенную остроту интереса». (Архив А. И. Южина. ЦГАЛИ).
166* А. Г. Коонен исполняла роль Митиль в «Синей птице».
167* По-видимому, об этом спектакле вспоминает Л. М. Леонидов в своих мемуарах: «Я получаю приглашение на спектакль в Царском Селе в “Китайском театре”. Великий князь Константин Константинович, больше известный как поэт под псевдонимом К. Р., ставит в своем переводе “Мессинскую невесту” и сам играет главную роль… К. К. был ужасен. Костюм носить не умеет, в плаще путается, дикция очень плохая, картавит». (Л. М. Леонидов, Воспоминания, статьи, беседы, переписка, записные книжки, стр. 130 – 131).
168* Спектакли первого абонемента обычно посещала буржуазная публика, навязывавшая театру свои вкусы и взгляды.
169* В режиссерском экземпляре (неоконченном) нет характеристик действующих лиц. В материалах, относящихся уже к последним годам жизни, встречаются иногда высказывания, касающиеся трактовки отдельных. образов. Так, например, о Мамаевой: «Мамаева должна быть не пожилой, а молодой женщиной. Глумов сходится с молодой женщиной ради выгоды». (Из стенограммы репетиции балета «Ночь перед Рождеством». Музей Музыкального театра).
170* Этого добивались черносотенцы из «союза русского народа», усмотревшие в спектакле поругание церкви и христианства.
171* «Владимир Иванович говорил так: “Сквозное действие Глумова: использовать благоприятную почву — людские недостатки, чтоб сделать карьеру. Сквозное действие других действующих лиц… — отстаивать свое, вернуть все к прежнему, к старому. Это динамика, то есть действие, активность роли. Но кроме динамики есть еще и художественная сторона (то есть зерно) — это наивность людей”» (Из режиссерских заметок Станиславского, сентябрь 1916 г. К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 5, стр. 519).
172* В 1914 г. Немирович-Данченко писал, что «в “Мудреце” вместе с новыми завоеваниями в мизансцене, паузах и т. п., с чем Художественный театр начал, — он подошел к Островскому с новым чувством его “духа”. Театр приблизился к тому чувству Островского, которое было свежо 40 лет назад и испарилось впоследствии». (Из письма к Станиславскому. Архив Н-Д, № 1699).
173* Продолжение статьи о «Горе от ума» печаталось в «Вестнике Европы» май, июнь, июль.
174* В Севастополе, в труппе В. И. Никулина.
175* Описка. Повесть Горького «Жизнь Матвея Кожемякина» в берлинском издании 1910 г. называлась «Матвей Кожемякин».
176* Декаденты, представители литературной реакции утверждали, что Горький исписался, кончился.
177* В пессимистической пьесе С. Юшкевича герои недавней революции — молодые рабочие-забастовщики, смелые демократы представали побежденными, разочарованными. «Не лучше ли всем нам умереть», — говорил один из тех, кто раньше жил только для революции… — И только сумасшедший старик призывал смирившихся смельчаков: «Проснись, молодежь! Оживи опять духом, устремись к завтрашнему дню!»
Немирович-Данченко надеялся, очевидно, на то, что эти призывы к «завтрашнему дню» будут близки «живым, бодрым, боевым» силам общества. Но пьеса не шла дальше сочувствия побежденным и презрения к жестокому, тупому торжеству победителей. В мотивах безысходности, проповеди самоубийства, «духа уныния», «отреченчества» терялись одинокие заклинания и укоры старика: «Отчего же отошел дух гнева от тебя, от молодежи. Вчера вы шли все, высоко подняв головы. Воля была в вашей крови. А. теперь… правду вы разлюбили. А братья разбросаны по кладбищу».
Большевистская критика (В. Боровский), отмечая «искренность творчества» в этой драме, указывала на ее «неправильную перспективу»: «Та же путаница, та же неясность идеи пьесы и изображаемых символов… Юшкевич … дал не всю правду, а только частицу правды. … В этот круг не поместятся все те, что не утратили веры…». (В. В. Боровский, Соч., т. 2, М., Соцэкгиз, 1931, стр. 303 – 312).
178* Летом 1910 г. М. Горький закончил пьесу «Чудаки».
179* Вскоре на репетициях Немирович-Данченко найдет новую форму спектакля с чтецом.
180* В архиве Немировича-Данченко хранится копия его телеграммы, посланной Горькому на Капри 14 августа (год не указан). Сопоставляя эту копию с письмом к жене от 13 августа 1910 г., думаю, что в телеграмме речь идет о пьесе «Чудаки»: «Много хороших страниц. Несмотря на это, предполагаю, что Ваша пьеса не может быть сыграна в Художественном театре. Разрешите вернуть Вам рукопись. Никто еще не знает и никогда не узнает, что она у меня была». (Перевод с франц. В. В. Левашовой).
181* О. В. Гзовская репетировала роль Катерины Ивановны.
182* Сцена кошмара Ивана Карамазова («Черт. Кошмар Ивана Федоровича»).
183* «Во время репетиций, — вспоминал Л. М. Леонидов, — Владимир Иванович говорил нам: “Для того чтобы играть Карамазовых, надо иметь сверхчеловеческое сердце”. Весь трудный для актера смысл этого предупреждения я понял только после премьеры “Братьев Карамазовых”». (Л. М. Леонидов, Воспоминания, статьи, беседы, переписка, записные книжки, стр. 217).
184* К драме К. Гамсуна «У жизни в лапах».
185* Режан просила Станиславского воспроизвести «Синюю птицу» в ее театре.
Для постановки «Синен птицы» в Париж был направлен Л. А. Сулержицкий. Ему помогал Е. Б. Вахтангов.
186* Прогрессивная критика, не удовлетворенная спектаклем, писала: «Не говорите побежденному о скорби поражений, а вдохните в его сердце новую мечту о победе, потому что впереди все-таки победа». (Сергей Глаголь, «Miserere», «Столичная молва» от 20 декабря 1910 г.).
187* В 1911 г. в Париже проходил шестой сезон русского искусства. «Русские сезоны» были организованы С. П. Дягилевым.
188* Спустя две недели, 13 июня 1911 года, вспоминая свои впечатления от Парижа, Владимир Иванович писал жене: «При мне русские были представлены: в одном театре (у Дягилева) — Бенуа, Бакст, Серов, Рерих, — как художники, Римский-Корсаков, Стравинский — как музыканты, Нижинский, Фокин, Карсавина — как танцовщики. Должна была участвовать и наша Федорова. В другом театре — Шаляпин и Липковская, в третьем (Grand Opéra) — Кузнецова и Алчевский. Это все — в одно время. Только русское искусство и признается высшим. В это же время в Лондоне танцевали Павлова, Гельцер, Мордкин… Вот оно как! Остается явиться драме». (Архив Н-Д. № 2262).
189* К этой репетиции относятся воспоминания Станиславского: «Образовалось два течения: одно — к нам, другое — от нас. В. И. Немирович-Данченко почувствовал это и на одной из репетиций обратился ко всей труппе с большой речью, в которой настаивал на том, чтобы мои новые методы работы были изучены артисте ми и приняты театром для дальнейшего руководства. … Я был искренно растроган помощью, которую мне оказывал мой товарищ, и по сие время храню за это благодарное чувство к нему». (К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 1, стр. 349).
190* В общих чертах (фр.).
191* А. Д. Дикий, исполнявший маленькую роль судебного пристава в «Живом трупе», свидетельствует: «С той же степенью угаданности характеризовались в спектакле маленькие, почти бессловесные персонажи: каждый из них так или иначе нес на себе печать философии Толстого, его взгляд на жизнь, на семью и мораль. Культура маленькой роли стояла в Художественном театре тех лет очень высоко». (А. Дикий, Повесть о театральной юности, М., «Искусство», 1957, стр. 125 – 126).
192* За право первой постановки драмы «Живой труп» Художественный театр заплатил С. А. Толстой 10 тысяч рублей.
193* В 1911 г. отмечался 100-летний юбилей Общества любителей российской словесности.
194* П. Н. Сакулин — профессор Московского университета.
195* Станиславский исполнял роль Ракитина.
196* «“Провинциалка” рождалась “в муках”, — вспоминал А. Дикий в “Повести о театральной юности”, — … начинали топтаться на месте.
… Совсем еще черновую, незавершенную работу над “Провинциалкой” договорились показать в фойе Владимиру Ивановичу.
Когда окончился прогон, мы, разгоряченные и взволнованные, окружили Владимира Ивановича, ожидая его приговора. Он долго молчал, очевидно, что-то обдумывая… — Мне не совсем ясно, почему, собственно, Тургенев назвал свою комедию “Провинциалкой”?
… Когда мы встретились вновь, то сразу поняли, что в образовавшемся промежутке Владимир Иванович проводил какую-то работу со Станиславским и Лилиной; поняли это по движению образов у обоих, по тому, что наш спектакль… стал расти и расти, как на дрожжах.
Владимир Иванович… нашел краткую, но как всегда исчерпывающую форму подсказа, достаточную для того, чтобы наша работа обрела необходимое направление.
… Так выявлялась в спектакле его идея — идея “провинциализма” всей русской жизни сверху донизу — от столичного Петербурга и до глухого уездного городка — с ее застойностью, пошлостью, бесперспективностью, с ее глубокой враждебностью всяким проблескам таланта, ума и чувства. Так маленькая “Провинциалка” неожиданно приобретала обобщающий смысл» (стр. 144 – 152).
197* В августе 1912 г. Немирович-Данченко писал Станиславскому: «Вообще, возобновление “Чайки” меня так волнует в художественном отношении… С нею может начаться новая жизнь чеховских пьес на нашей сцене». (Архив Н-Д, № 1679).
198* А. Н. Толстой, Соч., кн. 1, СПб., изд. «Шиповник», 1910.
199* Роль Аргана в 1913 г. была блистательно сыграна К. С. Станиславским.
Острая характерность, найденная Станиславским, комедийная наивность отличали исполнение роли Крутицкого («На всякого мудреца довольно простоты»).
200* Немирович-Данченко в то время преувеличивал социально-обличительное значение пьесы Л. Андреева.
201* В 1910 г. Горький предсказывал, что А. Толстой станет «большим, первостатейным писателем». (М. Горький, Собр. соч., т. 29, стр. 138).
В 1911 г. он называл его «новой силой русской литературы»: «Обратите… внимание на нового Толстого, Алексея — писателя, несомненно, крупного, сильного и с жестокой правдивостью изображающего психическое и экономическое разложение современного дворянства». (Там же, стр. 142).
202* Пелагея — прислуга в доме Немировича-Данченко.
203* «Много ты мне дал настоящей радости твоим письмом. … целую тебя так же крепко и искренно, как люблю тебя, мой талантливый, умный и благородный Воля», — отвечал А. И. Южин. (Архив Н-Д, № 5848).
204* С пением и танцами (нем.).
205* Выступление Немировича-Данченко легло в основу его статьи «Искусство театра», напечатанной в сборнике «В спорах о театре». М., 1913.
206* В сезоне 1937/38 г. Немирович-Данченко осуществил постановку «Прекрасной Елены» в Музыкальном театре.
207* Спектакль «Коварство и любовь» должен был стать экспериментальным. Романтическую трагедию хотели поставить в приемах реальной психологической школы МХТ, без эффектов «противной театральщины». В записной тетради 1912 – 1915 гг. есть режиссерские заметки о Миллере, Луизе, Фердинанде, леди Мильфорд и других действующих лицах шиллеровской трагедии.
208* Речь идет, очевидно, о пьесе М. Горького «Зыковы».
209* 12 сентября 1913 г. в «Новостях сезона» появилась заметка о том, что пьеса М. Горького «Зыковы» пойдет в Свободном театре.
23 августа Горький писал И. П. Ладыжникову «Я очень рад не дать пьесу Худож[ественному] театру, мне противна затея Немировича с “Бесами”, буду печатно протестовать против этой “пропаганды садизма”». («Архив А. М. Горького», т. VII, Гослитиздат, 1959 г., стр. 228).
210* Внезапный, неожиданный театральный эффект.
211* Немирович-Данченко пользуется здесь терминологией «системы» Станиславского.
212* Немировича-Данченко тяготит враждебное отношение Горького. Споря с Горьким, он не был до конца убежден в своей правоте, потому что сознавал, что «Бесы» содержат проповедь реакционных идей. Об этом свидетельствует его письмо к А. Н. Бенуа от 6 июля 1913 г., в котором говорилось, что обаяние «Бесов» «засорено тоном рассказчика», то есть предвзятым, предубежденным против революционного движения тоном автора. От Немировича-Данченко не были скрыты эти «сатирические судороги» Достоевского. (Письмо к А. Н. Бенуа хранится в Гос. Русском музее в Ленинграде).
В 1908 г. Немирович-Данченко писал Станиславскому, что «Бесы» «слабая вещь». В 1912 – 1913 гг. он поддался распространенному тогда влиянию социально-философских идей Достоевского.
213* По существу, «Мысль» с ее культом страдания, интересом к патологической психологии, идеей крушения человеческого разума была сродни «Бесам». Время революционного подъема, начавшегося в России, требовало другого репертуара.
214* Гарденин — знакомый Станиславского.
215* М. Ф. Андрееву.
216* Естественно, что такой «вопрос» возникал. Пьесы Гиппиус и Мережковского были не только чужды, но и враждебны демократической интеллигенции, приезжавшей из глухих уездов России в Москву, чтобы посмотреть, спектакли Художественного театра.
217* В эти годы Немирович-Данченко упрекает театрального критика Н. Е. Эфроса в том, что он в своих вкусах и критериях уходит к «внешнему, к яр. ко — красиво — наружному. Вы точно, — не то что перестали чувствовать правду и душу, — но точно надоели они Вам, и Вы пошли… за толпой! Там веселей, легче. … Формальную этику принимаете за настоящую, суррогату глубокого поете хвалы как настоящему глубокому.
… Чем-то ложным заразились Вы как микробом». (Архив Н-Д, № 2060).
218* В спектакле старика Пазухина играли Л. М. Леонидов и И. В. Лазарев.
219* По замыслу Немировича-Данченко, Председатель пира все время сопротивляется горю, отчаянию и «только с приходом Священника вскидывается на высоту отчаяния». (Из письма к А. Н. Бенуа. Избранные письма, стр. 327).
220* В пьесе «Будет радость» Мережковский подражал Достоевскому и «примирял» демократизм шестидесятников с неохристианством. Диалоги пьесы Мережковского пестрели цитатами из «Бесов» и «Братьев Карамазовых».
221* Это и был тот «культ красоты», который «лишен революционного духа» и «ласкает бессовестных».
222* Работа над «Волками и овцами» была прервана 25 ноября 1915 года.
Остался неосуществленным и замысел постановки «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский». В записной тетради 1915 – 1916 гг. сохранился перечень сцен и действующих лиц.
223* «Вчера же у нас в театре было свое первое собрание труппы, и режиссер А. Я. Таиров в своем обращении к труппе также счел необходимым отметить всю важность Вашего выступления». (Из письма Н. П. Асланова. Архив Н-Д, № 3117).
224* «Романтики» — пьеса о М. Бакунине.
225* По-видимому, речь идет о пьесе «Касатка».
226* Буддийская легенда о безобразном короле.
227* «Мы отлично помним и сознаем, что перед самой Великой Октябрьской социалистической революцией мы были в состоянии сильнейшей растерянности, — говорил в 1938 г. Немирович-Данченко. — Эта растерянность была в нашем репертуаре. … Наше искусство стало засыхать. … Наша политическая жизнь была тускла. Мы теряли творческую смелость, без которой искусство не может двигаться вперед». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 151 – 152).
228* Здесь слово «идеалистично» означает служение высоким идеалам.
229* «Узор из роз» — инсценировка рассказа Ф. Сологуба «Барышня Лиза» была поставлена во Второй студии МХТ.
230* Интерес к творчеству Р. Тагора возник в Художественном театре в предреволюционные годы. В записной тетради Немировича-Данченко 1915 – 1916 гг. есть заметки о «Читре» Рабиндраната Тагора.
231* В июле 1917 г. Немирович-Данченко находился в Ялте.
232* К. С. Станиславский играл Ростанева еще в Обществе искусства и литературы, наделяя его прекрасными чертами своей личности: доверчивостью, чистотой, душевной добротой. Высокая вера в человека, столь характерная для многих сценических созданий Станиславского, стала свойством Ростанева из «Села Степанчикове». Ростанев по праву считался одной из лучших его ролей.
В 1916 – 1917 гг. Станиславский стремился не к простому повторению уже игранной роли, а к новому, органическому рождению образа. Работа его шла чрезвычайно медленно и мучительно, так как Станиславскому как режиссеру приходилось одновременно вести репетиции нескольких пьес («Роза и Крест», «Село Степанчиково», «Чайка» с новыми исполнителями и др.). Между тем положение Художественного театра становилось все более и более серьезным. Сезон 1916/17 г. открылся старым спектаклем «Горе от ума». Все задуманные и начатые постановки («Король темного покоя», «Чайка», «Роза и Крест») оставались неосуществленными. Невозможно было продолжать репетиции «Села Степанчикова» до тех пор, пока роль Ростанева у Станиславского дозреет. Надо было срочно выпускать премьеру. Понимая все это, соглашаясь с доводами Немировича-Данченко и пайщиков театра, Станиславский все же тяжело переживал расставание с любимой ролью. Это осложнило его отношения с Немировичем-Данченко.
233* И. М. Москвин исполнял роль Фомы Опискина.
234* О том, состоялась ли читка, сведений нет.
235* В 1938 г. Немирович-Данченко вспоминал: «Надо сказать правду: когда пришла революция, мы испугались. Это оказалось не так, как представлялось по Шиллеру». («Театр мужественной простоты», «Известия» от 26 октября 1938 г.).
236* Проект Станиславского о превращении МХТ в «Пантеон русского театра», объединяющий группу артистов — основателей МХТ и студии МХТ, воспитанные на «системе» Станиславского. На сцене «Пантеона», помимо спектаклей МХТ, должны были идти лучшие спектакли студий. Этот проект неоднократно обсуждался и был отклонен Немировичем-Данченко и представителями Товарищества МХТ. См. об этом подробнее К. С. Станиславский, Собр. соч., т. 6.
237* О «творческих понедельниках» см. стр. 205.
238* 10 февраля, выступая на «творческом понедельнике», Немирович-Данченко говорил о той роли в обновлении искусства, «которую может сыграть блестящая, легкая, праздничная оперетка».
239* В 1919 г. «качаловская группа» находилась на Украине и была отрезана от Москвы белой армией.
240* В 1932 г. в письме к Музыкальному театру Владимир Иванович писал, что его привлекло в «Анго» «крепко республиканское содержание».
241* О том, что В. И. Ленин «выразил сочувствие» этому плану, говорится также в письме к В. И. Качалову от 7 июля 1921 г. (Архив Н-Д, № 798).
242* Елена Константиновна — Малиновская.
243* В. Волькенштейн, Станиславский, М., изд. «Шиповник», 1922.
244* Описывая юбилейные дни, Немирович-Данченко отмечал внимание партийных работников к театру: «Луначарский хорошо отнесся к юбилею. Малиновская сияла». (Из письма к Бокшанской от 18 ноября 1923 г. Архив Н-Д, № 332).
245* К. Н. Еланская играла Катерину в Художественном театре в 1934 г.
246* Немирович-Данченко считал, что пьеса «Озеро Люль» «не очень-то революционная, скорее американски-кинематографическая — буржуазная мелодрама». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 334).
247* Помни о смерти (лат.).
248* Первое поколение актеров МХАТ называли в труппе стариками.
249* В это время Владимир Иванович мечтал поставить такие спектакли, которые «сразу заставят смолкнуть нападки левых фронтов, соберут к нам все здоровое, правдивее, не вымудренное, не вымученное, нужное в новой жит ни, крепкое в связях с лучшим прошлым». (Из письма к Бокшанской от 17 февраля 1924 г. Архив Н-Д, № 351).
250* Немирович-Данченко считал, что «Доктор Штокман» Ибсена нужно играть не «в старой, мелконатуралистической постановке, а в совсем заново обостренной». (Из письма к Бокшанской. Архив Н-Д, № 342).
251* Во второй картине крестьяне поднимали восстание против помещика, жгли его усадьбу и во главе с Барсуком направлялись к Пугачеву.
252* В первой сцене ждут появления «народного царя» Пугачева, который установит справедливость. Немирович-Данченко ставил перед актерами задачу: воспроизвести напряженное ожидание: «Сжатая ненависть, плети, голод, угнетения… все сдавлено, все затаено, насыщенно… нужно найти спасение — спасение в объявлении своего царя».
253* Эта картина была одной из лучших в спектакле. Когда старый крестьянин Марей в чистой белой рубахе с зажженной свечой в руках медленно и тихо выходил из избы «помирать за мир», народная скорбь, разлитая в спектакле, становилась трагической.
254* Очевидно, Немирович-Данченко предполагая играть «Пугачевщину» два вечера подряд.
255* Здесь абстрактной революционности противопоставляется конкретно-историческое содержание революции.
256* Власовский — обер-полицмейстер Москвы.
257* При новом издании пьесы Тренев сам исключил картину «Взятие Казани».
258* Еврейский рабочий театр — Артеф.
259* «Гадибук» («Дыбук») — пьеса Ан-ского была поставлена в 1922 г. Е. Б. Вахтанговым в еврейской студии «Габима».
260* Отказ в репетиционном помещении был вынужденным, но Немирович-Данченко не считал театр правым. У него было такое ощущение, что его выгнали из его собственного дома, он сравнивал свои переживания с обидой короля Лира: «Я мог бы теперь хорошо научить актеров играть “Короля Лира”. И вот когда я опять и опять думаю об этом — и хожу, хожу и не отыскиваю себе места». (Из письма к Ф. Н. Михальскому. Архив Н-Д, № 1166).
Через год, в апреле 1927 г., он писал Луначарскому: «Я до сих пор то и дело проснусь и ворочаюсь среди ночи с тем чувством глубокой обиды, которое бессилен утишить. И не знаю, какая рана сильнее, — моральная или артистическая, — потому что я должен быт поставить крест на созревших замыслах…». (Избранные письма, стр. 367).
261* Жирофле и Жирофля — имена двух сестер-близнецов в оперетте Лекока «Жирофле-Жирофля».
262* Новая пьеса А. И. Южина.
263* Через несколько дней выяснилось, что встреча и киносъемка были организованы кинофирмой в целях рекламы.
264* Франсуа Вийон, известный французский поэт, родился в Париже в 1431 г.
265* Немирович-Данченко не мог мириться с тем, что актеры начинают сниматься, не читая всего сценария, прислушиваясь только к подсказке режиссера, который громко кричит в рупор, что им нужно делать. Его тяготила атмосфера ремесленничества на репетициях. «Когда я приехал, я не предъявлял с своей стороны никаких претензий, я приехал учиться, и должен был учиться, но чем больше там смотрел, тем больше убеждался, какая это трясина… Посижу полчаса и ухожу. Говорил им: большая мука сидеть у вас. Нельзя делать то, что у вас делается». (Из доклада Вл. И. Немировича-Данченко «15 месяцев около американского кино». Архив Н-Д, № 7313).
266* В этом сценарии Катюша Маслова превращалась в наивную барышню-крестьянку. Следуя рецептам Голливуда, она все время улыбалась. Среди действующих лиц был и сам Л. Н. Толстой. Его изображал И. Л. Толстой, имевший сходство с отцом. Он появлялся перед каждым эпизодом в сапожной лавке и вбивал гвозди в сапоги. (Граф Толстой сам тачает сапоги — приманка, сенсация сценария!) Вобьет гвоздь и говорит: вот сейчас раскроется еще одна человеческая душа.
267* Возвратившись в СССР, Немирович-Данченко говорил о Чаплине: «Чаплин… стоит совершенно одиноко. Он все-таки единственный гений от экрана, у него все воображение, все его представления идут от экрана, в то же время он глубокий человек с неиспорченной мечтою». (Из доклада «15 месяцев около американского кино». Архив Н-Д, № 7313).
268* Владимир Иванович видел Лилиан Гиш в фильмах «Красная буква» и «Богема». Считал ее одной из лучших киноактрис Америки.
269* В Америке фильм «Анна Каренина» шел под названием «Любовь». В начале совсем в духе голливудских представлений о России Анна и Вронский возвращаются из Москвы в Петербург не в поезде, а в санях. Они останавливаются на постоялом дворе — четырехэтажном здании, где кутят и пьют офицеры, пляшут цыгане и т. п.
270* Пьеса Ю. О’Нейла называется «Лазарь смеется». Беседа «Об американцах» частично публиковалась в 1928 и 1933 гг.
271* В третьем акте по мосту, раскинутому через всю сцену, «железный комиссар» вел курсантов на подавление кронштадтского восстания. Мартовский ветер развевал знамена. Зарево освещало строгие, суровые лица. Красные блики отражались в меди духовых инструментов. Гремели трубы. В. И. Качалов («железный комиссар») с огромной внутренней силой отдавал команду: «Товарищи, вперед!» Слышался чеканный гулкий шаг рабочих дружин.
272* В четвертом акте молодой рабочий Дениска, преодолевая препятствия разрухи, холода, голода, один в пустынной большой полутемной типографии при восковой свече всю ночь набирает воззвание к рабочим Петрограда… Известие о том, что пал Кронштадт, совпадало с пуском типографии. Загорались электрические лампочки, шумели машины, кончалась гражданская война, начинался новый в жизни страны восстановительный период.
273* Немирович-Данченко изменил либретто оперы. В спектакле осуждался цинизм буржуазной морали. «Немирович-Данченко увидел в Кшенеке не эксцентризм, а реализм». (П. Марков, Вл. И. Немирович-Данченко и Музыкальный театр его имени, стр. 112).
274* О свеем режиссерском замысле «Воскресения» Владимир Иванович писал: «Здесь я опять-таки шел от зерна, на которое указывает само название романа. Так как и у Толстого рельефно и законченно воскресение Катюши, а Нехлюдов остается, в сущности, на полпути, то и я занимался почти исключительно воскресением Катюши.
… “Воскресение” часто инсценировали на провинциальных сценах, и театральные дельцы, занимавшиеся драматургией, шли по самому легкому пути: первое действие происходит в деревне; Катюша — молодая, чистая девушка, отдается Нехлюдову. Потом перерыв, а затем Катюша уже на суде.
Самый пересказ как будто не портит романа, но, в сущности, он совершенно искажает его глубокое социальное и человеческое значение… автор показывает нам эту женщину в ее падении, бросает сильнейшее обвинение всему обществу и затем дает рассказ о путях исправления падшей женщины.
В таком подходе к сценической передаче романа, я думаю, заключается отличие нашей постановки от дореволюционной. Могу сказать с уверенностью, что до революции я бы так не посмел поставить спектакль. А если бы посмел, то… его не приняли бы, освистали. … Раскрыть на сцене историю взаимоотношений Катюши и Нехлюдова так же смело, как это сделано в романе, стало возможно только теперь». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи, Беседы. Письма, стр. 163).
275* В протоколах репетиций не помечены занятия Владимира Ивановича с отдельными исполнителями (Качаловым, Еланской и другими), которые он проводил у себя на квартире или в своем кабинете в МХАТ.
276* «Северный ветер» — опера о двадцати шести бакинских комиссарах (либретто В. Киршона).
277* Сцена Мариэтт и Нехлюдова носила характер светской болтовни. Владимир Иванович показывал, как Мариэтт лицемерно скорбит о страданиях народа, кокетливо помешивая ложечкой чай. Эти светские сцены шли после сцен суда, тюрьмы и деревни, где явственно определилась основная тема спектакля: «обижен… очень уж обижен простой народ».
278* Во время речи прокурора начинается медленный, а потом убыстряющийся поворот сцены. Вот уже уходит в темноту зал судебного заседания, появляются очертания новых декораций, а прокурор все говорит, упиваясь собой, своим голосом. Впечатление создавалось такое, что словоизлияний прокурора остановить ничто не способно (роль прокурора исполнял М. И. Прудкин).
279* М. С. Гейтц был директором МХАТ с 1929 по 1931 г.
280* «Наша молодость» — инсценировка романа Виктора Кина «По ту сторону». Автор инсценировки — Сергей Карташов.
281* Прогулка по озеру (фр.).
282* Об этой встрече Немирович-Данченко писал в 1942 г. в статье «Кого мы защищаем? Кого и что в Отечественной войне спасаем?». («Ежегодник МХТ» за 1944 г., стр. 761).
283* Н. П. Ларин исполнял роль Картинкина в «Воскресении».
284* 17 сентября 1930 г. в МХАТ начались репетиции пьесы В. М. Киршона «Хлеб».
285* Н. Н. Литовцева возобновляла спектакль «Хозяйка гостиницы», поставленный в 1914 г. К. С. Станиславским. Художник А. Н. Бенуа.
286* «Дерзость» — пьеса Н. Ф. Погодина.
287* Н. А. Шифрин оформлял спектакль «Страх».
288* В пьесе «Страх» профессор Бородин производит научные опыты над кроликами и крысами.
289* В письме сказано: «Конечно, в “Воскресении”». Это описка.
290* Пятнадцатилетие Великой Октябрьской социалистической революции.
291* В. Н. Пашенной — жене В. Ф. Грибунича.
292* О. С. Бокшанская.
293* В спектакле это было так: в ложах сидело светское общество, которое осуждало, третировало Виолетту. Столкновение Виолетты с обществом — центр замысла Немировича-Данченко. В первом действии ложи заполняла нарядная толпа. Вначале она осыпала актрису Виолетту цветами. Во втором действии светская толпа (хор) мало интересуется Виолеттой. В третьем — карнавал, веселье, пляски. Виолетту встречают шиканьем и злорадством. А в четвертом — ложи, еще недавно людные, пестрые, нарядные, пусты. Виолетта покинутая, одинокая, кончает жизнь самоубийством.
294* Сильвио д’Амико — тогда руководитель новой школы драматического искусства, открывшейся в Риме.
295* А. О. Степанова играла роль Шуры Булычовой. Владимир Иванович сравнивал этот образ с факелом, который «призывно и ярко горит в черной ночи до революции и сливается с демонстрацией в февральские дни». (В. Г. Сахновский, «Работа над спектаклем “Егор Булычов и другие”»).
296* В. И. Качалов.
297* Оливер Сейлер — американский театральный критик. Им написаны книги «Русский театр во время революции», «Московский Художественный театр», «Красный занавес» и другие.
Мемуары Вл. И. Немировича-Данченко «Из прошлого» писались по контракту с американским издательством.
298* В Музыкальном театре Владимир Иванович вел репетиции оперы Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова»).
299* Стенограмма выступления хранится в Архиве Н-Д, № 7590.
300* Об этом же Владимир Иванович говорил на конференции музыкальных драматургов: «Сентиментализм — не есть сентиментальность. Я сейчас приведу такой пример: “Травиата” у Верди сентиментальна… Верди старается возбудить сочувствие и слезы средствами музыки, которыми он владеет в гениальной степени. Это сентиментальность, но это не сентиментализм. Я сам буду говорить… Виолетта должна возбуждать слезы… но когда в драме (“Дама с камелиями”) вдруг и общество оказывается великолепным, добрым и сам папаша героя, который пришел к Маргерит Готье со своим мерзким, жестоким предложением, — все в сущности оказываются очень славными… это уже сентиментализм, сентиментальное отношение к жизни». (Из стенограммы выступления Архив Н-Д, № 7590).
301* Предлагая актерам, работающим над ролью, «идти от себя», Немирович-Данченко обычно добавлял: «Это мало “идти от себя”. Вы должны от себя находить то самочувствие, которое диктуется в данном случае автором».
302* Владимир Иванович намеревался поставить в Малом театре «Иванова» Чехова. (См. телеграмму Немировича-Данченко к Станиславскому от 28 мая 1934 г. Архив Н-Д, № 1806).
303* Спектакль «Враги» шел в декорациях В. В. Дмитриева.
304* В данном контексте — право (фр.).
305* Речь идет о книге мемуаров «Из прошлого», над которой продолжал работать Владимир Иванович.
306* Пьеса А. Н. Афиногенова «Портрет» в МХАТ поставлена не была.
307* «Враги» были сыграны Театром имени МОСПС и Малым театром — в 1933 г. См. Ю. Юзовский, М. Горький на сцене МХАТ. О спектакле «Враги», М.-Л., изд. ВТО, 1939.
308* Роль Кабанихи в «Грозе» репетировала и играла Ф. В. Шевченко.
309* Через год Владимир Иванович писал об этой встрече с Корнейчуком. «Когда он начал читать и когда полились мне в душу такие родные моему уху слова, интонации, звуки украинской бытовой речи, я тотчас же почувствовал в нем этот сценический дар, человека театра». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи. Беседы. Письма, стр. 391).
310* 10 января 1935 г. в «Литературной газете» была напечатана критическая статья о спектакле Ю. Юзовского «Отчего люди не летают?».
311* В 1936 г. Ромен Роллан писал: «Дорогой Немирович-Данченко, я храню воспоминания о нашей дружеской встрече в Большом театре в июне прошлого года». (Музей МХАТ).
312* В этом отличие замысла Вл. Немировича-Данченко в советском театре от его постановки 1908 г.
313* 29 ноября 1935 г. Немирович-Данченко говорил: «Во “Врагах” я почти все образы показывал, и когда я теперь смотрю спектакль, я об этом не жалею, ибо это было хорошо схвачено. … Я хорошо знаю индивидуальности актеров, и исходил из этих индивидуальностей. … Я знаю его, Горького, манеру, знаю, как он говорит, как пишет. Знаю его простоту. Я знаю, что у него каждое слово “чугунное”. Это не то, что грациозное, лирическое слово Чехова». (Из стенограммы беседы с режиссерами. Архив Н-Д, № 7544).
314* Речь идет о второй редакции пьесы М. Горького «Васса Железнова».
315* Спектакль «Любовь Яровая» оформлял художник Н. П. Акимов.
316* Немирович-Данченко предостерегал от того, чтобы Ярового играли явным негодяем или, наоборот, идеализировали его «убеждения», его «героизм».
«Его “героизм” вырождается… в истеричность… Его сквозное действие — обратное Любови Яровой. Та мужает и закаляется, а он летит в бесславие». (Вл. И. Немирович-Данченко, «Любовь Яровая», «Горьковец» от 27 декабря 1936 г.).
317* Немирович-Данченко не соглашался с тем, что Любовь Яровую нужно играть как одну из миллионов. «Нет! Играйте Любовь Яровую как легенду. Это легендарный образ. Тогда все поднимается». (Из рассказа Немировича-Данченко во время репетиции «Половчанских садов» 11 декабря 1938 г.).
318* По либретто Леонида Дзержинского действие происходило на размытой фронтовой дороге: оборванные телеграфные провода, опрокинутые телеги. Владимир Иванович предложил перенести пятую картину на железнодорожную прифронтовую станцию, загроможденную теплушками. Теплушки, крыши, буфера забиты солдатами. Встреча Григория и Мишука, казавшаяся случайной на фронтовой дороге, здесь, на станции, стала более достоверной. В конце картины поезд двигался и стук вагонов сливался с песней отъезжавших солдат. В этой прифронтовой станции, теплушках, серых солдатских шинелях был суровый и строгий колорит гражданской войны.
Предложение Владимира Ивановича было подхвачено художником Б. И. Волковым, который тут же карандашом сделал набросок будущих новых декораций.
319* Издательстве «Academia» прислало оттиск книга Немировича-Данченко «Из прошлого».
320* Роман В. Вирты «Одиночество».
322* Немирович-Данченко нашел мизансцену, усиливающую это впечатление: Анна и Каренин идут со скачек против движения круга сцены. С момента поворота круга светская толпа становится неподвижной и молчаливей. Внимание зрителя сосредоточено на Каренине и Анне.
323* Станция Обираловка, где Анна Каренина бросилась пол поезд.
324* Д. В. Зеркалова исполняла в «Мещанах» роль Елены.
325* Б. И. Волков оформлял спектакли Музыкального театра имени Вл. И. Немировича-Данченко: «Фрол Скобеев», «Тихий Дон», «Семья», «В бурю».
326* Макеты декораций В. Ф. Рындина к спектаклю МХАТ «Земля» (по роману Н. Вирты «Одиночество»).
327* В. И. Качалов репетировал в то время роль Фамусова.
328* Для того чтобы зритель поверил, что Софья увлекается Молчалиным, Владимир Иванович советовал актеру, репетировавшему Молчалина, передавать лакейство, холуйство Молчалина утонченно.
329* Екатерина Николаевна — жена Немировича-Данченко.
330* М. П. Лилиной.
331* Н. И. Дорохин исполнял роль Рябинина.
332* Так, 14 октября, репетируя сцену разъезда гостей, говорит: «Прошлый раз на репетиции я просил делать от группы к группе меньшие интервалы. Сейчас интервалы в 75 секунд. Поэтому получилась скучно невероятно». (Из стенограммы репетиции).
333* Заметки Немировича-Данченко о пьесе Н. Вирты «Заговор» хранятся в. Архиве Н-Д, № 7709/1.
334* Маша — С. С. Пилявская. Отшельников — В. В. Белокуров.
335* Стенограмма этой репетиции опубликована в книге Вл. И. Немировича-Данченко, Статьи. Речи, Беседы, Письма, стр. 303 – 313.
336* Роль Листрата репетировал А. Н. Аникиенко, роль Леньки — З. М. Эфрос.
337* Прочитав один из романов Л. Леонова, Владимир Иванович писал ему; «Очень высоко ценил многие, многие страницы… Нечего Вам, конечно, говорить, в письме, в характеристиках, в замыслах есть крупнейшие достоинства. А есть и такие достоинства, которые я, на свой вкус, убежденно считаю недостатками, хотя вы, наверное, ими дорожите». (Из письма к Л. Леонову. Черновик без даты. Архив Н-Д, № 935).
338* Через несколько лет Владимир Иванович писал: «Оформление оперы Хренникова, мизансцены, характеристики действующих лиц, поведение толпы сближают постановку с драматическим спектаклем. Получается как бы спектакль драматического театра, очищенный от натуралистических подробностей и пользующийся огромной, всепобеждающей силой музыкального воздействия для всех своих психологических, бытовых и действенных задач». (Вл. И. Немирович-Данченко, Статьи. Речи, Беседы, Письма, стр. 264).
339* На последующих репетициях Владимир Иванович советовал Хмелеву: «Как только Вершинин заговорит — “У меня жена, две девочки…”, троньте украдкой руку Ирины: “Слышите? Я вам говорил, что он это и здесь скажет”. … А Ирина погрозит осторожно: “Перестаньте”». Хмелев воспользовался советом режиссера. Это внесло в его исполнение какую-то обаятельную детскость, мальчишеское озорство.
340* «Работать под руководством Вл. И. Немировича-Данченко, — писал Хмелев позднее, — истинное наслаждение. Это целый университет наблюдательности и художественного такта. … В нем живет целая эпоха. Посмотрите на его лицо, когда он говорит о Чехове, на его движения — вот он встал, сел, подал руку: во всем этом воскресает драгоценное ощущение действительности, видишь воочию человека того времени, дышишь воздухом, которым должна быть пропитана роль. Его присутствие — огромная, ни с чем несравнимая ободряющая сила». («Ежегодник МХТ» за 1945 г., т. II. стр. 394).
341* К балету Б. В. Асафьева «Ночь перед рождеством».
342* Синтетическое самочувствие образа — ощущение образа в целом, во всей его общественной, физической и психической жизни. По мнению Немировича-Данченко, только синтетическое ощущение образа определяет органическую, точно найденную характерность, подсказывает верно найденный ритм, помогает из разных средств выразительности отобрать наиболее точные для данного автора, данной пьесы, данной роли. В «Трех сестрах», например, усталость Тузенбаха, любовь его к Ирине, мечта о труде не существуют как механическая сумма «кусков» и «задач», а «сливаются в синтезе».
343* См. книгу А. Роскин, «“Три сестры” на сцене МХАТ», М., изд. ВТО, 1946.
344* В. И. Качалов играл во «Врагах» роль Захара Бардина.
345* В. К. Новиков исполнял во «Врагах» роль денщика Коня.
346* Художник В. В. Дмитриев неподалеку от Иверской часовни повесил большой революционный плакат со стихами Маяковского «Кто там шагает правой?».
347* Пьеса «Кремлевские куранты» в первом авторском варианте начиналась с картины «Опушка леса». Потом шла «Изба Чудновых», за нею «Иверские ворота».
348* И. И. Рыжов репетировал роль Романа.
349* А. И. Чебан — исполнитель роли Чуднова.
350* Н. В. Базарова исполняла роль снохи Чудновых, Лизы.
351* Вскоре на репетициях вернулись к первоначальному варианту: Ленин появлялся в самом конце сцены, когда уже шел занавес.
352* Владимира Ивановича смущало, что в пьесу об электрификации врывался мотив «кремлевских курантов», и непомерно (не по значению) разрастался, становился основным и даже ведущим. Это делало трудной его режиссерскую работу.
353* Роль английского писателя репетировал В. Я. Станицын.
354* Пьеса М. Булгакова «Последние дни» («Пушкин»).
355* В статье «Лондон — Москва» («Советское искусство» от 2 октября 1941 г.) Александр Верт писал, что «Три сестры» в МХАТ — «величайшее театральное достижение».
356* А. Коптяева, Фарт, М., «Советский писатель», 1941.
357* А. Ильиных, Город меди, М., «Советский писатель», 1941.
358* Трагедия А. Н. Толстого «Иван Грозный» (первая часть — «Орел и орлица»; вторая — «Трудные годы»).
359* В письме к А. Н. Толстому в июне 1942 г. Владимир Иванович писал: «Самый существенный недостаток, что автор, увлекаясь образами и красками побочных линий пьесы, оставляет непродуманной, неубедительной главную, основную тему: с чем борется Грозный, кто эти, осуждаемые им, не понимающие политической перспективы». (Избранные письма, стр. 455).
360* У Верико Анджапаридзе хранятся записи ее репетиций с Вл. И. Немировичем-Данченко в период работы над ролью Клеопатры.
361* Д. Шостакович, «Иван Сусанин», «Правда» от 19 мая 1942 г.
362* Гордон Крэг ставил «Гамлета» в Художественном театре в 1911 г.
363* А. К. Гладков предлагал переделать комедию Аверкиева «Фрол Скобеев» в либретто комической оперы. Эти заметки были переданы А. К. Гладкову. План либретто обсуждался 6 марта 1943 г. в присутствии Т. Н. Хренникова и П. А. Маркова.
364* Битков в «Последних днях» — домашний шпион, приставленный к Пушкину III отделением. В финальной картине сопровождает гроб Пушкина.
365* Заметки о «Последней жертве», сделанные во время этой последней в его жизни репетиции, лежат на письменном столе в Музее-квартире Вл. И. Немировича-Данченко.
366* Звездочкой помечены неосуществленные замыслы и необнаруженные рукопись. Двумя звездочками помечены незаконченные и неизданные рукописи.
367* В квадратных скобках указано содержание статей, опубликованных в «Русском курьере» и «Новостях дня» под общим названием «Дневник журналиста» и «Драматический театр».
368* Некоторые статьи и рецензии Немировича-Данченко печатались в «Русском курьере» и «Русских ведомостях» без названия в разделе «Театр и музыка». В квадратных скобках указана тема статей.
369* Под таким названием шла в Музыкальном театре опера Ж. Бизе «Кармен» (либретто К. А. Липскерова).
370* В квадратных скобках приведены точные названия пьес.
371* Немирович-Данченко ошибся, правильное название — «Invitation à la danse».
372* Название спектакля МХТ по роману Ф. М. Достоевского «Бесы».
373* Название спектакля МХТ по повести Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели».
374* Правильное название балета «Видение Розы» или «Призрак Розы».