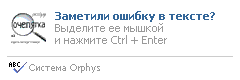5 От составителя
Книга, которую вы держите в руках, имеет не совсем обычную судьбу.
В пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца» жена главного героя Семена Подсекальникова предлагает ему вожделенный бутерброд с ливерной колбасой, от которого он неожиданно отказывается с такими словами: «Знаю я, как ты будешь его намазывать: ты его со вступительным словом намазывать будешь». Мое вступительное слово в данном случае неизбежно, а уж вы — как хотите, можете этот «бутерброд» и не есть — лишь бы книга вас не разочаровала.
Задумана она была без малого четверть века тому назад, в день прощания с Э. П. Гариным, мною и моим старшим, а гаринским хоть и младшим, но многолетним — с мейрхольдовских времен — товарищем Яковом Львовичем Варшавским (он же на начальном этапе принимал участие в ее составлении).
Сборник — стандартного объема и более или менее стандартного образца, то есть обще-лирико-мемуарного характера, — составился довольно легко и быстро и был готов к выпуску в издательстве «Искусство». Но был в этой книге элемент какой-то то ли необязательности, то ли незавершенности, который удерживал меня от соблазна стремительного ее издания.
Я вспомнил рассказ, многократно слышанный мною от жены Гарина Хеси Александровны Локшиной — про любимый анекдот Мейерхольда.
В ресторан приходит посетитель — гурман и, внимательно изучив карту блюд, подзывает официанта. Долго расспрашивает его о том, когда и откуда доставлено на кухню мясо такого-то сорта, затем так же долго поясняет, какой кусок от какой части надо отрезать, как его обработать и как — на каком масле и с какими приправами — поджаривать так, чтобы оно с одной стороны было с кровью, а с другой — прожарено и имело хрустящую корочку, и сколько минут оно должно томиться в соусе, который должен быть приготовлен таким-то образом (следовало подробное описание рецепта, которое Х. А. излагала точь-в-точь с голоса Мейерхольда), и когда именно, в какую минуту ужина следует доставить это блюдо к столу… Официант слушает рассказ не просто терпеливо, а с живейшим участием, записывая все детали, понимая животрепещущий смысл и огромное значение каждой из них. Затем с почтительным поклоном и видом, выражающим величайшую готовность исполнить в точности заказ, спешит на кухню и с порога кричит громко, чтобы повар услышал его сквозь шипение сковородок, стук ножей и грохот кастрюльных крышек: «Сенька! Антрекот-раз!»
Это выражение — «Антрекот — раз!» — было излюбленным определением Мейерхольда. Оно бытовало и в доме Гарина и Локшиной.
Так вот, окинув пристрастным взглядом тот сборник, уже готовый к печати, я тихо произнес про себя: «Антрекот — раз!»
6 Книга о Гарине виделась мне не очередным изделием, помещаемым по раз и навсегда отработанному ритуалу в специально отведенную ячейку «колумбария» исторической и культурной памяти.
Коллеги Гарина, включая такие непререкаемые для меня авторитеты, как Ф. Раневская, Л. Трауберг, И. Ильинский, в один голос говорили: «Такого второго артиста, как Гарин, не было и не будет». А Леонид Захарович Трауберг, ссылаясь на свой опыт общения с интеллектуальными, так сказать, сливками двадцатого столетия, заметил: «Не только по грандиозности и уникальности творческого дара, но также и по своеобразию чисто человеческому, личностному, по той оригинальности, с которой Гарин выражал свои мысли, он сопоставим разве что только еще с двумя современниками — Д. Шостаковичем и В. Шкловским».
Я стал добиваться увеличения объема и сроков работы над книгой. Едва я преуспел в этом, рухнула советская издательская система со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Между тем книга пополнилась новыми материалами. Большая часть воспоминаний была написана специально для настоящего сборника. И хотя некоторые из них, за длительностью срока работы над книгой, были опубликованы в различных изданиях, в такой подборке и полноте они предстанут перед читателем впервые.
Мною были заново просмотрены и отобраны для издания сотни гаринских писем, найдены новые иконографические материалы, некоторые из них публикуются впервые. Биографическая хроника из сухого перечня событий превратилась в документальный рассказ — портрет нашего героя, собранный как мозаика из многочисленных источников.
Книга ждала своего часа. За два с лишним десятилетия она перевидала множество редакторов, рукопись переходила из одного издательства в другое, до тех пор, пока этим проектом не заинтересовалась главный редактор Издательского дома «Искусство» Е. С. Хохлова. Во многом благодаря ей и директору издательства Г. Ш. Ерицяну книга выходит в свет.
Я надеюсь, что она не разочарует тех, кто захочет ее прочесть и — что не менее важно — посмотреть. Ведь помимо того, что книга эта позволяет подробно познакомиться с Гариным известным и неизвестным, она вводит в культурный и научный оборот ряд фактов, деталей, изобразительных материалов, касающихся такой важнейшей сферы исследований — культурологических, кино- и театроведческих, — как отечественное искусство двадцатых-тридцатых годов. Не говоря о неожиданных и в высшей степени интересных заметках психологического, социального и эстетического толка, сделанных зорким, тонким и пусть субъективным, но всегда честным и принципиальным наблюдателем — Эрастом Гариным.
Не стоит удивляться резкому перепаду гаринских мнений, противоречивости суждений, относящихся к одному и тому же явлению или персоне. Эта противоречивость была им самим хорошо осознана и признана неизбежной. В одном из писем к сестре по поводу премьеры своего спектакля Гарин писал: «Пока нравится, потом будет видно. Искусство вообще темное дело…»
Даже в случаях, когда Гарин, как нам кажется, явно не прав, ему нельзя отказать в искренности, темпераменте и убедительности. Все эти свойства, присущие Гарину от природы, включая его максимализм, откристаллизовались в нем, несомненно, под влиянием Мейерхольда. Так же как и те высокие критические мерки, с которыми Гарин подходил к оценке людей и произведений искусства. Известная бранчливость, которая в гаринских письмах порой кажется чрезмерной, была вызвана горячим сопереживанием всего происходящего в сфере его интересов. И когда мы видим, что жертвой этой принципиальности порой становится Учитель, то еще раз восклицаем про себя вместе с «поздним» Гариным: «Боже, если бы кто-нибудь показал нам в зеркале наше будущее!»
Некоторые читатели могут быть крайне удивлены теми едкими критическими пассажами в адрес Мастера, которыми начиная с определенного времени изобилуют письма его любимого, что подтверждено всеми мейерхольдовцами, ученика. Я же со своей стороны хотел бы напомнить этим читателям о том поворотном моменте в отношениях Мастера и ученика, о котором всем известно из истории ГосТИМа.
Сыграв на протяжении каких-нибудь нескольких лет три великие роли в трех великих спектаклях Мейерхольда (Гулячкин в «Мандате», Хлестаков в «Ревизоре» и Чацкий в «Горе уму»), Гарин был также решительно отодвинут все тою же рукой, фактически отлучен Мастером от перспективы дальнейшего творческого роста и новых успехов. Роли, о которых он мечтал и которые словно специально для Гарина были написаны (Подсекальников в «Самоубийце», Присыпкин в «Клопе»), отдавались другим артистам. С другой стороны, вынужденные «эволюции» Мастера в бурном водовороте театральной жизни не вызывали энтузиазма у Гарина, всегда презиравшего всяческий конформизм.
Некоторым известна была подноготная этого поворота. Я слышал ее в неоднократно рассказанной Хесей Александровной при мне (и никогда — при Гарине) истории про скандал, который в период наибольшего гаринского успеха закатила Мастеру (он же — муж) Зинаида Николаевна Райх.
После очередного спектакля, когда публика устроила Гарину бурную овацию, оставлявшую в тени Зинаиду Николаевну, с ней случился нервный припадок. «Ты строишь театр для Гарина!» — кричала она Мейерхольду, и крик этот сопровождался потоком бранных слов, которые я не вправе, да и не собираюсь цитировать.
«Самое ужасное, что это случилось при мне, — рассказывала Х. Локшина. — Я как режиссер-лаборант и помощник Мейерхольда находилась в это время в его кабинете, условно граничившем с грим-уборной З. Райх. Видя, что Зин. Ник. распаляется все больше и больше, я подошла к ее столику, подняла 7 с пола приготовленное для умывания ведро с водой и вылила его на голову З. Райх. Это возымело свое действие: она умолкла мгновенно и тут же покинула грим-уборную. Мейерхольд же после паузы покачал головой и с горечью произнес: “Спасибо, Хеся. Вы поступили правильно, пожалели Зину. Меня только вы не пожалели: ведь домой-то с ней идти — мне!”»
Мы знаем, чем кончились отношения Мастера с учеником. Отход Мейерхольда от Гарина, Гарина от Мейерхольда оказался явлением временным. Возвращение же Гарина к Мастеру стало закономерным и бесповоротным. Свидетельство этому — вся дальнейшая творческая жизнь Гарина, его преданность Учителю в период гонений и, наконец, книга воспоминаний Гарина, так им и названная: «С Мейерхольдом».
И еще один урок и одно знание можно извлечь из гаринских писем. Определение, некогда данное Мейерхольдом своему учителю К. С. Станиславскому, оказалось применимым и к самому Мейерхольду. «Одиночество Станиславского» называлась статья Мейерхольда. Читая письма Гарина, мы почти физически ощущаем, до чего одинок был бывший вождь Театрального Октября, давший, по выражению Е. Вахтангова, «корни театрам будущего», до чего чужд левым и правым, непонимаем не только чужими, но и своими!..
Однажды Гарин сделал признание, которое точно сформулировало одну из главных его жизненных и творческих установок. Как-то, когда он был у нас в гостях и мы остались с ним вдвоем — отец вышел из комнаты, — Э. П. обратился ко мне с вопросом: «Знаете, за что я люблю вашего отца?» Я напрягся в ожидании ответа. «В нем есть атмосфера», — произнес Гарин с выразительностью, свойственной только ему, так что последние слова превратились в небольшой, но очень емкий по смыслу и обертонам спектакль.
Письма Гарина в высшей степени одухотворены той неповторимой атмосферой, которая всегда была внутренним содержанием Эраста Павловича. Я надеюсь, что фрагменты писем, отобранные мною для публикации, позволят почувствовать эту атмосферу и читателю.
Гарин оказался однолюбом. Вне мейерхольдовской школы он не мыслил своего пути. («Беспутный святой» — до чего метко назвал его в своих записках Е. Л. Шварц!) Между тем его приглашали в свои труппы чуть ли не все главные московские театры, включая Малый. Я не знаю, что он отвечал на эти приглашения, которые неизменно отклонял. Может быть, что-то вроде того, чем отговаривался, когда ему предлагали вступить в партию: «Спасибо за внимание, но ведь я же — пью…»
Читателю гаринских писем следует также иметь в виду, что их автор, хотя и обладал грамотностью, близкой к абсолютной (несмотря на тройку, которую он имел по русскому языку в рязанской гимназии г-на Зеляторова), принципиально и последовательно игнорировал какие-либо знаки препинания, и я вынужден был взять на себя риск и труд восполнить этот пробел. В случаях купюр, предпринятых мною исключительно из соображений читательского интереса и никогда — цензурных, — 8 сколь бы незначительны ни были эти купюры, они обозначались мною знаком — <…>. Без специальных пояснений оставлены слова, сокращения и выражения: «Мастер», «Сам», «Всеволод», «Вс», «Мэтр», всегда означающие «В. Э. Мейерхольд», равно как и «Мастерица», «Сама», «З. Н.», «Зинаида», «Зина», «Зинка», означающие — «З. Н. Райх».
Написание фамилий унифицировано и сведено к общепринятому. Нами сохранена индивидуальная форма выражений, характерная для Гарина, и во избежание читательских недоумений в случаях, особо к тому располагающих, мы вводим указание — (так у Э. Г.).
По большей части сохранено авторское написание дат. В некоторых случаях под одной датой были написаны, а иногда и отправлены два письма.
Имена и названия, встречающиеся в письмах не один раз, комментируются лишь при первом упоминании.
Сравнительно небольшие фрагменты из писем Э. Гарина были опубликованы (в большинстве случаев — мною) в разные годы в разных изданиях («Независимая газета», «Искусство кино», «Газета», «Московский наблюдатель», «Киноведческие записки» и др.).
Данная публикация подготовлена специально для настоящего издания и является наиболее полной.
За рамками этой книги остались письма Э. Гарина к Х. Локшиной, написанные в пятидесятые и шестидесятые годы. Они будут опубликованы в одном из ближайших номеров «Киноведческих записок».
Как всегда бывает при работе над материалом такого рода, о каких-то фактах и деталях, важных для биографии нашего героя, узнаешь в последний момент, когда книга должна уйти в типографию.
Так, для биографической хроники Э. Гарина были бы важны сведения, почерпнутые мной из двухтомника А. Введенского, о встрече Гарина, ехавшего на съемки в Мариуполь летом 1932 года, в Курске с художником С. Гершовым, отбывавшим там ссылку вместе с поэтами А. Введенским, Д. Хармсом и художницей Е. Сафоновой — впоследствии Э. Гарин привлекал ее к работе в своих театральных постановках (см. об этом подробнее: А. Введенский. Т. 2. С. 182 – 183. М., «Гилея», 1993).
В конце семидесятых годов Э. П. Гарин и Х. А. Локшина выразили пожелание передать мне свой немалый архив («Если, конечно, тебе это интересно», — деликатно прибавила Х. А.). Как досадовал я на то, что страшная стесненность жилищных условий не позволила мне воспользоваться этим предложением!
Архив еще при жизни Э. П. Гарина и Х. А. Локшиной в большей своей части был передан в ЦГАЛИ (ныне РГАЛИ) — он насчитывает около тысячи единиц хранения.
Теперь мне хочется выразить горячую благодарность директору РГАЛИ Т. Н. Горяевой, его сотрудникам Г. Ю. Дрезгуновой, И. Ю. Зелениной и Е. А. Гаспаровой за помощь, оказанную мне во время работы в архиве.
Я признателен за содействие дирекции Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина и его сотрудникам Н. Макаровой и Н. Зайцевой; директору библиотеки СТД В. П. Нечаеву и сотрудникам библиографического отдела библиотеки СТД.
Председатель Рязанского киноклуба А. Никитин помог в розыске мест, связанных с жизнью нашего героя на родине, и прислал мне их фотографии, за что я выражаю ему признательность.
Хочу также поблагодарить за ценные советы, полученные мною за долгие годы работы над книгой, Н. И. Клеймана, Л. А. Ильину, С. К. Никулина, М. Е. Нейман, И. Н. Соловьеву.
Наконец, не могу здесь не назвать с благодарностью еще одно имя — Марии Алексеевны Валентей-Мейерхольд. Она была другом семейства Э. Гарина — Х. Локшиной, очень дорожила этой дружбой и делала все, от нее зависящее., для того, чтобы выход этой книги стал реальностью.
Моя особая благодарность — за терпение и высочайший профессионализм — редактору этой книги В. В. Забродину (он является также автором многих примечаний к письмам) и художнику А. А. Семенову, разделявшему со мной труды и надежды в течение долгих лет, которые скрашивала мысль, высказанная Учителем учителей Яном Амосом Коменским: «Пусть никому не будет позволено издавать книги поспешно и преждевременно; наоборот, все должны привыкнуть оформлять и переоформлять свои труды, работать над ними и перерабатывать их так долго, пока каждая изданная книга не будет отвечать нормам гармонии и согласованности. Что быстро возникает, то быстро и погибает; над чем долго и точно трудятся, то переживает века».
Андрей Хржановский
9 БИОХРОНИКА
11 1902
28 октября (10 ноября).
- Рязань. В семье лесничего Павла Эрастовича Герасимова и Марии Михайловны Герасимовой, урожд. Гариной, родился сын Эраст Павлович Герасимов (сценический псевдоним Гарин).
«А знаете, что больше всего мне запомнилось с детства? Собственно, стой поры я себя и помню, а было мне тогда три года. Окна одной из комнат выходили на улицу, а напротив нас помещался часовой магазин. За большой стеклянной витриной стояли часы, много разных часов. Мерцали стрелки. Качались маятники. Я ужасно любил стоять у окна и смотреть на эти часы. Это был как бы мой собственный, немного волшебный мир. И вдруг однажды — помню как сейчас — хлынула по нашей улице толпа, ударила по витрине камнями, палками. Прямо по моим любимым часам. Посыпалось стекло… Меня, конечно, сразу уволокли от окна. После уж я узнал, что это был погром».
Ю. Богомолов, М. Кушниров. Эраст Гарин. — В кн.: Комики мирового экрана. М., «Искусство», 1966. С. 132.
1910 – 1917
- Учится в рязанской гимназии. Посещает спектакли Рязанского городского театра. Сильнейшее впечатление получает от искусства знаменитых артистов — П. Н. Орленева, братьев Адельгейм.
«В понедельник 20-го ходили на “Кабирию”, а мама ходила еще на “Мартинику”. Во вторник 21-го застрелился Сема Европин, ученик IV класса. Купил “Макарони”. Двоек набрал порядочно».
«Учиться стал очень хорошо. Двойки только по алгебре, франц., нем., латыни, истории, но я все-таки начал исправляться».
«Сценарий на тему Григория Распутина не пиши, уже написан и поставлен у Либкина»:
«Я весь день шатаюсь, на меня что-то не найдет никак настроение учить уроки. Почти каждый вечер хожу в городской театр».
Из писем сестре Татьяне. Осень 1916 – март 1917. — РГАЛИ, ф. 2979, оп. 1, ед. хр. 257.
«Все началось с кино. Я учился в гимназии с сыном хозяина нашего рязанского иллюзиона. Этот сынок что делал — он ножницами 12 отхватывал от папиных лент метр-полтора (как так можно было — не знаю…). Эти куски попадали ко мне, и я крутил их через свой детский аппаратик домашним — маме, сестре… Я был тогда в третьем классе рязанской гимназии господина Зеляторова…
А какой цирк приезжал к нам в Рязань! Прелесть что за цирк!.. И театр тогда у нас в Рязани был отменный».
Мастер и ты. Рассказано самим Эрастом Гариным нашему корреспонденту Виктору Славкину. — «Смена». 1972, № 1.
«Времена империалистической войны собрали в Рязань очень хорошие актерские силы. Видели великих гастролеров. Я был поражен талантом Павла Орленева. Сила воздействия этого актера мощна и неотразима… Приезжали братья Адельгейм, актеры, обладавшие высокой культурой и абсолютной техникой».
Э. Гарин. С Мейерхольдом. — М., «Искусство», 1974. С. 6.
Лето 1917 г.
- Оканчивает 6-ю трудовую школу (бывш. гимназию).
«В Песочне дом разгромили начисто. Осталось только пианино да несколько мягких кресел. Папа переводится в Рязань. Все твои книги пропали. Пропал и мой велосипед».
«Я приехал последний раз посмотреть Песочню. Все твои книги, которые остались, испачканы грязью и разорваны».
«Вчера ходил в кинематошку “Деа”. Смотрел революционную картину “Жизнь и смерть лейтенанта Шмидта”. Такая дрянь, что дальше некуда ехать».
«Вчера пошел смотреть продолжение картины “Маска, которая смеется”, но у театра за билетами стоял “хвост”, и я не пошел в “Деа”, а зашел в “Дарьялы”, смотрел карт[ину] фирмы “Биофильм” “Куртизанка и Рыбак”. Таня! Фирма “Биофильм” предлагает написать сценарий на конкурс. Прием до 15 января. Пиши! Вознагражд[ение] от 250 руб. до 5000 р. В гор[одском] театре “Женщина и паяц”. Ну, пока. Эраст».
«Всесословное собранье больше не существует. Теперь “Республиканский клуб”. Там играет Рыков со своими артистами и гастролером Соловцовым. Большей частью там фарсы и комедии».
Из писем сестре Татьяне. Осень – зима 1917. — РГАЛИ, ф. 2979, оп. 1, ед. хр. 257.
- Вступает в труппу Рязанского городского театра. Первые роли: Рабочий («Враги» М. Горького); Лакей («Мадам Сан-Жен» В. Сарду); Прохожие («Дни нашей жизни» Л. Андреева).
«Я сам в то время уже играл. В спектакле “Мадам Сан-Жен”. Классическое “Кушать подано!” произносил и еще разных гостей объявлял. Но роль со словами мне дали не сразу…
Где-то летом семнадцатого года пришел я к Николаю Афанасьевичу Листову, он руководил нашим городским театром, пришел просто так, с улицы (мне было пятнадцать лет…). “Хочу к вам в статисты”, — говорю. Взяли. И назначили выходить рабочим в горьковской пьесе, название запамятовал. Вот я сейчас хочу вспомнить, что я чувствовал, впервые появившись на сцене… Перепугался! Больно много людей смотрело на меня. Хотя, если разобраться, я и виден никому не был. Меня заслоняла толпа таких же рабочих, что и я. Но не совладал с собой до конца спектакля, так и пошел домой на мягких ногах. А вот уже в “Сан-Жен” я освоился. Даже сестре понравился (а сестра моя была театралка, выписывала “Театр и искусство” Кугеля). Она только сказала: “Что-то грим у тебя дурацкий, под Вертинского”. А Вертинский тогда был Пьеро. И я себе тоже 13 такие незаконные бровки высокие устроил (незаконные для образа лакея). Модно было. К моему увлечению театром мать отнеслась индифферентно…
Вскоре я в одном журнале прочел одноактную пьесу Осипа Дымова “Его система”. Мне пьеса понравилась, и я решил репетировать ее с моими одноклассниками по гимназии».
Мастер и ты. — «Смена». 1972, № 1.
«Свободу, легкость и даже радость ощутил я в водевиле Дымова “Его система” в роли профессора, который лечит гипнозом от пьянства студента, сам находясь под сильными “парами”…
В “Днях нашей жизни” Л. Андреева в Рязанском городском театре я изображал прохожих. Это была моя первая актерская трансформация. Изображал я человек девять, меняя костюмы, походку, ухватку и гримы».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 5, 7.
«На вопрос: “Как вы стали артистом?” — Э. П. Гарин дал однажды такой ответ: “Видимо, в этом "виновата" революция. Я вспоминаю сейчас, что после февральской революции, а тем более после Октябрьской, люди как-то сразу ощутили в себе ранее дремавший запас творческих сил. Революция воспринималась нами, молодежью, как огромное празднество. При каждом профессиональном союзе был свой клуб и обязательный драмкружок. И все, решительно все играли”».
И. Левшина. Эраст Гарин. — «На экранах Подмосковья». 1960, 25 июня.
1918
- Служит в Рязанском городском театре.
«В Рязани, черт возьми, открывается кабаре “Друзья театра” и вход 10 руб. В программе лубки и еще какая-то ерунда, я жду, пока подешевеет, а то рискну и пойду. Начало в кабаре в 12 часов ночи. Кабаре помещается в фойе городского театра. Потолок и стены разрисованы розами и устроена маленькая сценка».
«Я теперь стал театралом».
Из писем сестре Татьяне. Февраль 1918. — РГАЛИ, ф. 2979, оп. 1. ед. хр. 257.
1919
- Приезд в Рязань артистки МХТ С. В. Халютиной для работы над спектаклем «Горе от ума». Ее рассказы о принципах работы Станиславского над ролями и над пьесой «послужили материалом для упражнений, дум и горячих споров».
- Вступает добровольцем в ряды Красной Армии.
- Участвует в качестве актера и режиссера в спектаклях красноармейской художественной самодеятельности.
- Знакомится с поэзией В. Маяковского.
«Ни один дивертисмент не обходился без чтения только что появившегося “Левого марша” Маяковского. Его “Приказы по армии искусств” были у всех на слуху. Ритмы Маяковского воспринимались как единственная и неопровержимая аксиома поэзии времени».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 5.
Октябрь.
- В составе Рязанского гарнизонного самодеятельного театра Гарин приезжает в Москву.
1920
- Гарин — актер Первого самодеятельного театра Красной Армии под руководством Виктора Жемчужного. Участвует в спектакле «Сбитенщик» Я. Княжнина, постановка В. Жемчужного (роль Болтая).
- Посещает спектакль «Зори» Э. Верхарна в Театре РСФСР 1-й (постановка Вс. Мейерхольда и В. Бебутова).
- Слушает лекции Н. М. Фореггера по истории и технике театра.
«Бегали по театрам. Смотрели во все глаза. Слава богу, было что посмотреть! Современным молодым людям трудно поверить, но тогда (с 1917 по 1920 год) в полуголодной Москве существовало 94 театра… Когда мы побывали у Мейерхольда на “Мистерии-буфф”, нам, самодельщикам, показалось, что мы 14 с неба свалились. Открытая сцена без занавеса, нагромождение разноцветных плоскостей, кубов, лесенок — все это поразило нас. Кроме спектаклей надо было успевать на театральные диспуты. Таиров нападает на Мейерхольда, Мейерхольд нападает на Таирова. И все это в присутствии огромной аудитории. Где вы видели, чтобы два знаменитых режиссера сражались публично, а зрители сидели как бы на футболе и судили, кто кого? Это был театр, я вам скажу! Мейерхольд приходил на такие диспуты в красной феске. А как говорил!..
Я благодарен судьбе, что использовал молодые годы для того, чтобы накопить впечатления, и театральные и жизненные, которые потом всю жизнь были моим золотым фондом. Конечно, мне повезло: было что накапливать…
В годы моей юности нас окружало столько интересного, что мы забывали о хлебе, и это было очень кстати — питались мы ничем…»
Мастер и ты. — «Смена», 1972, № 1.
1921
- Работает под руководством Н. М. Фореггера над ролью Фирюлина в сатирической комедии Я. Княжнина «Несчастье от кареты».
- Участвует в представлениях-концертах с программами «Живых газет» в составе Окружного самодеятельного театра Красной Армии («ОСТКА»).
- Представление «Сбитенщика» посещает В. Э. Мейерхольд.
«В доме 53 по Арбату, в котором жил А. С. Пушкин после женитьбы (об этом мы тогда еще не знали), был оборудован чистый и уютный зрительный зал мест на 250. В этом зале и состоялось первое представление “Сбитенщика”.
Перед началом одного из спектаклей, который мы играли на Арбате, вдруг прошел слух: к нам едет Мейерхольд…»
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 18 – 19.
«После просмотра Владимир Михайлович Бебутов, тоже бывший на спектакле, спросил, указывая на меня: “А это, наверное, профессиональный актер?” Я покраснел от счастья. Но это еще не все. Уходя, Мейерхольд сказал прямо мне: “Учиться надо, молодой человек, учиться. Мы скоро режиссерские курсы открываем, поступайте…”»
Мастер и ты. — «Смена», 1972, № 1.
Май.
- Посещает спектакль «Мистерия-буфф» В. Маяковского в Театре РСФСР 1-й (постановка Вс. Мейерхольда и В. Бебутова).
«Все было необычно, все было ново: и ритмы стиха, и ритмы спектакля. Если другие театры показывали уцелевшие от прошлого достижения, то этот театр впервые показывал новое».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 22.
Ноябрь.
- Посещает спектакль 3-й студии МХТ «Чудо святого Антония» М. Метерлинка (постановка Е. Вахтангова).
«Этот спектакль — одно из самых больших моих театральных впечатлений. По силе сатирических штрихов в обрисовке характеров действующих лиц — это Домье».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 22.
15 - После закрытия самодеятельного красноармейского театра подает заявление в ГВЫРМ1.
«И я стал поступать. И поступил. Вот это, пожалуй, и было настоящим началом. Я не знал своего будущего, но весь прошлый путь — от горьковского рабочего до Болтая… — представился мне путем к Мастеру, к Мейерхольду. Это счастье, что я встретился с ним тогда и прошел с ним свои лучшие театральные годы…
Всеволод Эмильевич больше всего заботился о нашем широком образовании. Он перетаскал к нам в мастерскую всех интересных людей, которыми изобиловала тогда Москва. Все знаменитости были у нас! Одни читали нам лекции, другие приходили просто побеседовать, вместе с третьими устраивали диспуты. Причем в этих диспутах все — и студенты, и мэтры — спорили на равных. Всеволод Эмильевич никогда не говорил в ответ на наши по-юношески резкие суждения: “Но, но… Вы сначала поживите, поиграйте, а потом потолкуем”. Никогда так не говорил!..»
Мастер и ты. — «Смена», 1972, № 1.
1 ГВЫРМ — Государственные высшие режиссерские мастерские, в 1922 г. переименованные в ГВЫТМ (Государственные высшие театральные мастерские), затем в ГЭКТЕМАС (Государственные экспериментальные театральные мастерские).
- Параллельно с занятиями в ГВЫРМе на сцене театра в Золоторожских казармах ставит спектакль «Игра интересов» Х. Бенавенте и играет в нем роль Криспина. В том же театре играет роли Лешего в «Потонувшем колоколе» Г. Гауптмана и Барона в «На дне» М. Горького.
- Продолжает учебу у В. Э. Мейерхольда в Государственных высших театральных мастерских.
16 «Когда я занимался на некоторых уроках биомеханики просто упражнениями, у меня была некоторая способность отставлять зад, и Вс. Эм. обыкновенно говорил: “Это на третье курсе можно пробовать всякие характерные штучки, а сейчас будь любезен, сделать это так, как делают все”».
Э. Гарин. Из выступления на конференции по творческому методу ГосТИМа 8 июня 1933 г., Харьков.
«Начальные упражнения по биомеханике ставили перед учеником комплекс задач полного овладения актерским материалом, то есть своим телом. От нас требовалась ясность точность ощущения своего тела в пространстве, движение с осознанным центром, осознание жеста как результата движения даже в статическом состоянии».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 35.
«Часто на тренировочных занятиях по ритмической гимнастике, танцу или акробатике в зале появлялся Мейерхольд Он входил в дверь в зеленой солдатской шинели…
17 Садится в полукруглой, вогнутой внутрь изразцовой печке, потягивал махорочную самокрутку (ему единственному разрешалось курить) и смотрел на нас, как бы изучая каждого.
Таким он и запомнился мне, одиноко сидящим у кафельной печки бывшего особняка бывшего адвоката-златоуста Плевако.
Он наблюдал за своим выводком.
Был он похож на серого доброго волка. Серые глаза, серые волосы, серый френч.
Глаза пристально изучающие, добрые и холодные…»
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 34.
«Помню, как на одном из занятий сидевший у печки Мейерхольд вдруг встал, резким движением сбросил шинель и, выйдя на середину зала, показал нам этюд из репертуара итальянского актера Джузеппе Грассо. С поразительной легкостью Всеволод Эмильевич прыгнул на грудь стоявшего перед ним ученика и воображаемым кинжалом перерезал ему горло. Так началось наше знакомство с биомеханикой».
Э. Гарин. В фильме «Портрет Дориана Грея…». — «Театр», 1974. № 2. С. 48.
1922
- Вместе с другими студентами ГВЫТМа участвует в подготовке спектакля «Нора» Г. Ибсена в Театре Актера (постановка Вс. Мейерхольда).
«Это был беспощадный, революционный акт, эстетический расстрел ушедшего».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 46.
- Посещает репетиции «Великодушного рогоносца» Ф. Кроммелинка (постановка Вс. Мейерхольда) в Театре Актера.
«Для меня эта работа, хоть я и не участвовал в ней, была очень важна. “Великодушный рогоносец” всех нас наполнил радостной уверенностью в том, что путь, по которому ведет нас Мастер, верен, созвучен времени и сулит неограниченные возможности».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 53.
- Сдает экзамены по классам движения и слова на первом курсе ГВЫТМа.
«Мне запомнился этот экзамен <…> как хорошо сыгранная роль. <…> Эта сдача экзамена по слову была моим первым актерским успехом в школе».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 54 – 55.
«Помню на уроках в ГВЫТМе худенького юношу Эраста Гарина. Взобравшись на лесенку босиком, в синей косоворотке и обращаясь через окно в небо, он читал с потрясающей тоской “Исповедь хулигана” Сергея Есенина. <…> В исполнении Гарина обнажалась трагедия Есенина. Юноша актер начисто снимал обывательское снисходительное отношение к русому поэту из рязанской деревни, опровергая, будто о нем можно судить мелкой мерой».
Х. Херсонский. Страницы юности кино. — М., «Искусство», 1965. С. 95.
- Исполняет роль Ванечки в спектакле «Смерть Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина (Театр Вс. Мейерхольда, постановка Вс. Мейерхольда).
«Я <…> получил свою первую роль: Ванечки-мальчика из породы “крапивное семя”. Таким образом, уже второй курс приобщил нас к практической работе на сценической площадке. <…>
Несмотря на ряд крупных актерских достижений, постановка эта не стала удачей театра. <…> И в то же время во мне жило и живет до сих пор то наслаждение, которое я получал в процессе репетиций, от каждой сцены, от бесчисленных находок, режиссерских и актерских. <…> Теперь, по прошествии почти пятидесяти лет, я думаю: какой же чистотой и молодостью души нужно было обладать художнику, пережившему поражение революции и мракобесие реакции после девятьсот пятого года, чтобы после Октября вдохновиться на такой поистине ребяческий, оптимистический, дерзкий замысел: смотрите, какими темными бывают люди, каких чертей могут придумывать, чтобы отяжелить жизнь. А смотрите, какие мы, актеры, ловкие, здоровые, веселые. Деремся мы бычьими пузырями и трещотками — это громко, но не больно».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 59, 61.
18 1923
- Исполняет роль Повара в спектакле «Земля дыбом» («Ночь» М. Мартине в переработке С. Третьякова). Театр Вс. Мейерхольда.
«Сергей Третьяков был первым поэтом-драматургом, с которым познакомился наш коллектив. <…> Новые ритмы, острота их зазвучали при создании Мейерхольдом одного из первых спектаклей агитационного театра».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 61.
- Участвует в общественных показах студенческих работ.
«18 марта, в день Парижской коммуны, в Театре Вс. Мейерхольда состоялись два спектакля пьесы “Парижская коммуна” — утром для студентов Свердловского университета и вечером для студентов Коммунистического университета трудящихся Востока. <…> Постановщики (Гольцева и Лойтер) исходили из принципа Мейерхольда — разбить аудиторию на две части. Поэтому они отметили один момент в истории Коммуны, обычно остающийся в тени: нерешительность и бездействие Совета Коммуны, представленного как группа говорунов и хорошо исполненного, в плане гротеска, студентами Гариным, Кельберером, Темериным и Экком».
Альский. «Парижская коммуна». — «Зрелища», 1923, № 30.
«Теперь театральные новости. <…> Айзенштейн (Эйзенштейн. — А. Х.), Кельберер и я на днях организовали “Бе бе бе” (Бродяче-бульв[арный] балаг[ан]) и с мая месяца, по всей вероятности, начнем с Тверского бульвара. Мейерхольд ничего против не имеет. Это, кажется, самое знаменательное событие на “загнивающем театральном болоте”. <…> В Гвырме начались зачеты. Сдал только по веществ[енным] элем[ентам] спектакля по классу Поповой».
Из письма сестре Татьяне. 2 апреля 1923. — РГАЛИ, ф. 2979, оп. 1, ед. хр. 257.
19 - Переходит в Первый Рабочий театр Пролеткульта, которым руководит С. Эйзенштейн. Исполняет роль Городулина в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» по пьесе А. Н. Островского.
- Исполняет роль Префекта полиции в спектакле «Слышишь, Москва?» С. Третьякова (Первый Рабочий театр Пролеткульта, постановка С. Эйзенштейна).
1924
- Участвует в спектакле «Противогазы» (Первый Рабочий театр Пролеткульта, постановка С. Эйзенштейна). Первые три спектакля шли в помещении Газового завода, затем спектакль был перенесен на сцену.
- Посещает спектакль «Лес» в Театре Вс. Мейерхольда. Под впечатлением от этого спектакля решает вернуться в школу и Театр Вс. Мейерхольда.
«Спектакль явился той трибуной, которая заставляет задуматься о целом ворохе вопросов, начиная с социальных и кончая специально театральными… “Лес” был угаданной неожиданностью, <…> внезапным ударом по “привычному” театру. <…> “Лес” был рождением нового стиля спектакля, <…> итогом упорных поисков Мейерхольда в области нового реализма. Спектакль с огромной силой воздействовал не только на зрителя, но и на всю театральную жизнь».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 88 – 89.
Май-июнь.
- Принимает участие в гастрольной поездке ТИМа в Ленинград.
«Вчера на пароходишке ездил на острова. Питер мне начинает нравиться — знаменитые места здесь и все сплошь великие: повернешься — дворец — обернешься — убили Александра II-го, Медный всадник, улицы, по которым ходил Раскольников».
Из письма сестре Татьяне. — РГАЛИ, ф. 2979, оп. 1, ед. хр. 257.
15 июня.
- Ленинград. Премьера спектакля Театра Вс. Мейерхольда «Д. Е.» («Даешь Европу!») М. Подгаецкого по мотивам произведений И. Эренбурга и Б. Келлермана, где Гарин исполняет несколько ролей: семь изобретателей (трансформация), Поэт, лорд Грей и др.
«Я постепенно стал входить в спектакли мейерхольдовского театра. Роли у меня были маленькие. Но зато я играл по нескольку в каждом спектакле. В “Земле дыбом” — две; а в “Д. Е.” — целых десять, в том числе и роль трупа, это потому, что я тогда был изящный, мало весил и носить меня по сцене было легко».
Мастер и ты. — «Смена», 1972, № 1.
«Для того чтобы зрители знали, что всех семерых изобретателей играет один актер, Мейерхольд распорядился в одном из движущихся щитов, оформлявших этот спектакль, проделать огромное четырехугольное отверстие. В эту дыру зрители видели кухню трансформации. <…> Мгновенные перевоплощения были эффектны, а когда седьмой изобретатель оказывался женщиной, зрители принимали это восторженно и шумно. Мейерхольд для этого случая научил меня цирковому “комплименту”: я выбегал “на поклон” и поднимал вверх ручки с изяществом балерины, поворачиваясь то к правому, то к левому бельэтажу».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 92, 102.
«Эффекты, достигнутые в “Д. Е.”, поразительны. <…> Здесь театр бросает дерзкий вызов кинематографу и с редкой силой передает напряженность и стремительный темп нашей современности. <…> Трудно перечислить все увлекательные моменты; отметим замечательную трансформацию Гарина в семи различных обликах».
А. Гвоздев. Постановка «Д. Е.» в Театре имени Вс. Мейерхольда. — «Жизнь искусства», 1924, № 26.
«Где, в каком другом театре <…> какой драматический актер, набивший руку на исполнении “пиджачных” пьес, сумеет дать настоящую трансформацию вроде той, что дает молодой актер Гарин в 1 эпизоде “Д. Е.”, исполняя 7 ролей в течение 10 минут?..»
С. Мокульский. Переоценка ценностей. — «Театральный Октябрь». С. 16 – 17.
- Руководит Краснопресненским клубом комсомола. Ставит в нем «Десять дней, которые потрясли мир» по книге Дж. Рида.
3 июля.
- Участвует в спектакле «Д. Е.» для делегатов V конгресса Коминтерна. Спектакль прошел с триумфальным успехом.
- Руководит театральным самодеятельным коллективом Кабельного завода.
«10 августа в Центральном клубе Бауманского района был устроен вечер, посвященный десятилетию империалистической войны. Драматическим кружком <…> была представлена инсценировка в 15 эпизодах на тему “Мировая война с точки зрения сегодняшнего дня” по сценарию и в постановке т. Гарина (Театр Мейерхольда).
20 Все эпизоды имели характер отдельных картин-фотографий: <…> фокстротная оборона, меньшевики за войну, “пишет, пишет царь германский”, быт верхов, окопы и др. … Некоторые эпизоды… “Подлохим” — с удушением коммуниста под вороний хохот фашистов, “Восстание” — с неудавшимся расстрелом солдата при взлете ракет, “Женский батальон”, который после команды “оправьсь” припудривается, — сделаны удачно и интересно».
Пополнев. Инсценировка «Мировая война». — «Правда», 1924, 15 авг.
«Я играл маленькие роли, но у меня начисто отсутствовал комплекс неполноценности. Я знал, что играю именно то, что мне написано на моем актерском роду, чувствовал, что в каком-то таинственном блокноте Мастера уже вычерчена кривая моей актерской судьбы и, когда ветвь этой кривой станет восходить, Мастер позовет меня. Так и случилось…»
Мастер и ты. — «Смена», 1972, № 1.
- Вс. Мейерхольд поручает Э. Гарину главную роль — Павла Гулячкина в пьесе Н. Эрдмана «Мандат».
«В этот момент моей биографии произошла встреча еще с одним человеком, сделавшим из меня — меня. Николай Робертович Эрдман. Он здорово читал свою комедию. Была какая-то актерская тайна в его чтении. <…> Но, что самое удивительное, внезапно обнаружилось, что мы очень похожи с Эрдманом и внешне, и голосами, и манерой говорить. Потом к нему даже подсаживались в поездах, спрашивали: “Не вы ли Гарин будете?..”»
Мастер и ты. — «Смена», 1972. № 1.
«Началось это так. У лестницы, ведущей за кулисы, я встретил Мастера, он медлил с уходом, ожидая кого-то. — Гарин! Ты будешь играть Гулячкина!
— Что вы, Всеволод Эмильевич, она очень большая. (“Она” — это роль Гулячкина.)
— Да-да, будешь играть!..
До этого разговора я играл небольшие роли. <…> Встреча с Мастером на лестнице взволновала меня до предела».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 103.
«Он (Мейерхольд. — А. Х.) говорил о Гарине в роли Гулячкина в “Мандате”: “Я прямо влюблен в Гарина. И утром, когда встаю, и днем, что бы ни делал, все думаю и мечтаю, как буду ставить сцену Павлуши Гулячкина. <…> Если бы не он, Гарин, играл Гулячкина, не такой бы заварился и спектакль! Именно ему свойственная острая характерность заставляла меня, режиссера, так, а не иначе повернуть весь спектакль”.
Несколько дней спустя Зинаида Николаевна Райх мне подтвердила, что Всеволод Эмильевич очень высоко ценит Гарина и что она даже ревнует, потому что Всеволод Эмильевич, ставя “Мандат”, прежде всего говорит о Гарине и меньше о ней как об исполнительнице роли Варвары Гулячкиной. “И вообще, — сказала З. Н. Райх, — Мейерхольд прочит ему большое будущее и носится с ним, потому что у Гарина, по его мнению, такая благодарная актерская природа, что он может играть и острохарактерные роли, и героев во фраке, в цилиндре, с моноклем, и обаятельных любовников”».
М. Суханова. Искусство преображения. — В кн.: Встречи с Мейерхольдом. М., ВТО, 1967. С. 433.
«… Вдоль Новинского бульвара с грохотом и лязгом мчится трамвай. Худой высокий юноша, отделившись от группы людей, с которой он шел, смело и ловко прыгает на ходу в вагон и задорно машет рукой.
— Все целеустремленно и точно! — с восхищением говорит В. Э. Мейерхольд стоящему рядом В. В. Маяковскому. Они едва опомнились от этого неожиданного прыжка. — Ведь малейший просчет, и парень оказался бы под колесами… Хотя просчета у него быть не может! Великолепная координация движений!..
— Кто этот озорной телок? — сумрачно спрашивает Маяковский.
— Гарин. Актер моего театра. Дьявольски талантлив. Комик. Острый, злой… Далеко пойдет».
М. Померанцев. Молодость творчества. — «Сов. экран», 1962, № 22.
«А как поучительны и упоительны были репетиции Мейерхольда с Гариным! Показы Мейерхольда были всегда блестящи, но они никогда не готовились в стенах кабинета, а рождались тут же, на сцене, и всегда их подсказывала индивидуальность актера. Мейерхольд угадывал то, что только намечалось актером, и давал этому точную форму. Он всегда ценил, поощрял актера, который не просто копировал предложенный режиссером блистательный рисунок, а добавлял что-то свое. Так всегда и бывало с Гариным, как, впрочем, и со всеми наиболее талантливыми актерами: репетиции становились как бы процессом взаимообогащения. Следить за ними было истинным наслаждением… Изумительная музыкальность Гарина, предельно точный графический рисунок роли и наполненность внутреннего состояния 21 заражали его партнеров. Мы невольно, часто неосознанно, начинали стремиться к совершенству гаринского исполнения: рядом с ним становилось стыдно за неряшливость внешнего рисунка и за пустоту содержания».
Е. Тяпкина. Из воспоминаний о Э. Гарине. Рукопись.
«Мейерхольд с его пронзительным чутьем ко всему истинно талантливому и своеобразному узрел в первокурснике Гарине, пришедшем к нему учиться из красноармейской самодеятельности, идеального артиста нового склада, о котором мечталось ему».
Л. Арнштам. Вечный поиск. — «Сов. экран», 1974, № 16.
«Когда <…> мы получили роли “Мандата”, мы столкнулись со словом, столь искусно организованным, с пьесой, построенной по всем правилам драмописи, пьесой, хотя и говорящей о людях, “которых даже арестовывать не хотят”, но все же живущих вместе с нами, — естественно, мы заволновались. Мы получили роли в первой советской сатирической комедии, к тому же мы впервые должны были овладевать жанровым матерьялом, а ведь известно, с какой осмотрительностью относились к вопросу жанра новые театры, да не только театры, а и соседние искусства.
Первым внесением ясности было наше знакомство с макетом спектакля. Макет “Мандата” — это вращающийся круг, разделенный на две движущиеся полосы, круг, во всю сцену перегороженный параллельно рампе фанерной полированной стенкой.
Думать про него можно, что хотите, хотите — это игровое пространство, хотите — это аквариум, где должны плавать люди, “которых даже арестовывать не хотят”, во всяком случае ясно: всё на актере, всё через актера.
Мне в этом спектакле выпала честь играть “партийного человека” Павла Гулячкина. Бережливость к ритмам, принесенным автором, щепетильность при отборе жанровых деталей, гениальные mise en scène сделали образ, где, минуя мусор подножного жанризма, вылупился портрет, настоящий реалистический портрет послеоктябрьского мимикриста, ловко сочетающий мысль, подтекст, слово с четким и выразительным внешним рисунком.
Павла Сергеевича в своей галерее я считаю победной фигурой и играть его люблю.
Погружаясь в эпоху “Мандатных” репетиций, нельзя не сказать о последней неделе перед премьерой. Спектаклей в театре не было. Стулья из партера были вынесены, к сцене из пустого зрительного зала вел помост из досок. Репетиции шли с утра до поздней ночи, поджимаемые львиным темпераментом Мейерхольда. Он выскакивал из-за стола, бежал через зрительный зал, влетал на сцену и… показывал. Показы Мейерхольда — это дело незабываемое и виртуозное. Я из галереи показов помню его зловещий ход, когда под танцевальные звуки Макаровской гармоники Мейерхольд тащил сундук с Иваном Ивановичем к середине сцены, опрокидывал его и вырастал в центре сцены, как бы торжествуя, что отделался от нечисти. (Это концовка III акта, ныне не сохранившаяся.)».
Э. Гарин. Как родился Гулячкин. 1933 г. — РГАЛИ, ф. 963, оп. 1, ед. хр. 159.
«На одной из репетиций режиссер познакомил участников спектакля с эскизами костюмов.
Помню, как оскорбился я, получив рисунок, где Гулячкин изображен в галифе и френче.
— Гарин, ну как ты?
— Это неверный костюм, Всеволод Эмильевич!
Мейерхольд иронически насторожился:
— Что же ты хочешь?
— Я надену брюки. Они у меня есть. Это сукно получила моя сестра в Гублескоме в 1918 году. А пиджак надену своего отца. Он купил его в Берлине в 1907 году, когда ездил оперировать руку. У него была прострелена рука. Фуфайку же нужно грубошерстную!
Изложенная столь курьезно, с обстоятельностью Бобчинского “биография” костюма развеселила Мейерхольда.
— Ты все это надень и завтра приходи так на репетицию!
“Завтра” мой костюм был утвержден Мастером, а эскиз отброшен…
Роль Гулячкина далась мне легко. Я почти сразу овладел авторским ритмом, хотя вовсе не подражал Эрдману. Мне посчастливилось угадать тот, по выражению Гоголя, “гвоздь, сидящий в голове” героя, угадать ту “преимущественную заботу… на которую издерживается жизнь его, которая составляет постоянный предмет мыслей”…»
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 105.
23 1925
29 января.
- Премьера спектакля «Учитель Бубус» А. Файко, постановка Вс. Мейерхольда. Секретарь — Э. Гарин.
20 апреля.
- Премьера спектакля «Мандат».
«Спектакль “Мандат” завершил первое пятилетие театра. <…> Широкий успех имела у зрителей эта пьеса Эрдмана, одна из первых советских комедий. Вечер премьеры стал и моим первым успехом».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 103.
«Гулячкин, его мать, прислуга стали незабываемыми типами. Они выдержаны, в сущности говоря, в строго реалистических тонах».
А. Луначарский. Какой театр нам нужен? — «Комс. правда», 1925, 12 июля.
«Семь лет советская критика (т. Луначарский главным образом) требовала нового реализма и психологизма на театре. Наконец она получила его. Получила оттуда, откуда его никто не ждал. Действительно, кто мог подумать, что из Театра Мейерхольда, театра, казалось бы, апсихологичной социальной эксцентрики, придет новый и нужный стиль — стиль психологического реализма. Между тем этот стиль является неизбежным результатом именно эксцентрического пути Театра Мейерхольда. <…>
И вовсе с этого пути не сходит; даже больше — ему незачем сходить с этого пути; даже больше — только на этом пути возможен подлинный, в частности — современный психологический реализм, то есть правдивый анализ психического состояния персонажа.
Анализировать можно только эксцентрикой. <…>
Только поставив человека в неожиданное положение, вывернув его, можно увидеть темные до тех пор стороны его психики. Так, анализ Достоевского основан на эксцентрике. <…>
Анализ психологии советского мещанства, естественно, требует нового эксцентрического приема. Таким приемом явился метод “преломления”. <…>
Вся жестикуляция Павла — преломление ораторских жестов революции. Да и весь Павел с его выкриками: “Цари — вы мерзавцы” и моментальным впаданием в ужас, с его неистовым ужасом при произнесении фразы: “Я человек партийный” (кстати, прекрасно подчеркнутым Мейерхольдом, который запечатлел ужас Павла, заставив Павла окаменеть на медленно уплывающей сцене), весь Павел — преломление лжекоммуниста. 24 От этой вывернутой психологии, от этого психического разложения целого слоя общества — страшно, и превосходный актер Гарин хорошо это понял, играя Павла почти трагически (особенно 3-й акт). Интересно, что страшное Гарин дает не нервностью игры, как дал бы, скажем, Чехов, но шепотным обращением к зрителю; это — правдивее и страшнее. <…>
Эксцентризм в изображении психических провалов есть лучшее выражение реализма, и постановка “Мандата” это подтвердила. <…>
С постановкой “Мандата” начинается долгожданная эра советского театра — эра реалистическая и психологическая».
Г. Гаузнер и Е. Габрилович. «Мандат» у Мейерхольда. — «Жизнь искусства», 1925, № 19.
«Из этого величественного по своей возвышенной и утомительной нелепице киселя Мейерхольд сумел сделать потрясающую трагикомедию.
Его актеры превосходны: богиня красоты Райх, которая не ходила смотреть в кино теорию относительности Эйзенштейна, потому что ей сказали, что “это не драма, а видовая”: и Гарин-Палсергеич, который теперь “при всяком режиме человек бессмертный”; и Иван-Иваныч — “не мужчина, а жилец”; и Тяпкина-Настька, незамужняя барышня <…> — все они прекрасно играют, перепарывая трамвайный бред Эрдмана в обширную коллизию хронической советофобии».
С. Бобров. «Мандат» у Мейерхольда. — «Жизнь искусства», 1925, № 19.
22 мая.
- Получает письмо от знаменитого норвежского актера Ингольфа Сканки.
«Мой сильный восторг от Вашей игры в “Мандате” вчера вечером заставляет меня Вам писать, и я прошу Вас принять мою благодарность за Вашу сильную личную игру, наполненную внутренним огнем, — признак гения. Благодаря Вашему замечательному исполнению и также чудесной постановке пьесы вечер был для меня богатым и незабвенным событием.
С коллегиальным приветом — Ваш Ингольф Сканка».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 113.
«Я видел действительного человека — Павла Сергеевича Гулячкина — актера Гарина, с изумляющей правдивостью, с изумляющей простотой и действительностью выражавшего на сцене самую страшную основу “никакого” человека…»
Вас. Сахновский. «Мандат» Н. Эрдмана в постановке Вс. Мейерхольда. — «Искусство трудящихся», 1925, № 23.
«В традиции русской сатирической литературы Мейерхольд ощутил трагический пафос разложения мещанства, и в этом именно плане стал строить спектакль. <…> Что касается актеров, то удовлетворяют далеко не все. Бесспорен только Гарин, давший цельного и сочного Гулячкина…»
С. Дрейден. «Мандат». — «Новая вечерняя газ.», 1925, 24 авг.
«Молодой актер Гарин, с огромным умением подающий текст, с величайшей отчетливостью показывающий вереницу быстро сменяющих друг друга психологических моментов при полном владении всем своим телом и общей для всего актерского состава мейерхольдовской системой игры, безукоризненно изображает Гулячкина…»
Н. Верховский. «Мандат». — «Ленингр. правда», 1925, 26 авг.
«Самое главное, в чем отличны теперешние “мейерхольдовцы”, это в том, как они строят сценический образ. Ими руководит эмоциональное задание вызвать в зрительном зале определенную реакцию. Их дело дать максимум сценической выразительности, отточенной и выверенной. <…>
Играющий центральную роль Гулячкина Гарин превосходно демонстрирует очень сложную и броскую подачу слова. Фразы упруго и звонко падают в публику. Самый облик напоминает гадкого утенка. Так нелепо торчит из воротника его свитера длиннейшая шея. Так блаженно патетичен его упоенный жест…»
Н. Волков. «Мандат» (Премьера актера). — «Известия», 1925, 25 окт.
«Уже в отдельных сценических образах первой части спектакля проскальзывало то патетическое увлечение, которое вырывается в третьем акте. Больше всего и убедительнее всего в исполнении Гарина. <…> Образы просвечивают радостью, страданием, гневом и болью. <…> Мейерхольд заставляет актера говорить со зрителем. Монолог Гулячкина обрушивается 25 на зрителя. Потерявшие опору люди-маски обращаются к зрителю “лицом, вывернутым наизнанку”».
П. Марков. Третий фронт. — «Печать и революция», 1925, № 5 – 6.
«Был однажды спектакль, когда Шлепянов замечательно загримировался под парикмахера. <…> Перед главным монологом Гулячкина (“Женщины, мужчины и даже дети”) всегда наступала пауза, все замирало, зал затихал. Гарин говорил монолог откуда-то сверху и начинал его в полной тишине. И в тот раз, пока он взбирался на эту верхотуру, тоже было общее молчание. И вот Гарин открывает рот, а Шлепянов-парикмахер как-то так высунулся вперед и будто бы от непередаваемой сосредоточенности оглушительно и протяжно — наверное, он долго тренировался — шмыгнул носом в общей тишине на весь зрительный зал.
Публика грохнула от смеха, актеры на сцене от неожиданности едва держатся, а Гарину-то главный монолог говорить. Он помолчал-помолчал и бросил Шлепянову громко, во весь голос: “Сволочь!” После этого случая был приказ от Мейерхольда, чтобы <…> главным действующим лицам сюрпризы не устраивать…»
Е. А. Тяпкина. Годы у Мейерхольда. — Вопросы театра. ВНИИ искусствознания. СТД РСФСР. М., 1990. С. 175 – 176.
«Гарин, два с половиной часа заставляющий публику смеяться чуть ли не каждому своему слову, нашел в себе силы довести зрителя до ужаса угрозой “повесить новую вывеску и торговать под нею всем, что есть дорогого на свете”».
И. А. Аксенов. «Жизнь искусства», 1925, № 18.
«Когда Гарин в “Мандате” кричит: “Я человек партийный”, “Я всю Россию переарестую” — и тут же пугается своих слов, то перед вами не простак, а воплотитель социального образа эпохи 21 года, духовная квинтэссенция мещанства, которое с появлением нэпа выползло из своих щелей и, судорожно цепляясь за жизнь, мечтает о новой вывеске над денационализированным магазином…»
Х. Токарь. Актеры советской эпохи. — «Театр, музыка, кино», 1926, № 29.
«В своем настоящем виде “Мандат” отличается в некоторых подробностях от первой редакции. <…>
Особенно окрепла игра Гарина, проводящего трудную роль мнимого коммуниста (Павла Гулячкина) с редкой продуманностью и множеством тонких оттенков. Для этой роли недостаточно формального мастерства техники, а всякая рутинная натасканность фарсового или комедийного актера прямо-таки опасна.
Здесь необходимы общественная выучка, твердое понимание, какой именно классовый тип изображается в образе этого “лавирующего” и “подсматривающего революцию в дырочку” мандатотворца и современного Лжедимитрия. <…>
В лице молодого артиста Гарина мы готовы приветствовать именно соединение этих способностей, неотъемлемых от современного актера: умение проанализировать роль в ее социальной значимости и в то же время ее оформление в гибких интонациях и многообразном жесте».
А. Гвоздев. «Мандат» в Театре имени Вс. Мейерхольда. — «Красная газ.», 1925, № 206.
«Постановка Мейерхольда свежа — и, в связи с последующим “Ревизором”, приобретает особый интерес. <…> В самозванстве и самоупоении Гарина — Гулячкина проступают уже черты другого самозванца — того же Гарина в роли Хлестакова… И вся комедия в целом намечает уже тему хлестаковских “цветов удовольствия” — делается картиной хищных, разнузданных вожделений “бессмертного при всех режимах” мещанства…
“Мандат” выдвинул молодого актера Гарина. Без Гарина Павел Гулячкин не стал бы собирательным именем. В Гарине — Гулячкине все типично: движения, интонации, самый голос и произношение слов. Не расплываясь в натуралистических деталях, Гарин все время подчеркивает самую суть и создает крепкий, незабывающийся сценический характер».
Ал. Слонимский. «Мандат». — «Жизнь искусства», 1927, № 37.
«Эта комическая фигура замоскворецкого мещанина была показана как бы через увеличительное стекло и стала по-своему масштабной, окрасилась в надрывно-драматические тона. Так, подчеркивался не бытовой, а обобщающий план образа, символизирующий роковой час русского мещанства. Но этот символический план роли — то, что определяло внутреннюю обреченность типа, — предопределил и формы сценической выразительности… Комический эффект роли строился на несоответствии между окаменелой позой, неожиданно стремительным порывистым движением и громкой механической речью».
Г. Бояджиев. Актер. — В кн.: Новаторство советского театра. М., «Искусство», 1963.
28 «Эраст Гарин играл не “характер”, а характерно многоликое в социально-жизненном явлении. Чередовались несопоставимые как будто грани, сближались крайности. Недотепа и прохвост, унылый маменькин сынок и гарцующий Еруслан Лазаревич в кожаной куртке с портфелем, наивно вопрошающий и грустный в самой своей беспардонности, олицетворял среду, и патетику, и надсаду утверждавшего себя обывателя. Он мог встрепенуться, похорохориться, взмыть — и вдруг отупеть, застыть на полуслове и полужесте. <…> Угар предприимчивых мечтаний сменялся шоком, неверным сном наяву. Странный кривошип толкал Гулячкина, который угловато запинался, сомнамбулически плыл (в походке и в речи), с отсутствующим вострым лицом, с остановившимися пустыми глазами, озадаченный, нелепо жутковатый, меньше всего смешной. <…> Театр настаивал на том, что мещанство обречено, разносил его в клочья и в дым. Так играл Гулячкина Гарин: героическая с виду поза расплывалась, пузырилась от внутренней пустоты. Планы образа были подвижны, они размывались и сдвигались, уводя в летучий гротеск…»
Д. Золотницкий. Будни и праздники Театрального Октября. — Л., «Искусство», 1978.
«Я с бесконечной признательностью вспоминаю эти работы критиков, давшие мне повод к серьезному раздумью над своими актерскими, да и режиссерскими возможностями».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 115.
29 1926
5 февраля.
- В. Э. Мейерхольд знакомит Гарина с планом постановки «Ревизора», в память чего дарит лист с планом.
20 марта.
- 100-й спектакль «Мандата».
«Под овации зрителя Мейерхольд поднялся на сцену, поцеловал меня и преподнес Сочинения В. И. Ленина с приветствием от театра:
“20 марта 1926 г.
Дорогой товарищ, "Мандат" — комедия Николая Эрдмана — является первым камнем здания Советской драматургии, и на Вашу долю выпала честь первого исполнения этой пьесы.
Во главе с мастером Всеволодом Мейерхольдом театр строит работу актера так, что только на живых откликах зрительного зала, при учете достижений и ошибок актер может непрерывно совершенствоваться.
И сегодня на сотом спектакле "Мандата" Театр им. Вс. Мейерхольда поздравляет Вас с этим новым этапом Вашей работы и ждет от Вас дальнейших продвижений по пути создания первых масок советской комедии”».
Э. Гарин. Автокинография. — В кн.: Из истории кино. Вып. 7. М., «Искусство», 1968. С. 122.
25 апреля.
- Пятилетний юбилей ТИМа. Гарин участвует в юбилейном вечере, исполняя роли — Повара в «Земле дыбом», изобретателей в «Д. Е.» и Гулячкина в «Мандате».
«На мою долю выпала высокая честь быть участником этого вечера. В конце первого отделения я играл дурашливого повара с живым петухом в “Земле дыбом”. В белом халате и колпаке, вооруженный огромным ножом, тащу я живого петуха, чтобы превратить его в варево. Я спотыкаюсь. Петух выскакивает из моих рук, и начинается комическая импровизация ловли… Боковым зрением ощущаю я Савонаролов профиль Мейерхольда. Он сидит в хаосе подставных стульев справа от сцены.
Ловля петуха принимается зрителями великолепно. Петух, ослепленный прожекторами, останавливается. Я делаю рывок, 30 чтобы схватить его, но он вырывается из моих рук, неистово машет крыльями и нагло летит прямо в темноту зрительного зала — нитка оборвалась…
И тут я становлюсь свидетелем неожиданной курьезности: с лицом, исполненным самоотверженной решимости, Мейерхольд, как выброшенный пружиной, вскакивает со стула, хватает за ногу летящего петуха, заправляет его под мышку и, с трудом пробираясь через сидящих вокруг зрителей, бесстрастной походкой слуги просцениума поднимается на сцену и передает петуха мне. Я беру петуха, тоже упрятываю под мышку и ухожу со сцены. Овация зрителей. Антракт…»
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 101 – 102.
- Вручение Гарину диплома об окончании ГЭКТЕМАСа за подписью Вс. Мейерхольда и наркома просвещения А. Луначарского.
- Работает над ролью Хлестакова под руководством Мейерхольда.
«Можно сказать, что формула Коклена о “двойственности” актера в “Ревизоре” претерпела жизненные коррективы. В этой работе “сочиняемое” и “воплощаемое” так взаимообогащалось, что удачно выполненный кусок толкал фантазию на сочинение новых черт характера. Работа эта была длительной, кропотливой, бесконечно радостной и несказанно мучительной».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 130.
«Репетицию “Вранья” Мастер все откладывал. Я начинал впадать в панику — по городу расклеили афиши, а у Хлестакова нет “Вранья”.
Но вот после вечернего спектакля назначается репетиция “Вранья”. Никто на ночную репетицию никаких надежд не возлагал. Усталые за день актеры лениво собрались в репетиционную комнату. <…> Пришел Мастер. <…> Неожиданно появилась бутылка шампанского.
И Мейерхольд начал репетицию — с беспредельной уверенностью, с показом тончайших деталей, с беспримерной убедительностью внутренних ходов.
Мне посчастливилось быть свидетелем и участником многих вдохновенных репетиций Мейерхольда, но репетиция сцены “Вранья” этой ночью была таким вдохновенным совершенством, что забыть ее невозможно всю жизнь…»
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 141.
«Я — Хлестаков — получил темный сюртук с очень узкими рукавами (что мне нравилось); узкие, по моде тридцатых-сороковых годов брюки со штрипками и необыкновенно мягкие и легкие тупоносые ботинки. Жилет был серо-сиреневый с красивыми, красными с белым ободком, пуговицами. Я был очень доволен своим костюмом. Теперь все заботы сосредоточивались на поисках грима.
… Традиционный для хлестаковского грима кок не вязался с тем образом, который проявился в результате огромной работы. Мейерхольд посоветовал внимательно посмотреть иконографический материал: и живописный и фотографический.
Через несколько дней я пришел просить совета у Мастера: как он смотрит на то, чтобы Хлестаков имел прическу Дюра в жизни.
Мейерхольд одобрил эту идею. И тут я обратился к Мастеру с вопросом: “Не дать ли Хлестакову очки, такие, какие носит Шприх в "Маскараде"?” “Иди закажи, ведь они четырехугольные!” — сказал Мейерхольд, сел за стол и начертил на бумажке форму очков.
Я побежал на Тверскую в мастерскую очков, где и заказал их изготовить.
На одной из последних генеральных репетиций Всеволод Эмильевич пришел к нам в гримировальную и занялся моим гримом. Он попросил легко оттенить глаза, подчеркнуть брови, а губы сделал сам, они мне напоминали губы Мейерхольда на акварельном портрете “Пьеро” работы художника Н. П. Ульянова».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 162,163.
«Задолго до премьеры в театре была организована скульптурная мастерская. Мы, актеры, слышали от Мейерхольда 32 о задуманной им картине — финале пьесы, но никто не предполагал того потрясающего эффекта, который она произвела в живом течении спектакля.
Актеры позировали скульптору. Всеволод Эмильевич позвал меня, чтобы установить позы немой картины.
Фотография сохранила память об этих его заботах».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 175.
Октябрь.
- Посещение К. С. Станиславским, О. Л. Книппер-Чеховой и В. И. Качаловым спектакля «Мандат».
«Станиславский был в Театре Мейерхольда!.. Смотрели, конечно, “Мандат”. Ольга Леонардовна смеется. Зрителям в тот вечер было два спектакля — один на сцене, другой — смотреть, какое впечатление произвело на Станиславского. А впечатление было хорошее. Всем понравилось».
Из письма Е. Н. Коншиной Ф. Н. Михальскому. — П. Марков. О Станиславском. — «Театр». 1962. № 1. С. 135.
«“Мандат” <…> привел его (Станиславского. — А. Х.) в восхищение, и он в антракте лично отправился за кулисы поздравить исполнителя главной роли, тогда еще совсем юного Э. П. Гарина, что ему, впрочем, сделать не удалось, так как Гарин, страшно разволновавшись и смутившись… спрятался под диван. Свидетели уверяют, что Станиславский и Мейерхольд, разговаривая о спектакле, сели именно на этот диван… Это было осенью 1926 года».
А. Гладков. Театр. — М. «Искусство», 1980. С. 238.
«Режиссеру-лаборанту “ДЕ”
Заявление Эраста Гарина
Прошу ввиду большой работы у “Ревизора” снять меня с роли лорда Грея в 11 эпизоде.
Эр. Гарин
18.XI.26»
Резолюция Мастера: «Заменить следует. Вс. Мейерхольд. 18.XI.26».
9 декабря.
- Москва, ГосТИМ. Премьера спектакля «Ревизор» Н. В. Гоголя. Хлестаков — Эраст Гарин.
«Нельзя не отметить совершенно изумительные мизансцены. Движения самого Хлестакова и всей массы и превосходная игра Гарина образуют исключительное по выразительности зрелище».
А. В. Луначарский. «Ревизор». — «Нов. мир», 1927, № 2.
«Оригинальность образа, создаваемого Гариным в “Ревизоре”, заключается в том, что он играет Хлестакова сознательным авантюристом, совмещая одновременно в себе светского денди и опытного провинциального шулера. К числу характерных 33 особенностей гариновского Хлестакова следует отнести, что на продолжении всей пьесы он несколько раз изменяет свой образ, причем изменение в образе влечет за собою и соответствующее изменение в технике. По приемам игры Хлестаков из эпизода “Взятка” совсем не похож на Хлестакова “За бутылкой толстобрюшки…”. К этой новой школе актерской игры следует внимательно присмотреться и не судить о ней с традиционных точек зрения».
Вл. Соловьев. Актеры Театра им. Мейерхольда. — «Жизнь искусства», 1927, № 42.
«Трудно сказать, где Гарин достигает верхов. В захлебывающемся ли вранье, в шествии, в сцене ли объяснений с дочерью и маменькой. Везде он графически выразителен… Живость, разнообразие, виртуозная изобретательность заставляют буквально плясать вокруг него все, что находится в пределах досягаемости Хлестакова.
И нужно прямо сказать, как только появляется Гарин, все уплывает на второй план. Сцена шествия подчеркивает это с особой силой. Ведь даже в самой постановке вышло так, что Хлестаков перед барьером, а остальные — за. И оттуда, из-за барьера, тянутся к нему чиновники, колышутся при малейшем его движении…
Гарин выявил мысль о том, что чиновники дали ему (Хлестакову. — А. Х.) не только деньги, но и имя. По их воле-неволе он из ничтожества превратился, пусть на момент, в потрясающую своим величием особу.
И вот в этом чудесное свойство дарования Гарина. Он заставил поверить себе».
В. Иволгин. Трое в «Ревизоре». — «Веч. радио», 1927, 17 июля.
«Наивысшего мастерства достигает пантомима в сцене вранья Хлестакова (эпизод “За бутылкой толстобрюшки”), очень сложной по композиции и крайне трудной по актерским заданиям. Гарин — Хлестаков отлично проводит ее и делает ее убедительной. Здесь пантомима скрепляется с музыкой и включается в определенные куски ее. Все движение планируется на маленькой площадке, заставленной вещами (мебелью гостиной городничего). Каждый шаг актера, каждый вершок площадки, каждый такт музыки берутся на строгий учет — иначе все гибнет безвозвратно. В такой обстановке Гарин мимирует Хлестакова, доведенного “толстобрюшкой” городничего до пьяного исступления. Едва держась на ногах, шатаясь, спотыкаясь, снова спохватываясь, выпрямляясь и опять падая на руки слуг, Хлестаков танцует с Анной Андреевной вальс под музыку Глинки (“В крови горит огонь желаний”). Все его тело рвется книзу, на пол, на мягкий диван, к ручке кресла — но он все же борется с этим притяжением к земле, танцует, находит неожиданную опору в своей даме, опирается на нее, повисает на ней, кладет голову на ее плечи, танцует и танцует, из последних сил, пока, наконец, не грохается на желанный диван и не засыпает под звуки того же меланхолического вальса.
Пантомимическая игра осложняется здесь тем, что на время этого пьяного танца приходятся реплики Хлестакова о петербургских балах, об арбузе в семьсот рублей, о супе, приехавшем в кастрюльке на пароходе — “прямо из Парижа”. В этой замечательной сцене пантомимически раскрыта картина “Петербургских балов” — но какая! Бал, на котором танцуют пьяные руки, ноги, пьяная голова под аккомпанемент пьяной речи, когда язык заплетается так же, как ноги среди складок ковра. Видали ли мы что-либо подобное в театре? В балете? В опере? В драме? Нет. Приходится откровенно признать, что балетные артисты не умеют выполнять такие сцены, несмотря на всю свою технику танца, а оперные актеры и подавно. В драме же давно отвыкли от сочетания слова с жестами, музыкой и танцами в одно неразрывное, слитное целое. И Мейерхольд рисует не лаконичные жанровые сценки, а разворачивает грандиозную синтетическую картину бюрократизма и чиновничьего быта николаевской эпохи средствами театра, и в том числе в первую очередь музыкальной пантомимой».
А. Гвоздев. Ревизия «Ревизора». — «Ревизор» в Театре имени Вс. Мейерхольда. — СПб., 2002. С. 31 – 32.
«Сценический образ Хлестакова, данный Гариным, двойствен. Гарин в своей трактовке соединяет необычайное легкомыслие светского шалопая с изворотливой смелостью 35 завзятого авантюриста. Его веселая беспечность сразу пропадает и заменяется деловитой сосредоточенностью, когда он замечает, что его сотоварищ — заезжий офицер — занят изготовлением “Аделаиды Ивановны” — крапленой колоды игральных карт. С необычайной легкостью рук и ног, как бы жонглируя воображаемыми предметами, Гарин ведет сцену взяток, придумывая, как опытный фокусник, всяческие способы, чтобы вырвать как можно больше денег. Особенно заслуживает внимания у Гарина сцена опьянения, насчитывающая ряд актерских переключений. Казалось бы, вот сценическое положение, наиболее пригодное для показа зрителям всех богатств и достижений техники авантюриста и пройдохи, своим фантастическим хвастовством приводящих в страх и трепет всех присутствующих. Взамен этого в один из самых кульминационных моментов Хлестаков — Гарин так ведет свое повествование о Маврушке и о четвертом этаже, что можно подумать, что состояние данной сцены им определяется как “Белые ночи” Достоевского: этот пьяный авантюрист на несколько секунд стал поэтом и мечтателем».
В. Соловьев. Замечания по поводу «Ревизора» в постановке Мейерхольда. — «Ревизор» в Театре Мейерхольда. — СПб., 2002. С. 58 – 59.
«Когда Гарин — Хлестаков, в черном костюме, в пледе и с тросточкой, спускается по трактирной изогнутой лестнице или когда он принимает свои необычайные позы в сцене “толстобрюшки”, это говорит для кинофикатора-актера Мейерхольда и его зрителя более, нежели самые подробные ремарки. Актер играет одно и то же состояние в продолжение целого эпизода на основе точнейшего ритмического рисунка, подаренного режиссером актеру».
П. Марков. «Ревизор» Мейерхольда. — «Красная нива», 1927, № 5.
«Хлестаков Гарина насквозь динамичен. Он проходит путь от голодной жадности до упоения всеми “цветами удовольствия”. В сцене вранья он становится страшен. <…> Динамика роли развертывается и в слове, и в музыкальной пантомиме. <…> Роль строится в точном согласии с общей синтетической композицией спектакля, со всеми входящими в него элементами (музыка, световые эффекты).
Хлестаков Гарина является тем динамическим стержнем пьесы, каким он является у Гоголя. Он служит воплощением всей социальной тьмы окружающего его “мертвого мира”. Натуралистическое построение роли не идет вразрез с гоголевским комизмом, а основывается на типичном для Гоголя физиологическом комизме бурлеска.
Несправедливо утверждение, будто театр режиссера убивает актера. Цельная композиция спектакля ставит перед актером новые задачи, и актер вырастает в их преодолении. Так, Гарин вырос в постановке “Ревизора”. Отчетливость пантомимы, необыкновенная музыкальность, свежесть и подвижность интонаций, острая динамика его игры — все это показало в нем актера большого масштаба.
Хлестаков Чехова и Хлестаков Гарина — совершенно различные сценические образы. Один создан актером-индивидуалистом, законченным мастером слова. Другой — синтетическим актером будущего театра, исходящим в своей работе из общего замысла спектакля».
Ал. Слонимский. Два Хлестакова. — «Жизнь искусства», 1927, № 4.
«Я все еще хожу под впечатлением, полученным мною от “Ревизора” или, вернее, ряда сцен “Ревизора” и от двух исполнителей: от Вас и от чудесного Гарина. Как Вы, так и он глубоко и по-настоящему поняли Всеволода Эмильевича, а это в постановках Всеволода Эмильевича важнее, нужнее и труднее всего!..»
Из письма М. А. Чехова З. Н. Райх, не позднее марта 1927 г., Москва. — ЦТМ, № 73.
«Вспоминаю двух Хлестаковых, игравших с Вами: один передает Всеволода Эмильевича, другой нет1. Вот и надо было бы “записать” в фильме одного из них. Снимают обычно всякие торжества, речи, корабли, столпотворения, грузовики, съезды, разъезды и прочее, а творческого процесса не желают заснять».
Из письма М. А. Чехова З. Н. Райх. 12 августа 1934 г., Рига. — РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 3734.
1 В мейерхольдовской постановке «Ревизора» роль Хлестакова играли Э. Гарин и С. Мартинсон. По мнению М. Чехова, наиболее полно режиссерский замысел был раскрыт Э. Гариным.
«На одном из первых пятидесяти представлений был Михаил Чехов.
36 Я разгримировался и от волнения надежно спрятался в темноту зрительного зала, распластавшись на пустых стульях. Я тихо мучился в ожидании, когда можно будет узнать от Мейерхольда о впечатлении артиста редкого, уникального дарования…
Вдруг яркий свет ослепил меня.
… Я был обнаружен.
— Эраст, тебя ведь ждут, ищут…
С трепетом подхожу к кабинету Мастера.
Маленький, изящный Чехов недоуменно смотрит на меня, а затем, когда Всеволод Эмильевич представил меня: “Вот наш Хлестаков, Михаил Александрович”, — глаза Чехова наполнились нежной улыбкой.
— Вон вы какой, — протянул мне руку виртуозный Хлестаков, — а я думал, что вы нахал и черный.
Эта афористическая рецензия была мне приятна: значит, мои личные, человеческие повадки вовсе не доминировали в роли. Удовлетворенно-добродушное лицо Всеволода Эмильевича говорило за то, что впечатление актерского лидера того времени было приятно и Мастеру».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 163, 164.
«В послереволюционном театре мы имели три наиболее ярких раскрытия образа Хлестакова — Кузнецовым, Чеховым и Гариным».
«Рабис», 1929, № 43.
«В советском театре было создано два замечательных образа Хлестакова — М. А. Чеховым и Э. Гариным… Хлестаков Гарина являлся заведомым авантюристом, шулером и мерзавцем. Однако при всем том было бы большой ошибкой усмотреть в этих образах чистый бытовой эмпиризм. Образу Гарина был явно придан некоторый мистический опенок».
С. Данилов. Городничие и Хлестаковы. — «Сов. искусство», 1934, 29 марта.
«Вместо актеров в немой сцене стояли манекены, куклы. Зритель сначала обалдевал, а потом бешено аплодировал, и только тогда живые актеры выходили кланяться… Но я не выходил…
— Почему?
— Ни-ког-да!
— Но почему?
— Я же уехал! Я уезжал в Петербург, потом два или три явления, письмо читают, помните — ах!.. ох!.. Как же я могу выйти, если я уже в Петербурге!..»
Мастер и ты. — «Смена», 1972, № 1.
«Образ Хлестакова — Э. Гарина преломлялся и множился в различных эпизодах спектакля. То это был кочующий шулер, то солидный молодой карьерист, то блестящий гвардеец, то мелкий плут-взяточник, то петербургский мечтатель-поэт. <…> В финале Хлестаков, делая грациозные пируэты, вдруг исчезал, растворяясь в пустоте. <…>
Столь расширительное толкование образов “Ревизора” и соответствующая гипербола формы были признаны конгениальными Гоголю такими знатоками вопроса, как Андрей Белый».
В. Емельянов. Когда же классика современна? — «Театр», 1967, № 1.
«Я и по сию пору убежден, что Гарин в том спектакле был именно такой Хлестаков, каким он виделся самому Гоголю: “фантасмагорическое лицо, которое, как лживый олицетворенный обман, унеслось вместе с тройкой бог знает куда”…»
Л. Арнштам. Вечный поиск. — «Сов. экран», 1974, № 16.
«С тех пор прошло полвека, а я запомню “Ревизора” как одну из вершин актерского мастерства реалистического. Удивительно ли, что Гарин стал великолепным мастером кинематографа?..»
С. Герасимов. Нужны ли кино театральные актеры? — «Театральная жизнь», 1974, № 18.
«Во времена “Ревизора” дружба между молоденькой парой — Гариным и Локшиной и З. Н. с Мейерхольдом уже выходила за театральные рамки. Когда я в 7-8 лет болела скарлатиной, Хеся на полтора месяца забирала к себе Костю. Незабываема поездка на дачу, куда кроме нас четверых отправились кататься на лыжах Хеся и Гарин (Костя называл его “Хирас”). Это был фейерверк хохота и веселья, и ни с кем больше никогда таких поездок не было…»
Татьяна Есенина. О В. Э. Мейерхольде и З. Н. Райх. — «Театр», 1993, № 2.
37 1927
Январь.
- В. Э. Мейерхольд приступает к репетициям «Горе от ума».
«Режиссуре по “Горе от ума”
Заявление Эр. Гарина
Прошу разрешения присутствовать на репетициях и пробовать себя в ролях, в которых режиссура найдет нужным меня занять.
Эр. Гарин. 9.1.27».
- Во время одной из репетиций «Горя уму» Вс. Мейерхольд пишет записку режиссеру-лаборанту Х. Локшиной, в которой сообщает о своем намерении поручить роль Чацкого Гарину. Гарин назначается на роль Чацкого, которую до него репетировал В. Яхонтов.
«Говоря о том, что актер является главным, можно поставить актеру такую задачу, при которой вещь может зазвучать по-новому. И парадоксальное распределение ролей может дать эффект нового восприятия вещи. Изучая наш театр, вы увидите, что мы такого рода распределение ролей делаем. Мы давали Гарину играть Хлестакова, когда в других театрах эту роль обычно давали простаку-любовнику. Эксцентрикам не решались давать Хлестакова. Тому же актеру мы решились дать Чацкого».
Вс. Э. Мейерхольд. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 2. — М., «Искусство», 1968. С. 297 – 298.
«Надо было обладать безумной режиссерской смелостью и уверенностью в своем актере, чтобы меня, эксцентрика, поставить на эту почти героическую роль. Но Мейерхольд делал только неожиданности. “Ожиданности” он презирал…»
Мастер и ты. — «Смена», 1972, № 1.
Лето.
- Участвует в гастрольной поездке ГосТИМа по Германии.
«Гамбург, 15 авг. 27 г.
Дорогая Татьянка!
Сегодня выезжаем в Берлин, а в пятницу — в Штеттин и Ленингр[ад]. Хеська курит плохие немецкие папиросы и просит передать привет. Эр. Гар.».
Из открытки сестре Татьяне. — РГАЛИ, ф. 2979, оп. 1, ед. хр. 257.
1928
12 марта.
- Премьера спектакля «Горе уму».
«22 марта 1928 г. Москва. Вчера вечером был на спектакле Мейерхольда “Горе уму”. <…> Интерес к спектаклю был у меня повышенный. Мне спектакль очень понравился. Я воспринял его как лирическое произведение Мейерхольда. Чацкий — это Мейерхольд. И все слова Чацкого звучали через мейерхольдовскую индивидуальность — вплоть до: “Вон из Москвы, пойду искать по свету…”
И когда в конце Гарин (загримированный Мейерхольдом — не может быть, чтобы это было случайно) уходил со сцены со своими чемоданами, я шепнул сидевшей рядом со мной Олиньке (О. Ф. Смышляевой. — Ред.): “Вот и Мейерхольд уезжает в Америку!” <…> После этого спектакля я снова влюбился в театр!.. Мейерхольд — гениален. И тот собачий вой, который подняла московская критика вокруг этого спектакля, напоминает мне лай крыловской моськи».
В. Смышляев. Печально и нехорошо в нашем театре. Дневники 1927 – 1931 гг. — М., «Семейный архив», 1996.
«Куда же направляется замысел режиссера? Ответ на этот вопрос заключен в совершенно новом образе Чацкого (Гарин), концепция которого определяет общую композицию спектакля. Чацкий — это Грибоедов, Грибоедов — это музыкант и декабрист, и “Горе уму” становится поэмой о Грибоедове и его эпохе. <…> Рассудочный Чацкий старого театра, с репликами-лозунгами, вскрыт здесь с совершенно иной, с интимно-лирической стороны, в тончайших очертаниях, в нежнейших переходах. То, что не мог показать драматический театр прежней формации, 40 показывает новый театр, создаваемый Мейерхольдом, — театр музыкальной драмы. В этой музыкальности Чацкого-Грибоедова-декабриста и заключается смысл новой постановки, ее основа и художественное значение…»
А. Гвоздев. «Горе уму». Театр имени Вс. Мейерхольда (В порядке обсуждения). — «Жизнь искусства». 1928. № 12.
«В трактовке Мейерхольда и в прекрасной игре Гарина-Чацкого чувствуется герценовская характеристика героя “Горя от ума” как фигуры меланхолической, ушедшей в свою иронию, трепещущей от негодования и полной мечтательных идеалов…»
С. Мстиславский. Одинокий (К дискуссии о «Горе уму»). — «Жизнь искусства», 1928. № 16.
«Всеми сценическими способами подчеркнуто одиночество Чацкого. Даже его внешний облик не напоминает ни одного из прежних исполнителей роли. Исполняющий в театре Мейерхольда Чацкого Гарин играет его совсем молодым юношей, небрежно и просто одетым. Внутренний облик Чацкого подчеркнут его музыкальностью, и ряд монологов, в звучании которых для нашей современности Мейерхольд сомневался, заменен музыкой Баха, Шуберта и Моцарта».
П. А. Марков. Очерки театральной жизни. К вопросу о сценическом прочтении классиков. — «Нов. мир». 1928. № 6.
«Это был Чацкий, лишенный внешне эффектных “геройских” черт, это был глубоко страдающий и чувствующий человек, внутренний мир которого был раскрыт с предельной чуткостью, остротой и новизной».
Б. Щукин. «Сов. искусство», 1937, 23 дек.
«Как сделаны центральные роли? Серьезного внимания заслуживает, пожалуй, лишь Чацкий талантливого Гарина. Задуман он спорно, но интересно… У Гарина Чацкому не дашь и его двадцати-двадцати двух лет. Это — серьезный, впечатлительный и музыкальный мальчик, углубленный в себя, чуть рассеянный и глубоко чувствующий, скорее грустный, чем насмешливый, и уж вовсе не острый и не красноречивый…
Огонь грибоедовских монологов не в средствах актера (и монологи эти совершенно затушеваны), но и в том уже его большая заслуга, что зритель слышит его негромкую задушевную речь…»
С. Хромов. «Горе уму» у Мейерхольда. — «Читатель и писатель», 1928, 24 марта.
«Вслед за… Хлестаковым совершенной неожиданностью для всех был напряженно лирический, одинокий мечтатель Чацкий…
Какой невиданный взлет молодого актера! И все это в кратчайшие сроки!
Думается мне, что тут дело было не только в редкостной одаренности Гарина-актера, но и в том, что какие-то черты его неповторимой индивидуальности были особенно близки Мейерхольду-режиссеру, обретшему в нем соратника, способного отчетливо выразить самые глубинные его, Мейерхольда, намерения…»
Л. Арнштам. Вечный поиск. — «Сов. экран», 1974, № 16.
«Чацкий — Гарин в “Горе уму” (1928) поворачивался к зрителям разными сторонами своей души, похожей то на восторженного юнца, почти мальчика, то на декабриста, проникнутого пылкими гражданскими чувствами, то на Лермонтова, скептического идеалиста, узнавшего тяжесть разочарований, бросающего врагам свой стих, “облитый горечью и желчью”».
Б. Зингерман. Классика и советская режиссура 20-х годов. — «Театр». 1980, № 8. С. 92.
«В 1-й редакции (спектакля “Горе уму”. — А. Х.) я видел одного из чудеснейших мейерхольдовских актеров — Эраста Гарина… Этот артист захватывал только ему присущим сочетанием яркого гротеска и мягкого лиризма, невероятной остротой рисунка, неповторимостью своей актерской индивидуальности».
Д. Журавлев. Жизнь, искусство, встречи. — М., ВТО, 1985. С. 71.
Апрель — май.
- Вместе с Х. Локшиной участвует в гастролях ГосТИМа в Свердловске.
43 «Свердловск, 3.V.28
Дорогая Татьянка! Я не ожидал, что Свердловск такая трущобина, город хуже Рязани. <…> Пока ничего не делаем: идет “Рычи, Китай” 5 раз, потом “Лес” 2 раза, а уж потом пойдет “Ревизор”. <…> Труппа настроена очень вяло. “Сами” же начинают учиться играть в винт».
Из письма сестре. — РГАЛИ, ф. 2979, оп. 1, ед. хр. 257.
Октябрь.
- Знаменитый японский актер Нагасито Сабору посещает спектакли ГосТИМа с участием Э. Гарина и дарит ему свой портрет с автографом: «Уважаемый г-н Гарин, увидев Вас впервые в спектакле “Д. Е.”, я был восхищен Вашей филигранной игрой. Предвкушаю удовольствие от сегодняшнего просмотра “Ревизора”».
- Под руководством японского актера Гарин изучает приемы актерской игры театра Кабуки.
- Во время репетиций в ГосТИМе спектаклей «Клоп» В. Маяковского и «Командарм-2» И. Сельвинского часто видится с Маяковским.
- Играет спектакли «Д. Е.» в новой сценической редакции.
«Публика, наполнившая зрительный зал, очень горячо принимала спектакль; в частности, большой успех имел Эр. Гарин, выступавший в ролях семи изобретателей, а затем (в сильно переработанном эпизоде “Вот что осталось от Франции”) — Поэта».
А. «Д. Е.». — «Правда», 1928, 14 ноября.
44 1929
Май.
- После генеральной репетиции спектакля «Командарм-2», в котором Гарин играл роль Оконного, из-за принципиальных разногласий с Мастером в трактовке роли Гарин подает заявление об уходе из театра.
«Режиссуре ГосТИМа Эраста Гарина Заявление.
Категорически отказываюсь от исполнения роли Оконного в пьесе “Командарм-2”. Если отказ мой не принимается, прошу считать меня свободным от обязанностей, выполняемых мной в ГОСТИМе. 7/V-29. Актер Ераст Гарин».
РГАЛИ, ф. 963, оп. 1, ед. хр. 159.
15 мая.
- Гарин пишет личное письмо Мейерхольду.
«Москва. 15 мая 1929 г.
Дорогой Всеволод Эмильевич! Мое состояние последнего времени не позволило мне проститься с Вами так, как я хотел бы. Очень прошу принять мою глубочайшую благодарность за время работы под Вашим руководством и пожелание всего доброго на будущее. Ераст Гарин».
РГАЛИ, ф. 998. оп. 1, ед. хр. 1340.
«Артист Гарин вышел из состава труппы театра имени Мейерхольда».
«Новый зритель», 1929, № 21. С. 3 обл.
«Ленинград, 27.X.29
<…> Сволочь из ГосТИМа написала статью в Рабисе, где я выявлен “рвачом”. Сам я ее не читал, завтра прочту, и если так, то принужден этому хамству ответить. Хамить разрешается только в белледристических (так у Э. Г. — А. Х.) органах, как, напр., “Литгазета”, а не профессиональных».
Из письма сестре Татьяне. — РГАЛИ, ф. 2979, оп. 1, ед. хр. 257.
«Что же касается моего ухода из театра в период “Командарма”, то это объясняется глупостью (моею), заносчивостью и отсутствием выдержки… Господи! Какие все мы были наивные идиоты. Если кто-нибудь подсмотрел бы в зеркало будущее!!!»
Из письма Э. Гарина к А. Гладкову, 50-е гг.
«Когда Э. П. Гарин в первый раз подал заявление об уходе из ГосТИМа (он, как и И. В. Ильинский, не раз уходил и возвращался), В. Э. сказал одной актрисе театра: “Гарин — и тот изменил!..” В этом было меньше обиды, чем недоумения. Перед этим Гарин, раньше щедро одаренный мейерхольдовским вниманием, похвалами, нежностью, триумфально сыгравший Павла Гулячкина, <…> Хлестакова, Чацкого, был им серьезно и незаслуженно обижен. Повод для ухода был, но Мейерхольд все же удивлялся, словно хотел еще сказать, что Гарин-то мог бы и потерпеть. Я уже приводил фразу из письма Гарина ко мне по поводу истории этого ухода. Продолжу цитату: “Я обиделся, наверно, захотелось попробовать самостоятельности. Когда мы все жили рядом с Мейерхольдом и смотрели, как он работает, начинало казаться, что это дело нехитрое: у него ведь так легко все получалось”. <…> Как мы видим, через тридцать с лишним лет Гарин склонен обвинять в невыдержанности одного себя…»
А. Гладков. Театр. — М., «Искусство», 1980. С. 258 – 259.
- Несмотря на увольнение из ГосТИМа, продолжает играть (в очередь с С. Мартинсоном) роль Хлестакова.
«Ленинград, 25.Х. 29
<…> Об Иване Александр[овиче] в новом виде получил компетентные сужденья Шостаковича и худ[ожника] Дмитриева в мою пользу на все 100 %».
Из письма сестре Татьяне. — РГАЛИ, ф. 2979, оп. 1, ед. хр. 257.
- По предложению А. Пиотровского обдумывает идею создания в кино комической маски.
45 4 – 6 ноября.
- Ведет переговоры с Э. Багрицким и В. Маяковским о написании ими пьес, предназначенных для своей режиссерской работы, и получает принципиальное согласие обоих поэтов.
- Вступает в труппу драмтеатра Ленинградского Госнардома, участвует в репетициях пьесы А. Завалишина «Партбилет» (режиссер В. Люце). Премьера спектакля была отменена. Уходит из драмтеатра Госнардома.
«Ввиду коренных принципиальных разногласий с политикой художественного руководителя драмтеатра Госнардома Н. Лойтера из труппы драмтеатра вышли артисты Э. Гарин и Ю. Лавров и режиссер Локшина».
«Жизнь искусства», 1929, № 52.
- Работает в качестве режиссера в Театре пионера детского ДК Ленинграда.
1930
- На сцене ленинградского передвижного театра «Станок» ставит пьесу А. Жарова и М. Поликарпова «Первый кандидат».
Апрель.
- Премьера спектакля «Первый кандидат».
«Новая премьера театра “Станок” принадлежит к числу заметных явлений “клубно-передвижного” сезона…
В этой постановке “Станок”, давно стремящийся стать передвижным театром сатиры, воочию доказывает, что он способен добиться успехов на избранном пути. <…>
Режиссеру Э. Гарину удалось свежо и интересно <…> разработать постановочную часть спектакля. <…> В целом спектакль “Первый кандидат” <…> несомненная удача “Станка” на пути к созданию “малого” передвижного сатирического спектакля».
Б. А. «Первый кандидат». — «Красная газ.», 1930, 17 апр.
«Перед нами — две постановки “Первого кандидата”: в Ленинградском театре “Станок” и Московском театре сатиры. <…> В скромном передвижном “Станке” — принцип основательной перестройки и переделки пьесы согласно общественным понятиям этого театра. В богатой, стационарной московской Сатире — принцип “актер не выдаст, публика не съест”…
Если <…> “Станок” заостряет спектакль сатирически, выделяет в нем противомещанские моменты и работой способного молодого режиссера, бывшего мейерхольдовца Гарина добивается известного стилистического единства и своеобразия, <…> то в Сатире, при отсутствии всякого желания общественно заострить пьесу, режиссер Дикий ограничивается работой с актерами и мало интересуется, по-видимому, конечным воздействием спектакля на сознание аудитории. <…>
Думается, что наш маленький “Станок” <…> взял более верный тон в специфической трактовке “Первого кандидата” и создал — разумеется, с поправкой на свои “передвижные” масштабы — более значительный спектакль, чем Московский театр сатиры».
Н. Верховский. «Первый кандидат». — «Красная газ.», веч. вып., 1930, 17 апр.
«Бывший мейерхольдовец Гарин выступает на этот раз как режиссер. У него есть вкус и выдумка. Он отлично использует несложные декорации, проводит остроумную игру с вещами, создает ряд занимательных гротесковых сцен. Отдельные части спектакля, по сравнению с постановкой в Московском театре сатиры, оказываются значительно более эффектными. Но попытка социально заострить спектакль совершенно не удается».
Лотарь. Ленинградский театр «Станок». — «Веч. Москва», 1930, 1 авг.
«Ленинградский театр “Станок” в прошлом — живая газета. Бывшие “газетчики” основательно проредактировали пьесу А. Жарова и М. Поликарпова. Театр попытался подчеркнуть сатирические моменты “Первого кандидата”. <…> Постановщик-дебютант Э. Гарин — изобретательный и интересный режиссер — успешно применил в передвижном спектакле богатую выучку мейерхольдовской школы… “Станок” подтвердил, что у него есть возможность стать легкой кавалерией искусства — рабочим театром сатиры. Судя по спектаклю и по сравнению с другими подобными ему театрами он — первый кандидат».
Ю. Линев. «Первый кандидат» в ленинградском театре «Станок». — «Лит. газ.», 1930, 10 авг.
46 16 мая.
- Ленинградский театр сатиры. Премьера спектакля «Уважаемый товарищ», пьеса М. Зощенко, постановка Э. Гарина. В главных ролях Л. Утесов, С. Каюков, Н. Филипповская.
«Мы не можем с точностью указать, в чем именно выразилась на этот раз работа режиссера Э. Гарина, который как будто только и сделал, что детализовал алкогольную физиологию, разрешив ее в нарочито замедленных сценах “кутежа” Барбарисова. <…> Гипнотическое имя Зощенки не спасло Театра сатиры от очередной неудачи…»
Н. Верховский. «Уважаемый товарищ». — «Красная газ.», 1930, 24 мая.
«Работа театра не сгладила, а подчеркнула слабые места пьесы. <…>
Испытанные приемы арлекинады способны забавлять публику, но они не в силах служить средством для характеристики советского мещанина. <…> К тому же они не считаются с общим режиссерским замыслом, а выступают как самодовлеющие актерские приемы, выдвигающие исполнителя на первый план за счет цельной композиции спектакля.
Последнюю пытались построить режиссеры Э. П. Гарин и Х. А. Локшина с помощью художника-конструктора А. Ф. Босулаева, но этим талантливым молодым силам, пришедшим из театров, работающих совершенно иными методами (Театр Мейерхольда, Пролеткульт), не удалось перебороть отсталую сценическую культуру, сковывающую Театр сатиры. В сцене в пивной режиссурой намечена интересная разверстка мизансцены на вращающейся площадке, дан набросок динамичной сцены драки, но эти отдельные штрихи не спасают спектакль в целом».
А. Гвоздев. «Уважаемый товарищ» в Гостеатре сатиры. — «Рабочий и театр», 1930, № 30.
- Вместе с С. Дрейденом задумывает спектакль «Маяковский издевается» по сатирическим произведениям поэта.
- Москва. Получает приглашение работать на радио.
47 4 октября.
- Возвращается в труппу ГосТИМа.
«Однажды, идя по улице, я издали увидел Мейерхольда. Он тоже заметил меня. Движемся в потоке пешеходов друг другу навстречу. Немного волнуюсь. Поздоровались.
Заботливо снимая с моего пальто несуществующую пушинку, Всеволод Эмильевич как ни в чем не бывало, с легкостью, снимавшей все прежние сложности в наших отношениях, сказал:
— Работать надо, играть пора.
Сказал просто, деловито; сказал это и как режиссер и директор театра, и как старый, добрый учитель. Я вернулся в ГосТИМ».
Э. Гарин, Указ. соч. — С. 218.
- Репетирует роль моряка Ивана Ведерникова (Жана Вальжана) в пьесе Вс. Вишневского «Последний решительный» в ГосТИМе.
17 октября.
- Премьера документальной радиокомпозиции «Путешествие по Японии» (автор Г. Гаузнер, режиссер Н. Волконский) — роль Путешественника.
«Передача Гарина не натуралистична. Но он и не выбрал манеру старого литературного рассказчика типа Закушняка. Он не пошел за отдающими стариной классическими вещами Яхонтова. Манеру Гарина можно вести разве от чтения новейших поэтов (конструктивисты, особенно Сельвинский). Сохраняя поэтическую напевность, он увязывает ее с содержанием фразы — и получается легкая, музыкальная речь, почти стихи, почти песня. Иногда плавность сменяется иронией, размеренность — восклицаниями. Когда читаются цифры доходов и безработицы, манера Гарина впечатляет не меньше. Он работает, конечно, отнюдь не в одном лирическом плане».
Вл. Солев. Вокруг радиопьесы «Япония». — «Кино», 1930, 27 ноября.
«Состоялся общественный просмотр (прослушивание) одной из последних композиций Радиоцентра, радиоочерка “Путешествие по Японии”. <…> Для прослушивания радиоочерка в Радиоцентр собрались представители Союзкино, Театра им. Вс. Мейерхольда и др.
По окончании слушания собравшиеся отмечали, что им до сих пор не приходилось еще с таким вниманием и интересом слушать столь длинную передачу (слушание происходило в затемненной комнате на громкоговоритель в течение полутора часов). Особенно отмечалась подача текста артистом Театра им. Мейерхольда Э. Гариным.
Письма слушателей с мест, оглашенные на просмотре, говорят о необходимости создания подобных радиоочерков также и о других странах Востока и Запада».
«Веч. Москва», 1930, 20 дек.
48 «Чтение Гарина действительно может назваться из ряда вон выходящим».
Б. Л-ин. Путешествие в Японию. — «Говорит Москва», 1930, № 30.
- Играет в новой редакции спектакля «Д. Е.», переименованного в «Д. С. Е.» («Даешь социалистическую Европу»).
«Спектакль “Д. С. Е.” сделан из полуфантастической пьесы “Д. Е.”, во многом потерявшей свою остроту. <…> Актеры показали выдающиеся достижения школы Мейерхольда. Особенно хороши трансформации, исполняемые Гариным, Мартинсоном и Зайчиковым».
Бригада газеты «Рабочий и искусство»: Як. Варшавский, Н. Шумов, Н. Гофмеклер и др. «Д. С. Е.» — театр им. Мейерхольда. — «Рабочий и искусство», 1930, 2 дек.
- Участвует в репетициях композиции «1905 г.» по произведениям Б. Пастернака («Морской мятеж»). Незадолго до выхода передачи в эфир отказывается от участия в передаче.
- Собирается выступить на радио с чтением очерков Вс. Иванова, В. Шкловского, очерка-шаржа «Пуанкаре» по сценарию Г. Гаузнера, работает над композициями о столицах союзных республик — для радио и для эстрады.
1931
7 февраля.
- Премьера спектакля «Последний решительный».
«Игра исполнителей поражает своей слаженностью, и, конечно, в первых рядах выделяются п. З. Райх, И. Ильинский и Э. Гарин…»
С. Орловский. Анкета «Вечерней Москвы». В спорах о «Последнем решительном». — «Веч. Москва», 1931, 17 февраля.
«В красную строку следует вынести исполнителей ролей Жана Вальжана и Анатоля Эдуарда артистов Гарина и Игоря Ильинского».
Рабочая редколлегия газеты «Советское искусство». О «Последнем решительном».
«“Последний решительный” знаменует собой большое продвижение ТИМа по линии актерской техники и роста исполнительского мастерства. Технически очень хорошо ведут комедийную пару Ильинский и Гарин, с большой мягкостью и с… осторожной долей шаржа».
В. Голубев. «Последний решительный». — «Рабочий и театр», 1931, № 10.
«Помню, как мы с Игорем Ильинским играли в пьесе В. Вишневского “Последний решительный” подвыпивших матросов. Сцена отрепетирована и заучена, и ничего нового вроде быть не может. Но вот я вижу боковым зрением, что мой партнер опрокинул бутылку и содержимое ее выливается на стул. Мгновенно соображаю. Подхожу к стулу, сажусь на него и вскакиваю с воплем. С “клешей”, естественно, стекает вода.
Публика в восторге. В зале — гомерический хохот, а я доволен собой.
Но вот кончается спектакль, и режиссер наш — Мейерхольд — делает мне суровый разнос за то, что моя “недопустимая импровизация” сорвала сцену партнерам.
Импровизировать на сцене я, конечно, не бросил. Ведь актер — вечный студент. Но случай этот мне запомнился…»
Эраст Гарин импровизирует. — «Моск. комсомолец», 1970, 2 сент.
26 июня.
- Впервые играет роль Хеллея в спектакле ГосТИМа «Рычи, Китай».
7 июля.
- Посещает Тракторострой во время гастролей ГосТИМа на Украине.
49 - Участвует в концертах с чтением произведений В. Маяковского.
- Работает над поэмой А. С. Пушкина «Медный всадник» — готовит ее для чтения в концертах.
- В соавторстве с Н. Д. Поташинским (Оттеном) работает над радиокомпозицией «Дирижабль».
1932
- Продолжает играть в спектаклях ГосТИМа во время гастролей театра в Ленинграде.
- Репетирует роль Подсекальникова в пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца».
- С режиссером и художником М. М. Цехановским задумывает сценарий фильма по «Женитьбе» Н. В. Гоголя.
Лето.
- Мариуполь. Начинает сниматься в роли Васюты Барашкина в фильме «Путешествие в СССР», сценарий Н. Погодина, режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг (картина не была завершена).
«Несмотря на название, “Путешествие в СССР” было сценарием не туристическим. Это было как бы психологическое путешествие российских мужицких характеров из дебрей крепостничества, через почти первобытную артель к вершинам советского, коллективного существования.
Написан сценарий был в эксцентрической, неожиданной манере. Николай Федорович Погодин придумывал парадоксальные 50 сцены, дававшие богатейший материал и актерам, и режиссерам.
<…>Роль, которую исполнял я, очень заинтересовала меня: молодой парень носил в себе явные пережитки прошлого. <…> Работа над картиной шла интересно. Репетиции обогатили актеров новыми выразительными чертами. Козинцев внушил нам, театральным актерам, обостренное внимание к кинокамере; говорил о деликатности игры на среднем игровом плане, о тонкости исполнения на укрупнениях и свободе, а подчас и резкости игры на общем плане. <…>
Я пристально всматривался в весь процесс рождения кинокартины. Прежде всего поражала неразрывная связь с жизнью: декорацией на время становилась сама действительность, и в ней должен протекать вымысел, порой неожиданный, необычный. Степень допустимого преувеличения, “игры” необыкновенно обостряла чувство такта у актера, вынужденного играть на глазах у случайного зрителя киносъемок (всегда падкого на броские выходки и трюки), но обязанного помнить о результате на экране и ясно представлять свое место в картине, в ее течении. К работе в кино я подошел в высшей степени строго и требовательно. Я был придирчив не только к предлагаемому мне драматургическому материалу, но и к самому себе.
Первые просмотры материала нас очень окрылили».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 250, 251.
52 - Во время экспедиции репетирует с М. М. Тархановым рассказ А. П. Чехова «Хирургия» для исполнения в концертах.
- Получает предложение Театра Корша принять участие в спектакле по случаю юбилея Октября.
«Я вообще не думаю, чтобы я подошел к роли этакого застольного, для свадебных торжеств, славопевца. Между нами говоря, я еще не знаю театра, который бы к юбилею отнесся серьезно».
Из письма Э. П. Гарина Е. А. Тяпкиной. Мариуполь, 27 июля 1932 г.
«Мих. Мих.! Так как я голоден и очень плохо себя чувствую, а взаймы никто не дает, то я сегодня воздержусь от присутствия на репетиции. Не поминайте лихом. Я ведь вам должен пятерку.
21.IX.32. Эр. Гарин».
Записка, посланная ведущим актером ТИМа Эрастом Гариным режиссеру-лаборанту М. М. Кореневу.
10 октября.
- Премьера на радио монодрамы «15 раундов» по роману А. Декуэна (Гарин — автор композиции, режиссер, исполнитель роли Баттлинга).
- В журнале «Говорит СССР», 1932, № 6 выходит статья Э. Гарина о работе на радио «Режиссер о своей постановке», где он, в частности, пишет:
«Во всех искусствах больше всего интересен человек. Даже в цирке, где показывают лошадей, интересен дрессировщик.
Композиция “15 раундов” построена на одном человеке — боксере Баттлинге. <…>
Через “15 раундов” последнего матча проникаем мы в думы и ощущения Баттлинга.
Тут, как за мгновенье до казни, проходит его жизнь. <…>
Глазами Баттлинга мы видим окружающий его мир, живем его ощущениями, даже голос его менеджера мы слышим в той интонации, в которой, как нам кажется, он слышится Баттлингу. Отсюда Жоржа (менеджера) читает тот же актер.
<…>Из области радиотехники следует отметить, что в этой композиции впервые пущен в работу “ревербератор” — аппарат, позволяющий раздваивать звук.
<…>Любопытно отметить, что когда мы искали сцены “Баттлинг нокаутирован”, то пришли к такому приему: 10 человек, изображающих зрителей ринга, поют каждый свою мелодию. Эта звуковая какофония через ревербератор создает впечатление головокружения, ибо звуки орущей толпы входят в сознание Баттлинга как бы с некоторым торможением.
В монодраматическом плане построена вся музыкальная часть звуко-спектакля. Трагическую обреченность хотели мы создать “фантазией” Моцарта и вначале, когда Жорж, развлекая Баттлинга, читает ему Эдгара По, и повторяя эту фантазию в конце оркестром. Ее аккорды пронизывают всю музыку (специально написанную композитором С. И. Потоцким), звучащую на ринге».
«Говорит СССР», 1932, № 6.
«Голос Гарина звучит уверенно. <…> Он надеется. Больше того, он уверен — ученик большого мастера Мейерхольда, он знает свое дело. <…> Голос Гарина “пляшет” вокруг меня. <…> 53 Голос Гарина баюкает меня. <…> Этот Гарин сошел с ума. Он наносит мне удар за ударом. <…> Голос Гарина добивает меня. Это дьявол-человек не может с такой силой воздействовать после пятидесяти минут боя…»
И. Волконский. Из дневника радиослушателя. — «Говорит СССР», 1932, № 35 – 36.
«Работа Э. Гарина как постановщика и исполнителя монодрамы “15 раундов” настолько своеобразна и ярка, что вопросы трактовки вещи становятся основными. <…> Талантливый актер, он создал образ захватывающего драматизма, образ, который держит слушателя с начала и до конца композиции…»
М. Перельман. Гарин прав. — «Говорит СССР», 1932, № 35 – 36.
«Гарин создает свою школу, свой художественный метод. Не разбрасываясь, он направляет свои поиски в одном направлении.
Отличительной чертой его творческой линии <…> является построение композиции на едином актерском образе».
В. Емельянченко. На скрещении путей… — «Говорит СССР», 1933, № 3.
«Спектакль держится на мастерстве актера, голос которого в течение 55 минут ведет слушателя сквозь перипетии 15 раундов. Труднейшая задача эта разрешается Эрастом Гариным с подлинным блеском и виртуозным мастерством».
С. Дрейден. 15 раундов Эраста Гарина. — «Рабочий и театр», 1933, № 30 – 31.
- Ставит «Поэму о топоре» Н. Погодина в Первом Рабочем театре Ленинградского Пролеткульта.
«Не случайно, что, несмотря на кажущуюся запоздалость, Театр Пролеткульта ставит эту пьесу руками Гарина. Молодость сказывается не в том, что у человека красивые щеки. Молодость сказывается в том, что молодые щеки обветривает его век, его эпоха, его день. Конкретный день».
Н. Погодин. Сто двадцать тракторов и Шекспир. — «Рабочий и театр», 1932, № 1.
21 декабря.
- Премьера спектакля «Поэма о топоре» в Первом Рабочем театре Ленинградского Пролеткульта.
- Снимается в роли адъютанта Каблукова в кинофильме «Поручик Ниже» (сценарий Ю. Тынянова, постановка А. Файнциммера, «Белгоскино»).
«Этот начальный период моей кинобиографии был для меня необыкновенно знаменателен. Моя занятость была так интенсивна, что первое время я не мог до конца додумать все впечатления, которые получал за каждые сутки. Одновременно я снимался в двух картинах… оканчивал постановку пьесы Погодина “Поэма о топоре” в Первом Рабочем театре Ленинградского Пролеткульта и по-прежнему играл в спектаклях Театра имени Мейерхольда, который гастролировал в это время в Ленинграде».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 255.
- Выступает на радио с постановочным чтением очерков В. Маяковского «Мое открытие Америки», первая редакция.
1933
Лето.
- Участвует в гастрольной поездке ГосТИМа по Украине, во время которой играет в спектаклях «Ревизор» и «Последний решительный». Получает предложение от режиссеров Г. Козинцева и Л. Трауберга сыграть заглавную роль большевика Максима в фильме «Большевик».
4 июля.
- Пишет письмо Г. Козинцеву, в котором дает согласие сниматься в фильме «Большевик».
- Продолжает совместно с М. Цехановским обдумывать замысел фильма по «Женитьбе» Н. В. Гоголя.
Пишет письмо М. Цехановскому:
«20 сентября, Москва
Дорогой Михаил Михайлович!
Ваше письмо очень меня взволновало. Обычный в наших условиях карантинный период от замысла к осуществлению, как видно, не будет тягомотным и выматывающим. “Женитьба” у меня попала на такую зарубку, что стала единственным желанием. Вначале ведь я очень скептически отнесся к Вашему проекту, но после нашего разговора в Мариуполе — дошло, как говорится, на 100 процентов. По приезде в Москву внимательно проштудировал “Женитьбу” и как-то ясно представляю себе манеру, в которой она должна быть сыграна. Ваши соображения “без романтики” и я ощущал при читке как густопсовую физиологичность. Мое беспокойство:
Вы пишете, что (это должно быть) очень смешно. Ведь это ежели смотреть с высот человеческих, приблизительно так, как смотрим на старомодный паровоз Китона, а ежели мы на этом паровозе и сами ездим до сих пор, то ведь станет и жутковато. Здесь та, по-моему, главная сложность, какую нужно решить. Манера, в которой орудует Мейерхольд, — механичного сдвига в фантасмагоричность, — здесь вовсе не идет. Предлоги для игры совершенно замечательные. Я немного нахален в новом для себя деле. Мне кажется, что целый ряд утверждений киноспецов несправедлив. Ну почему кино, например, не знает мизансцен, а если знает, то примитивные? Правда, целый ряд вещей я еще представляю театрально, но Подколесина уже ощущаю на экране. Агафья Тихоновна — это замечательная роль. По моему соображению, она где-то соприкасается с Филлис Хевер в “Чикаго” — эта актриса необычайно физиологична, но в то же время не противна.
Мне тут попалась книга Ермакова о творчестве Гоголя — там есть интересные соображения, правда, ежели увлечься очень, то можно впасть в некую гинекологичность…
Совершенно ясно, что нам следовало бы увидеться, а приехать в ближайшее время мне нельзя из-за “Горя от ума”. Как только я соображусь с днями отдыха, то приеду в Ленинград…
54 Позвольте считать дело затеянным, если Вам не претят мои актерские и режиссерские манеры.
Желаю Вам всего доброго
и ни пуха ни пера.
Эраст Гарин».
6 октября.
- Получает от В. Э. Мейерхольда предложение играть Расплюева в спектакле «Свадьба Кречинского» и дает согласие с условием, что в 1-ю очередь будет играть В. Зайчиков, репетировавший эту роль. Роль Расплюева Гариным сыграна не была.
8 ноября.
- Обсуждает с Д. Шостаковичем замысел фильма по «Женитьбе» Н. В. Гоголя.
- Продолжает играть в спектаклях ГосТИМа.
«Михаил Михайлович!
Вчера в 7 ч. 25 минут на улице имени Алексея Максимовича Горького мною отморожено ухо с правой стороны ныне Уже превратившееся в сверхбаллон. Поэтому, получив все что Вы прислали, я прочту, а на репетицию не приду, ибо даже и спектакль играть трудно, как бы вообще не остаться без уха.
Эр. Гарин
3/XII.33 г.».
Надпись на обороте:
«Эраст Павлович!
Всеволод Эмильевич настаивает.
М. Коренев».
Записка, адресованная режиссеру-лаборанту ГосТИМа М. М. Кореневу.
1934
16 января.
- Премьера на радио: Ч. Линдберг, «Самолет и я» (постановочное чтение).
5 февраля.
- Премьера на радио: «Путешествие нашей молодежи по городам мира — Москва» (авторы обозрения Емельянченко, Милославский, режиссер Югов), роль — От автора.
Январь — февраль.
- Общественные просмотры фильма «Поручик Киже».
«В лице Э. Гарина мы имеем нового киноактера крупнейшего значения.
Эксцентрическая манера Э. Гарина идет от Бастера Китона претворяясь в своеобразную и оригинальную “гаринскую” систему. Ритмичность, исключительная четкость работы и сделанность образа плюс подлинное чувство костюма делают Э. Гарина основной удачей фильма…»
Н. Оттен. «Поручик Киже». — «Кино-газета», 1934, 10 янв.
«Из артистов особого выделения заслужил Э. Гарин тонко с большим комизмом и подкупающей правдоподобностью создавший образ дворцового адъютанта — фата, жуира и льстеца».
Т. Рокотов. В рамках анекдота. — «Веч. Москва», 1934, 2 марта.
7 марта.
- Фильм «Поручик Киже» выходит на широкий экран.
55 «“Поручик Киже” — первая картина, в которой мне удалось “прорваться” к кинозрителю».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 254.
«Впервые историческая, “костюмная” лента предъявила актерам столь необычайное требование острой, комедийной формы работы. Наиболее близко к разрешению задачи подошел Эраст Гарин — выразительно и четко работающий Адъютант…»
М. Блейман, И. Трауберг. «Поручик Киже». — «Ленингр. правда», 1934, 9 марта.
«Я не принадлежу к числу тех театральных патриотов, которые работу в кино рассматривают как потерю времени, как халтуру, более или менее терпимую из-за ее материальной выгодности.
Для меня кино — огромное и любимое искусство. И хотя мне до сих пор в нем не очень везло (из трех моих актерских работ только одна дошла до экрана), я продолжаю относиться к нему с энтузиазмом новичка. <…>
Для меня роль адъютанта Каблукова, хотя она и не способствовала выявлению новых, прежде скрытых актерских качеств, была чрезвычайно интересной и, на мой взгляд, полезной. В нахождении внешней формы этого образа мне помог блестящий рисунок русского художника начала XIX в. Орловского “Кавалергард”. Отталкиваясь от этого рисунка, я создал <…> шаржированную фигуру дворцового петиметра, подлинного персонажа исторического анекдота… Мне кажется, эта фигура оказалась вполне в манере тыняновского повествования.
Роль адъютанта в “Поручике Киже” является продолжением той “гаерской” линии моих актерских работ, которая в моем творчестве развертывается <…> по потухающей кривой. Но все же не поручусь, что это последняя вспышка».
Э. Гарин. Красота и стилизация к творческим итогам года. — «Сов. искусство». М., 1934, 5 ноября.
«С удивительной убежденностью он играет своего марионеточного персонажа. И убеждает зрителя в его достоверности, правдивости и реальности. Гарин принял все условные черты образа, предложенные Тыняновым, но он обогатил его исторической и психологической достоверностью. Он сделал почти невозможное даже для очень хорошего актера — он оживил марионетку».
М. Юрьев. Эраст Гарин. — «Сов. экран», 1960, № 23.
- Утвержден на главную роль в фильме Г. Козинцева и Л. Трауберга «Большевик» (на экраны фильм вышел под названием «Юность Максима». Главную роль в нем играл Б. Чирков).
«Начались съемки. В репетициях подготовили основные сцены. Мне была поручена роль Максима. Но после месячной 56 работы съемки были прекращены из-за переделки сценария. Когда картину начали вторично, сниматься я уже не мог, потому что дал согласие В. Э. Мейерхольду на участие в гастрольной поездке театра по Сибири».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 253.
«Это такое <…> вышло, даже представить себе трудно. Хоть проси Комиссию запретить сценарий обратно. <…> Для нас разговор будет не только о замене Максима, но и о полной переделке образов, так как Максим и Дема сочинены явно для Вас и Чиркова…»
Г. М. Козинцев — Э. П. Гарину. Ленинград, 17 февраля 1934 г.
«Дорогой Эраст Павлович! <…> Вы нам наделали великую мороку, пришлось не только изменить Максима, но и вообще перетасовывать все роли. Вы можете понять, насколько все переменилось, по тому, что Степан играет Дему. <…> До сих пор не могу отделаться от неприятного чувства, что Вы все же могли бы что-нибудь исполнить с поездкой, чтобы ее не было, и сыграть бессмертный образ…»
Г. М. Козинцев — Э. П. Гарину. Ленинград, 19 марта 1934 г.
«Работу над двумя первыми картинами — “Путешествие в СССР” и “Большевик” — будем считать эскизами, пробой пера, этюдами, записной книжкой актера. Но и в эскизах наметились два направления моих актерских стремлений. Если в роли Максима я искал простоты, реалистичности поведения, то в роли Васюты Барашкина в “Путешествии в СССР” меня интересовали концентрация особых свойств характера, их преувеличение, иногда доведение этих свойств до абсурда, но всегда под лозунгом своего, личного лирического развития образа, того, что можно охарактеризовать термином “сатиричность лирическая”.
Вот эти два основных направления, выработанные в первых кинематографических эскизах, и будут определять мою дальнейшую деятельность в кино».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 253 – 255.
18 февраля.
- Премьера на радио: «Цусима» (по роману А. С. Новикова-Прибоя) — автор композиции, режиссер, исполнитель.
«Я думал так: если слушатель не видит этих шести-семи человек (которые ведут сцену. — А. Х.), то зачем его фантазию загружать совершенно лишней работой — составлением в своем воображении вида и биографии этих людей? Я решил читать один. Так было в “Японии” — там я один путешествовал и свои наблюдения, переживания делил со слушателем. Затем “15 раундов”. Там один боксер (Баттлинг) через себя, через свои ощущения, своими глазами показывал и себя, и то, что он видел.
Теперь “Цусима” — здесь задача огромной сложности. Это событие — трагический финал целой эпохи. <…>
Как решить эту задачу в постановке, ставя себе всегда одну формулу: минимум средств, максимум выразительности?
Я пришел к такому выводу: “Цусима” в радиопостановке — это произведение участника цусимского боя. Он ведет главную роль и действующего, и повествователя…
Но этим не достигается полное раскрытие вещи, ибо явление литературное и явление, звучащее в радио, — не одно и то же. Они орудуют различными средствами, так как имеют дело с различным материалом. Отсюда возникает прием звукового кадра. Чтобы вызвать у слушателя ряд ассоциаций, итог которых создает сцену, мы пользуемся рядом средств жанрового характера.
Одна из важнейших частей композиции — музыка. Она усложняет, дополняет сцены, определяет ритм, характер их…»
Э. Гарин. Как я работал над «Цусимой». — «Радиогазета», 1934, 24 февр.
«Рассказ ведет один чтец. Но это не обычный рассказ, а действенный “спектакль одного актера”, который с помощью музыки, хора и оркестра — выразительной, разнообразно окрашенной речью воссоздает живые образы беспощадного разгрома. “Цусима” Гарина — принципиально значительный эксперимент, движущий вперед советское радиоискусство, будоражащий и подымающий интерес к радио…»
С. Дрейден. — «Веч. красная газ.», 1934, 4 марта.
«“Цусима” А. Новикова-Прибоя <…> является переломной вехой развития литературно-художественного радиовещания, <…> настоящим произведением радиоискусства, оригинальным и захватывающе-выразительным, сложным по внутреннему построению, по поэтической композиции и вместе с тем предельно ясным и простым по эффекту восприятия. <…> У слушателя “Цусимы” ни разу не появляется досада на недостаточность выразительности звуковых образов. <…> Ни разу не появляется потребность в дополнительном зрительном образе. Слушатель “Цусимы” нуждается в зрительном образе не больше, чем зритель немого кино в цвете и звуке. Фактурная ограниченность 57 радио понята Э. Гариным не как его слабость, а как сила и выразительность. Именно поэтому “Цусима” может называться подлинным произведением радиоискусства. <…>
В отношении актерского исполнения работа Гарина стоит на обычном для него высоком уровне. В своей постоянной, в первые минуты кажущейся всегда несколько странной и однообразной интонационной манере в передаче текста “Цусимы” он достигает большой гибкости — от патетики до иронии, от лиризма до наивного равнодушия — все это в несколько заостренной, может быть, немного пародийной окраске…
Радио- “Цусима” построена совсем по иным поэтическим принципам, чем “Цусима” литературная, но совершенно ясно, однако, что без литературной “Цусимы” не было бы и радио- “Цусимы”, как без театрального актера и режиссера Гарина не было бы Гарина как радиорежиссера и актера…»
А. Гладков. — «Сов. искусство», 1934, 5 марта.
«Большое значение имеет ритмическая архитектоника отдельных сцен, когда ритм текста, чередование коротких отрывистых фраз, охватывающих отдельные детали по типу убыстренного монтажа в кино, создает впечатление стремительного действия и охватывает в коротком промежутке времени все событие в целом. <…> Такое построение произведения (своеобразная попытка создания точно очерченного звукового кадра), мне думается, открывает большие выразительные возможности. <…>
В искусстве чтения (говоря грубо) всегда намечались два направления. Искусство, приближенное к обыденной разговорной речи, искусство, ставящее себе целью похожесть на жизнь, лишенное крупных обобщений, широких и резких мазков. Это искусство речи берет свои истоки в салонном разговоре, в камерном литературном чтении и т. д. При таком положении радиослушатель должен быть уподоблен Подколесину, смотрящему в замочную скважину или (с поправкой на радиотехнику) ухо свое приложившему к замочной скважине. Но есть и другое искусство речи, питающееся традициями народного сказительства, современной ораторской речи, чтения самих поэтов (вспомним, как читал Маяковский, как читает Вишневский, Сельвинский и др.), искусство, берегущее ритм, а тем самым и содержание, искусство, не боящееся крупных обобщений, не боящееся окраски кусков своим отношением.
Постановкой “Цусимы” я хотел поднять вопрос о том, как должны звучать по радио литературные произведения. Должны ли они звучать неокрашенные и непретворенные воображением художника, их читающего, или они должны рассматриваться как материал, на котором художник строит сложное здание из своих ассоциаций, своих красок, своего толкования материала, над которым он работает. Я являюсь сторонником второго…»
Э. Гарин. Замечания режиссера о постановке «Цусимы». — «Говорит СССР», 1934; Ответы слушателям «Цусимы». — «Радиогазета», 1934, 12 мая.
«Что касается “Цусимы”, то я вынес самое лучшее впечатление от работы Э. Гарина над моим произведением.
Это относится как к монтажу текста, так и к самому исполнению.
Писатель бывает очень ревнив, когда видит свое литературное детище в чужих руках. Я же не могу предъявить ни одного упрека или возражения против того, что было сделано тов. Гариным из “Цусимы”.
Я не могу согласиться с упреками некоторых слушателей в том, что исполнение Гариным “Цусимы” формалистично, однообразно, с какими-то выкрутасами.
По-моему, сила гаринского исполнения именно в большой простоте и безыскусственности.
Я слушал “Цусиму” у своего приемника и был буквально потрясен…»
А. С. Новиков-Прибой. — «Радиогазета», 1934, 1 сент.
- В Московском областном театре новой драмы ставит спектакль «Братья Кастильони» по пьесе А. Колантуони в переводе и обработке Л. и А. Файко.
«Подчеркивая увлекательность интриги, постановщик вместе с тем смеется над персонажами. <…> Он то вводит приемы фарса, то пародирует мелодраму. Отсюда — острота сценического рисунка, резкие переломы в ритмическом и пластическом развертывании спектакля.
Насколько можно судить по этой постановке, Гарин является одним из режиссеров школы Вс. Мейерхольда, мастерство которых наиболее органически впитало в себя принципы и приемы этой школы. Мизансцены, построенные Гариным, не только зрительно эффектны, но также оправданы ходом действия и характеристиками персонажей и их взаимоотношений. Многочисленные и остроумные трюки логически вытекают из положений, несмотря на то, что они подчас неожиданны.
Великолепен, например, эпизод, в котором трое братьев дерутся, катаясь по крышке рояля; на шум выбежала дочь одного из них — отец сразу же очутился на стуле у рояля и как ни в чем не бывало заиграл упражнения Ганона. <…>
Большая работа проведена режиссером с актерами. Правда, в игре некоторых из них ясно виден режиссерский показ: движения, ракурсы, свойственные Гарину-актеру. Здесь сказывается трудность овладения новой для этих актеров манерой игры, да и, конечно, совсем не легко преодолеть влияние такой яркой актерской индивидуальности, как Эраст Гарин».
А. Февральский. «Братья Кастильони». — «Сов. искусство», М., 1934, 17 марта.
4 апреля.
- Премьера на радио: «Зеркало, яшма и меч» (автор документальной радиокомпозиции Вл. Брауде) — режиссер и исполнитель композиции.
- Задумывает исполнение и постановку на радио «Слова о полку Игореве».
- Репетирует радиопостановку «Путешествие на край ночи» по роману Л. Селина.
58 - Задумывает радиопостановки по произведениям Ю. Олеши, «Капитальному ремонту» Л. Соболева, «Приключениям барона Мюнхгаузена» Э. Распе, «Приключениям Шерлока Холмса» А. Конан-Дойля.
«Большое место в моей работе занимало и занимает радио. Работа на радио для меня увлекательна прежде всего тем, что она дает мне возможность, так сказать, изживать свои литературные увлечения. Я прочел потрясающую эпопею Новикова-Прибоя “Цусима” и поставил ее на радио. Прочел замечательный роман Луи Селина “Путешествие на край ночи” и сейчас также делаю на материале этой книги радиоспектакль. Перечел “Слово о полку Игореве”, прочел “Историю Ижорского завода” и разрабатываю план их радиоинсценировки. <…> Как и кино, радио для меня отнюдь не является той горе-стратегической “заранее приготовленной позицией”, куда и отступаю в паузах от работы в театре, но вполне самостоятельной, ценной, привычной и любимой областью работы.
В каждом своем радиоспектакле я ставлю себе определенный круг новых творческих задач, выполнение которых делает для меня эту работу субъективно интересной. Как уже можно судить по названиям моих радиопостановок, меня на радио увлекают монодраматические и эпические жанры. “Цусима” была попыткой сплавить монодраму с эпосом. В работе над “Словом о полку Игореве” я хочу, избежав прямой стилизации старинных сказительных приемов, применить принципы современного склада».
Э. Гарин. Красота и стилизация. К творческим итогам года. — «Сов. искусство». М., 1934, 5 ноября.
- Задумывает постановку фильма по роману Шарля Де Костера «Тиль Уленшпигель».
- Снимается в роли ветеринара в фильме «Веселые ребята», сценарий В. Масса и Н. Эрдмана, постановка Г. Александрова (эпизод с участием Гарина в окончательную редакцию фильма не вошел).
Май.
- Узнает о намерении В. Э. Мейерхольда назначить его на роль Самозванца в готовящейся постановке трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов».
Июнь — июль.
- Гастроли ГосТИМа в Сибири. Игра Гарина в «Мандате» и «Ревизоре» получает высокую оценку самых широких зрительских кругов.
«“Ревизор” у Мейерхольда в свое время вызвал бурю споров. Можно по-разному относиться к его толкованию комедии, но ясно одно — это один из талантливейших спектаклей нашей эпохи.
59 Игра Гарина (Хлестаков), Старковского (Городничий) пользовалась заслуженным успехом».
Из рецензии, помещенной в газете «Забой» — орган Прокопьевского горкома ВКП (б) — 5 июля 1934 г.
«Сегодня состоится передача радиомонодрамы “15 раундов” по роману Анри Декуэна. Постановка сделана для молодежного вещания артистом Театра имени Всеволода Мейерхольда Эрастом Гариным. Эта постановка явилась основоположницей нового жанра радиомонодрамы».
«Большевистская сталь», 1934, 17 июля.
- Во время гастролей получает предложение от Мейерхольда поставить пьесу П. Железнова «Грушенька» и отказывается из-за неудовлетворенности качеством драматургии.
- Предлагает Мейерхольду инсценировать роман Ю. Германа «Бедный Генрих». Предложение было отклонено Мейерхольдом.
Конец июля.
- Предпринимает поездку с целью навестить Н. Р. Эрдмана, сосланного в г. Енисейск.
«Он плыл, ехал и шел двадцать дней.
Багаж навестителя помещался в карманах и в газете, перевязанной бечевкой.
Когда он вошел в комнату, у Эрдмана от неожиданности глаза раскрылись. По его же словам: “Стали как две буквы "О"”.
— Эраст!..
— Здравствуйте, Николай Робертович!
Ссыльный драматург поставил на стол пол-литра, селедку с луком и студень. Потом хозяйка принесла на сковороде глазунью. Выпили, перекусили, поговорили. Гарин расположился против окна.
— Смотрите-ка, Николай Робертович, гидросамолет сел возле пристани… Может, он на запад летит…
— Вероятно.
— Может, меня прихватит… Пойдемте-ка спросим.
Пилот согласился “прихватить”, и Гарин через час улетел на запад, так и не распаковав своего багажа.
Через три года в Москве, опять же за рюмочкой и глазуньей, Эрдман спросил Гарина:
— Почему, собственно, Эраст, вы так быстро тогда от меня улетели?
— Да мне показалось, Николай Робертович, что я помешал вам. На столе отточенные карандаши лежали, бумага…»
А. Мариенгоф. Роман без вранья. Циники. Мой век, мои друзья и подруги. — М., «Московский рабочий», 1990. С. 118 – 119.
«Эраст был для меня необычным человеком. Его жизнь в театре и вообще — всегда была для меня недосягаемым идеалом! Его один только поступок — поездка к Николаю Эрдману — на всю жизнь сделал в моих глазах Гарина рыцарем без страха и упрека».
Ю. Лавров. Из письма Э. Гарину и Х. Локшиной. Киев, 1977 г.
«Очень многим в отношении полноты переживаний, чувств и мыслей за этот год я обязан своим поездкам. <…> Грандиозное впечатление осталось от Сибири, от индустриализирующегося Урала и по возвращении — от всегда новой и неожиданной Москвы. Особенно запомнился индустриальный гигант в Сталинске. Его мощь и силу подчеркивает старомодный пейзаж окрестностей, степей и старинного городка Кузнецка, где когда-то жил сосланный Достоевский и из домов которого, кажется, и сейчас могут выйти какие-нибудь персонажи Островского. Эти контрасты надолго остались в памяти».
Э. Гарин. Красота и стилизация — «Сов. искусство», 1934, 5 ноября.
Октябрь.
- Исполняет роль Участника космической экспедиции в радиоспектакле «Парабола солнца» (автор — Г. Нагаев, режиссер — Вайнштейн).
- В газете «Литературный Ленинград» от 1 ноября 1934 г. публикуется заметка Н. С. «О “Веселых ребятах”, оптимизме и смехе», где анонсируется начало работы над фильмом «Цирк» (режиссер Г. Александров) и в числе исполнителей главных ролей указан Э. Гарин.
Октябрь.
- Сценарий Э. Гарина и Х. Локшиной по «Женитьбе» Н. В. Гоголя принимается к постановке на ленинградской кинофабрике «Союзкино».
«Совместно с Х. А. Локшиной я написал киносценарий “Женитьба” по Гоголю. Эту работу считаю основным фактом своей творческой жизни за этот год. Почему я, актер, взялся за сценарий? Потому, что мне давно и упорно хотелось сыграть Подколесина. Этот образ я считаю одним из самых замечательных образов, вышедших из-под гоголевского пера. <…> Подколесина играли многие замечательные актеры, но ни одно из исполнений этой роли не было крупным художественным успехом. И вот я взял на себя смелость попытаться изменить судьбу этой несчастливой 60 комедии и заработать ей, если не в театре, то в кино, тот успех, на который она имеет не меньшее право, чем другие произведения Гоголя. Отличие моей работы от других инсценировок Гоголя в том, что я в своей транскрипции “Женитьбы” не выхожу за пределы образов данной комедии, не привлекаю образный материал из других вещей Гоголя. Читать Гоголя меня научила работа Мейерхольда над “Ревизором”. “Ревизор” Мейерхольда — это синтетический Гоголь. Моя “Женитьба” будет только одним из элементов синтеза».
Э. Гарин. Красота и стилизация. — «Сов. искусство», 1934, 5 ноября.
«Сценарий фильма представляет собой результат очень большой, внимательной и принципиальной работы. В нем нет случайностей и нет беспринципных колебаний: он построен на ощущении художественной логики, диктующей отбор материала и сцепление кадров. В нем нет пустых мест, <…> принципы сценария совершенно ясны: укрупнение социального смысла, динамизация сюжета, разработка персонажей по линии реалистического гротеска…»
Б. Эйхенбаум. «Женитьба» Гоголя на экране. — «Искусство кино», 1936, № 3.
«Сценаристы Гарин и Локшина <…> с этой трудной задачей (перевода произведения с языка театральной драматургии на язык кинематографа. — А. Х.) справились очень и очень неплохо. Их сценарий, равно как и сценарий Булгакова и Коростина “Ревизор”, явился одной из первых удачных попыток превращения классического произведения театральной драматургии в кинематографическое произведение. Они сумели сохранить все наиболее существенное из речи персонажей гоголевской комедии и заставить эту речь зазвучать по-кинематографически (ибо функция речи в кино иная, нежели функция речи в театре). Они смогли в сценарии разбить рамки сценической площадки и перенести действие в просторы кадра. Они наконец не навязывали Гоголю собственных взглядов на его эпоху и его героев — не обескровили идеи произведения. Словом, они создали бесспорно удачный киносценарий, дававший все основания думать, что мы увидим на экране <…> кинематографическое произведение, средствами своего искусства доносящее до зрителя замечательную пьесу великого писателя…»
С. Гинзбург. Гоголь, отраженный в луже. — «Искусство кино», 1936, № 3.
«В конце года в Наркомпросе сказали, что Хмелев ищет “завлита”. <…> С большим интересом он расспрашивал о репетициях Мейерхольда и вскоре уже почти открыто стал говорить о том, что видит свою роль в нахождении новой “средней” линии между Художественным театром и театрами “левого” фланга. Я его в этом поощрял, подогревал его хвалебными высказываниями о нем В. Э. и однажды почти уговорил его ставить в студии “Сирано де Бержерака” (это было задолго до возобновления этой пьесы на сценах советских театров) с Э. Гариным в главной роли. Я даже как-то привел к нему Гарина, приглашал Гарина и Локшину на закрытые вечера студии. <…> В этом направлении все и шло до происшедшего в конце 1935 года раскола студии…»
А. Гладков. Театр. — М., «Искусство», 1980, С. 72.
62 1935
25 февраля.
- В качестве сорежиссера и актера (роли — От автора и Участник космической экспедиции) занят на радио в спектакле «Космический рейс» («Парабола солнца») — 2-я редакция (автор Г. Нагаев, режиссеры Э. Гарин, Вайнштейн).
- Вместе с Л. Арнштамом, А. Каплером, С. Катковым, Х. Локшиной, В. Меркурьевым, Б. Чирковым и другими подписывает декларацию Первой художественной мастерской, образованной на «Ленфильме» под художественным руководством С. Юткевича.
26 апреля.
- Сценарий «Женитьба» обсуждается на выездной сессии отдела новой русской литературы Института литературы Академии наук СССР (Пушкинского дома).
Конец апреля — 10 июня.
- Репетиции «Женитьбы» на площадке.
11 июня.
- Общественный просмотр полностью отрепетированных сцен «Женитьбы» в киномастерской С. Юткевича.
«11 июня в Ленинградской киномастерской С. Юткевича <…> была показана “предварительная заготовка” будущего фильма “Женитьба”. <…> Это был театр, перерождающийся в кино на глазах у зрителя, и, надо сказать прямо, — это была победа над театром. Сценарий (Гарина и Локшиной) составлен очень умно, тонко и точно. Кажется, если бы кино существовало во времена Гоголя — он написал бы сценарий точно так. Актерский ансамбль, играющий в “Женитьбе”, прекрасен. Совершенно новый и убедительный образ дан Э. Гариным, исполнителем роли Хлестакова в театре Мейерхольда. Гарин убедителен вдвойне — и исторически и психологически. Это нечто вроде Акакия Акакиевича. Вообще весь фильм сделан по принципу очеловечивания персонажей, и в этом смысле он глубоко реалистичен, несмотря на гротескность игры».
Б. Эйхенбаум. «Женитьба» Гоголя в кино. — «Известия», 1935, 12 июня.
«Блестящий опыт дала “Женитьба”, которую Гарин и Локшина прорепетировали в 2 месяца. В результате этих репетиций мы показали нечто странное. Это был не спектакль и не кинематографическая картина, а очень четкая актерская работа, раскрытие всех возможностей актера…»
С. Юткевич. Первый год работы киномастерской. — «Искусство кино» 1936, № 1.
«В кино до сих пор странное отношение к репетициям. Есть режиссеры, которые утверждают, что репетиции лишают актеров свежести, непосредственности… Существуют в кино теории о том, что можно репетировать образ, а не сцены, как будто образ можно сделать в отрыве от ситуации, от вещей и т. п. <…>
Наши репетиции ставили задачей не только конкретное установление сюжета игры, ритма сцены, отделку мелких игровых деталей, но преследовали цель нахождения общего последовательного ритма всей комедии, уточнения композиции кадра и их смену».
Э. Гарин, Х. Локшина. Наша первая работа в кино. — «Искусство кино» 1936, № 3.
63 «Мастерская С. И. Юткевича, участниками которой мы были, отстаивала первостепенное значение актера в кинематографии. Сейчас это не требует доказательства и убеждений. Но в те времена в кинематографии еще царила теория натурщиков. Значение актеров нужно было утверждать и доказывать.
Новостью в ту пору был и репетиционный период, на котором настаивала Мастерская.
На нашу долю выпало счастье проводить репетиции планомернее и систематичнее других режиссеров. Конечно, помог наш театральный опыт и установленная искони театральная дисциплина. Полтора месяца мы репетировали ежедневно в две смены — утром до 12 часов, вечером от 5-ти до 8-ми. <…>
Демонстрация “Женитьбы” продолжалась 58 минут (не учитывалось время, потребное для проходных, натурных сцен). В репетиционном варианте было 43 эпизода, которые затем должны были разверстаться на кадры фильма. <…>
Мы показывали отрывки “Женитьбы” в помещении Мастерской Юткевича. Когда-то, вероятно, здесь была студия художника либо фотографа. Во всю стену большие окна (мы их завесили шторами). Декораций, конечно, не было, и их заменяли светло-коричневые занавеси, натянутые на расположенные по диагонали проволоки. Сдвинутые занавеси образовывали первопланный треугольник (так демонстрировались сцены в интерьере). Когда занавеси отодвигались, открывая глубину пространства, показывали сцены экстерьерного характера.
После пробега гостей в финале все шторы были подняты, занавес убран. На площадке осталась невеста, освещенная неверным, таинственным светом белой ночи. Тихо звучал вальс Ланнера. Эффект был невероятный и непредусмотренный режиссерами».
Э. Гарин. «Женитьба». — В кн.: Из истории «Ленфильма». Вып. 4. Л., «Искусство», 1975. С. 215 – 216.
Август.
- В журнале «Рабочий и театр» помещен ответ Э. Гарина («Рабочий и театр», 1935, № 14) на статью С. Дрейдена «С сохранением содержания», в которой автор говорит о Гарине как о талантливом артисте, находящемся без работы в Театре им. Вс. Мейерхольда.
«Письмо в редакцию
Уважаемый товарищ редактор!
В статье тов. Дрейдена “С сохранением содержания” как пример “безработного” артиста приводится и моя фамилия.
Считаю своим долгом сообщить следующее: “безработица” моя, как и десятка моих коллег, вызвана совершенно ненормальными условиями, в которых работает Гос. театр им. Вс. Мейерхольда.
Я позволю себе призвать автора статьи и всю театральную общественность окружить большим вниманием и любовью работу гениального мастера современного театра Всеволода Эмильевича Мейерхольда и помочь мастеру и коллективу завершить строительство нового здания театра, чтобы все мы были очевидцами дальнейших достижений советского театра.
Актер Театра имени Вс. Эм. Мейерхольда — Эраст Гарин».
- Вместе с Х. Локшиной на киностудии «Ленфильм» приступает к съемкам фильма «Женитьба», снимается в нем в роли Подколесина. В остальных ролях: Кочкарев — С. Каюков, Агафья Тихоновна — Н. Латонина, Анучкин — А. Матов, Жевакин — К. Гибшман, Яичница — А. Лариков и др. Оператор — А. Погорелый.
«Режиссеры Х. Локшина и Э. Гарин выдвинули идею, чтобы Кочкарева играл Каюков. И что же? Вы не узнаете актера! Этот “вахлак”, всегда какой-то рыхлый, приобрел изящество, законченность рисунка. Гарин и Локшина очень интересно с ним работали: они заставляли его дома вслух читать Блока, в жизни ходить с палочкой и в старомодной шляпе и т. д. Репетиционный период не дал окончательных результатов, а на съемках он развернулся до конца и вышел в картине очень хорошо. Для нас это огромная принципиальная победа.
Так примерно с каждым актером. Был, например, такой А. Матов, известный куплетист, очень талантливый эстрадник, но иногда с репертуаром невысокого вкуса. И вдруг этот человек оказался таким мягким, приятным актером типа, если хотите, раннего Чехова, что это было для нас самих откровением. В таком лирическом плане он делает Анучкина под режиссурой тех же Гарина и Локшиной, и делает замечательно…»
С. Юткевич. Первый год работы киномастерской. — «Искусство кино», 1936, № 1.
«Год назад мои друзья режиссеры Эраст Гарин и Х. Локшина, приступая к работе над “Женитьбой”, предложили мне роль Кочкарева. Я и обрадовался, и смутился. Да и было от чего смутиться: 18 театральных лет считался Ст. Каюков “рубашечником” — 65 характерно-бытовым актером, и вдруг… Гоголь, Кочкарев, барин.
Началась упорная работа над перековкой “рубашечника” во “фрачника”. <…> Постановщики картины вели со мной кропотливую работу, выкорчевывая мою “пейзанистость”, медленно и упорно выращивая нужный образ.
В помощь себе и Кочкареву в репетиционной работе меня заставили в жизни освоить ряд “барских” привычек. Например, я ходил с покрытыми ярко-красным лаком ногтями, с кольцами на пальцах, в светлых лайковых перчатках, с тростью. Постановочная группа следила за моими не репетиционными жестами и интонациями.
В жизни мне это мешало, смущало, я стыдился и прятал руки, влезая в трамвай и автобус… но Кочкареву шло на пользу. Роль была проработана во всех мизансценах, со всеми деталями. <…>
В результате в картине образ Кочкарева получился, по-моему, полноценным; удачу в создании его я отношу в значительной мере постановщикам картины. Образ Кочкарева в картине “Женитьба” <…> нов, ничего общего с традиционным, театральным Кочкаревым не имеет.
Я снимался четыре года до “Женитьбы”. Снимался по старинке: репетируя только перед самой съемкой, ничего заранее не проверив.
И, попав в мастерскую С. Юткевича, я, к своей радости, убедился в иных больших возможностях работы актера в кинематографии…»
С. Каюков. Поиски образа. — «Искусство кино», 1936, № 3.
«“Женитьбу” мы начали ставить через десять лет после того, как я сыграл роль Хлестакова в “Ревизоре” в Театре Мейерхольда. Интерес к сценической и кинематографической трактовке Гоголя возник уже тогда. И “Женитьба” была для меня творческим продолжением этой работы, развитием принципов, положенных моим учителем В. Э. Мейерхольдом в основу сценической трактовки Гоголя.
Не могу не упомянуть о впечатлении, которое произвело на меня гениальное исполнение Хлестакова М. А. Чеховым в постановке “Ревизора” К. С. Станиславским.
Влияние В. Э. Мейерхольда на постановку “Женитьбы” было двояким. Ставя “Ревизора”, он научил нас глубокому пониманию Гоголя, такому, о котором потом профессор Н. К. Пиксанов на обсуждении сценария “Женитьбы” сказал: “Легким творческим усилием вы переносите текст Гоголя на экран, и, пожалуй, мы, литературоведы, должны быть вам благодарны за многие детали, которыми вы обогатили понимание "Женитьбы".
Лучше всего формулировал творческую задачу, которую мы ставили перед собой при постановке "Женитьбы", А. В. Луначарский 66 в блестящем разборе мейерхольдовского "Ревизора"” (“Новый мир”, 1927, № 2): “Горе от ума”, “Ревизор” предполагают не только одну правду, но и гротеск, карикатуру и вне атмосферы такого гротеска не могут не поблекнуть».
Э. Гарин. «Женитьба». — В кн.: Из истории «Ленфильма». Вып. 4. Л., «Искусство», 1975. С. 212.
«Приступая к работе, мы отказались от принципов монтажного кинематографа, во-первых, как не соответствующего стилю произведения, во-вторых, как не дающего возможности передать авторскую мысль игрой актеров… Наша задача — овладеть монтажом как одним из средств киновыразительности, закономерно организующей игру актеров».
Э. Гарин, Х. Локшина. «Женитьба». — «Кино», 1936, 26 февр.
«Теперь относительно мизансцен. Я пережил период необычайного трагизма, когда понял, что мизансцены театра совершенно не играют в кинематографе. Мизансцены в театре — это клавиатура рояля, на которой можно играть. В кино это ничего не дает. Чаплин не оперирует крупными планами, и действительно, в “Золотой лихорадке” он играет, как на сцене, но нам решиться на это чрезвычайно трудно.
К крупному плану я отношусь отвратительно и как зритель, и как актер. Крупный план считается преимуществом кинематографа, я считаю это его недостатком.
Мои любимые образцы в кинематографии не связаны с крупными планами. Гриффит не злоупотребляет крупными планами, не разлагает явления жизни на какие-то “паразитические элементы”.
У Эйзенштейна есть одна картина — “Броненосец "Потемкин"”, поставленная по всем законам киноискусства. Там только машины разлагаются на “паразитические элементы”, а “Октябрь”, “Старое и новое” я всерьез воспринимать не могу. Это барокко. Здесь нет интереса к человеку…
Завершая все сказанное и пытаясь дать определение того жанра, который мы избрали, я бы его охарактеризовал так — это есть лирическая сатира.
Несколько слов относительно Подколесина.
Нам казалось, что Подколесин должен обладать какими-то чертами самого Гоголя.
С “чаплинизированным” человеком он должен полемизировать. Будучи Китоном по своим поступкам, он не приобретает счастья. Никакого рока не произошло. Это была настоящая действительность, причем действительность печальная. Тут получаются несколько трагичные опенки.
В Подколесине мы увидели черты русского комического Гамлета, основа характера которого в сомнениях…»
Из выступления Э. Гарина на обсуждении режиссерской экспозиции сценария «Женитьба» 25 мая 1935 года. — РГАЛИ, ф. 2979, оп. 1, ед. хр. 228.
2 ноября.
- Премьера радиокомпозиции «Париж» по произведениям В. Маяковского (режиссер, исполнитель композиции).
67 1936
12 января.
- Премьера второй редакции радиокомпозиции по книге А. С. Новикова-Прибоя «Цусима».
Февраль — март.
- Завершение работы над первой редакцией фильма «Женитьба». Первые просмотры картины.
«Нужно было по возможности освободить “Женитьбу” от “квартального” и преодолеть старую бытовую трактовку комедии (и, в частности, образа Подколесина). Нужно было добиться, чтобы “Женитьба”, сохраняя свою комедийную силу, стала в один ряд с “Ревизором” и “Мертвыми душами”. И надо сказать, что попытка эта постановщикам удалась… “Совершенно невероятное событие” принимает размеры грандиозного, почти исторического скандала. Это особенно подчеркнуто молчаливой интермедией, прерывающей шествие женихов к невесте. “Квартальный”, которого так боялся Гоголь, показывается на мгновение в виде Николая I, проезжающего в царскосельском поезде. Перед нами — уголок николаевского Петербурга и кусок николаевской эпохи».
Б. Эйхенбаум. «Женитьба» Гоголя на экране. — «Искусство кино», 1936, № 3.
3 марта.
- В Доме кино проходит дискуссия, посвященная вопросам «борьбы с формализмом».
«Партия искусство любит, за искусством следит. Помогая, нас иногда и больно бьют. Иногда, чтобы помочь, приходится ударить (аплодисменты).
Уже условность гоголевской пьесы диктует условность кинематографического изложения. Гарин трактовал эту условность не только в смысле внешнего показа, но и режиссерски и актерски, т. е. в картине “Женитьба” условностью проникнута и игра актеров. Гарин — блестящий актер. Смотреть его в роли Подколесина всегда интересно и часто смешно. Но дальше этого интересного и смешного Гарин не пошел. У Гоголя же Подколесин глубже и сложнее…»
Из речи председателя Комитета по делам искусств при СНК СССР П. М. Керженцева (Пудовкин В. «Нет горечи сарказма», 1936. — В кн.: Из истории «Ленфильма». Вып. 4. Л., «Искусство», 1975. С. 219).
«Густой натурализм, даже не натурализм, а физиологизм, пронизывает весь фильм… Это режиссерское построение фильма как театра марионеток не случайно: оно основано на перенесении в кинематограф определенных тенденций театрального формализма, <…> не изжитых полностью до сих пор и в советском театре, в частности в творчестве В. Э. Мейерхольда. <…>
Грубый натурализм ряда эпизодов, физиологическая разработка темы сочетаются с эстетским построением фильма в целом, любованием деталями и каждым отдельным кадром. <…> Композиция фильма свидетельствует о том, что Гарин пришел в кинематографию прежде всего как театральный режиссер, не понявший всей разницы между театром и кинематографом, и как верный ученик В. Э. Мейерхольда».
С. Гинзбург. Гоголь, отраженный в луже. — «Искусство кино», 1936, № 4.
«Ялта — VI – 36
… Получил <…> письмо (из ГосТИМа. — А. Х.), что я должен играть Репетилова, а то там (в Киеве) МХАТ был и надо спасать. <…> Завтра еду в Ленинград доделывать “Женитьбу”. Читал еще одну рецензию друга Николая Давидовича (Оттена. — А. Х.) — Гинзбурга. Там сказано, что я трактовал Подколесина как импотента. Хочу подать мысль еще рецензенту, что я мыслил его как гемороидалиста — тогда будет полный социально-гинекологический анализ.
Предполагаю, что в августе, несмотря на рецензии друзей наших друзей, картина выйдет. В кармане лежит второй сценарий. Как это ни странно — Шкловского, и хороший…»
Из письма Э. Гарина к Е. А. Тяпкиной.
- По предложению руководства Комитета по делам кинематографии обдумывает план постановки и исполнения заглавной роли в фильме по роману М. Сервантеса «Дон Кихот». Замысел остался неосуществленным.
«Э. Гарин и Х. Локшина будут делать “Дон Кихота”, где Гарин будет играть Дон Кихота, а Каюков — Санчо Пансу…»
С. Юткевич. Первый год работы киномастерской. — «Искусство кино», 1936, № 1.
- Задумывает радиопостановку в двух частях по роману А. Толстого «Петр I».
- Подготавливает четырехсерийную композицию по «Войне и миру» Л. Н. Толстого. Для участия в передаче Гарин намеревается пригласить «всех мастеров русского театра» — В. И. Качалова, М. М. Тарханова, М. И. Бабанову и других. (Как вариант — постановочное чтение, цикл из 16 передач.) 68 К этому замыслу Гарин возвращался не раз, уже в сороковые и пятидесятые годы, но осуществить его так и не удалось.
«Я принес в литературное вещание композицию “Война и мир”. <…> На беду, Льва Николаевича Толстого уже не было в живых, и санкцию на композицию я должен был получить у одного известного литературоведа.
— Вы исказили Толстого?
— Исказил. Из всей огромной эпопеи я сделал шестнадцать передач, рассчитанных на шестнадцать часов текста.
Литературовед, не в пример Новикову-Прибою, запретил на корню эту работу.
Грущу об этом по сей день. И потому, что тогда еще были в расцвете и Качалов, и Тарханов, и многие другие замечательные актеры — предполагаемые исполнители радиопостановки; и потому, что, работая почти два года над композицией, я не переставал удивляться своему неожиданному убеждению — мне все время казалось, что Толстой писал “Войну и мир” специально для радио — так многообразно заложены в романе все компоненты, необходимые для этого искусства. А чувство большой обиды появилось у меня, когда не мы, а англичане сделали двадцать шесть передач “Войны и мира”…»
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 228, 229.
1937
«Ленинград, май 1937
“Женитьба” в Ленинграде прошла. Материальный успех очень хорош. Художественные оценки диаметрально противоположны — одни смотрят много раз и хвалят (например, Анна Ахматова), другие ругают матом.
Сам я смотрел раза четыре, и все четыре раза публика аплодировала среди картины… 21-го прошлого месяца играл прощального “Ревизора”. Выход встретили громом аплодисментов, а после “Благословения” вызывали раз восемь, были подношены цветы и прочие аксессуары, выражающие внимание. <…>
P. S. Будучи в Москве, зашел на актив и попал на заключительное слово Мастера, в тот кусок речи, когда он, цитируя Сталина, говорил о внимании к людям и что в труппе нет никакого внимания к человеку, в частности к З. Райх.
Прослушав этот абзац, я ушел напротив в пивную и с удовольствием на свободе выпил кружку русского пива…»
Из письма к Е. А. Тяпкиной. — РГАЛИ, ф. 3042, оп. 1, ед. хр. 108.
28 июля.
- Фильм «Женитьба» выходит на широкий экран.
«Гарин отказался от обычной, легкомысленной трактовки Подколесина. Его интересовал душевный строй, характер героя… Гарин искал секрет, который сделал Подколесина из водевильного персонажа персонажем комедии Гоголя. Он искал в Подколесине психологическую глубину, искал причину его скованности, причину его боязни “совершить поступок”. <…> Эта роль — результат большой работы артиста, глубоких и серьезных размышлений над образом, результат поисков подлинной драмы характера даже в такой эксцентрической истории. Внешний эксцентризм исполнения, резкость и замысловатость внешнего рисунка роли для Гарина — не самоцель, а результат большого и пристального внимания к драматическому зерну образа…»
М. Юрьев. Эраст Гарин. — «Сов. экран», 1960, № 23.
«К сожалению, у нас не сохранилось лучшего, по-видимому, проявления творческого мастерства этого талантливейшего артиста — роли Подколесина из фильма “Женитьба” по Гоголю, поставленного Гариным совместно с Х. А. Локшиной. Фильм был уничтожен. Однако сохранившиеся материалы (режиссерские разработки, фотографии, описания) позволяют судить о том, что фантазия авторов на материале “совершенно невероятного происшествия” Н. В. Гоголя творила чудеса самые удивительные, и трудно сейчас решить, что было наиболее удивительным чудом — общая ли конструкция картины или ирреальная фигура эксцентрического (читай — сказочного) гаринского Подколесина».
В. Свешников. Эраст Гарин. — В кн.: Актеры советского кино. М., «Искусство», 1964. С. 49.
«Свой первый фильм, “Женитьба” по Гоголю, я постеснялся показать Мейерхольду. Представил себе, как он входит в просмотровый зал, а сам думает: “Что он там понакрутил?” От одного этого мурашки ползли по телу. А может быть, ему бы понравилось, ведь делался этот фильм по мейерхольдовским законам».
Мастер и ты. — «Смена», 1972, № 1.
«В фильме “Женитьба” по Н. Гоголю я старался по-своему развить некоторые наиболее близкие мне грани искусства Мейерхольда».
Э. Гарин. В фильме «Портрет Дориана Грея». — «Театр», 1974, № 2. С. 48.
- Пробуется на роль шпиона Льва Кирилловского в фильме А. Зархи и И. Хейфица «Ленинградцы». Фильм не был осуществлен.
- Участвует в записи на радио пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор» (монтаж сцен из спектакля ГосТИМа, режиссер Вс. Мейерхольд) — роль Хлестакова. 21 декабря — премьера радиомонтажа.
- Вместе с Х. Локшиной работает над сценарием и готовится к съемкам фильма «Поединок» («Господа офицеры») по повести А. И. Куприна, в котором предполагал сыграть Ромашова. В архиве Э. Гарина и Х. Локшиной сохранились также фотопробы на роли в этом фильме А. Ф. Борисова, Е. З. Копеляна, Н. А. Крючкова, В. В. Меркурьева, В. П. Полицеймако, З. А. Федоровой, М. И. Царева и других. Работа над фильмом не была завершена.
70 1938
- По приглашению главного режиссера Ленинградского театра комедии Н. П. Акимова вступает в труппу театра.
- Ставит на его сцене спектакль по пьесе В. Шкваркина «Простая девушка».
21 февраля.
- Премьера спектакля «Простая девушка».
«Советский зритель знает режиссера спектакля Эраста Гарина как актера, обладающего чрезвычайно ярким и своеобразным дарованием. <…> Спектакль “Простая девушка” познакомил нас с Гариным — театральным режиссером. Первая режиссерская работа Гарина в Театре комедии показывает, что мы имеем дело с самостоятельным и зрелым мастером, обладающим острым чувством театра, прекрасно работающим с актерами, одаренным остроумной и яркой изобретательностью.
В спектакле “Простая девушка” очень много интересных и своеобразных режиссерских находок. Однако важнее всего в этом спектакле, конечно, та работа, которую провел с актерами режиссер, добивавшийся и добившийся крепкого ансамбля…»
Ю. Герман, Л. Левин. Сто представлений «Простой девушки». — «Лит. газ.», 1938, 20 ноября.
«Пьесу В. Шкваркина театр впервые показал в феврале 1938 года, а к началу ноября она прошла уже сто раз. <…> Мы с Ю. Германом решили написать об этом. <…>
Незадолго до того “Простую девушку” показал в Ленинграде Московский театр сатиры. Прежде чем писать о ленинградском спектакле, мы посмотрели московский, в котором участвовал знаменитый В. Хенкин. <…> Спектакль Театра комедии понравился нам больше. Главным его преимуществом мы считали то, что Гарин усилил лирическую интонацию пьесы. Зритель Театра сатиры, ежесекундно вынуждаемый к острой комедийной реакции, в коротких промежутках между приступами хохота просто не успевал заметить, что в пьесе Шкваркина есть эта лирическая интонация, есть эта, по существу говоря, очень значительная и серьезная тема рождения хороших советских людей».
Л. Левин. Пестрый фараон. — «Нева», 1976, № 1.
23 мая.
- Москва. Открытие сезона эстрадного театра «Эрмитаж». Среди номеров программы — рассказ А. Чехова «Разговор человека с собакой» в исполнении А. Матова и Ю. Хржановского. Режиссер — Э. Гарин.
«Постановка инсценировки чеховского рассказа (режиссер Эраст Гарин) лишний раз свидетельствует об огромных возможностях эстрадного театра и его артистов, которые в соответствующей обстановке могут расти, развиваться, искать, открывать новые стороны своих дарований…»
В. Эрманс. Драматург на эстраде. — «Сов. искусство», 1938, 30 мая.
- По предложению С. Юткевича работает над сценарием по роману Н. Островского «Как закалялась сталь».
71 - Навещает Николая Островского в его доме в Сочи.
- Снимается в роли диверсанта Волкова в фильме «На границе» (автор сценария и режиссер-постановщик А. Иванов, «Ленфильм»).
2 декабря.
- Фильм «На границе» выходит на экраны.
«К этому времени у меня уже сложились некие артистические правила. Я отнес себя к категории актеров, заинтересованных искусностью, в противовес актерам позирующим. Ну это, очевидно, оттого, что я некрасив, а то стоит ли затрудняться?
Отсутствие фантазии у приглашающих сниматься как-то сразу навевает скуку. Так, удачно сыграв шпиона Волкова в картине “На границе”, я получил серию предложений играть шпионов. Я их играл бы до сего дня, если бы был деловым человеком.
Но после выпуска картины, как-то гуляя близ Луги, я был задержан часовым, который явно узнал, что я шпион. После длительного разговора он узнал, что видел меня в картине. Должен сказать, что такая серьезность нашей актерской (и режиссерской) работы в моей стране очень мне по душе…»
Э. Гарин. Рукопись 1945 г. Опубликовано в подборке «“Как я стал киноактером”. — Страницы не вышедшей книги». — «Киноведческие записки», № 47.
«В фильме “На границе” Гарин играл небольшую роль диверсанта… Казалось бы, что общего между веселым дарованием Гарина и образом затравленного хищника? Но Гарин сумел показать этого человека и смешным, и жалким, и страшным. Он удивительно наглядно и ясно раскрыл драму человека, лишенного чести, совести, родины. Гарин создал драматический и вместе с тем сатирический образ, который надолго запомнился».
М. Юрьев. Эраст Гарин. — «Сов. экран», 1960, № 23.
- В Ленинградском театре комедии ставит спектакль по пьесе Ю. Германа «Сын народа», в котором играет главную роль — доктора Калюжного.
29 декабря.
- Общественный просмотр спектакля «Сын народа».
«Калюжный — Гарин не похож на стандартного героя, которого мы в десятках вариантов встречали на экранах кино и на театральной сцене. Это очень скромный и очень простой человек, способный не только радоваться жизни, но и грустить, и сердиться, и волноваться за успех своего дела.
В создании подлинно реалистического образа советского героя-интеллигента, взращенного народом, и заключается основная заслуга драматурга Юрия Германа, режиссера и исполнителя роли Калюжного Э. Гарина».
Ю. Широкий. «Сын народа». — «Ленингр. красная газ.», 1938, 30 дек.
1939
- За исполнение роли диверсанта Волкова в фильме «На границе» Э. Гарин награждается орденом «Знак Почета».
2 января.
- Премьера спектакля «Сын народа».
«Молодой советский врач Калюжный трудно сказать был “сыгран”, он был воплощен, пережит, живым ходил перед нами по сцене театра. Артист Гарин сделал огромное дело, и об этом следует сказать громко. Артист Гарин показал нам нового человека, советского интеллигента, молодого ученого, сложного и живого.
И мало этого.
С первых же картин видать на сцене большого человека. Непонятно почему, но постепенно зрители начинают верить в то, что Калюжный действительно способен на великие дела.
Он играет просто, благородно и ясно. Для всех друзей его прекрасного таланта, для советских зрителей — это большая радость…»
Евг. Шварц. «Сын народа». — «Смена», 1939, 4 янв.
«Гарин создает несколько необычный на первый взгляд, но правдивый, содержательный, человеческий образ ученого, сына и друга народа. Чем ближе знакомишься с этим чуть-чуть хмурым человеком, <…> тем сильнее начинаешь постигать подлинное духовное его величие…»
С. Дрейден. «Сын народа». — «Ленингр. правда», 1939, 10 янв.
72 «Непонятно, почему так много споров вызвала игра Гарина. Противники трактовки этого образа, очевидно, смотрят на актера как на “формалиста-рецидивиста”, с которым надо быть начеку. Гарин играет хорошо прежде всего потому, что ему веришь, веришь даже в надуманных ситуациях, даже в тех случаях, когда он разговаривает не с живыми людьми, а с персонажами-схемами. В работе Гарина ценно то, что он как раз ничего не придумывает “из головы”, он подошел к роли просто, “глядя ей прямо в глаза”. Он не только не выдумал никаких “штучек” для роли, но даже нашел в себе силы отказаться от многих соблазнительных эффектов, приготовленных драматургом. Это — большое завоевание для Гарина.
Гарин озабочен не внешними приемами характеристики героя, а поисками психологических мотивировок его поступков».
Л. Малюгин. Заглавная роль. — «Сов. искусство», 1939, 18 янв.
«Сила пьесы и спектакля — в образе хирурга Калюжного. Его играет Эраст Гарин.
<…>Гарин правдив от начала до конца. Но как раз к нему-то и придрались работники Главреперткома. Они заявили, что таких (каких?) большевиков не бывает (?), что Гарин изображает одержимого. Они потребовали снять Гарина с этой роли, пригрозив в противном случае снять пьесу со сцены. Театр воспротивился этому и сумел доказать свою правоту…»
Н. Вирта. Ленинградский театр комедии. — «Правда», 1939, 25 февр.
«Театр пьесу показал, и ныне она пользуется успехом именно из-за образа Калюжного. Через несколько дней, когда спектакль шел с успехом, тов. Карская (работник реперткома. — А. Х.), почувствовав неудобство положения, разрешила спектакль, мотивируя это отчасти и тем, что Гарин, мол, изменил трактовку образа. Карская солгала, Гарин в угоду реперткомовским вкусам от своих принципов не отступил…»
Н. Вирта. О смелости подлинной и мнимой. — «Правда», 1939, 6 апр.
«Внутренняя зрелость художника начинается в тот момент, когда ему уже не хочется говорить всего до конца, когда он уже считает возможным позволить себе роскошь о многом умалчивать. К Гарину уже пришла зрелость, и первым плодом зрелости мысли художника была его последняя работа режиссера и актера над пьесой Ю. Германа “Сын народа” и над образом ее героя, доктора Калюжного… Впервые в его актерской жизни ему предстояло сыграть человека больших дел, цельного, ясного, здорового. Впервые ему надлежало показать со сцены человека думающего и творящего, склонного скрывать от окружающих свой душевный мир и не придающего никакого значения производимому им внешнему впечатлению…
“Все стоическое, — писал в своем знаменитом "Лаокооне" Лессинг, — не сценично…”
И то, что стоическое сценично, и то, что не только открытые проявления страстей способны волновать зрителей, с блеском показал Эраст Гарин в работе над образом доктора Калюжного.
Образ Калюжного — это начало новой актерской жизни Эраста Гарина… Сложным путем пришел он к большой правде театрального искусства… И это искусство откроет перед ним такие выразительные средства, которых он, конечно, не знал и не мог знать раньше».
С. Цимбал. Эраст Гарин, орденоносец. — Артисты Государственного театра комедии. Л., Изд. Ленинградского театра комедии, 1939.
«Гарин — артист необыкновенно тонкой и полной жизненной правды. Но правда его так же отличается от бытовой наблюдательности, как хорошая картина отличается от фотографии. <…>
Спектакль поставлен просто и, как все, что делает Гарин, поэтично. Все, что происходит на сцене в его спектакле, может происходить только так, а не иначе. Балалайка в сцене болезни, частушка, которую поют неподалеку от больницы, дождик в последнем эпизоде, детские песенки в школе — все это режиссерские находки, простые, казалось бы, и поэтому не бросающиеся в глаза, но лишенные той приблизительности, которая губит всякую поэтичность».
Ю. Герман. О Гарине — режиссере и актере. Эраст Гарин, орденоносец. — Артисты Ленинградского театра комедии. Л., Изд. Ленинградского театра комедии, 1939.
73 Март.
- Приезд В. Э. Мейерхольда в Ленинград в связи с предстоящими репетициями физкультурного парада со студентами Института им. Лесгафта.
«18 марта 1939 г.
Дорогой Всеволод Эмильевич!
Весь день вчера разыскивал Вас по городу; звонил многократно в Институт Лесгафта, в Александринку, к Юрию Михайловичу1 и нигде Вас не было, а между тем обед был изготовлен и ждал Вас. Как мне сказали у Юрия Михайловича — Вы будете в Ленинграде числа 23-24. Имейте в виду, что ждем Вас и Зинаиду Николаевну у себя на новосельи. В этих числах буду звонить Вам. Желаю Вам всего доброго.
Приветствуйте Зинаиду Николаевну. Хеся кланяется.
Эр. Гарин
Между прочим адрес:
М. Посадская 4А кв. 4»
Письмо Э. Гарина В. Э. Мейерхольду. — РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 1340.
1 Юрьев Ю. М. — актер, играл в спектаклях, поставленных В. Э. Мейерхольдом в Александринском театре («Маскарад», «Дон Жуан») и ГосТИМе («Свадьба Кречинского»), сосед Мейерхольда по Дому работников искусств на Карповке.
- Пробуется на роль Белогвардейца в фильме Л. Арнштама «Друзья».
- Э. Гарин и Х. Локшина приступают к постановке фильма «Доктор Калюжный» по сценарию Ю. Германа.
- Худсовет «Ленфильма» отклоняет кандидатуру Э. Гарина как исполнителя заглавной роли в фильме.
«Стало ясно, что из-за предвзятости, из-за недоверия режиссуры “Ленфильма” к его драматическим способностям Гарин не создал на экране роль, которая, несомненно, стала бы событием в нашем киноискусстве…»
М. Юрьев. Эраст Гарин. — «Сов. экран», 1960, № 23.
13 июня.
- Начало съемок фильма «Доктор Калюжный».
- Посещает репетиции В. Э. Мейерхольда оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама» в Ленинградском Малом оперном театре.
20 июня.
- Последняя встреча Э. Гарина с В. Э. Мейерхольдом в Ленинграде дома у Э. Гарина и Х. Локшиной.
«Случилось так, что самую последнюю ночь перед его арестом в Ленинграде провели мы у Гариных все вместе. Я там снималась, Гарины тогда жили в Ленинграде, а Мейерхольд приехал репетировать номера для физкультурного парада со студентами Института физкультуры им. Лесгафта.
Эраст Гарин и Хеся Локшина пригласили его на блины, но на киностудии у них неожиданно назначили вечернюю съемку. Гарин по телефону предупредил Мейерхольда: “Всеволод Эмильевич, мы освободимся поздно, придем домой в двенадцатом часу, а вас до этого будет принимать Елена Алексеевна”. В ответ он, Эраст рассказывал, сказал: “Очень хорошо!”
С Мейерхольдом приехали директор Института им. Лесгафта и Зосима Злобин. (Зосиму Мейерхольд очень любил, и именно Зосиму приглашал к себе в Леонтьевский Станиславский, чтобы понять, что такое биомеханика.) Зосима знал, что Мейерхольд любит “Рислинг 63”, сбегал, купил. Вечер мы провели очень хорошо, весело, Всеволод Эмильевич был в прекрасном настроении. Рассказывал, что на режиссерской конференции выступал плохо, неудачно. Это было уже после закрытия театра. На этой конференции был М. Лишин (муж Е. А. Тяпкиной. — А. Х.) и дома мне рассказывал, что когда Мейерхольд вошел в зал, то все встали и началась овация, а потом стали кричать, чтобы Мейерхольду дали слово. Вышинский и Храпченко, председательствовавший, не знали, что делать, Храпченко растерялся, но слово дал. Мы тогда говорили дома, что после этой овации могут быть только два выхода — либо театр восстановить, либо Мейерхольда убрать, посадить. М. Лишин говорил, что о Мейерхольде очень хорошо говорили Алексей Попов и Михоэлс. Михоэлс всегда был поклонником Мейерхольда, 74 но Алексей Дмитриевич говорил, что всем новым в театре мы обязаны Всеволоду Эмильевичу. Когда опубликовали стенограммы, то в них, конечно, такого уже не было.
Но выступал он, об этом все говорили, неудачно. Когда он увидел общее к себе отношение, он не мог так выступать, а он говорил как-то насмешливо, иронически, о том, что беда вся в том, что театры наши не повернулись лицом к месткому, и так далее. Лишин говорил, что это было не на ту аудиторию. И сам Мейерхольд нам у Гариных признавался, что плохо выступал.
Он просил меня соединить его по телефону с Москвой, с Зинаидой Николаевной, я много раз пыталась, но Москву не давали. Я звонила до четырех часов ночи. Потом он сказал, что утром позвонит сам из своей квартиры. Мы собрались расходиться в семь часов утра. Эраст, уставший после съемок, уже ушел спать.
Мейерхольд приглашал нас к себе на репетицию парада, она была назначена через день. “Сейчас пойду домой, — сказал он, — сменю рубашку и на репетицию”.
Квартира Гариных была во втором дворе, они жили в ленфильмовском доме напротив “Ленфильма” на Большой Пушкарской (дом 48, кв. 26). Хеся Александровна вышла на балкон проводить Всеволода Эмильевича. Мейерхольд помахал ей рукой и скрылся. Потом она признавалась, что и когда они с Гариным возвращались вечером домой, и утром она видела, что кто-то у дома ходит, караулит. И еще утром она видела, как две крысы выбежали на пустой двор и перебежали дорогу Мейерхольду. Это было утром 20 июня 1939 года.
Меня в тот приезд поселили в “Европейской”. Пришел среди дня Эраст, я ему говорю: “Завтра идем на репетицию?” А он: “Молчи ты, молчи”. Я ничего понять не могу, он объяснил: “Мейерхольда арестовали. Мне Юрьев сказал, — говорит, — я с ним случайно встретился”. Мейерхольд жил на Карповке, там же, где у Юрьева была квартира. Мы думали, и нам не миновать, ведь пришел-то он к себе, где его ждали всю ночь с ордером, от нас. Но нас не тронули, никуда не вызывали».
Е. Тяпкина. Последняя встреча. — «Театральная жизнь», 1989, № 5.
31 августа.
- Завершает съемки фильма «Доктор Калюжный».
29 сентября.
- Газета «Кадр» помещает анонс: «Образец стахановской работы», где говорится: «Группа “Доктор Калюжный” сдала картину на три месяца раньше срока, сэкономив полмиллиона рублей…»
«Простота и правдивость — основные черты всего фильма, всей режиссерской работы Э. Гарина и Х. Локшиной. В построении кадра, в мизансценах, в монтаже режиссеры обнаруживают себя как уверенные и зрелые мастера. <…>
В целом “Доктор Калюжный” — один из наиболее удачных наших фильмов, посвященных современной советской действительности».
С. Аркадьев. «Доктор Калюжный». — «Кадр», 1939, 29 сент.
«Режиссерская манера Э. Гарина и Х. Локшиной чрезвычайно своеобразна. Они умеют видеть вещи в необычном и оригинальном свете. Они как бы преувеличивают то, что видят. <…>
Художественная правда недоступна успокоенному, равнодушному художнику. Нужна взволнованность, нужна страсть, смелость, любовь к изображаемому. Эти качества есть у авторов “Доктора Калюжного”. Они обладают сильным зрением, способностью различать в обыкновенных событиях — необыкновенный, высокий смысл».
Р. Юренев. Сила зрения. — «Кино», 1939, № 50.
24 октября.
- Гарин и Локшина отправляют телеграмму Мейерхольду.
«Брюсовский пер 12 кв 11
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду
Дорогой единственный Всеволод Эмильевич будущего гениального как изумительно прошлое и настоящее хотят Вам Гарин Локшина»
75 Эта телеграмма до адресата не дошла. Мейерхольд в это время находился в Бутырской тюрьме. 2 февраля 1940 года он был расстрелян.
«Гарины, и Эраст Павлович, и Хеся Александровна, после ареста Мейерхольда очень долго верили, что Всеволод Эмильевич обязательно вернется, и ждали его, у них в семье много лет существовал неприкосновенный фонд, деньги, отложенные на возвращение Всеволода Эмильевича, чтобы на первое время ему было, как они считали, на что одеться-обуться».
М. Валентей. Должна сказать… — «Театр, жизнь», 1989, № 5.
«… Был снежный, морозный московский вечер, типичный для холодных зим 30 – 40-х годов. Уже кончились спектакли, и они были длительны в те годы. <…> Поздним вечером, пока мы расходились по домам, Борис Равенских сжег какие-то бумаги в голландке, долго не ложился, потом к нему пришел Эраст Гарин, и они вдвоем отправились на вокзал. В Москве их не было весь конец зимы, если мне не изменила память, всю весну, и жили они это время в подмосковных лесах у лесника, с которым был знаком отец Гарина, лесничий по специальности. Эта поездка не носила характера развлечения, как письма и фотографии сгорали не для того, чтобы принести тепло остывшей одинокой комнате. Имя Всеволода Эмильевича Мейерхольда уже было вычеркнуто из жизни. <…> И, останься они в Москве, кто знает, удалось бы как тому, так и другому дожить до более светлых дней…»
Из воспоминаний Н. А. Велеховой (Н. Велехова. Одна жизнь, или История Бориса Равенских. М., «Искусство», 1990. С. 67).
«По моим воспоминаниям, никогда Равенских и Гарин не были прямыми друзьями или приятелями. И тем более удивительным представляется поступок Гарина: почему этого мальчика, которого Мейерхольд забрал с третьего курса ленинградского института и который жил в общежитии в Москве, именно Гарин в эту снежную ночь взял за руку, повел на поезд?.. Это было его решение, его волевой поступок. Он спас судьбу этому режиссеру…»
Из выступления А. Равенских, дочери Б. И. Равенских, на вечере, посвященном столетию со дня рождения Э. Гарина, в музее Вс. Мейерхольда 17 ноября 2002 г.
«Пришло время, когда только мысленно стало возможным обращаться к нему, когда пришлось самому себе задавать вопросы и самому же на них отвечать. Суровое чувство ответственности, беспощадная “взрослость” наступают, когда уже некому сказать “мама”, “папа”, “учитель”, и вместе с ним приходит и неизбежное чувство одиночества, сиротства.
Сознание, что никогда не увидит Всеволод Эмильевич того, что я делаю, не освобождало от отчета перед ним, скорее, наоборот, усилило чувство ответственности за себя — оно возмужало…»
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 266.
3 ноября.
- Фильм «Доктор Калюжный» выходит на экраны.
1940
- Ленинград. Продолжает работать на радио. «Сорочинская ярмарка» (радиокомпозиция по повести Н. В. Гоголя). Режиссеры Э. Гарин, Х. Локшина, роль — От автора.
11 апреля.
- Вечер памяти В. Маяковского в Академической капелле. Участвуют: А. Ахматова, В. Каверин, Н. Тихонов, Л. Трауберг, О. Форш, Д. Шостакович, Б. Эйхенбаум. Сцены из комедии В. Маяковского «Клоп» читает артист Театра комедии Эраст Гарин.
12 апреля.
- Премьера радиоспектакля по пьесе В. Маяковского «Клоп» (к 10-й годовщине со дня смерти поэта). Режиссер, исполнитель роли Олега Баяна.
«Радиопремьера “Клопа” изобретательно поставлена режиссером Эрастом Гариным и хорошо разыграна. Тщательная работа над словом поэта, действительно звучавшим в передаче “весомо, грубо, зримо”, сообщила образам радиоспектакля острую характерность и выпуклость, почти пластическую выразительность. <…> Читая-играя роль Олега Баяна, Эраст Гарин в самой преувеличенной напевно-декламационной манере речи самородка из домовладельцев нашел уничтожающе-насмешливые краски для разоблачения обывательского идеала “красивой жизни”.
“Зашаблонившаяся привычка плюс бытовой разговорный тончик и есть архаический ужас сегодняшнего театра”, — писал Маяковский перед премьерой “Бани”. <…> Участникам спектакля удалось счастливо избежать “бытового тончика”, соединив гиперболичность ярких красок народно-комедийной буффонады, сатирического плаката с остротой и правдивостью обобщенного бытового персонажа. <…>
За месяц Ленинградский радиокомитет трижды повторил передачу. И каждый раз почта приносила новые содержательные, заинтересованные отклики — и индивидуальные, и коллективные — слушателей:
“"Клоп" поставлен замечательно. Рад за Маяковского. Вот бы был доволен! Надо возобновить постановку на сцене, особенно в таких силах”.
“Послушав эту передачу, стали еще больше ценить Маяковского как великого советского художника”, — пишут рабочие, служащие, военные курсанты, студенты…»
С. Дрейден. Веселая публицистическая арена. — «Искусство и жизнь», 1940, № 5.
- Премьера спектакля «Тень» в Театре комедии (роль Тени).
Май.
- Играет в спектакле «Тень» во время гастролей Ленинградского театра комедии в Москве.
76 «Роль Тени, может быть, самая сложная и ответственная в спектакле… Самое замечательное в исполнении артиста Э. Гарина, что он дает зрителю ощутить свою зависимость от человека…»
П. Маркиш. «Тень». — «Правда». 1940, 26 мая.
«Воплощение Тени Э. П. Гариным <…> волнует зрителя остротой и оригинальностью замысла и выполнения…»
М. Загорский. Дерзкая юность театра. — «Сов. искусство», 1940, 27 мая.
«Еще до “Золушки” руководитель Театра комедии Н. П. Акимов, постановщик и художник спектакля “Тень” Е. Л. Шварца, поручил мне роль Тени ученого, Тени, вобравшей в себя все теневое, все вероломное, циничное — словом, все черты макиавеллиевского деятеля. Являясь как бы и нереальным персонажем пьесы, Тень несла в себе человеческие свойства, бытующие в любой среде: карьеризм, подхалимство, высокомерие, деспотизм и т. д.
Задача для художника, склонного видеть театр и кино и романтическими, и фантастическими, и сказочными (ведь сказка — это мудрое иносказание о жизни), — задача заманчивая и вместе с тем трудная. Акимов необыкновенно эффектно сделал первый акт пьесы и первое появление Тени. Общая оценка и зрителей и критики была очень благожелательная. Но я как актер не был доволен своей игрой, потому что внутренне не мог обрести подлинной выразительности для сцен, где подсознательное, “теневое” приобретает очертания реальности».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 269.
«Гарин это делал страшно. Он ведь без грима играл… До сих пор помню, как он стоял за спиной, не прикасаясь. Этот холод неприкосновения помню. Как он эту пустоту, пустое место — НИЧТО — играл! Не знаю, не понимаю…»
Из воспоминаний Е. В. Юнгер. Цит. по статье: В. Гвоздицкий. Прекрасные черты. — «Театральная жизнь», 1987, № 24.
«Я тоже играл тень в третьей редакции этого спектакля. Я вспоминаю мизансцену, сохранившуюся еще от первой редакции: там был трон, к нему вела лестница, по которой нужно было сползать… И так как Эраста Павловича давно уже не было, я добивался у второго исполнителя этой роли, Л. М. Суханова: “Лев Максимович, вы не скажете, как от трона сползти по довольно отвесной лестнице вниз, перевернуться и еще что-то сделать?” И этот актер мне сказал: “Это моя кухня, мой творческий секрет, и его выдавать я не стану”. — Я рассказываю об этом Елене Владимировне Юнгер, жене Николая Павловича Акимова и первой исполнительнице роли Принцессы в этом спектакле, и говорю: “Я не знаю, как это сделать. Я понимаю, что ведь как-то это делалось, наверное, есть специальная какая-то техника”. Она говорит: “Да никакой специальной техники — это ведь Гарин делал, он это все и придумал”. Я спрашиваю: “А как?” — “Да очень просто: он поднимался, садился, цеплялся башмаками за трон, потом он опускал на брюшном прессе себя вниз, потом поворачивался, причем выворачивался полностью, и на руках сползал вниз до пола. Очень просто”. Это не каждый может сделать. Мне, к примеру, это так и не удалось. Грим Акимов придумал для этой роли фантастический, какой-то синий, ресницы, серебро, специальная укладка волос — полтора часа мне делали грим, ровно полтора часа — но грим появился потом, когда после Гарина эту роль играл другой артист, а Гарин играл фантом, этакое серое, смытое существо. Образ, который он создавал, был отточен пластически, и это, как я понимаю, была единственно верная трактовка».
В. Гвоздицкий. Из выступления на вечере, посвященном столетию со дня рождения Э. Гарина, в музее Вс. Мейерхольда 17 ноября 2002 г.
- Снимается в роли Тараканова в фильме «Музыкальная история». Авторы сценария Е. Петров, Г. Мунблит, режиссеры-постановщики А. Ивановский, Г. Раппопорт, «Ленфильм».
Октябрь.
- Первые просмотры картины для общественности и прессы.
24 октября.
- Фильм «Музыкальная история» выходит на широкий экран.
«Нужно воздать должное Эрасту Гарину, исполнителю роли Тараканова. По мастерству игры — это своего рода маленький шедевр. <…> Основная черта роли Альфреда Тараканова в исполнении Э. Гарина — тупая автоматичность его интонаций и движений. Это, однако, не только не означает однообразия рисунка, наоборот, совершенно поразительно пластическое и интонационное богатство оттенков роли. Насколько поразительно пластическое дарование Э. Гарина, можно судить хотя бы по одному эпизоду. Тараканов спускается по крутой лестнице из артистической уборной… В кадре видны на фоне света, падающего сверху, только силуэты ног и манера походки Тараканова. Но как они необыкновенно выразительны! Тараканов, объясняющийся Клаве в любви от имени некоего блондина, 77 “пожелавшего остаться неизвестным”, и предлагающий ей руку, сердце и комнату в коммунальной квартире, “в которой можно белье мыть”, — Тараканов, с торжественной мрачностью изрекающий над разбитым флаконом с одеколоном (его подарком Клаве): “смейся, паяц, над разбитой любовью”, — все это до последней степени комично…»
Е. Добин. «Музыкальная история». — «Искусство и жизнь», 1940, № 10.
«Игра его (Э. Гарина. — А. Х.) блестяща, полна подлинного комизма. Сказать, что она богата превосходно отточенными деталями, — недостаточно. Буквально каждая фраза, каждый жест, взгляд, движение мастерски отчеканены и вызывают гомерический хохот…»
Е. Добин. Творческая победа. — «Кадр», 1940, № 44.
«Роль Альфреда Тараканова, смешного, чванного пошляка, — сложная и опасная роль. В нем легко было скатиться к преувеличению, к шаржу. Артист Э. Гарин счастливо избежал этой опасности. Общий хороший тон фильма, свободного от дешевого трюкачества, выдержан и в роли Тараканова. В отличной игре Гарина много удачных актерских находок, много подлинной комедийной легкости».
М. Львов. «Музыкальная история» — «Правда», 1940, 18 окт.
«Гарин играет этакого комического Яго, неудачливого злодея, с такой серьезностью, что комедийный эффект получается особенно выразительным…»
Р. Мессер. «Музыкальная история». — «Ленингр. правда», 1940, 22 окт.
«Мне в фильме больше всего понравился Гарин. Превосходный актер, опытный мастер здесь играет с увлечением, легко, уверенно и точно. Ни одного лишнего движения — и очень выразительно. Очень скупая и лаконичная речь — нет ни одного пустого слова. А сама манера говорить очень своеобразна, комедийна и до сих пор в памяти: “Альфре-ед”… У нас весь двор поет это имя.
Тараканов часто смотрит куда-то в сторону. Он все время занят размышлениями иногда о жизни или еще о какой-нибудь высокой материи, но, скорее всего, о себе самом. Он, как улитка, на несколько мгновений высунет голову из своего домика, поведет усами в разные стороны и снова прячется вовнутрь.
Каждую реплику воспринимает он с каким-то усилием, как будто бы она доносится к нему откуда-то издалека. Потом Тараканов вздрагивает, как бы сбрасывая свое оцепенение, и плавно заканчивает движение…
Но заслуга Гарина не только в том, что он представил нам человека, над которым мы смеемся. Заслуга его в том, что он изобразил человека, над которым нужно смеяться. Мы смеемся над советским мещанином, которого показал нам Гарин. И, смеясь над Таракановым, мы внимательнее присматриваемся к себе, нет ли и в нас самих черт Тараканова…»
Б. Чирков. Альфре-ед. Журнальная вырезка.
«Гарин прочитал в этой роли мещанина не только смешное, но и страшное. Он укрупнил образ почти до гиперболы, так, что в нем возникают черты заклейменной еще Достоевским “смердяковщины”. Из комедийного, занятного персонажа артист создал образ большой сатирической силы… Гарин нигде не утяжеляет образ, не жертвует его комизмом, наоборот — комизм дает ему возможность довести до обличительной силы образ пошляка и мещанина».
М. Юрьев. Эраст Гарин. — «Сов. экран», 1960, № 23.
«Альфреда Терентьевича Тараканова из “Музыкальной истории” я мечтал и старался играть под Гитлера. Я видел в Тараканове Гитлера, потому, что фашизм мне казался квинтэссенцией махрового мещанства, разгульного, жестокого и трусливого. И я пытался Тараканова вырвать из состояния внутреннего “мелкопоместного” мещанина, показать его во весь рост, чтобы он был виден людям.
Верная интонация образа находится актером как бы случайно: Тараканов, на которого отброшена тень Гитлера. Это сделано сознательно, заострено до возможного предела. Но мне кажется, что для актера такой поиск правомерен, если не обязателен, как происходит это у велосипедистов в гонках за лидером: мощный мотоцикл заставляет тянуться за собой велосипедиста с предельной скоростью.
В нахождении верной интонации образа участвует творческая фантазия актера, которая не в пустом и изолированном 78 вакууме пребывает. Не может быть у мыслящего художника случайностей, а случай служит лишь толчком для целой гаммы оттенков основной и единственной интонации…»
Э. Гарин. Моя нотная линейка. — «Спутник кинофестиваля», 1963, 12 июля.
«Не забылась нелепая фигура Альфреда Тараканова, гордо выступающего в ярком оперении пошлейших афоризмов “согласно теории сохранения личности, одеколон не роскошь, а предмет ширпотреба и культурной жизни”. Гарин декламирует их, точно стихи, патетически и вдохновенно. Актер, казалось бы, добавил всего один штрих к персонажу, резко очерченному в сценарии, — глупый, чванливый человек упивается своей глупостью. И герой сразу необычайно прибавил в масштабе и значительности. Перед нами уже не рядовой армии обывателей, пошляков и мещан, а ее апологет, пророк и вдохновенный поэт. Легко заметить, что гаринский Тараканов имеет весьма приблизительное и условное отношение к событиям “Музыкальной истории”, к профессии, которой он там владеет. Он — сам по себе законченное произведение искусства, а сюжет движется по своим законам. И кажется иногда: странно, что они рядом, в одной “истории”.
Сюжет фильма узок и мал Гарину. Метафоре не пристало мелко семенить. <…> Она должна широко вышагивать. Метафорический характер мышления требует широких жизненных пространств…»
Ю. Богомолов, М. Кушниров. Эраст Гарин. — В кн.: Комики мирового экрана. М., «Искусство», 1966. С. 136, 138.
«В комедии главное — комики. Шофер Тараканов воображал себя красавцем, считал, что он неотразим, был уверен в своем огромном успехе у женщин. Эта роль казалась мне ответственной. Все в ней на острие ножа — немножко перегнуть, и впадешь в пошлость; и от режиссера и от актера тут требовалось большое чувство меры.
Были на пробе очень хорошие артисты: А. Вениаминов, К. Сорокин… Но что-то меня в них не удовлетворяло. Вспомнил я тогда Э. Гарина, мейерхольдовского артиста с несколько формальным рисунком игры. Это меня как раз и смущало. Но на пробе он так великолепно снимался, что все хохотали — и осветители, и рабочие, и ассистенты. Хохот в ателье стоял просто гомерический. Быть может, эта самая мейерхольдовская жилка и помогла Гарину сыграть чудаковатого, с огромным самомнением шофера Тараканова».
А. Ивановский. Воспоминания кинорежиссера. — М., «Искусство», 1967. С. 237 – 238.
«Включаться в работу я должен был с ходу, ибо артист, с которым договорились до меня, неожиданно отказался исполнять роль Тараканова. Подготовленные для него съемки начались. Они проходили легко, интересно. Нам все казалось, что мы только пробуем, нащупываем, что по-настоящему начнем снимать в будущем году (была уже осень). Но когда посмотрели плоды месячных трудов, то оказалось, что сцены получились, игра непринужденна и легка, что особенно важно для комедии. <…> Если последние годы я ощущал тяготение к режиссуре, то роль Тараканова снова привязала меня к актерству, снова пробудила во мне желание играть».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 267 – 268.
- Получает приглашение работать на киностудии «Союздетфильм» (Москва). Э. Гарин и Х. Локшина возвращаются в Москву.
1941
15 марта.
- Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР Э. Гарину присуждается Сталинская премия 2-й степени за исполнение роли Тараканова в фильме «Музыкальная история».
Весна.
- На киностудии «Союздетфильм» запускается в производство фильм «Принц и нищий» — сценарий Н. Эрдмана по роману М. Твена, режиссеры Э. Гарин и Х. Локшина.
- Начало съемок фильма «Принц и нищий».
22 июня.
- Обстрел вражеской авиацией павильона, в котором происходили съемки «Принца и нищего». Эвакуация съемочной группы в Москву.
«Намечена к постановке серия короткометражных фильмов, героем которых будет шофер Тараканов из фильма “Музыкальная история”. Постановку этой серии осуществят режиссеры: лауреат Сталинской премии Э. Гарин, который исполнит роль шофера Тараканова, и Х. Локшина».
С. Юткевич. Оружием искусства. — «Веч. Москва», 1941, 12 июля.
79 Август.
- Москва. Последний просмотр «Женитьбы».
«Последний раз Х. А. Локшиной и мне — режиссерам “Женитьбы” удалось ее посмотреть в августе 1941 года. Экземпляр картины сохранился в фильмотеке ВГИКа. Просмотр проходил там же. Он был прерван воздушным налетом, и нам пришлось пойти в бомбоубежище. И все же мы досмотрели картину. Она показалась нам вовсе не устаревшей…»
Э. Гарин. «Женитьба». — В кн.: Из истории «Ленфильма». Вып. 4. Л., «Искусство», 1975. С. 212.
- Снимается в роли немецкого солдата Шульца в сатирической киноновелле «Эликсир бодрости», вошедшей в состав «Боевого киносборника» № 7 (сценарий Н. Эрдмана, постановка С. Юткевича, «Союздетфильм»), а также в киноновелле «Шульц-оратор» (в сборник не включена).
7 ноября.
- На экраны выходит «Боевой киносборник» № 7.
«Бывают вещи, вызывающие удовлетворение. К таким явлениям я отношу выход на экраны фильма, составленного из короткометражек под общим названием “Боевой киносборник” № 7. Он вышел на московские экраны 7 ноября 1941 года. Всем известно, какие тревожные дни переживал весь наш народ в то время. И вот в годовщину Октябрьской революции в одной из короткометражек под названием “Эликсир бодрости” зазвучал, зазвенел смех, вселяя в людей уверенность в себе, уверенность в победе. <…>
Этот скетч, будучи рядовым в стойкой армии юмора, так же как зощенковская “Рогулька”, которую солдаты и матросы зачитывали до дыр, так же как памфлеты И. Эренбурга, не изгладится из памяти всех переживших войну».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 273.
«Писатели Н. Эрдман и М. Вольпин, режиссер С. Юткевич и артист Эраст Гарин создали веселую, оригинальную и содержательную киноминиатюру.
В исполнении Гарина пьяница-солдат приобретает яркий характер и смысл глубокого типического обобщения».
Е. Дмитриев, Ю. Александров. Седьмой сборник. — «Кино», 1941, 14 ноября.
«По сути дела, это почти бессюжетный диалог, клоунада циркового типа. <…> Отточенность, оригинальность сатирических “реприз”-каламбуров, воздействие которых усилено мастерской игрой Э. Гарина, обеспечивает напряженное внимание и бурный отклик слушателей. Оказывается, такой, казалось бы, чисто литературный жанр, как каламбур, может быть вполне “киногеничным”! Дело в качестве остроты и злободневности каламбура, мастерстве подачи. Удача “Эликсира бодрости” глубоко принципиальна. Она вновь напоминает о роли слова в кинодраматургии, о значении и месте актерской инициативы, индивидуальной разработки… образа…»
С. Дрейден. Оружием смеха. — «Кино», 1941, 21 ноября.
1942
Январь.
- Снимается в роли сторожа Франсуа в киноновелле «Венский шик» («Моды Парижа»), автор сценария и режиссер К. Минц. Фильм не осуществлен.
«Я написал сценарий под названием “Моды Парижа” для боевого киносборника “Под каштанами Праги” — в жанре кинематографической пантомимы. Для этой постановки мне были нужны два актера, безукоризненно владеющих искусством пантомимы. Никого лучшего для этой цели в нашей кинематографии не было, чем Эраст Гарин и Сергей Мартинсон. Оба этих актера прошли великолепную школу Мейерхольда. <…>
Сюжет сценария строился на том, что в одном из парижских магазинов во время фашистской оккупации надо было выставить в витрине (для политической рекламы) манекен в мундире немецкого офицера. Рабочий магазина — Эраст Гарин — путает манекен с настоящим гитлеровским офицером, который 80 присел, чтобы поправить сапоги. Приняв фашистского офицера за манекен, рабочий, не дав ему опомниться, привычными и точными движениями быстро сгибает ему ноги, придает нужную форму рукам, хлесткой пощечиной поворачивает голову в нужном направлении и т. д., и т. п.
Эта комическая ситуация была так обыграна, что ее трудно описать словами. Это нелитературный юмор. Это надо увидеть.
Эраст Гарин и Сергей Мартинсон блистательно исполнили свои роли…»
К. Минц. Комики работают без сетки. — М., «Киноцентр», 1991. С. 91.
«Смотрела ли мой киноопиз? В 7-м сборнике. По газетам, он довольно много шел в Москве. Квартиру у нас в Москве грабанули (в смысле — обокрали). <…> Мне очень жалко весь мой архив».
Из письма сестре Татьяне. Сталинабад, 06.02.1942. — РГАЛИ, ф. 2979, оп. 1. ед. хр. 257.
- Вместе с Х. Локшиной ставит киноновеллу «Вторая встреча» для боевого киносборника (сценарий М. Ромма).
- В Сталинабаде возобновляются съемки фильма «Принц и нищий».
«Мы довольно давно начали опять “Принца”, но пока дела идут очень плохо. С руководством студии мы находимся в ощетининном виде, ибо оно ведет себя ужасающе. Начальство далеко, и они изображают помпадуров. <…> Пришел матерьял “Принца” из Москвы. Посмотрели его внимательно, к тому же прошло много времени. Матерьял очень хорош. Хорошо бы дотянуть так же до конца».
Из письма сестре Татьяне. — РГАЛИ, ф. 2979, оп. 1. ед. хр. 257.
«Здесь, в единственном павильоне с рисованными на его стенках декорациями (внутренность Вестминстерского аббатства!!), продолжали мы съемки “Принца и нищего”. Только талант, виртуозный профессионализм и терпение оператора М. Кириллова сделали возможным показать панораму Тауэра и ряд других сложных объектов так, что они хорошо смотрятся и сегодня.
Сцена с Генрихом VIII, которую блестяще сыграл Ю. В. Толубеев, казалась подсказанной Мейерхольдом. Работая над этой сценой, я вспомнил мой первый режиссерский опыт в ГосТИМе. Готовился спектакль “Окно в деревню”, каждый эпизод поручался молодому режиссеру. Я должен был ставить эпизод “Знахарство”. Не найдя пружины сцены, я пошел на излишества и потребовал двадцать живых кур. Мейерхольд посмотрел и сказал: “Гарнира много, а сцены нет”. Эпизод вычеркнули из спектакля, куры оказались ненужными для искусства и пошли на обед студийцам.
В том же спектакле для эпизода ярмарки были приглашены бродячие артисты-фокусники. На репетиции появился китаец-жонглер с мальчиком. Он ставил мальчика спиной к широкому щиту, лицом к зрительному залу и бросал десять ножей, которые втыкались вокруг головы мальчика, образуя как бы ножевой ореол.
Мы спокойно любовались высоким профессионализмом и китайца и мальчика.
Не знаю, был ли Мейерхольд чем-то расстроен, но, посмотрев, как китаец ловко всаживает ножи, он взбежал на сцену, стал на место мальчика и скомандовал жонглеру начинать. Мы остолбенели. Старик бесстрастно начал бросать ножи. Ему было все равно, кто стоит у щита. И все десять ножей, воткнувшиеся вокруг его головы, Мейерхольд выдержал не дрогнув. Это происходило в полной тишине: все, кто был в театре, замерли, с трепетом ожидая окончания.
Так предметные уроки внутреннего режиссерского “режима экономии” в первом случае и напряженной эмоциональности — во втором дали пищу для одной из сцен в нашей киноработе…»
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 273 – 274.
82 1943
24 января.
- Фильм «Принц и нищий» выходит на экраны.
Лето.
- Москва, сад «Эрмитаж». Премьера спектакля Ленинградского театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина «Время идет вперед». Режиссеры Э. Гарин и Х. Локшина.
4 октября.
- Москва, Дом актера ВТО. Премьера новой программы Фронтового театра миниатюр ВТО «Веселый десант» — «Поговорим сегодня о любви». Автор обозрения Вл. Поляков, постановка Э. Гарина и Х. Локшиной.
- Снимается в роли Жениха в фильме «Свадьба» по А. П. Чехову. Автор сценария и режиссер-постановщик И. Анненский. Тбилисская киностудия.
1944
14 февраля.
- Фильм «Свадьба» выходит на экраны.
«Пожалуй, ближе всего к чеховскому рисунку и к чеховским интонациям артист Э. Гарин — исполнитель роли жениха Апломбова. Он прекрасно сыграл эту свою далеко не случайную фамилию — чудовищное высокомерие мещанина и пошляка, которому чуждо решительно все живое, лирическое — все, кроме меркантильных интересов и самовлюбленности…»
Ол. Леонидов. Чехов на экране. — «Огонек», 1944, № 30 – 31.
«Радость наполнила мое сердце, когда я получил предложение впервые играть в “Свадьбе” Чехова, но при этом я взволновался и испугался.
Если рассказать зрителю про возню на своей кухне, “кухне творчества”, то зритель, пожалуй, сочтет это и несерьезным и случайным.
В социальном маскараде дореволюционной России, который я видел мальчиком, бродили такие вредные, вроде моего жениха, маски.
Внешность моего жениха начала проясняться с воротничка. Стояче-откладной крахмальный воротничок, какой носил, по фотографиям, поэт Бальмонт. Вот первое, что мне показалось бесспорным.
Мое предложение художник по костюмам Р. Быховская гиперболизировала. Получилась огромная крахмальная ножка, на которой держится маленькая головка с прилизанной прической.
Далее мне казалось, что на маленьком личике должны быть усики, красивенькие и ядовитые.
Адольф Гитлер — вождь взбесившихся мещан. Пусть будут у моего мещанина его усики! Но усы со столь видного персонажа надо приспособить к представителю низового, так сказать, слоя мещан.
Узенькая визитка довершила внешний рисунок образа.
Немногочисленные репетиции и очень длительное время съемок необычайно обострили и зрение и слух к своей роли, к партнерам, к воплощению чеховских черточек, характеров, манеры поведения.
Автор как бы вставил в актеров какую-то свою собственную мембрану, которая отзывалась на каждый момент игры. Замечаешь, например, в игре — своей или партнеров — вульгарность, а Чехов, обличая ее, всегда избегал вульгарных ноток; или замечаешь разжевывание — а автор сдержан и не терпит повторения…»
Э. Гарин. О встречах с Чеховым. — «Искусство кино», 1960, № 1.
«Я была ученицей Алексея Дмитриевича Попова, Гарин, как известно, был актером мейерхольдовской школы.
Наблюдая Гарина в работе над ролями (так уж случилось, что он дважды был моим “женихом” — в “Музыкальной истории” 84 и в “Свадьбе”), я восхищалась подлинным реализмом его игры. Меня, да и не одну меня — всех нас, участников съемок и наблюдавших за ним со стороны, покорял несравненный гаринский юмор, питавшийся меткими жизненными наблюдениями. Острота гаринского глаза, острота его ума были поразительны…»
З. Федорова. Из воспоминаний о Гарине. — Запись сделана мною в 1980 г. — А. Х.
- Снимается в роли Тихона Спиридоновича в фильме «Иван Никулин — русский матрос». Автор сценария Л. Соловьев, режиссер-постановщик И. Савченко, «Мосфильм».
1945
1 апреля.
- Фильм «Иван Никулин — русский матрос» выходит на экраны.
«В фильме есть несколько актерских удач. К ним в первую очередь следует отнести работу Э. Гарина…
При первом своем появлении на экране Тихон Спиридонович вызывает только добродушный смех. Уж очень неказист на вид этот начальник захолустного полустанка. Он долговяз, удивительно неловок, в нем есть что-то отдаленно напоминающее чеховского Епиходова. Э. Гарин убедительно изображает превращение робкого и неуклюжего человека в настоящего бойца. <…> Образ Тихона Спиридоновича, с трогательным юмором обрисованный Э. Гариным, далеко перерастает значение эпизодической фигуры…»
Ал. Крон. «Иван Никулин — русский матрос». — «Правда», 1945, 19 апр.
«На материале эпизодической роли Тихона Спиридоновича <…> Гарин создал образ значительного содержания и подлинной обаятельности. Человек мирной жизни и профессии, немного смешной и трогательный в своей житейской беспомощности, Тихон Спиридонович в критические минуты обнаруживает большую силу духа, благородство, решимость и готовность к самопожертвованию. Как много Отечественная война обнаружила таких героев!..»
М. Парный. «Иван Никулин…». — «Известия», 1945, 21 апр.
- Москва. Вместе с Х. Локшиной на студии «Союздетфильм» ставит фильм «Синегория» по повести Л. Кассиля «Дорогие мои мальчишки». Для съемок фильма приглашает оператора С. Урусевского.
1946
27 июня.
- Москва, ЦДРИ. Премьера фильма «Синегория».
26 августа.
- Фильм «Синегория» выходит на экраны.
«Эраст Павлович Гарин пришел в русское искусство со своим собственным редкостным миром. <…> Этот мир вернее всего следовало бы назвать миром сказки. <…> В числе поставленных им фильмов значатся такие, как “Принц и нищий” и “Синегория”. Их нельзя назвать сказками в полной мере, но все же сказочные элементы занимают в них значительное место».
В. Свешников. Эраст Гарин. — В кн.: Актеры советского кино. М., «Искусство», 1964. С. 49, 50.
- Снимается в роли Короля в фильме «Золушка». Сценарий Е. Шварца, режиссеры-постановщики Н. Кошеверова и М. Шапиро, «Ленфильм».
«Я должен играть Короля в “Золушке” Евгения Шварца. Сказка и для взрослых, и для детей. Задача для актера очень заманчивая и интересная… Вот уже есть, как выражаются производственники, восемьдесят процентов отснятого материала, но я — исполнитель роли сказочного Короля — вызван к одному из блюстителей художественной совести “Ленфильма”.
— Я познакомился с материалом. Очень тревожно, Эраст Павлович! Вы играете не настоящего короля. В жизни таких не бывает. Надо заново продумать всю роль, — глубокомысленно и авторитетно, с долей принятой к употреблению демократичности сказал худрук.
— Ну а сыграть настоящих-то, ну вроде Николая Первого или там кого еще, у меня (следовало необыкновенно доверительно произнесенное имя и отчество худрука) не выйдет. У меня и выходки такой нет, да и вообще тогда на эту роль лучше 86 пригласить другого актера. Ну, Юрия Михайловича Юрьева, например. Он и во дворце был и весь их обиход знает…
Но… так как “Золушка” была снята процентов на восемьдесят, то усилия руководства, направленные на превращение ее в шишкинское “Утро в сосновом лесу”, не дали результатов, и картина вышла на экран и даже доставляла некоторую радость не только детям…»
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 268, 269.
«Однажды во время съемок “Золушки” пошел дождь, а в ателье, где мы работали, протекала крыша. Гарин раскрыл зонтик, забрался на верх декорации дворца и — в костюме Короля, расхаживая под зонтиком, — стал читать Маяковского.
— Эраст, умоляю: время идет! — кричала я.
— Я еще почитаю! — кричал он в ответ.
Он читал столько, сколько хотел; все с удовольствием слушали, потому что читал он прекрасно».
Н. Кошеверова. «За здоровье Короля!..» — 1981 г. Записал Г. Цитриняк.
1947
16 мая.
- Фильм «Золушка» выходит на экраны.
«Чего стоит… фигура Короля, которого отлично играет Э. Гарин! Мы издавна привыкли видеть на сказочном троне величавого седобородого старца в золотой короне и горностаевой мантии. Вместо этого перед нами вертлявый смешной человечек, который совсем не дорожит своим высоким “общественным положением”…
Было умно и смело поручить эту роль Э. Гарину, до сих пор известному зрителям по ролям вроде шофера Тараканова (“Музыкальная история”) или жениха из чеховской “Свадьбы”. Но режиссеры не ошиблись в выборе. Гарин превосходно сыграл свою роль. Особенно удались ему сцена первой встречи Короля с Золушкой на лестнице и сцена в лесу».
Г. Воронов. «Золушка». — «Комс. правда», 1947, 18 мая.
«Он очень увлекательно играет в “свое королевство”. Совсем как в детской игре, он готов каждую минуту обидеться и заявить, что больше не играет. И чем серьезнее Гарин в этой роли, тем веселее в зрительном зале. Талантливый и тонкий актер, актер острого эксцентрического рисунка, Гарин обладает особым чувством такта. Он ни разу не впадает ни в клоунаду, ни в шарж. Он не комикует и не пытается специально смешить. Он до конца и всерьез поверил в этот свой образ и потому так легко и весело играет роль Короля. И Гарин, и Жеймо не позируют для сказки, а живут в ней. Они уверенно берут зрителя под руку к увлекают его в свой веселый и трогательный сказочный мир…»
М. Папава. Сказка в кино. — «Сов. искусство», 1947, 23 мая.
«Эраст Гарин играет Короля в своей эксцентрической, гротесковой манере. Его Король смешон, трогателен, суматошен, как марионетка ярмарочного балагана, и вместе с тем глубоко человечен…»
Р. Юренев. Сказка на экране. — «Веч. Москва», 1947, 24 мая.
«По-новому мы увидели в фильме образ короля. Эраст Гарин играет эту роль необычно. Впервые в искусстве появляется вспыльчивый и добродушный король-чудак, готовый по любому поводу отказаться от престола и тут же взять свою отставку обратно. Гарин в остром рисунке показывает своего короля бегающим по дорожкам парка в сопровождении целого сонма музыкантов, беспокойным хлопотуном… подтверждающим свою правоту иронической поговоркой: “Честное королевское”…»
Н. Барсуков. «Золушка». — «Горьковская коммуна», 1947, 4 июня.
- Продолжает работать на радио.
9 сентября.
- Премьера: В. Маяковский. «Мое открытие Америки» (2-я редакция) — режиссеры Н. Волконский, Э. Гарин, Х. Локшина. Роль — От автора. А. Чехов. «Счастливчик» (инсценировка), режиссер О. Н. Абдулов. Роль Счастливчика.
«Теперь пленка, на которой была записана эта работа, пожухла, ссохлась, а может, и совсем потерялась. Может быть, теперь она просто расстроила бы слушателей своей наивностью, неточностью, но нам, “действующим лицам”, она запомнилась волнениями, поисками выразительности, поисками неповторимой деликатной безжалостности, свойственной перу этого единственного автора…»
Э. Гарин. О встречах с Чеховым. — «Искусство кино», 1960, № 1.
21 декабря.
- Избран депутатом Щербаковского райсовета г. Москвы. Ленинград. В Театре комедии ставит пьесу К. Исаева и А. Галича «Вас вызывает Таймыр».
88 1948
18 января.
- Встречается с артистами ленинградского самодеятельного народного театра Выборгской стороны, руководимого актрисой Театра комедии Т. В. Суковой.
«На одно из занятий она пригласила всем известного Эраста Павловича Гарина — актера и режиссера, незаурядного мима, <…> обладающего даром актерской импровизации. Что это была за увлекательная лекция-концерт! Смысл ее сводился к тому, как внешними, даже формальными на первый взгляд приемами можно дополнить внутреннюю линию развития образа».
Народные театры. М., «Сов. Россия», 1962. С. 106.
Январь.
- Премьера спектакля «Вас вызывает Таймыр» в Ленинградском театре комедии.
«Легко осмеять вздорное и скверное. Э. Гарин шел трудным путем — он старался обнаружить в хорошем смешное, случайно нелепое, не оскорбляя хорошее, не черня его.
Э. Гарин нашел десятки искренне-комедийных приемов для сценической мотивировки острых и неожиданных поворотов действия. Режиссеру удалось дополнить пьесу меткой выдумкой».
С. Кара. «Вас вызывает Таймыр». — «Веч. Ленинград», 1948, 11 марта.
«Пьеса поставлена Эрастом Гариным и разыграна актерами театра с тем веселым азартом и непоколебимым убеждением в достоверности шутливой путаницы, без чего нет жизни водевилю. Отличный комедийный актер и темпераментный режиссер Эраст Гарин помог большинству исполнителей сохранить необходимую внутреннюю серьезность и вместе с тем передать задорный юмор положений…»
С. Дрейден. О смешном и серьезном. — «Ленингр. правда», 1948, 17 марта.
2 марта.
- Ленинград. Выпускает радиоспектакль по пьесе В. Маяковского «Клоп» (2-я редакция) — режиссер, исполнитель роли Присыпкина, и радиокомпозицию «Париж» по произведениям В. Маяковского — автор, режиссер, исполнитель.
7 ноября.
- Премьера в Ленинградском театре комедии спектакля «Московский характер» по пьесе А. Софронова. Постановка Э. Гарина.
- В Ленинградском театре комедии ставит водевиль А. П. Чехова «Медведь».
«В спектакль “Три шутки”, репетиции которого идут уже на сцене театра, включены одноактные комедии “Медведь”, “Предложение” и “Юбилей”. Спектакль на основе творческого соревнования одновременно ставится двумя составами исполнителей и осуществляется различными режиссерами. “Медведь” <…> с артистами И. Зарубиной и Б. Смирновым репетирует лауреат Сталинской премии Э. Гарин».
Чеховский спектакль. — «Веч. Ленинград», 1948, 13 дек.
- Москва. На киностудии «Союзмультфильм» озвучивает роль Учителя в фильме «Федя Зайцев» (сценарий М. Вольпина и Н. Эрдмана, режиссеры В. и З. Брумберг).
- Москва. Снимается в роли Томми в фильме «Встреча на Эльбе». Авторы сценария бр. Тур, Л. Шейнин, режиссер-постановщик Г. Александров, «Мосфильм».
1949
16 марта.
- Фильм «Встреча на Эльбе» выходит на экраны.
«По экрану бродит какая-то странная фигура, с очень странной (не просто пьяной) пластикой и с какой-то меланхоличной механичностью ставит кресты на статуях, а мимоходом и на живой женщине. И только ли смешно, когда Гарин — Томми, хлебнув русской водки, раскачивается на тонких ногах, нелепо взмахивая руками, и, обжегшись, выплевывает ее в камин и дремавший там огонь вспыхивает адским пламенем? Эта странная, удивительная, гротескная и абсурдная фигура, появившись на экране, вырастает в символ. Она сразу чудесным образом переводит обычное бытовое течение фильма в сферу сказочной эксцентрики, почти гофмановской фантастики…»
В. Свешников. Эраст Гарин. — В кн.: Актеры советского кино. М., «Искусство», 1964. С. 48, 49.
- Осуществляет постановку двух спектаклей в Ленинградском театре комедии.
90 22 марта.
- Ленинград. Премьера спектакля «Роковое наследство» по пьесе Л. Шейнина.
«Режиссер Э. Гарин придал спектаклю публицистическую заостренность. Боевая политическая сатира не снижена в нем до простой карикатуры или фарса, и это прежде всего определило его успех. В некоторых сценах постановщику и актерам удалось, не изменяя жанру комедии, достичь почти драматической напряженности действия. <…> Подлинная злободневность и острая театральная выразительность отличают этот спектакль, пользующийся заслуженным успехом».
Ел. Стронская. Люди двух миров. — «Веч. Ленинград», 1949, 3 апр.
29 мая.
- Ленинград. Премьера спектакля «Особняк в переулке» по пьесе бр. Тур.
«В репертуаре Ленинградского театра комедии есть спектакль, на котором мы мало смеемся вслух. Но какой-то большой внутренней силы смех удовольствия, гордости и торжества позволяет нам причислить этот спектакль к числу лучших, красочных и запоминающихся сатирических спектаклей театра. Речь идет о пьесе “Особняк в переулке”, поставленной лауреатом Сталинской премии Э. Гариным…»
И. Месхи. Оружием сатиры. — «Красное знамя», 1949, 2 авг.
91 1940-е гг.
- Готовит композиции для радио и для эстрады «На русской земле» («Слово о русских богатырях») по поэме А. А. Прокофьева «Россия» и «Сергей Есенин», а также инсценировку новеллы П. Мериме «Кармен».
- Пишет сценарий для циркового выступления трио музыкальных эксцентриков.
1950
6 марта.
- Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «За крупные заслуги в развитии советского киноискусства» Э. Гарину присуждается звание «Заслуженный артист РСФСР».
Июнь.
- Москва, Театр киноактера. Премьера спектакля «Флаг адмирала» по пьесе А. Штейна. Постановка Э. Гарина и Х. Локшиной.
«Постановщикам засл. арт. РСФСР Э. Гарину и Х. Локшиной удалось создать интересный, пронизанный духом патриотизма спектакль…»
Е. Марков. «Флаг адмирала». — «Моск. комсомолец», 1950, 22 июня.
- В радиокомпозиции по повести Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» исполняет роль От автора.
- На киностудии «Союзмультфильм» озвучивает роль судьи в фильме «Волшебный клад» (автор сценария и режиссер Д. Бабиченко).
1951
- Москва. Готовится к постановке пьесы Н. В. Гоголя «Игроки» в Театре киноактера. В архиве Э. Гарина сохранилось несколько вариантов распределения ролей. Так, на роль Швохнева постановщиком в разное время намечались кандидатуры Э. Гарина, Н. Крючкова, Б. Тенина, А. Хвыли, Б. Андреева, К. Сорокина, С. Столярова; на роль Ихарева — С. Бондарчука, М. Бернеса, В. Дружникова; на роль Глова-сына — П. Алейников, М. Кузнецов. Спектакль поставлен не был.
- В то же время обдумывает план постановки гоголевского «Ревизора» в Театре киноактера. Среди намечавшихся кандидатур на исполнение главных ролей: Городничий — Б. Андреев, Б. Тенин, А. Хвыля, С. Бондарчук; Анна Андреевна — Н. Алисова, М. Ладынина, О. Жизнева, Э. Цесарская; Ляпкин-Тяпкин — К. Сорокин, С. Столяров, И. Переверзев; Бобчинский — Б. Чирков; Хлестаков — П. Алейников, Э. Гарин, С. Мартинсон, С. Гурзо.
1952
- Снимается в роли почтмейстера Шпекина в фильме «Ревизор» по Н. В. Гоголю, режиссер В. Петров, «Мосфильм».
«Шпекин же и Хлопов (артисты Э. Гарин и Д. Павленко) оказались в фильме <…> несколько смягченными, так сказать, излишне “очеловеченными”. В сцене, когда Шпекин <…> принимается читать письмо неизвестного поручика, Гарин играет человека, который вскрывает чужие конверты с чисто хлестаковским безобидным легкомыслием, как бы видя в письмах лишь род литературы, доставляющий ему чисто эстетическое наслаждение. Образ получился законченным и интересным, но это… не образ Шпекина…»
А. Марьямов. «Ревизор» на экране. — «Лит. газ.», 1952, 9 дек.
«Спустя четверть века актер вновь принял участие в работе над гоголевской комедией, но уже не в роли Хлестакова, а почтмейстера. <…> За внешне безобидной фигурой чудака-почтмейстера Эраст Гарин показал отвратительное нутро ничтожного царского чиновника…»
Б. Медведев. Эраст Гарин. — «Сов. фильм», 1963, № 4.
92 - Снимается в роли Урядника в кинофильме «Джамбул», режиссер Е. Дзиган. Алма-Атинская киностудия.
- Работает над радиоспектаклем по повести Н. Дубова «Огни на реке» (режиссеры Н. Герман и Э. Гарин, роль Деда).
- Участвует в радиопостановке «В английской школе» (радиоспектакль по роману Ч. Диккенса «Николас Никльби», режиссер Н. Герман, роль Сквирса).
Декабрь.
- В журнале «Искусство кино» выходит статья Э. Гарина «О серьезной теме и веселом герое» («Искусство кино», 1952, № 11).
1953
- Пробуется на роль Нефедки в фильме режиссера И. Пырьева «Иван Грозный — собиратель России». (Фильм снят не был.)
- В Театре киноактера вместе с Х. Локшиной репетирует спектакль по пьесе С. Михалкова «Раки».
10 ноября.
Премьера спектакля «Раки».
«В Театре-студии киноактера сегодня премьера комедии С. Михалкова “Раки” в постановке Э. Гарина и оформлении художника Б. Эрдмана. В спектакле заняты Б. Тенин, Г. Бударов, В. Телегина, Е. Мельникова и другие».
Три новых спектакля. — «Веч. Москва», 1953, 10 ноября.
- Работы на радио: «Я сам» (литературно-музыкальная композиция по произведениям В. Маяковского). Режиссеры Э. Гарин и Х. Локшина. Автор и исполнитель композиции — Э. Гарин. «Приключения Чипполино», ч. 1 (радиоспектакль по сказке Дж. Родари, режиссер Н. Литвинов) — роль Тыквы.
1954
- Ставит совместно с Х. Локшиной сатирический короткометражный фильм «Синяя птичка» и снимается в нем в роли Петухова (авторы сценария В. Дыховичный, М. Слободской, киностудия им. Горького). Этот фильм — первый из задуманной серии сатирических короткометражек, в которых Гарин разрабатывает маску современного комедийного героя.
93 «В то время на экран выходили преимущественно “полотна” биографического и батального характера, что отражало особую серьезность в настройке умов. Нужно было вернуться к естественной возможности посмеяться, не упуская, конечно, целеустремленности произведения…
Создание в короткометражной новелле современной сатирической маски — задача увлекательная.
Емкость образа-маски исключает повествовательную актерскую пассивность, концентрирует внимание актера на конкретных свойствах данного характера, лаконично выражаемых в поведении и поступках, то есть только в действенной сфере.
Особенностью моей киномаски (возможно, это мое индивидуальное свойство) я считаю олириченность той исключительности, той эксцентрики, которая в ней обязательно присутствует. Не лиризм, не лирическое начало, как его понимают, имея в виду жанр, а то, чем обогащается образ, пропущенный через актерское “я”, через субъективный внутренний мир актера».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 275, 276.
- Снимается в фильме «Нестерка», сценарий В. Вольского, режиссер А. Зархи, «Беларусь-фильм» (роль школяра Самохвальского).
«Однажды я решил привлечь Эраста Павловича к участию в картине “Нестерка” — ее жанр был далек от какого бы то ни было стереотипа, не допускал применения испытанных “ключей”. Основой картины было народное белорусское потешное действо. Ярмарочное комическое представление, так можно сказать. Э. Гарин должен был изображать “ученого человека”, каким он представляется деревенскому парню, никогда ученых не видавшему. Клоунада? Возможно. Фольклорный анекдот? Пожалуй — но без издевки. В общем, здесь требовалась и ярмарочная раскованность, и безупречная интеллигентность исполнения. Кому же поручить такую роль, как не Гарину? С моей точки зрения, он и был в “Нестерке” безупречен. Ближе всех других исполнителей к задуманному кинопредставлению. Я думаю о его участии в нашей работе с благодарностью».
А. Зархи. Из воспоминаний о Гарине. Рукопись.
«Сабла! Я решил не трепать себя. Скоро съемки. Проба моя в Белоруссии произвела очень хорошее впечатление. Роль выигрышная (если не напакостить). <…> Мотаться вот так, как сейчас я с белорусами, в моем возрасте — чепуха. Это следует считать последним опусом, “Поручик Киже” — и это — цикл. Он оползен»1.
Из письма к Х. А. Локшиной. Киев, 9.08.1954.
1 «Оползла змея свой цикл» — слова Тарелкина, героя пьесы Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина». Эти же слова цитировал В. Э. Мейерхольд при последнем свидании с Э. Гариным и Х. Локшиной у них дома, в Ленинграде, в 1939 году.
«Сабла! вчера посмотрел всю сцену. Сыграна прилично, но очень скромно. Планы общие, и надо было играть резче, и наглей, и грубей».
Из письма к Х. А. Локшиной. Киев, сентябрь 1954.
«Саба! <…> На улице холодно, и очень часто идут дожди. Костюм у меня с чулками (ногам холодно). Костюмерши дали мне две пары дамских чулок, которые я поддеваю под костюмные — так гораздо теплей. В перерывах сижу в тонвагене, и мне заводят для развлечения шарифон (так у Гарина. — А. Х.) с Вертинским. <…> Надо бросать всю эту трепотню и заниматься своим делом. Смотрю на эту захолостную студию с нравами самого застранного нэпа. Люди эти производят впечатление наваждения. Может быть, у меня такая точка зрения от старости.
Целую. Эр.».
Из письма к Х. А. Локшиной. Киев, октябрь 1954.
«Мой материал приличен. Публика смеется. Мне он не очень понравился, потому что я сам перестал нравиться себе, но это уж вопрос другой. Сыграно нормально. Внимание, как у животного».
Из письма к Х. А. Локшиной. Киев, 19 октября 1954.
«Гарин интересно сыграл спесивого, самовлюбленного неуча и дурака, выдающего себя за ученого. Эта роль — антипод Короля из “Золушки”. Там — лирическая доброта и веселый искренний смех, здесь — сатирические краски, издевательство над напыщенным и глупым персонажем…»
М. Юрьев. Эраст Гарин. — «Сов. экран», 1960, № 23.
- Задумывает постановку фильма по пьесе А. Н. Островского «Женитьба Бальзаминова». Замысел остался неосуществленным.
94 «Думал о Бальзаминове. Теперь это нужно делать совсем по-другому. Если в тот раз нам представлялось во вкусе Федотова, с лирическим колером, то теперь, мне думается, надо с сатирическим — à la Боклевский и ему подобные, а фон (народ, улица) — Щедровский, Тимм и т. п. Актеров надо подобрать таких, какие не встречаются теперь (по габаритам — две Тяпкины-молодые), — где их взять? Художника надо пригласить настоящего, а не герасимовцев и ГИКов, — вроде Крымова (“Горячее сердце”), если он еще не умер. Москву сделать не по Аполлону Григорьеву, а вот так, как у Станиславского Градобоев и Курослепов. Картину всю делать не цветной, а только частично, воспользоваться виражами. Хорошо бы договориться с оператором, способным к кропотливой работе, вроде М. Н. Кириллова, а то весь заряд пойдет даром. <…> О бальзаминовских актерах нужно начать думать. Все на опыте этих вшивых комедий разнузданной эстрады разучились всерьез думать о стиле игры и т. д. <…> Тут нужно резко порвать с этим пикниковым отношением к автору».
Из письма к Х. А. Локшиной. Киев, 3 сент. 1954.
- На радио записывается в радиоспектакле по сказке Дж. Родари «Приключения Чипполино», ч. II — роль Тыквы.
1955
28 марта.
- Фильм «Синяя птичка» выходит на экраны.
Весна.
- В Театре киноактера приступает вместе с Х. Локшиной к постановке пьесы Е. Шварца «Обыкновенное чудо».
96 5 апреля.
«У него есть подлинные признаки гениальности: неизменяемость. Он не поддается влияниям. Он есть то, что он есть. Самое однообразие его не признак ограниченности, а того, что он однолюб. Каким кристаллизовался, таким и остался».
Евг. Шварц. Живу беспокойно. Из дневников. — Л., «Сов. писатель», 1990. С. 443, 444.
- Снимается в фильме «Неоконченная повесть», сценарий К. Исаева, режиссер Ф. Эрмлер, «Ленфильм» (роль парикмахера Колоскова).
«Он играет мизантропа-парикмахера, больного человека, влюбленного в свою профессию. В этом образе Гарин и трогателен, и смешон. Но роль не давала материала для настоящего комизма и подлинной драмы, сплав которых умеет демонстрировать Гарин…»
М. Юрьев. Эраст Гарин. — «Сов. экран», 1960, № 23.
- Работает над короткометражным фильмом «Фонтан» (сценарий В. Дыховичного и М. Слободского, режиссеры Э. Гарин и Х. Локшина, киностудия им. М. Горького, роль Петухова). Это второй фильм (после «Синей птички»), в котором Э. Гарин последовательно пытается создать сатирическую маску современного бюрократа.
- Проводит фото- и кинопробы к фильму «Дорогой племянник», сценарий В. Дыховичного и М. Слободского, режиссеры Э. Гарин и Х. Локшина. В этом фильме Гарин должен был играть семь ролей. Картина не была завершена. Работа над кинофельетоном «Курортное увлечение» (четвертым из этой серии) также не была завершена по не зависящим от постановщиков обстоятельствам.
«А знаете, как создавались персонажи “Дорогого племянника”?.. С моего лица сняли гипсовую маску. Затем я собрал фотографии всех своих родственников, похожих на меня. Художник Сойфертис сделал великолепные эскизы грима всех этих семи человек, а гример реализовал все задуманное на моем лице. Лицо, многократно перегримированное, превратилось в подержанную портянку, но эффект был достигнут! Мы даже сняли одну пробную сценку, однако закончить фильм не удалось…»
Н. Колесникова. У Гарина и Локшиной. — «Сов. экран», 1973, № 17. С. 18 – 19.
- Пишет письмо в Прокуратуру СССР в связи с пересмотром «Дела» В. Э. Мейерхольда.
«Его манера работы с людьми всегда была лишена… налета жречества и таинственности, чем очень многие больны в этом театральном мире.
Технологические приемы его были очень просты, но их искусная комбинация создавала сложный эффект.
Машина его художнически-режиссерских ассоциаций всегда опиралась на искусство его учителя К. С. Станиславского. 98 Развивая, дополняя, иногда (очень часто) дискуссируя с тезисами своего учителя, он делал своеобразные произведения…
Сейчас, вступая во второе полстолетие своей жизни, встречаясь с большим числом и театральных, и кинематографических режиссеров, вспоминая деятельность Мейерхольда, приходишь к выводу, что в лице Мейерхольда мы имели театрального деятеля самого высокого класса…
Засл. арт. РСФСР,
Лауреат Сталинской премии Эр. Гарин
Москва, 26 авг. 1955 г.».
РГАЛИ, ф. 998, оп. 2, ед. хр. 34.
- На радио участвует в постановке «Мартин Чеззлвит» (радиоспектакль по роману Ч. Диккенса, режиссер Р. Иоффе) — роль полковника Дайвера.
- На киностудии «Союзмультфильм» озвучивает роль гуся Мартина в фильме «Заколдованный мальчик» (сценарий М. Вольпина, режиссеры В. Полковников, А. Снежко-Блоцкая).
«Голос Э. Гарина во многом создал гуся Мартина».
В. Шитова. Радостный мир сказки. — «Лит. газ.», 1956, 5 июля.
1956
Январь.
- Театр-студия киноактера. Премьера спектакля «Обыкновенное чудо». Пьеса Е. Шварца, постановка Э. Гарина и Х. Локшиной. Король — Э. Гарин.
«16 января
У меня произошли события неожиданные и тем более радостные. Эраст Гарин ставил в Театре киноактера “Медведя”. Он теперь называется “Обыкновенное чудо”. Премьера должна состояться 18 января. Вдруг 13-го днем — звонок из Москвы. Прошла с большим успехом генеральная репетиция. Сообщают об этом Эраст и его помощница Егорова. Ночью звонит Фрэз — с тем же самым. 14-го около часу ночи — опять звонок. Спектакль показали на кассовой публике, целевой, так называемый, купленный какой-то организацией. Перед началом — духовой оркестр, танцы. Все ждали провала. И вдруг публика отлично поняла пьесу. Успех еще больший. Вчера звонил об этом Коварский. Не знаю, что будет дальше, но пока я был обрадован».
Евг. Шварц. Живу беспокойно. Из дневников. — Л., «Сов. писатель», 1990. С. 531.
99 «Эраст поставил спектакль из пьесы, в которую я сам не верил. То есть не верил, что ее можно ставить. Он ее, пьесу, добыл. Он начал ее репетировать вопреки мнению начальства. И постановка была доведена до конца…
Спасибо вам, друзья мои, за все. Нет человека, который, говоря о спектакле или присылая рецензии-письма, а таких я получил больше, чем когда-нибудь за всю свою жизнь, в том числе и от незнакомых, не хвалил бы изо всех сил Эраста. Ай да мы, рязанцы (моя мать родом оттуда)…»
Евг. Шварц. Из письма Э. Гарину и Х. Локшиной. 1956, 19 янв.
«Сказка Е. Шварца нашла в лице Гарина талантливого истолкователя. В содружестве с художником Борисом Эрдманом он создал спектакль изящной и четкой формы, содержательный и по-хорошему озорной… Лучше всего воплощает замысел режиссера Гарина актер Гарин, играющий роль Короля. Король Гарина очень смешон, но в смешном есть нечто страшноватое. Это поистине виртуозное исполнение…»
А. Крон. «Обыкновенное чудо». — «Театр», 1956, № 5.
«“Обыкновенное чудо” в Московском театре-студии киноактера — спектакль режиссерский. Он интересен оригинальностью замысла, своеобразием трактовки образов, сказочно-условных и в то же время правдивых. Режиссер Э. Гарин удивительно тонко и точно осуществляет этот замысел в каждой сцене, в каждом эпизоде, остается верен общему в каждой частности, в каждой детали…
Артисты достигли в спектакле немалых удач. В первую очередь это относится к самому Э. Гарину…
Э. Гарин выступил с большой самостоятельной работой после долгого перерыва. Длительное отсутствие творческой тренировки не снизило его актерского и режиссерского мастерства. Он, что называется, в полной форме и показал себя тонким мастером жеста, слова, лепки характера, образа…»
М. Жаров. «Обыкновенное чудо». — «Сов. культура», 1956, 22 мая.
«Творческой индивидуальности Э. Гарина… близка манера Шварца. Режиссер хорошо почувствовал современность сказки. Поэтому Гарина увлекли в первую очередь те сцены, в которых хотя и в условной, сказочной форме, но зло и остроумно осмеиваются пороки, бытующие и поныне. Самыми острыми сценами спектакля стали те, в которых участвуют министр-администратор, охотник и т. п. Именно в решении этих гротесковых фигур наиболее полно проявились неуемная выдумка, хитроумное изобретательство режиссера Гарина и художника спектакля Б. Эрдмана… Превосходен по своему сатирическому рисунку и образ самого Короля в исполнении Э. Гарина. В этой роли счастливо сочетались, великолепно дополнили друг друга Гарин-актер и Гарин-постановщик. В Короле — Гарине нет величия 100 и представительности, как принято изображать монархов. Это очень “домашний”, “будничный” король, родной брат недалеким, глуповатым “властелинам” из сказок Андерсена…
Сказка “Обыкновенное чудо” пользуется большой популярностью у взрослого зрителя. Очевидно, пора вернуть на сцену театров этот незаслуженно отвергнутый жанр — жанр сказки для взрослых!»
М. Кваснецкая. В защиту жанра. — «Моск. комсомолец», 1956, 20 июня.
«Я всегда восхищался его талантом. Это актер мирового класса, я в этом уверен. Да, ему всегда воздают должное как мастеру комедийного спектакля. Но этим о Гарине сказано слишком мало. Художник, соединивший в своем почерке злую иронию и хрупкий лиризм, буффонаду и изощреннейшую точность психологического рисунка, художник, владеющий тайной мгновенных переключений от смешного к серьезному, от пародийного к трагическому, этот художник, раскройся он во всю широту своих возможностей, мог бы, на мой взгляд, стать нашим Чаплином».
М. Романов. О товарищах по профессии. — «Лит. газ.», 1956, 21 авг.
Февраль.
- На экраны выходит фильм «Фонтан».
Ноябрь.
- Театр-студия киноактера. Премьера спектакля «Мандат». На афишах указано: «По мотивам работы народного артиста РСФСР Вс. Мейерхольда». Пьеса Н. Эрдмана, постановка Э. Гарина и Х. Локшиной. В роли Гулячкина — Э. Гарин.
«Постановка Театра киноактера не пытается сойти за архивно точную копию былого представления. И все же не ложная скромность побуждала Гарина и Локшину набрать имя прежнего постановщика шрифтом, более приметным на афише, чем их собственные фамилии. <…> Многое зачтется Эрасту Гарину: в первый раз имя Всеволода Мейерхольда после двадцати лет безмолвия возникло крупными буквами, на улице».
И. Соловьева. Ради чего? — «Театр». М., 1957, № 3. С. 51.
«Успех этого спектакля — это главным образом успех превосходного актерского мастерства Гарина».
К. Рудницкий. На московской сцене. — «Москва», 1957. № 7.
«Трудно объяснить в двух словах, что значило для нас, студентов начала шестидесятых, имя Гарина. Много значило. Как раз тогда, на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов, эта его многозначность была особенно убедительна.
На сцене Театра киноактера возродился “Мандат” Эрдмана в постановке Гарина. <…> С Гариным в главной роли — во многом, естественно, повторяющим Гулячкина — Гарина тридцатилетней давности. (Одна из самых популярных афиш тех лет — Гулячкин — Гарин, победно и чуточку ошарашенно взирающий на окружающий мир из… ванны.) То была одна из сенсаций сезона, предвосхитившая многие другие сенсации, она обозначала начало новой тенденции в театральной жизни. Тогда будто внове зазвучали голоса Шварца, Тынянова, Зощенко, Сухово-Кобылина. <…> Далеко не всегда это шло через Гарина, и тем не менее каким-то неисповедимым образом то и дело напоминало о нем, заставляло слышать его уникальные интонации… словом, заявляло о его наличии в жизни, в искусстве…»
Ю. Богомолов, М. Кушниров. Обыкновенный волшебник. — «Искусство кино», 1965, № 3. С. 75.
- Задумывает фильм по рассказам М. Зощенко, обсуждает этот замысел с писателем.
- На радио работает над второй редакцией радиокомпозиции «Я сам» по произведениям В. Маяковского (автор композиции, режиссер, исполнитель).
«О радиокомпозиции “Я сам”.
— Я не понимаю Маяковского!
Очень часто слышалась эта фраза и при жизни поэта, да и теперь.
Читая его удивительную, точную как лозунг прозу, где он рассказывает о своем путешествии по Америке, мне пришла в голову мысль чередовать его прозу с его же стихами.
Мне казалось, что слушатель, не утруждая себя, сначала воспримет содержание, рассказанное поэтом прозой, а потом то же, но положенное на музыку поэзии. Так родилась композиция “Мое открытие Америки”.
Она имела успех у слушателей и толкнула меня на мысль — усложнить этот прием: основываясь на автобиографии “Я сам”, пройти вместе с поэтом по времени (Автобиография) и творчеству (Стихи).
101 Задача по линии постановочной усложнилась. Там, в “Моем открытии Америки” — механическое движение (пароход, поезд и т. п.). Здесь — движение внутреннее. Казалось, детские годы будут ассоциироваться с фортепианными упражнениями (отсюда вся первая часть на фоне упражнений Черни; середина композиции — война, солдатские шаги), потом они будут особо осмыслены, когда подойдут к “150 000 000” — “Шаг миллионный печатай” и звуки, ассоциативно вызывающие бытовые представления: звон буферов, свистки паровоза и т. д.
Образ автора складывался у меня и очень сложно и долго:
Я очень хорошо помню Маяковского в картине “Барышня и хулиган”. Гимназистом будучи, я очень увлекался кино. Среди буржуазной салонной, благополучной кинопродукции Маяковский запомнился как актер, несший другую, новую тему. Маяковский как актер мне очень нравился.
Потом, в провинции, в 1918 году его “Левый марш”. <…> Это была Марсельеза тогдашней молодежи. Потом Москва, 1921 год — он живой, огромный, громкий. Когда нас, красноармейцев Первого Самодеятельного театра Красной Армии Политуправления МВО, пригоняли в “Театр РСФСР первый”, где мы, полупонимая, изображая вещи, орали:
Вы нас собрали,
добыли,
лили.
А нас забрали,
закабалили.
Мы видели наполненного мощной энергией автора. И много лет спустя в театре имени Вс. Мейерхольда на читке “Клопа”, потом на репетициях — неистового автора, когда он работал или читал, или показывал. <…> И нежного, почти застенчивого, когда он отдыхал, курил, ходил по коридорам. Это по нашим тогдашним представлениям о нем было невероятно.
Очень запомнилось мне: дома у меня. Читал только что вышедшие его стихи о Париже Николай Эрдман. Эрдман читал проникновенно. Он раскрыл нового для меня Маяковского. Раскрыл огромный лиризм, показал новую для меня сторону таланта поэта.
Теперь, по прошествии не одного десятилетия со дня смерти поэта, как бы воссоздавая его, не располагая ни его голосом, ни его выразительностью — думаешь только об одном: о том предельном интеллектуальном и эмоциональном напряжении, в котором протекла жизнь поэта…»
Э. Гарин. Рукопись. Копия из архива составителя.
- На киностудии «Союзмультфильм» озвучивает роли: Учителя в фильме «Двенадцать месяцев», Лисы в фильме «Девочка в джунглях».
- Обдумывает постановку «Ричарда III» В. Шекспира, в которой намеревается сыграть заглавную роль.
1957
Март.
- Пишет заявление в дирекцию студии «Мосфильм».
«Директору студии “Мосфильм” тов. К. П. Фролову
Заявление
актера “актерской” студии “Мосфильм” Гарина.
Прошу у Вас распоряжения на запуск в порядке учебно-тренировочной работы с актерами студии произведения В. Шекспира “Ричард III”.
Высокий драматургический материал произведения даст возможность провести серьезную академическую работу с актерами, обогатит и расширит их опыт, обострит выразительность.
После завершения первого цикла работ над трагедией дирекция, ознакомившись, решит, будет ли эта работа интересной для телевидения или как студийная работа должна быть показана узкому кругу зрителей — как завершающий этап — отчет актерской студии по классу актерского мастерства.
Эраст Гарин
Москва 26-III-57».
Черновик из архива Э. П. Гарина.
При заявлении прилагался предварительный список актеров, намеченных на основные роли: герцогиня Йоркская — Е. Савинова; Ричард — С. Бондарчук, Э. Гарин; Генрих, граф Ричмонд — С. Курилов, В. Тихонов; леди Анна — Н. Алисова, М. Булгакова, Р. Нифонтова. В ролях: А. Хвыля, М. Глузский, Г. Милляр и другие.
На основании распоряжения дирекции «Мосфильма» от 27 мая 1957 г. Гарин приступил к репетициям. Однако вскоре они были приостановлены. Спектакль осуществлен не был.
102 - Снимается в фильме «Девушка без адреса» в роли Дедушки. Сценарий Л. Ленча, режиссер Э. Рязанов, «Мосфильм».
- Снимается в фильме «Шли солдаты» в роли немецкого солдата Гофмана. Сценарий и постановка Л. Трауберга, «Мосфильм».
- Собирается ставить «Доброго человека из Сезуана» Б. Брехта в Московском театре сатиры. Постановку осуществить не удалось.
- Начинает работать над книгой воспоминаний.
5 октября.
- Премьера по Всесоюзному радио композиции «Я сам» по произведениям В. Маяковского.
«Гарин читает Маяковского?! Не Маяковского “Прозаседавшихся” и “Клопа”, но Маяковского “Левого марша”, “Ленина”, “Хорошо!”. Актер на отрицательные роли, прочно связанный в нашей слуховой памяти с расслабленными, визгливыми интонациями своих выживших из ума королей, посягнул на чеканные волевые революционные стихи, осмелился говорить с потомками от имени “агитатора, горлана, главаря”. И, оказывается, получилось! Более часа звучит радиокомпозиция “Я сам”, поставленная на детском вещании Гариным и Локшиной при участии одного актера — Гарина. И, что самое важное, она захватывает вас, вы слышите лирическую биографию поэта и понимаете историю его времени. Мучительность поисков, восторг пред грянувшей революцией и пафос утверждения нового мира. В течение часа артист держит внимание слушателя, овладевает им безраздельно. Передача все время идет вверх, все время “крещендо”. И когда, кажется, уже нельзя сказать более сильно и страстно, темперамент поэта и артиста поднимает вас в еще более разреженную высь.
В математике умножение величин с противоположным знаком дает минус. В искусстве часто наоборот. Доказательство — эта передача. Быть может, не все так полярно в творчестве Маяковского и Гарина. Много общего в их искусстве, одинаково не терпящем полутонов, категоричном в своем отношении к миру».
Ю. Алянский. Гарин читает Маяковского. — «Театр», 1958, № 1.
- Записывает на радио монологи из спектакля Театра киноактера «Мандат» по пьесе Н. Эрдмана. Ставит радиоспектакль по оперетте «Оклахома».
- На киностудии «Союзмультфильм» озвучивает роль Короля в фильме «Исполнение желаний» (сценарий Т. Габбе, режиссеры В. и З. Брумберг).
- По приглашению молодежной части труппы Московского театра сатиры ставит спектакль «Тень» по пьесе Е. Шварца.
«Молодые актеры Московского театра сатиры пригласили меня с Локшиной поставить “Тень”. Я поехал к Шварцу в Комарово.
<…> Я, как мог, рассказал, каким хочется делать спектакль, каким он видится; рассказал, с каким неизменным успехом идет в нашем Театре киноактера “Обыкновенное чудо”.
Евгений Львович относился к редкой категории авторов, которые не дают рецептов решения, не произносят нравоучительные монологи-советы. Был он редкостно деликатен по природе, доверял своим собеседникам и считал их не менее понятливыми, чем он сам. Умел он и чрезвычайно убедительно молчать, так же как и коротенькой, как бы не относящейся к делу фразой сказать многое. <…>
В работе над “Тенью” в Театре сатиры мы нашли и осуществили решение сложнейших сцен, не дававшихся мне в постановке Ленинградского театра комедии. В спектакле Театра сатиры нам удалось соединить достоверность и реалистичность характеров с поэтической сказочностью обобщений. <…> В этом помог и ленинградский художник Б. Гурвич, нашедший лаконичное и выразительное решение игровой площадки…»
Э. Гарин. Указ. соч. С. 269 – 270.
«Москва, 29 декабря 1957 г.
… Каждый день ковыряем “Тень”. Хеська показывала худсовету первый акт. Прошло на аплодисменты. Вчера я очень порадовался, когда макет спектакля обсуждал рабочий класс театра.
Макет изысканный, и ни один человек не задал идиотского вопроса, какие встречаются в современных критиках у холуйствующих прихлебателей “реалистов на подножном корму”.
Дошибаем второй акт. Он очень трудный. В феврале думаем сдать…»
Из письма к Т. В. Суковой. Копия из архива составителя.
1958
- Продолжает репетиции «Тени» в Театре сатиры.
«Москва, 4.I.58.
<…> Я не пишу всех перипетий с “Тенью”. Много было скандалов, склок и дрязг. Задиристое руководство поставило вопрос так: показать все сделанное худсовету и директорату. И вот мы, седые и старые, сдавали экзамен молодым и нахальным…»
Из письма к Т. В. Суковой. Копия из архива составителя.
103 5 марта.
- Московский театр сатиры. Премьера спектакля «Тень» Е. Шварца. Постановка Э. Гарина и Х. Локшиной. Спектакль вызвал противоречивые отзывы критики, в том числе и такие, которые предопределялись ранее навешенным на Э. Гарина ярлыком формалиста.
«Театр сатиры сыграл “Тень” Евг. Шварца. Сыграл увлеченно, задорно. <…> Режиссеры спектакля Э. Гарин и Х. Локшина <…> увидели в сказке Шварца прежде всего острую сатиру. Именно через пафос обличения, через осмеяние хотел театр обнаружить гражданскую мысль произведения. Хлестко высмеивается в спектакле общество, в котором правят корысть, жестокость и глупость, где человек только по одному тому, что он хороший и честный, преследуется, считаясь жалким неудачником…»
Г. Юрасова. Сатира и сказка. — «Сов. культура», 1958, 26 апр.
«Э. Гарину как актеру и режиссеру издавна присуще увлечение внешней сценической формой как одним из основных элементов постановки. И в “Тени” чуть ли не каждый эпизод превращается в своеобразный аттракцион с необычайными трюками и превращениями.
Да, в памяти надолго останутся мастерски сыгранные сцены во дворце, смешно решенные в жанре откровенной буффонады фигуры министров. У одного из министров рыжие волосы, черные, торчащие в разные стороны усы, у другого — голый череп, мертвенное лицо, и одет он в шутовские желтые брюки. Слуги поддерживают этого немощного министра, устанавливают его в величественную позу, а чуть отойдут — он падает. Здесь же Цезарь Борджиа ходит с солонкой и окропляет всех солью. Или появляется палач — неожиданно изящный, элегантный, вытирая губы после вкусного завтрака. Все это — образы-маски, лишенные всякой реальности. Яркая зрелищность, условная театральность довлеют в спектакле над раскрытием философских, поэтических начал произведения…»
Н. Путинцев. Сказка учит жить. — «Веч. Москва», 1958, 13 мая.
- Получает приглашение сняться на «Ленфильме» в роли Дьячка («Ведьма»).
«Вчера прислали вызов на переговорную с Ленинградом. <…> Какой-то Абрамов приглашает играть дьячка в рассказе “Ведьма”. Я рассказа не помню и просил его звонить в Москву после лечения».
Из письма к Х. А. Локшиной. Москва, 21 сент. 1958.
- Собирается ставить фильм по пьесе Н. В. Гоголя «Игроки». Постановка осталась неосуществленной.
- Записывает на радио литературно-музыкальную композицию «Рождение столицы» по произведениям В. Маяковского — автор, режиссер, исполнитель.
- Задумывает радиокомпозицию по рассказам И. Бунина «Господин из Сан-Франциско» и «Сны Чанга». Осуществить эту работу не удалось.
- На киностудии «Союзмультфильм» озвучивает роли в фильмах: «Спортландия» (сценарий Ю. Киршона, режиссер А. Иванов) — роль Матраца;
«Тайна далекого острова» (сценарий В. Данилова и Н. Эрдмана, режиссеры В. и З. Брумберг) — роль Профессора; «Краса ненаглядная» (сценарий Е. Сперанского, режиссер В. Дегтярев) — роль Царя.
- Снимается в фильме «Ведьма» (по А. П. Чехову), режиссер А. Абрамов, «Ленфильм» — роль Дьячка.
104 1959
14 января.
- Фильм «Ведьма» выходит на экраны.
«Когда есть интересный материал… возникает большое искусство, насыщенное опенками психологии, безукоризненно правдивое и вместе с тем смешное, трагическое, эксцентрическое и реальное — все вместе. Так появился маленький шедевр — дьячок в короткометражном фильме “Ведьма”. Эта роль нашла идеальное воплощение…»
М. Юрьев. Эраст Гарин. — «Сов. экран», 1960, № 23.
«Для меня в “Ведьме” образу Рыкова нотной линейкой служила отупляющая до жестокости подозрительность, которая превратилась с годами одуряющего мерзкого бытия в маниакальность преследования, как у Берия. Именно мерзкого быта, а не веры. Гыков для меня не был смешным, он страшен в конечном счете. А ведь в театре играли смешного Гыкова. Станиславский ставил “Ведьму”, где Гыкова смешно исполнял Дикий. Моя нотная линейка для Гыкова могла быть только такой, какой я увидел этого дьячка во времени и в социальном положении».
Э. Гарин. Моя нотная линейка. — «Спутник кинофестиваля», 1963, 12 июля.
«Смех мгновенно вспыхивает в кинозале, как только на экране возникает характерная гаринская физиономия. И порой этот смех столь же мгновенно угасает, хотя перед нами по-прежнему маячит долговязая, нескладная фигура. В чем же здесь причина? Да в том, что актер обладает редчайшим, если можно так выразиться, “чаплинским секретом” — способностью переключать комическое в драму.
И вдруг при взгляде на уморительно смешного гаринского героя становится бесконечно грустно, и мы задумываемся над его судьбой, над причинами, сделавшими героя именно таким, а не другим.
Сколько человечности в игре актера… в роли ревнивого до беспамятства дьячка в фильме “Ведьма”!.. Фигура дьячка… невольно вызывает у зрителей грустные раздумья о жизни этих людей, такой мрачной и безысходной…»
В. Медведев. Эраст Гарин. — «Сов. фильм», 1963, № 4.
«Материал роли, конечно, давал явную возможность для трактовки бытовой, где основной движущей силой для актера явилась бы сила непрекратимой, вечной нудной ревности немолодого, некрасивого дьячка. Гарину же удалось увидеть здесь темные сатанинские инстинкты, и это подняло образ, вырвало его из сферы реальной жизни. Да, дьячок у Гарина и ревнив, и туп, и злобен, как это было и у Чехова. Но и ревность, и тупость, и злоба дьячка — для Гарина лишь подпорки. Эти свойства персонажа сами собой разумеются: но для актера они — не больше как некоторые бытовые подробности, детали поведения, а главная зловещая всепоглощающая черта — это мощная сверхъестественная вера в нечистую силу, в черную магию, в колдовство, в ведьмачество, вера, заставляющая предположить непосредственное знакомство героя с этими силами. <…>
В этой роли Гарин достигает высшей степени концентрации характерности. Это одна из тех мифических темных фигур, которые копошатся в пыльных углах и на свет не вылазят…»
В. Свешников. Эраст Гарин. — В кн.: Актеры советского кино. М., «Искусство», 1964. С. 49, 55, 56.
«Вообще, часто кажется, что герои Гарина действуют по подсказке извне. За его спиной — будто невидимый суфлер. Гарин постоянно к чему-то прислушивается. Если такой психологический груз валится на плечи ничтожного Апломбова в “Свадьбе”, становится смешно, если он обогащает им образ дьячка в чеховской “Ведьме”, — жутко. <…> Гарин устанавливает связь характера не только с обстоятельствами пьесы, но и со всем миром, с культурой, историей».
М. Левитин. Творимая жизнь. — «Театр», 1981, № 11 (2). С. 77. Позже очерк вошел в кн. «Чужой спектакль». М., «Искусство», 1982.
- Снимается в фильме «Русский сувенир». Сценарий и постановка Г. Александрова, «Мосфильм» (роль пастора Пиблса).
«Преподобный мистер Пиблс в исполнении Эраста Гарина оказывается живее и достовернее других…»
В. Шитова. Блуждающие маски. — «Комс правда», 1960, 14 июля.
«Гарин решает головоломные задачи. Так, в совершенно условном представлении, которым является “Русский сувенир”… ему удается создать образ квакера-проповедника удивительно правдиво даже тогда, когда сама ситуация сопротивляется какой бы то ни было правде. Эта роль для Гарина не больше, чем демонстрация профессионального мастерства…»
М. Юрьев. Эраст Гарин. — «Сов. экран», 1960, № 23.
105 - На киностудии «Союзмультфильм» озвучивает роль Судьи в фильме «Легенда о завещании мавра» (сценарий Л. Белокурова по новелле В. Ирвинга, режиссеры М. и В. Цехановские).
- В Московском драматическом театре собирается ставить пьесу А. Гладкова «Ночное небо» (спектакль поставлен не был).
1960
- В Московском театре сатиры ставит (совместно с Х. Локшиной) спектакль «12 стульев» по И. Ильфу и Е. Петрову, инсценировка Е. Весника.
29 марта.
- Премьера «12 стульев».
«Авторы постановки <…> сделали очень много, чтобы донести памятные каждому до мельчайших подробностей образы романа (и в первую очередь центральных действующих лиц), усыпанный сочным юмором текст, общий неповторимый колорит незабываемых книг…»
И. Киселев. Оружием смеха. — «Рабочая газ.», 1962, 28 июля.
«Из постановщиков спектаклей (“12 стульев”, “Золотой теленок”. — А. Х.), нам кажется, больше вкуса и чувства стиля обнаружили Э. Гарин и Х. Локшина, режиссеры “12 стульев”: много впечатляющих, экономных по средствам и выразительных сцен (особенно сцена в ресторане, на аукционе, у Эллочки Щукиной)…»
А. Алексеева. Остап Бендер и другие. — «Горьковская правда», 1963, 24 июля.
«Спектакль удался. Об этом красноречиво свидетельствовали и шумные аплодисменты, и частые взрывы смеха, сопровождавшие все три действия инсценировки.
Чем же привлекает к себе спектакль?
Прежде всего — своей верной тональностью и смелым решением трудной творческой задачи. Постановщики “12 стульев” — народный артист РСФСР Э. Гарин и Х. Локшина — успешно справились с проблемой сочетания мягкой юмористичности с остросатирическим характером спектакля».
Б. Старцев. «12 стульев». — «Волжская Коммуна», 1964, 9 авг.
- Редакция «Театральной энциклопедии» обратилась к Э. Гарину с просьбой прокомментировать небольшую статью, призванную «осветить» термин «биомеханика». В архиве Э. П. Гарина сохранилось 7 вариантов ответа. В одном из них он писал:
«Сейчас, когда в нашей бедной педагогической методологии и практике театральной учебы наследие Мейерхольда пока еще так бесхозяйственно и так тенденциозно отбрасывается… не следует в короткой заметке серьезные предметы сводить к полочной благополучности.
<…> Завершая свою заметку “Биомеханика”, автор, как бы суммируя, говорит, что “биомеханика себя не оправдала и сделалась выражением формалистических течений”.
Это не диалектическое утверждение. И это уже не вина биомеханики. Любая система в “умелых” руках может сделаться чем угодно, может выродиться в штампы, в догмы, в формализм, а иногда даже еще хуже. Даже “система” Иисуса Христа, тренирующая всепрощение и милосердие, в руках Игнация Лойолы выродилась в орден иезуитов, т. е. превратилась в свою противоположность.
“Все зависит от той стороны, с которой кто смотрит на вещи…” — говорит Иван Александрович Хлестаков. <…>
Ныне мы свидетели того, как оправдавшая себя система К. С. Станиславского в “умелых” руках так притупила силу своего воздействия, что зритель ходит на футбол, а не в театр.
Приходится процитировать создателя системы: “Они не поняли, что то, о чем я им говорил… так называемая "система" принята была понаслышке… в иных случаях поверхностное восприятие ее дало обратные, отрицательные результаты” (К. С. Станиславский. Т. 1. С. 350).
<…> Наследие Вс. Э. Мейерхольда ныне должно найти оценку с позиций советского патриота, ценящего достижения искусства своего народа в период первых десятилетий Октябрьской революции.
Москва, 2/VI-60 г. Актер Эраст Гарин».
«Как-то летом в Тарусе жил актер Гарин. Он жаловался на современный театр и тосковал. По вечерам возникали споры: где обстоит хуже — в литературе, театре, живописи 106 или музыке. Каждый отстаивал свою область и утверждал, что она занимает самое первое место по силе падения. Однажды Гарин прочел нам эрдмановского “Самоубийцу”, пьесу, которая не увидела сцены, и я услышала, что она звучит по-новому: а я вам расскажу, почему вы не разбили голову и продолжаете жить…»
Н. Я. Мандельштам. Воспоминания. — Изд. им. Чехова. Нью-Йорк, 1970. С. 347.
1961
- Принимает деятельное участие в подготовке первого вечера памяти В. Э. Мейерхольда в студенческом клубе МГУ.
27 марта.
- Москва. В МГУ проходит вечер памяти Мастера.
29 марта.
- Центральная студия киноактера. Премьера спектакля «Несущий в себе», инсценировка киносценария Л. Сухаревской. Постановка Э. Гарина и Х. Локшиной.
«Да, этот спектакль не похож на обычное театральное представление. Э. Гарин в содружестве с Х. Локшиной нашел особые выразительные средства. Даже сама манера актерской игры… создает на сцене обстановку особой достоверности действия…»
В. Грачев. Спор решается жизнью. — «Театральная жизнь», 1961, № 12.
«Рядом с актерскими в спектакле есть “режиссерские” сцены, именно постановщикам обязанные своим успехом.
Сценический вариант сценария режиссеры ставят как спектакль, точно следуя природе и законам театра, не прельщаясь соблазнами кинематографа».
Т. Иванова. — «Сов. культура», 1961, 11 мая.
24 мая.
- Редакция устного молодежного журнала Дворца культуры г. Жуковского (Московская обл.) организует специальный выпуск, полностью посвященный В. Э. Мейерхольду.
«Вечер состоял из двух отделений. В первом участвовали главным образом ученики и сотрудники великого режиссера, принимавшие участие в ставшем уже легендой московских и подмосковных интеллигентов вечере в МГУ. И у нас выступали Валентин Николаевич Плучек, Анатолий Георгиевич Паппе, Алексей Алексеевич Темерин, Александр Константинович Гладков, Зосима Павлович Злобин с рассказами и показами. Стоя, зал приветствовал внучку Мастера — Марию Алексеевну Мейерхольд, Нину Васильевну Григорович — сотрудника Бахрушинского музея, которая помогла и у нас сделать небольшую, но очень характерную выставку из афиш и фотографий 107 незнаемых, но, кажется, таких прекрасных театральных шедевров.
Во втором отделении на сцене царил Эраст Павлович Гарин. Он говорил, пел, танцевал, показывал биомеханику… Он делал все, что кажется давно невозможным для человека его возраста и его положения. И он был и во всем этом поразительно молод, убедителен, заразителен, элегантен… Эй, какие еще слова существуют в журналистском или театроведческом лексиконе.
Слова? Причем здесь слова! Это было олицетворение духа Театра, силы и красоты Искусства.
Гарин был на сцене больше полутора часов, ни разу не уходя за кулисы. Полтора часа — и как одна-единственная минута; в зале иногда возникали аплодисменты, и лишь тогда можно было перевести дыхание.
И невольно приходила мысль: если такие у Мейерхольда ученики — каков же был Учитель?..»
Заметка в многотиражной газете ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского. Мейерхольдовский сборник. Вып. 1. М., 1992. С. 59.
- Вместе с другими деятелями культуры подписывает письмо-обращение к Н. С. Хрущеву с просьбой дезавуировать постановление Правительства от 1939 г. о закрытии Театра им. Вс. Мейерхольда.
- Снимается в фильмах: «Водяной» по очерку В. Овечкина, режиссер С. Сиделев, «Мосфильм» (роль Водяного); «Аленка» по рассказу С. Антонова, режиссер Б. Барнет, «Мосфильм» (роль Витаминыча).
«В этой традиционно насупленной фигуре прекрасно играющий Эраст Гарин очень тонко проявляет трогательную влюбленность в детей. Витаминыч как бы повернут доброй стороной к нам, а строгой — по сюжету — к детям…»
Л. Аннинский. В колее повести. — «Искусство кино», 1962, № 5.
«Великолепная игра Эраста Гарина, комедийное умение режиссера Бориса Барнета… — все это неожиданным образом побивает — в юморе, в мысли, в умении — иные “специально предпринятые” кинокомедии».
А. Зоркий. Осторожно, комедия. — «Лит. газ.», 1963, 17 авг.
«И более ординарные (если здесь уместно это слово), более, так сказать, приземленные явления гаринского творчества все же окрашены в тона таинственные, странные, эксцентрические. Здесь имеются в виду, например, роли доброго чудаковатого учителя Витаминыча из фильма Барнета “Аленка” и немецкого солдата Якоба Гофмана из фильма Трауберга “Шли солдаты”…»
В. Свешников. Эраст Гарин. — В кн.: Актеры советского кино. М., «Искусство», 1964.
- Фильм «Ведьма» удостоен «Гран-при» на фестивале телевизионных фильмов в Канне (Франция). Жюри особо отметило отличную игру актера Эраста Гарина.
Декабрь.
- Сан-Франциско. Фильм «Ведьма» демонстрируется с большим успехом и получает одну из главных наград на Международном кинофестивале.
«Вторично на международном конкурсе премирована наша картина для телевидения “Ведьма”, а талантливая игра артиста Эраста Гарина вызывала восхищение зрителя…»
К. Парамонова. Фильмы и зрители. Фестиваль в Сан-Франциско. — «Сов. культура», 1961, 12 дек.
- На киностудии «Союзмультфильм» озвучивает роли в фильмах: «Дорогая копейка» (сценарий Е. Аграновича, режиссер И. Аксенчук) — роль Пенса; 108 «Дракон» (сценарий Р. Кушнирова, режиссер А. Снежко-Блоцкая) — роль Крестьянина; «Семейная хроника» (сценарий С. Михалкова, режиссер Л. Амальрик) — роль Собаки-фотографа.
1962
31 января.
- В малом зале Центрального Дома кино состоялся творческий вечер Э. Гарина (1-й вечер из цикла «Творческие портреты мастеров кино»).
- Снимается в фильмах: «Оптимистическая трагедия» по пьесе Вс. Вишневского, режиссер С. Самсонов, «Мосфильм» — Вожачок; «Необыкновенный город», сценарий Н. Зиновьева, Н. Эрдмана, режиссер В. Эйсымонт, киностудия им. Горького — роли Секретарши, Пал Палыча, Крутикова (трансформация); «Монета» по новелле А. Мальца, режиссеры А. Алов и В. Наумов, «Мосфильм» — роль Нищего; «Каин XVIII», сценарий Е. Шварца, Н. Эрдмана, режиссеры Н. Кошеверова, М. Шапиро, «Ленфильм» — Каин XVIII.
«Эпизод (прибытия пополнения анархистов. — А. Х.) сделан блестяще (чего стоит хотя бы Э. Гарин в роли главаря пополнения)…»
К. Щербаков. К вам, ныне живущие! — «Комс. правда», 1963, 25 июня.
«Москва 21 июня 62 г.
… Я каждый день снимаюсь. Съемки павильонные, так что вечером, выходя из пыльного погреба павильона, удивляешься, что солнце светит и так симпатично на природе.
Очень волновался вначале. Это новелла, и там всего два действующих лица. Первый материал очень мне понравился, а вчера смотрел последующие куски и опять заволновался. Что-то не удалось. Надо переснимать. Вообще, черт бы драл эту шухерную работу!..»
Из письма Т. В. Суковой. Копия из архива составителя.
109 «Все, что он делал, было ярко, смешно, и это всех устраивало, ибо зритель хохотал и умилялся. А ведь он имел право — ибо имел возможности — сыграть трагикомическую роль. Режиссеры не видели этой грани его таланта. Между тем взять хотя бы исполнение Гариным роли Нищего в киноновелле по рассказу А. Мальца “Монета”. Здесь его работа без натяжки может выдержать сравнение с Чаплином…»
А. Попов. Из воспоминаний о Гарине. — Записано мной. — А. Х.
«Настоящих комедийных актеров у нас мало. А Гарин был не просто блестящий комедийный актер. Его таланту была подвластна высшая сфера драматического искусства — трагикомедия».
Ю. Никулин. — Записано мной. — А. Х.
«Гарин умел создавать эффект значительности первым же появлением перед зрителями. Вокруг него сразу же возникало некое силовое поле; игровое пространство намагничивалось несколько загадочной, как у фокусника, сосредоточенностью. <…> Лаконичный графический силуэт предъявлен актером с первой же минуты — это для Гарина обязательно (потому-то художникам было интересно зарисовывать мизансцены Гарина). <…> В каждую минуту пантомимической игры Гарин изящен. С ловкостью циркача он увертывается от камней, швыряемых мальчиком, и отважно идет в контратаку с зонтиком наперевес, уподобив его рапире. Когда мальчик, изловчившись, бьет Подонка чем-то тяжелым по голове, тот падает. Нет, не просто падает — актер исполняет падение тела стой акробатической грацией, той эффектной выразительностью, какая идет от давних занятий биомеханикой, учившей актера управлять своим телом уверенно, как в танце, и мужественно, как в спорте. Так, чтобы в каждом движении участвовало все тело…»
Я. Варшавский. С Мейерхольдом и Маяковским. — «Киноведческие записки», № 60, М., 2002.
«Вот я снова на “Ленфильме”, в группе, с которой я сроднился еще со времени “Золушки”… Как и прежде, на руках у меня снова роль Короля, четвертого по моему послужному списку. Но этот Король не похож на своих предшественников по должности. Это король-модерн. Художники Доррер и Азизян, гример Ульянов, режиссеры и я долго хлопотали, чтобы внести в эту фигуру черты неоимпериалистических, фашиствующих самодуров».
Э. Гарин. Указ. соч. — С. 274.
«У великолепно сыгранного Э. Гариным Каина блудливые и жадные глазки, которые ни на одну минуту не становятся глазами, а остаются именно глазками. Во взгляде этих бегающих глазок и не ночевала мысль, и все, что Каин делает, кажется на редкость бесцельным и противопоказанным здравому смыслу. Он весь такой, каким его охарактеризовал актер, — воплощение нелепости мира, который не только венчает на царство, но и вообще терпит существование таких вот, как он, оголтелых, насквозь проникнутых человеконенавистнической злобой ублюдков. Эраст Гарин — один из самых своеобразных по внутреннему складу актеров советского кинематографа. Все его герои… отмечены острой и злой наблюдательностью художника, точным пониманием нелепого и страшного в людях, способностью художника беспощадно клеймить это нелепое…»
С. Цимбал. Каиново царство. — «Искусство кино», 1963, № 8.
«Образ Каина по праву может быть отнесен к выдающимся работам Эраста Гарина, актера, который уже показал свое удивительное умение быть беспощадным и неопровержимым прокурором мерзкого человеческого самодовольства, оголтелой пошлости и ненависти к ближним. Сатирический смысл нарисованного Гариным портрета становится особенно ощутимым оттого, что интонации Гарина поразительно достоверны и что актер нигде не отступает от психологической правды. В этом отношении кадры, в которых Каин любопытства ради взрывает замок своего брата Авеля, или сцены, где, обезумев от страха, он ищет утешения и поддержки “туалетного работника”, — особенно выразительны…»
С. Цимбал. Сказка остается в строю. — «Смена», 1963, 24 авг.
«Каин Гарина, смешно и естественно войдя в общую атмосферу начала фильма, вдруг разрывает тонкие переплетения ассоциаций — и перед нами уже прямая сатира на бешеного 110 диктатора, жаждущего войны. Стоило только Каину понять, чего он может добиться при помощи комара колоссальной взрывной силы, как равнодушные и пустые глаза его становятся сумасшедшими, яростными и злыми. “Бах, трах, тарарах!” — вторит он военному министру, мечась по тронному залу и нанося в пустоту удары своими маленькими костлявыми кулачками. И вот уже его руки лихорадочно расставляют флажки на огромной карте мира. Так вместе с тягучей гаринской интонацией входит в фильм мрак человеконенавистничества, звериной жестокости, жажды всеобщего порабощения…»
Г. Дубасов. Как умирают короли. — «Сов. кино», 1963, 21 сент.
- На киностудии «Союзмультфильм» озвучивает фильм «Дикие лебеди» (сценарий Е. Рысса и Л. Трауберга по сказке Г.-Х. Андерсена, режиссеры М. и В. Цехановские) — роль Епископа.
- На сцене Центрального театра-студии киноактера вместе с Х. Локшиной репетирует спектакль «Смерть Тарелкина, или Веселые расплюевские дни» по пьесе А. Сухово-Кобылина.
10 ноября.
- Среди поздравлений, полученных в связи с 60-летием со дня рождения, телеграммы коллег, соратников:
«Дорогой Эраст Павлович Мне как старому мейерхольдовцу особенно дорог весь ваш путь искусстве от незабываемых Хлестакова и Чацкого до Короля в “Обыкновенном чуде”. Путь этот на театре и кино как актера и режиссера был самым принципиальным любые годы прошедшего сорокалетия. Вы никогда не забывали заветов Всеволода Эмильевича от всего сердца 111 желаю чтобы в новые десятилетия Вашей творческой жизни забывчивые люди кино и театра открыли большую дорогу замечательному актеру Эрасту Гарину и режиссеру Гарину низкий поклон Хесе Александровне Григорий Рошаль».
«Всегда был и буду Вашим восторженным почитателем Эрдман».
1963
Февраль.
- Центральный театр-студия киноактера. Премьера спектакля «Смерть Тарелкина, или Веселые расплюевские дни» по пьесе А. Сухово-Кобылина. Постановка Э. Гарина и Х. Локшиной. В роли Тарелкина — Э. Гарин. Рецензий на эту принципиально важную режиссерскую и актерскую работу Э. Гарина нам найти не удалось. И это, видимо, не случайно: критика сделала вид, что такого спектакля попросту не существует. Так, журнал «Театр» в связи с премьерой «Смерти Тарелкина» в Театре им. Вл. Маяковского (1966, режиссер П. Фоменко) писал:
«Только два режиссера — Вс. Мейерхольд и А. Дикий — отважились взяться за постановку “Смерти Тарелкина”, но эти спектакли не были оценены по достоинству. <…> Это было в 1936 году, и с тех пор “Смерть Тарелкина” начисто исчезла с наших театральных афиш…»
М. Злобина. Страшные дни Расплюева. — «Театр», 1967, № 2.
- Пишет статью «Моя нотная линейка», в которой излагает свои взгляды на проблемы актерского творчества. 12 июля.
- Газета «Спутник кинофестиваля» публикует фрагменты статьи. Ввиду принципиальной важности этой статьи приводим текст в значительный его части:
«“Кинематограф, как в фокусе, отражает жизнь, быт” — этой фразой начинаются многие статьи и выступления.
Мысль верная, но для кинематографа вообще. А у каждого человека и у каждого художника имеются свои симпатии, которые он отдает жанру или определенному стилю, актеру или режиссеру. Да и фокусировка жизни бывает разнообразной. Я видел мальчишек, которые весенним днем наводят сферическими стеклами фокус на садовые скамейки. У одного тотчас появляется дымок, и линза начинает писать: “Петя + Лиля = …”, а другие это проделывают с трудом. И не каждый фильм ловит фокус жизни. В искусстве сложнее все получается, чем у мальчишек.
Мне нравятся актеры разных школ и направлений. Но это не значит, что свои симпатии я отдаю всем. А они у меня есть. Сначала я их отдал Максу Линдеру, актеру, который мне запомнился. Потом мои симпатии завоевал Бастер Китон. Чаплин составил целую эпоху в кинематографе. А совсем недавно мы восторгались французским режиссером и актером Жаком Тати. Мне эти актеры не кажутся комиками, хотя снимались и снимаются они в комедиях. Просто комик — для них, скорее, обкрадывающее слово. Это большие артисты, которые за внешне острыми, характерными приемами игры скрывают свою боль о человеке или обнажают ее. Они очень нежны со своим героем, они его любят, и он у них умный, добрый, чаще это гонимый сильными мира сего человек. Почти всегда обостренные приемы игры этим актерам помогают создать образ, который не уступает в правдивости, реалистичности, да и по силе обобщения героям, создаваемым художниками “натуральных” школ. В этом есть своя загадка, которая привлекает меня, которую я и стараюсь решить на экране.
Другую линию острохарактерного исполнения представляют: Пренс, Монти Бенкс, Эдди Кантор, братья Маркс. Эти салонно-комедийные актеры тяготеют к беспредметному, фарсовому смеху. Эксцентрика — их бог.
Послевоенный итальянский неореализм выдвинул исключительной силы режиссеров. Казалось, они снивелировали актера, как это было одно время в немом кино. Но потом, 112 освоив режиссерские новации неореализма, свое слово сказали актеры Тото, Фабрицци, Де Филиппо. Эти актеры по глубине психологических откровений приближаются к творчеству Чаплина. Но открывают они человека и по-новому, и по-своему.
Все эти творческие линии, возможно направления, интересны. Они в какой-то мере могут служить творческим примером оригинальных артистических дарований, ярких индивидуальностей.
Мне кажется, что искусство отражения явлений жизни может быть более эффектным, более волнующим и впечатляющим при творческом созидании. Я за артиста — созидателя, иногда его называют — автором. Мы видим на экране игру, рождение образа, сам процесс этого рождения, который может быть и весьма обнаженным. Не трудно, вырвав из контекста такого образа одну монтажную фразу, констатировать: неправдоподобно, так в жизни не бывает, эка куда загнул! И больше того, в этом могут быть усмотрены — абстракция, гиперболизированное воплощение, доведенное до отрицания “разумной” мысли. Но весь образ, весь стиль, весь фильм заставляют, и не впрямую, а исподволь, незаметно верить экранному герою, прототипы которого ходят вокруг нас как бы в разобранном на детали состоянии.
Разве может кто возразить против искусства актера, который по-иному видит жизнь, но по-своему интересно, оригинально, талантливо. И не важно, что интеллектуальная индивидуальность актера выражается средствами, мне менее близкими, иными методами. Как и совершенно, по-моему, все равно, какими методами врач излечивает больного, спасает ему жизнь. Важен конечный результат. Дело — не в методе, а в способности выразить себя через свое мировидение. Склонность актера к определенному размышлению, к индивидуальному созерцанию мира и его восприятию, а затем и отображению на экране влечет за собой выбор технических приемов, выбор метода.
При развитой фантазии, силе воображения можно научить человека прыгать, к примеру, через канаву. Человек, наделенный фантазией, проделает это много раз в мыслях без физических усилий, пропуская через себя действие. Но без техники (практики) трудно все-таки достичь совершенства.
Маяковский, кажется, говорил: “Мало, товарищи, выворачиваться нутром”.
Задача актера — понравиться зрителю, и для этого много путей, как много дорог в степи. Есть актеры, играющие, скорее, на вкус зрителя. Сыграть рубаху-парня на экране, предельно имитируя правду жизни и уснащая текст и действие популярными словечками и улыбками, — это труд, который дает немедленную зрительскую отдачу. Но похожесть героя на достоверность часто оборачивается отсутствием нотной линейки, а она 113 всегда должна быть у актера. Она должна состоять из примет времени, духа этого времени, социального положения. И доставляет ли творческое удовлетворение игра только на нотных знаках без нотных линеек?..»
Лето — осень.
- Вынашивает замысел постановки пьесы И. Сельвинского «Командарм-2». Постановку осуществить не удалось.
«Дорогой Эраст Павлович! Очень рад, что Ваше начальство не возражает против “К-2”. Буду теперь с нетерпением ждать суда худсовета и артистов. К сожалению, сам я читать пьесу не в состоянии: не то уже здоровье. Впрочем, Вы прочитаете лучше меня, а это будет только на пользу.
Ваш Илья Сельвинский».
Письмо И. Сельвинского от 4 окт. 1963. Архив Э. Гарина и Х. Локшиной.
Ноябрь.
- В журнале «Искусство кино» напечатана глава из мемуаров Э. Гарина — «История одного кинематографиста».
- На киностудии «Союзмультфильм» озвучивает роль Ворона в фильме «Дочь солнца» (сценарий Ю. Стрижевского, режиссер А. Снежко-Блоцкая).
1964
Январь — апрель.
- Москва. В Театре киноактера ведет репетиции комедии Э. Лабиша «Соломенная шляпка» в переводе и редакции Н. Эрдмана. В РГАЛИ сохранился режиссерский экземпляр пьесы с разметкой и описанием мизансцен. Постановку осуществить не удалось.
7 мая.
- МГУ. Участвует в вечере памяти С. Третьякова.
26 мая.
- Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «За заслуги в области киноискусства» Гарину присвоено звание народного артиста РСФСР.
- Ставит (совместно с Х. Локшиной) фильм «Обыкновенное чудо» по пьесе Е. Шварца (киностудия им. М. Горького) и снимается в нем в роли Короля.
«Без напудренного парика, королевской мантии, пряжек с бутафорскими драгоценностями на башмаках, трико, обтягивающего худые голенастые ноги, и завитой эспаньолки на придурковато-блаженном 114 востроносом лице, Э. П. Гарин после окончания съемочной смены или до ее начала представал замкнутым, молчаливым, очень скромно держащимся человеком с грустным выражением в усталых голубовато-серых глазах. Обсуждая производственные и организационные вопросы, он никогда не “хохмил”, не отпускал шуточек, не повышал голоса, за исключением двух-трех случаев, когда он кричал, срывая связки, требуя от директорско-административной группы мотивированных объяснений срыва графика готовности декораций и съемочных объектов.
Когда я видел Гарина, снявшего костюм Короля и облачившегося в свое потертое пальто, в серой кепочке, нахохлившегося, прижавшегося к стенке видавшего виды студийного автобуса, в котором мы все вместе — актеры, операторы, осветители, ассистенты, рабочие — возвращались в Ялту после дневной съемки в Алупке на фоне Воронцовского дворца, у меня всегда возникал образ вечного скитальца Аркашки Несчастливцева, бессеребреника и подвижника, бескорыстно и восторженно положившего свою жизнь на волшебный алтарь Искусства. <…>
Помню, возникли трудности при съемках в Никитском ботаническом саду: директор этого уникального заповедника никак не соглашался на временную достройку беседки, уже воздвигнутой несколько лет назад для кинокартины “Двенадцатая ночь” и ставшей одной из достопримечательностей сада. Напрасно его уговаривала административная группа нашего фильма, заверяя, что после съемки все будет восстановлено в прежнем виде, напрасно художники и бутафоры раскладывали эскизы, наглядно демонстрируя эффектность преображенной беседки и абсолютную безопасность для окружающих ее растений — директор был неумолим. Наконец, в директорский кабинет вошел Гарин — в своем стареньком пальто, в серой кепочке, запыленных ботинках, востроносенький, заурядной внешности человек, похожий на кого угодно, только не на режиссера-постановщика кинофильма (в стереотипном понятии), и, поздоровавшись, активно включился в разговор, убеждая директора сада уступить просьбам киношников.
— А вы, простите, кто такой? — сурово спросил директор, окидывая подозрительным взглядом вошедшего и его костюм.
— Я?.. Да я, собственно… — смутился Гарин и, поняв, что на директора, очевидно, не произведет впечатления его имя, тем более в контрасте с одеждой, повернулся и быстро вышел за дверь.
Но имя-то как раз и произвело впечатление!
— Кто это? — переспросил директор у своих собеседников.
— Это? Который только что вышел? Эраст Павлович Гарин, режиссер-постановщик, — ответили ему.
115 — Как? Гарин? Сам? Это был Гарин? — побледнел директор. — Это тот самый?
Ему ответили, что именно тот, другого пока нет и не предвидится в ближайшие сто-двести лет.
По-видимому, директор ботанического сада хорошо знал экранного Гарина и даже был его поклонником, но совершенно не отождествил с ним вошедшего в его кабинет ничем не примечательного человека в заурядном пальто и кепочке.
Через минуту разрешение на достройку беседки было получено, и во время съемок в группе зрителей можно было заметить скромно стоящего директора, который завороженно смотрел на Гарина, облаченного в наряд Короля, разгуливающего со своей свитой среди реликтовых секвой и агав».
Ал. Щербаков. Эраст Гарин: «Я совершенно не считаю себя комиком…». Рукопись, 1990.
- На киностудии «Союзмультфильм» озвучивает роли в фильмах: «Дюймовочка» (сценарий Н. Эрдмана по сказке Г.-Х. Андерсена, режиссер Л. Амальрик) — роль Рака; «Лягушонок ищет папу» (сценарий Г. Сапгира и Г. Цыферова, режиссер Р. Качанов) — роль Рака; «Храбрый портняжка» (сценарий М. Вольпина по сказке бр. Гримм, режиссеры В. и З. Брумберг) — роль Короля; «Почта» (сценарий С. Маршака, М. и В. Цехановских, режиссеры М. и В. Цехановские) — От автора.
Декабрь.
- Обсуждение фильма «Обыкновенное чудо» худсоветом киностудии им. М. Горького.
«Перед нами тонкое, исключительно органическое соединение театра и кино…»
«Обыкновенное чудо» (по материалам обсуждения худсоветом студии им. М. Горького). — «Буревестник», 1964, 12 дек.
1965
- Дает интервью кинокритикам Ю. Богомолову и М. Кушнировичу, которое легло в основу их очерка «Обыкновенный волшебник» («Искусство кино», 1965, № 3).
«Юрий Богомолов:
Эраст Павлович, нам все-таки хочется порассуждать о Вашем герое, о том собирательном, что ли, характере, который сложился из всех Ваших работ — больших, маленьких… Хочется понять его внутреннюю специфику. Нам представляется, что это несколько остраненный характер, несколько обособленный, отчужденный от среды, как бы инородный в ней. И в этом смысле условный…
Эраст Гарин:
Я бы не стал усложнять этот вопрос… Такая условность, если вдуматься, очень элементарна. Когда драматург перечисляет действующих лиц, то уже тем самым отделяет кого-то от кого-то. Одни герои образуют то, что мы называем фоном, средой, атмосферой. Другие как бы выделяются автором, приподымаются. Дистанция между героем и средой всегда имеется. Но все же нельзя ее, по-моему, доводить до бесконечности. Худо, сами понимаете, если герой сам по себе, а среда сама по себе. Давно, еще до войны, довелось мне видеть Бабанову в роли Ларисы в “Бесприданнице”. Прекрасно она играла, просто грандиозно… и страшно мне не понравилась. Ее Лариса так воспарила надо всеми, так далеко оторвалась, что спектакль просто распался… Паратов ей не нужен, Карандышев и прочие тем более — непонятно стало, для чего они вообще-то на сцене. Все она порвала, все нити, все связи. А мне так кажется: как бы ни была условна трактовка образа — символична или аллегорична — никогда нельзя рвать вот эти “соединяющие страсти”. Иначе рискуешь остаться в пустоте. Бывает, правда, и обратное. Есть такая манера игры — вроде как антиусловная. Когда актер боится даже чуть-чуть натянуть эти самые страсти, испытать их на крепость. Он словно бы растворяет себя в окружающей среде, а лучше сказать — в быту. По мне это самая дурная манера. Такой “фотографический реализм” (я не настаиваю на этом термине). Поль Муни, например. Терпеть не могу этого актера. Весь он растворяется, тонет в мелочах, деталях… И дробит, и мельчит образ. Все, что он там делает, говорит — верно, узнаваемо, похоже. И не больше. Все как в жизни и не больше. Актер недвусмысленно внушает нам, что он совсем не играет.
Юрий Богомолов и М. Кушнирович:
А разве актеру не льстит, когда о нем говорят: он словно не играет, а живет?
Эраст Гарин:
Мне не льстит. Я играю и не скрываю этого. Мне это нравится — играть. И я люблю актеров, которым это тоже нравится. Вы видели Генуэзский театр, что приезжал в прошлом году? Не видели… Там удивительный актер — Лионелли. Читает он, 116 представьте, монолог. И торжественно так возглашает: каро, каро! Потом поворачивается к публике и доверительно поясняет — друг. Через какое-то время снова похожий монолог, снова восклицание: каро, каро! Актер поворачивается к публике и делает вид, что пытается вспомнить русское слово. Ему подсказывают. Актер бурно радуется этому и продолжает монолог. Актер спокойно вышел из образа и так же спокойно, прямо на глазах у публики, вошел обратно. Как щедрый фокусник, который объяснил свой фокус, он от этого не стал беднее. Фокус продолжает удивлять. А фокусник не перестал быть в наших глазах волшебником. Хотя мы понимаем, что никакой он не волшебник. И даже знаем хитрости и секреты его работы. А вот все равно удивляемся и радуемся. Наверное, чему-то другому…
Если я до сих пор не надоел зрителю, на возможность чего вы намекаете, так это благодаря своим героям. Они у меня разные при всей, может быть, внешней похожести. Себя сыграть можно в одном фильме, а дальше надо играть и других людей. Тем более, что это интереснее…»
30 августа.
- На экраны выходит фильм «Обыкновенное чудо».
«Настоящий художник выигрывает там, где он, казалось, по всем логическим умозаключениям должен был проиграть. <…>
… Гарин сыграл не самодура и деспота, чьи черты “дошли до своего естественного предела”. Он сыграл, в сущности, незлого человека, чьи добрые качества “бесполезны и беспомощны” в сочетании с животной жаждой покоя, во что бы то ни стало, в сочетании с трусливым и жалким приспособленчеством к любым обстоятельствам. Гарин воплотил горькое сожаление о хорошем, которое гибнет и вырождается, столкнувшись с человеческим ничтожеством, боящимся, не могущим, да уже не мечтающим быть ничем, кроме ничтожества.
Гарин в “Обыкновенном чуде” неожидан для нас. В своем Короле (подумать только — в короле!) он сыграл трагикомичного маленького человека. И пусть это скорее из Достоевского, чем из Шварца, — что нам до того, если это замечательно!..»
Ст. Рассадин. Спорное и бесспорное. — «Сов. экран», 1965, № 14.
«Короли Гарина — очевидная художественная абстракция, подобно тому, как абстракцией был в свое время… образ Чарли, созданный Чаплином. Их роднит эксцентризм… привлекательная душевность позиции автора, юмор и непосредственное обаяние образа, его младенческая непринужденность. Оба… сотканы из тончайших наблюдений над человеческой психологией…»
Хр. Херсонский. Быль сказочного мира. — «Сов. кино», 1965, 26 июня.
«В первую очередь отметим Гарина — Короля. В нем сказочность и реальная достоверность, гротеск и живые человеческие эмоции, высокий юмор и трагическая фантастичность. И все воплощено в изящную… музыкально гармоничную форму. И понимаешь, как страшно, как недопустимо, если ничтожеству дана власть казнить и миловать! К этому выводу Гарин подводит нас чудом своего великолепного искусства…»
Арк. Погодин. Мудрость сказки. — «Труд», 1965, 29 авг.
1966
16 марта.
- Присутствует на открытии кинотеатра «Иллюзион». На следующий день пишет статью для сборника памяти кинооператора А. Н. Москвина.
«Вчера я поздно возвратился домой: я был на открытии нового кинотеатра под названием “Иллюзион”, где состоялся вечер, посвященный ретроспективному показу фильмов Сергея Михайловича Эйзенштейна. Среди фрагментов был показан кусок из второй серии “Ивана Грозного”, фильма, запрещенного при его выходе. Цветной кусок, где Иван Грозный потчует Владимира, где фоном сцены служит поющий хор опричников. <…> Посмотрев эту сцену, я подумал, что показ-то, оказывается, не ретроспективный, то есть глядящий назад, обращенный к прошлому, а, наоборот, смотрящий вперед своего времени… Надо заметить, что вообще творчество Эйзенштейна не вяжется с термином “ретроспективный”…»
Э. Гарин. Об Андрее Николаевиче Москвине. Рукопись. — РГАЛИ, ф. 2979, оп. 1, ед. хр. 229.
- Обсуждает с Н. Эрдманом замысел фильма по сказке К. Гоцци «Ворон».
- Ставит (совместно с Х. Локшиной) фильм «Веселые расплюевские дни» (киностудия им. М. Горького) и снимается в нем в роли Тарелкина.
«Сухово-Кобылин — один из любимых моих драматургов. <…>
… Чем привлекателен для меня этот автор и почему мы взялись за нелегкую экранизацию этого произведения, написанного около века назад? Ответ кроется в особенностях его драматургии. Явления жизни в ней доведены зачастую до такого преувеличения, что изображение становится гротескным, а образы людей в ряде случаев — масками. <…>
Нередко гротеск Сухово-Кобылина доходит до абсурда, карикатуры, фантасмагории. Однако мастерство драматурга заключается в том, что он и в алогизме остается логичным, 117 и в бессмыслице находит смысл, и в самой фантастической ситуации он достоверен, бесконечно правдив и реален. Реален, несмотря на то, что его драматургия может быть воплощена в самом условном виде театрального искусства, берущем, однако, на себя трудную задачу: сделать неправдоподобное правдоподобным. Реален потому, что гротеск его имеет корни в самой жизни, потому что в любой, самой эксцентричной ситуации, предложенной им, заключена естественная суть и жизненная правда. Драматургии его присущ эксцентризм правды.
В “Смерти Тарелкина” действием управляет нелепость и бессмыслица. Происходит крушение привычных норм и законов. Мы видим оживших мертвецов и живых, которые, по сути, являются мертвецами.
Основная сложность заключена в необходимости преодолеть и освоить аллегорическое иносказание и донести мысль и философию автора до зрителя. С одной стороны, это трудно для воплощения актерами, с другой — для восприятия зрителей: ни те, ни другие не привыкли к такой форме изложения, я бы сказал, зашифрованности философских идей.
Для нас важно было, избирая прием гротеска, соблюсти чувство меры. Это первое. И второе — быть предельно строгими и бережными к слову драматурга. Здесь нельзя было допустить ни малейшей вольности, потому что язык автора настолько емок, точен и выразителен, что любая небрежность могла привести к нарушению смысла и к потере образности».
Из интервью Э. П. Гарина, взятого Г. Вельской. АПН, 1966 г.
«С каждой минутой ему становилось хуже. Болезненная краска разлилась по щекам. Последним усилием он сделал шаг, второй и расслабленно повалился на пыльный дощатый пол. Ему было очень плохо. Но никто не подбежал, не спросил:
— Эраст Павлович, что с вами?
Он сидел на полу, одинокий, отбросив голову к железной клети, одну ногу вытянув, другую неловко подвернув. Веки опущены. Капельки пота блестят на похолодевших щеках…
На твоих глазах совершалось величайшее таинство искусства: вхождение актера в роль! В то время, когда оператор устанавливал оптику, а рабочие заколачивали последние гвозди в декорацию, Эраст Павлович Гарин уже играл, уже перевоплощался. Даже “наметанный” глаз был не в состоянии отделить Гарина от созданного им образа Тарелкина.
В эти несколько минут перед началом съемки Гарин ушел от самого себя, от атмосферы павильона, да и, пожалуй, от всего двадцатого века! Он был где-то там, в далеком прошлом. Он сидел в петербургском застенке, сломленный… угасал, но не сдавался…
Все, кто присутствует на съемочной площадке, становятся очевидцами тонкой, проникновенной игры любимого актера».
В. Кинтана. Мотор! Снимается дубль. — «Веч. Москва», 1966, 15 янв.
«Пьеса “Смерть Тарелкина” современна, хотя действие ее происходит в середине XIX века, — рассказывают постановщики. — В методах, которыми руководствуется квартальный надзиратель Расплюев, легко усмотреть способы, к которым прибегают неофашисты…
Необычайно труден перевод этой пьесы на язык кинематографа. Правдивость и точность изображения в пьесе сочетаются с приемом сознательного преувеличения и заострения образов, приобретших благодаря этому особенную рельефность и яркость. Сухово-Кобылин мастерски вводит в художественную ткань элементы буффонады, юмора, лирики, напряженного драматизма и тонкого психологического анализа…
— Чем интересен ваш будущий герой? — спросили мы Э. Гарина.
— Это один из немногих моих героев, в котором начисто отсутствует обаяние, — сказал Эраст Павлович. — На всем облике этого дворянина-чиновника лежит не стираемая печать дегенератства и социального вырождения…»
Ф. Баранова. «Веселые расплюевские дни». — «Кинонеделя Ленинграда», 1966, 21 янв.
«Мы хотим не просто перенести на экран классическое произведение прошлого, хотя и этот путь тоже по-своему был бы интересным. Мы постараемся сделать фильм своеобразной “проекцией в зрительный зал”. Потому что, как всякое великое 118 произведение, трагическая сатира Сухово-Кобылина способна своим лучом осветить не одни только страшные и позорные дела, которые характеризовали судопроизводство полицейской монархии в старой России.
Разумеется, жанр экранизации соответствует авторскому определению “комедия-шутка”. Тут заключены большие возможности гротесково-сатирического решения. Но в костюмах и декорациях фильм будет реалистическим…»
М. Бабаева. Два часа на Студии имени Горького. — «Моск. комсомолец», 1966, 21 янв.
Рассказывает Э. П. Гарин:
«Для меня <…> сыграть в кино роль Тарелкина — давнее желание. Пожалуй, еще с тридцатых годов. Тогда на “Ленфильме” я как режиссер снял “Женитьбу” Гоголя, сыграв Подколесина. И возвращение сейчас, через тридцать лет, к классическому репертуару — в известной мере дань старым привязанностям…»
В. Ладов. Петербург 60-х годов… — «Ленингр. правда», 1966, 16 марта.
«… Кино — прежде всего искусство более реалистической, фактурной правды, и оно требует иных изобразительных средств, органичных его природе.
Чаплин, великий мастер эксцентрики, говорил в своей автобиографии: “Я терпеть не могу всяческие эффекты, вроде съемки из-за решетки камина с "точки зрения" уголька…”
Подобные трюки кажутся мне поверхностными и наивными. <…> Эти надуманные эффекты только замедляют действие, они скучны и неприятны, хотя их принимают ошибочно за то, что к месту и не к месту именуется словом “искусство”. <…> Камера не должна навязывать себя зрителю.
Мы <…> старались по возможности снимать фильм спокойнее, проще, искали ненавязчивые средства для воплощения и без того острой и гротесковой пьесы…
Работать над картиной было сложно: сложно заставить себя временами не увлекаться так щедро предоставленной автором озорной эксцентрикой, приходилось все время помнить о том, что здесь не театральная сцена, на которую рассчитано произведение…»
Из интервью с Э. Гариным. — «Лит. Россия», 1966, 1 июля.
Май.
- Фильм «Веселые расплюевские дни» принят худсоветом киностудии им. М. Горького.
120 А. Турков:
«… работа Гарина, по-моему, очень высокого класса. Одно из самых больших его достижений — монолог над гробом, прочитанный с огромной силой. Текст Сухово-Кобылина мог повести к некоторой статичности в интонации. Здесь же этого нет, все очень тонко нюансировано…»
С. Рубинштейн:
«… при экранизации важно было сохранить стилистику вещи и, избирая прием гротеска, соблюсти чувство меры. Это удалось режиссерам. <…> Игра Гарина — из ряда вон выходящая. <…> Вся эта работа, и прежде всего режиссерская, необычайно интересна. Она представляет собой совершенно определенную школу, определенное направление, которое, на мой взгляд, надо было бы продолжать и развивать».
Настоящий фильм, настоящий кинематограф. — «Буревестник», 1966, 3 июня.
30 ноября.
- Москва. В кинотеатре «Фитиль» состоялся творческий вечер Эраста Гарина. На вечере был показан фильм «Веселые расплюевские дни».
«Гарин и Локшина настолько точны в постановке, что фильм, несмотря на значительные купюры (естественные и необходимые при постановке в кино театральной пьесы), кажется полным, ничего не утерявшим воспроизведением комедии на экране. Но он отмечен не только верностью букве и духу комедии. Он верен и духу времени. <…> Пафос работы режиссеров заключался в том, чтобы с наибольшей полнотой раскрыть замысел автора. Но этот традиционализм, право же, в данном случае мне кажется дороже новаторства. <…>
В образе Тарелкина — Копылова, созданном Э. Гариным, необычайно ярко выражено гоголевско-сухово-кобылинское сочетание пафоса и комического; эта черта с предельной силой сказывается в монологе, который мнимо умерший Тарелкин произносит над собственным гробом… В исполнении Гарина он становится одной из вершин мастерства комедийного актера. Но сочетание пафоса и комизма — вовсе не единственная черта этой роли и ее исполнения. Гарин соединяет в Тарелкине жалость к герою, его убожество, неудачливость с повадками обиралы и мелкого хищника. Самое это соединение ставит жалость под знак иронии, что бесконечно усложняет роль. Но эта сложность великолепно удается Гарину. Герой его поражает зрителя необыкновенным многообразием своих свойств — в нем есть и плутовство, и нечто пророческое (разумеется, тоже под знаком иронии), и одержимость, которая позволяет ему с такой легкостью играть Силу Копылова (одержимость эта вызвана стремлением отомстить Варравину)…»
Н. Коварский. «Веселые расплюевские дни». — «Искусство кино», 1967, № 2.
- На киностудии «Союзмультфильм» озвучивает фильм «Слоненок» (по сказке Р. Киплинга, режиссер Е. Гамбург) — роль Удава.
1967
- В издательстве ВТО выходит сборник «Встречи с Мейерхольдом» со статьей Э. Гарина «О “Мандате” и о другом».
«… Так хочется еще узнать о Вас, об Эрасте. Много и часто о вас думаю еще и потому, что листаю книгу о Мейерхольде, и это неразрывно с вами обоими. Наверное, у меня невообразимо больны нервы, — читая, я плачу, — я не могу не думать о страшном конце, воображение подсказывает то, что было в действительности. Я вижу его мученическую смерть, потому, читая, мучаюсь сама. Наверное, большинство нормальных испытывают то же, держа в руках эту книгу».
Из письма Ф. Раневской Э. Гарину и Х. Локшиной от 25 июня 1967 г. — РГАЛИ, ф. 2979, оп. 1, ед. хр. 437.
1968
- Работает с Н. Эрдманом над сценарием по пьесе Е. Шварца «Тень».
- В издательстве «Искусство» выходит сборник «Из истории кино», седьмой выпуск, в котором напечатана глава из мемуаров Э. Гарина «Автокинография».
- Режиссер Г. Козинцев приглашает Э. Гарина сняться в кинопробе на роль Шута в фильме «Король Лир». Весна.
- Фильм «Веселые расплюевские дни» выходит на экраны ограниченным тиражом.
121 1969
Май.
- Совершает туристическую поездку во Францию, при посещении Национальной синематеки убеждается в безвозвратной утрате фильма «Женитьба».
- На киностудии «Союзмультфильм» озвучивает фильм «Возвращение с Олимпа» (сценарий А. Симукова, режиссер А. Снежко-Блоцкая) — роль Орла.
1971
- Снимается в фильмах: «Джентльмены удачи» (сценарий Г. Данелия, В. Токаревой, режиссер А. Серый, «Мосфильм») — роль профессора Мальцева; «Если ты мужчина…» (режиссер А. Чемодуров, «Мосфильм») — Ульяныч.
- На киностудии «Союзмультфильм» озвучивает фильм «Без этого нельзя» (сценарий Е. Каргановой, режиссер М. Ботов) — роль Селезня.
1972
- В Театре киноактера приступает к работе над спектаклем «Горе от ума».
«Что бы ни было, никогда не прерывалась моя внутренняя связь с Мастером. Я дружу с ним и сейчас. <…> Выйдет моя книга, которую я назвал “С Мейерхольдом”, спектакль “Горе от ума”, который я ставлю в Театре киноактера, посвящаю ему. <…> А Ричарда III я так и не сыграл в своей жизни, потому, что слишком рано остался без Мастера».
Мастер и ты. — «Смена», 1972, № 1.
- Снимается в фильме «Много шума из ничего» (по В. Шекспиру, режиссер С. Самсонов, «Мосфильм») — роль Киселя.
- На киностудии «Союзмультфильм» озвучивает фильм «Винни-Пух и день забот» (сценарий Ф. Хитрука и Б. Заходера, режиссер Ф. Хитрук) — роль Ослика Иа.
10 ноября.
- 70-летний юбилей Э. Гарина.
«Дорогой Эраст Павлович!
Только что прочитал про Ваш юбилей и ахнул. Разом ожили в памяти: “Мандат”, “Ревизор”, “Горе уму”… Да ведь это уже легенды — во всем мире поминают эти спектакли, и где только теперь не видно Вашей фотографии в квадратных очках — ведь эти главы в истории театра XX века неотделимы от Вашего искусства, от всего того особенного, ни на кого, ни на что не похожего, что Вы создали на сцене и на экране.
Вы чудом сохранили это богатство, и теперь оно горит, сверкает на экране, когда появляетесь Вы…
Всегда Ваш друг
Григорий Козинцев.
11.XI.72. Ленинград».
РГАЛИ, ф. 2979, оп. 1, ед. хр. 389.
1973
- На киностудии «Союзмультфильм» озвучивает фильм «В мире басен» (сценарий А. Хржановского по басням И. А. Крылова, режиссер А. Хржановский) роли Автора, Осла, Любопытного.
- Снимается в роли укротителя Лаврушайтиса в фильме «Нейлон-100 %» (сценарий С. Шатрова, режиссер В. Басов, «Мосфильм»).
122 1974
Март.
- Э. Гарин проходит курс лечения в глазной клинике им. Гельмгольца. Затем ложится на операцию по удалению камня из почки в 1-ю Градскую больницу. Об этом имеются краткие заметки поэта Д. Самойлова, также лечившегося в глазной клинике.
«6 марта.
<…> У Гельмгольца — мужественный Гарин и Х. А.
27 марта.
Гарин отбыл на операцию камня. Сразу стало скучно и пусто».
Д. Самойлов. Поденные записи. Т. 2. «Время», М., 2002. С. 74, 75.
- В издательстве «Искусство» выходит книга воспоминаний Э. Гарина «С Мейерхольдом».
«Москва: 19 марта 1974 г.
Дорогие Эраст Павлович и Хеся Александровна, вчера Александр Константинович1 подарил мне книгу, и я читала ее, не отрываясь, до ночи и сегодня весь день и вот только дочитала, и хочется сразу написать Вам, под свежим впечатлением, а потом, конечно, я буду опять перечитывать эту замечательную книгу и давать всем своим товарищам, кто ее не сумеет раздобыть.
Я читала ее со смешанным, сложным чувством острого интереса, глубочайшего уважения к авторам, печали и ясного понимания, что такая работа останется, что когда-нибудь ее будут не просто читать, но изучать, потому что все это важно для истории искусства и культуры…
Эта книга написана в удивительной тональности, в ней находишь все, что угодно, — черты времени, психологию, мироощущение, быт, парадоксы, которыми так богата была эпоха, филигранный рассказ о мастерстве и Мейерхольда и Вашем, дорогой Эраст Павлович. <…> Достоверность настолько велика, что ни разу не возникает ощущения, что это, скажем, субъективная оценка и т. д. <…>
Читатель безоговорочно поверит книге, которая, помимо всего прочего, написана с таким вкусом, с таким артистизмом, с такой эмоциональной напряженностью, что это не дает оторваться. Но и печаль бесконечная, я вот не умею плакать, а была близка к этому, читая о последнем разговоре с Мейерхольдом и о том, как большая рыжая крыса перебежала дорогу.
Не так-то уж много хорошего жизнь нам выдает, но вот вышла эта книга, и это уже — настоящая радость, которая должна помогать жить.
Ваша Ц. Кин».
РГАЛИ, ф. 2979. оп. 1, ед. хр. 385.
1 А. К. Гладков, написавший главу о «Горе от ума» для книги «С Мейерхольдом».
«Недаром Мейерхольд до конца жизни сохранил привязанность к Гарину — актеру и человеку, так же как Гарин пронес верность живому опыту учителя через многие годы своей многогранной работы в театре и кинематографе. <…> Лучшим свидетельством этому служит его книга “С Мейерхольдом”. Прочтите ее, обязательно прочтите, если вы хотите зримо ощутить, как работал режиссер Мейерхольд».
Л. Арнштам. Вечный поиск. — «Сов. экран», 1974, № 16.
«Ощутимый вклад в нашу театральную мемуаристику сделал недавно актер Э. Гарин книгой “С Мейерхольдом”. Большую ценность представляют гаринские записи, а вернее, реконструкция спектаклей режиссера — “Великодушный рогоносец”, “Лес”, “Ревизор”, “Мандат”. <…>
В этой части мемуары сливаются с театральным исследованием. Гарин воссоздает в книге сценические структуры мейерхольдовских спектаклей, сообщая множество новых деталей и подробностей. <…>
Они наполнены наблюдениями автора психологического и творческого характера, которые по-новому освещают В. Э. Мейерхольда».
А. Альтшуллер. Зеркало Мельпомены. — «В мире книг», 1974, № 11.
«Зритель знает Эраста Гарина — киноактера по множеству ролей. <…> Мне кажется закономерной постановка вопроса о связи его актерской и режиссерской работы с традициями Мейерхольда, традициями, которым он следовал и следует всю жизнь. Об этом — его воспоминания».
Д. Молдавский. Грани нового. — «Кадр», 1975, 5 апр.
«Гарин всех ошеломил, когда вышла его книга “С Мейерхольдом”. Всегда немногословный в жизни, не любящий длинных рассуждений, он захватил всех как блестящий театровед — захватил эрудицией, глубоким проникновением в суть описываемого, ярким образным мышлением. Все эти качества выводят книгу Гарина далеко за рамки мемуарной литературы и делают ее образцом театроведческого анализа.
И теперь, оглядываясь на пройденный Гариным путь в искусстве, я не могу найти исчерпывающего определения его таланта, а на память приходят слова, сказанные о нем 123 Мейерхольдом в одной из частных бесед: “Чертовски талантлив Гарин!”»
Е. Тяпкина. Из воспоминаний о Гарине. Рукопись.
«Гарину удалось законсервировать в себе 20-е годы. Книга необыкновенно приятна: подлинная психология 20-х годов».
П. Громов. Из бесед 1972 – 1979 годов. — «Театр», 1990, № 1 (2).
«Если б все могли так хранить верность — друзьям, учителям, родителям, как он — Мейерхольду!»
Л. Сухаревская. Из воспоминаний о Гарине. Рукопись.
17 апреля.
- В числе ведущих работников киностудии «Мосфильм» «За вклад в развитие советского киноискусства» награждается орденом Трудового Красного Знамени.
1975
18 февраля.
- Театр-студия киноактера. Премьера спектакля «Горе от ума» А. С. Грибоедова в постановке Э. Гарина.
«“Жизнеописание” грибоедовского сюжета в Театре-студии киноактера прошло совершенно незамеченным. Критика будто подтвердила печальные строки Пушкина о том, что мы ленивы и нелюбопытны, сказанные именно в связи с судьбой автора “Горе от ума”. Спектакль, поставленный первым мейерхольдовским Чацким, спектакль, где была сделана совершенно очевидная для людей театра попытка оживить некоторые излюбленные мотивы этапной работы Мастера, не был, кажется, удостоен ни единым печатным откликом. Эксперимент, проведенный на сцене странного “полукинотеатра”, остался неразгаданным. <…>
Интерес “Горя от ума” в Театре-студии и заключался в том, как “чужое слово” Мейерхольда пыталось включиться в современный спектакль, “проступить” сквозь него, отозваться эхом не погибших идей. Когда <…> Чацкий вбегал в шубе и высокой пушистой шапке прямо с дороги к Софье, она уходила переодеваться, а юноша садился за белый рояль и… начинал музицировать — эта приблизительная цитата старого спектакля вдруг заставила волнением биться сердца.
Конечно, публика Театра киноактера могла не знать (и по большей части наверняка не знала), что полвека назад вот в такой же меховой шапке прямо с корабля на бал явился задумчивый мальчик и стал бесконечно наигрывать Моцарта, Шуберта, Бетховена. <…> Публика наверняка не ведала, что Э. Гарин цитирует в Чацком самого себя и Мейерхольда, впервые одарившего грибоедовского героя душой мечтателя, поэта и музыканта. Публика могла это слыхом не слыхивать, но оттого, что кто-то не ведает, как отзывается Данте у Пушкина и сам Пушкин в ахматовских строчках, не исчезает ток культурной преемственности. “… А так как мне бумаги не хватило, Я на твоем пишу черновике. И вот чудное слово проступает”… Это “двойное” письмо не забава, не “игра в бисер”. Это — естественная жизнь искусства. <…>
Постановка Э. Гарина будила воображение, даже слабые отклики знаменитого спектакля удивляли.
Положение Театра-студии в театральной Москве, наша леность и не любопытность обрекли эксперимент на неуслышанность. Полупустой зал не догадывался, что на его глазах сквозь привычную бытовую ткань пытались проступить письмена важного замысла Мастера».
Ан. Смелянский. Наши собеседники. — М., «Искусство», 1981.
- Снимается в фильме «Пошехонская старина» (сценарий по произведениям М. Салтыкова-Щедрина и постановка Н. Бондарчук, Н. Бурляева, И. Хуциева) — роль Василия Порфирьевича.
1976
- Пытается заинтересовать руководство Театра-студии киноактера планом постановки «Села Степанчикова» Ф. Достоевского, инсценировка Н. Эрдмана.
1977
2 ноября.
- Указом Президиума Верховного Совета СССР «За большие заслуги в развитии советского киноискусства» Э. Гарину присвоено звание народного артиста СССР.
124 18 ноября.
- Чествование Э. Гарина в кинотеатре «Фитиль» в связи с 75-летием со дня рождения.
«Блистательного мастера приветствую. Создание формы в искусстве — это прежде всего мысль — таков ваш труд… И. Козловский. 18.11.77».
Из приветствий, зачитанных на юбилейном вечере.
1978
Январь.
- Чествование Э. Гарина труппой театра и театральной общественностью Москвы после спектакля «Горе от ума» в Театре киноактера. Выступления народных артистов СССР В. Плучека, Э. Быстрицкой, народного артиста РСФСР Е. Весника, заслуженного артиста РСФСР Э. Марцевича и других.
- Последний замысел режиссера — «Лес» А. Н. Островского в Театре-студии киноактера.
1979, зима — 1980, лето
- Болезнь Гарина.
«Перед своей смертью Эраст Павлович, очень тяжело болевший, много раз возвращался к мысли о Мейерхольде и спрашивал то ли самого себя, то ли нас с Хесей Александровной: “Скажите, за что они его убили?”»
М. Валентей. Должна сказать… — «Театр, жизнь», 1989, № 5.
1980
4 сентября.
- Москва. Умер Эраст Павлович Гарин.
9 сентября.
- Гражданская панихида на киностудии «Мосфильм» и похороны Э. П. Гарина на Ваганьковском кладбище. 126 На панихиде выступили: Б. Андреев, А. Зархи, С. Самсонов, Я. Сегель, В. Тихонов, Н. Кладо, В. Разумовский.
Ф. Раневская:
«Уход из жизни Эраста Гарина я переживаю как тяжелейшее личное горе — так я любила и люблю этого замечательного художника и интереснейшего человека. Он был великим артистом. Такого второго артиста, как Гарин, нет и не будет».
Л. Утесов:
«Я любил этого человека. Любил его за то, что это был настоящий человек, настоящий актер, настоящий режиссер. Единственное, о чем я сожалею, это о том, что редко с ним встречался. Я думаю, что если бы я с ним встречался чаще, я был бы интеллектуально богаче».
Р. Плятт.
«Он обладал какой-то пронзительной выразительностью. И был странным, необычным, неожиданным…
Замечательный актер и мудрый человек — таким я его вспоминаю».
Ю. Никулин:
«С творчеством этого артиста у меня связаны самые яркие впечатления и самые памятные уроки в искусстве».
Л. Трауберг.
«Всю жизнь он олицетворял для меня настоящее, высокое искусство, ради которого, собственно, и стоило нам жить…»
Записано мною. — А. Х.
1983
24 января.
- Театр-студия киноактера. Вечер памяти Э. П. Гарина в связи с 80-летием со дня рождения. На вечере были показаны: 3-й акт комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» в постановке Э. Гарина; снятые на кинопленку отрывки из спектакля ТИМа «Ревизор» в постановке Вс. Мейерхольда (в роли Хлестакова — Э. Гарин); киноновелла «Монета» (в роли Нищего — Э. Гарин); фильм «Веселые расплюевские дни» (постановка Э. Гарина и Х. Локшиной, в роли Тарелкина — Э. Гарин). Вечер открыл секретарь правления Союза кинематографистов СССР народный артист СССР А. Баталов. С воспоминаниями выступили: А. Консовский, Л. Трауберг, Н. Кладо, В. Плучек, А. Хржановский. Монолог Гулячкина из спектакля «Мандат» в исполнении Э. Гарина прозвучал в записи 1957 года.
1986
26 августа.
- Москва. Открытие мемориальной доски на доме № 17 по Смоленскому бульвару, где жил Э. П. Гарин. На митинге выступили: секретарь правления СК СССР народный артист РСФСР Ф. Хитрук, народная артистка РСФСР Н. Алисова, народный артист СССР Вс. Санаев.
2002
17 ноября.
- Москва. В музее В. Э. Мейерхольда состоялся вечер, посвященный столетию со дня рождения Э. П. Гарина.
17 декабря.
- Москва, Музей кино. Вечер, посвященный столетию Э. П. Гарина (1902 – 1980) и Х. А. Локшиной (1902 – 1982). На вечере были показаны фильмы «Синяя птичка», «Фонтан», «Монета».
Составитель А. Хржановский
127 ПИСЬМА К Х. А. ЛОКШИНОЙ
1924
16 мая. Питер. Пятница
Дорогая Александровна!
Жуткий этот город. Лазал на Исаакиевский собор. Ветер был здоровый. Рвал пальто и фуражку и было страшновато.
Знаешь, чесалось близ живота и выше. Слез, долго ходил, а эта жуть-то осталась и перешла в пси! Не знаю, чего, но у меня очень беспокойное состояние. Может, это от Питера; нельзя ведь просто смотреть на Неву, на площадь перед Зимним дворцом (это, пожалуй, самое ужасное место в Питере). Но, может, и не от Питера. <…> На вокзале встречали Мейера и сняли его. Пресса встречает его очень радушно. Он важен, а из этой гостиницы уехал, ему не понравилось. В этой же гостинице Камерники. Их облаяли, и они ставят Жирофле-Жирофля1.
Люди в Питере медлительные, одеты скверно, пивные отвратительные. <…>
1 Оперетта Ш. Лекока (премьера в Камерном театре состоялась 3 окт. 1922 г.).
17 мая. Питер. Суббота
Милая Александришна!
<…> Сегодня после спектакля был у тетушки. Ночью шел от нее по Неве. Не знаю, не расскажешь — хочу читать Пушкина. <…> «Земля дыбом» прошла блестяще. Сцену с петухом прерывали аплодисментами и вызывали после первого действия. Первый спектакль «Леса» прошел омерзительно. <…> Макаров1 меня уважает и, когда встаю я, играет на гармошке меланхолический вальс. <…> Гоголь-то жил напротив нас2. Вот сейчас уже светает, синеет Вид из нашей комнаты очень походит на вид из камеры Г. П. У. московской. <…>
1 Макаров М. Я. — гармонист, участник «Мандата» и др. спектаклей ТИМа, сосед Э. Гарина по номеру в гостинице.
2 Во время гастролей ТИМа в Ленинграде Э. Гарин жил в гостинице «Гранд-отель» на Б. Морской ул., недалеко от дома, где жил Н. В. Гоголь.
Ленинград, 21/V, среда
Дорогой черномордик, милая, милая Александришна! Я уж совсем отчаялся получить от тебя письмо, думал — или ты так заболела, что не в состоянии черкнуть мне строчку, или не хочешь. — Ведь первое твое письмо я получил во вторник перед «Лесом» и перед выходом1, и играл-то случайно — должен был Кельберер2, но он вечером затрясся3, пришлось мне. <…> Завтра к тебе пойдет транспорт книжек, ты уж извини за подбор, там и Дорошевич, и «Человек из ресторана»4, и Лондон, и Америка — вообще разнохарактерный дивертисмент. Сегодня начались репетиции «Д. Е.» — говорят, пойдет 7-го июня. Сборы в театре начали подыматься. Атмосфера в коллективе начинает принимать пролеткультовский характер. <…>
1 В «Лесе» Э. Гарин в экстренных случаях подменял И. Пырьева и А. Кельберера, исполнителей роли Буланова.
2 Кельберер А. В. (1898 – 1963) — актер ТИМа.
3 А. Кельберер заболел малярией, как и некоторые другие актеры из труппы ТИМа.
4 Дорошевич В. М. (1864 – 1922) — журналист, театральный критик; «Человек из ресторана» — повесть (1911) И. С. Шмелева (1873 – 1950).
Ленинград, 28/V, среда
Милая Алексанна! <…> Пишу из театра. Кончилась сейчас «Земля дыбом»1 и началась репетиция «Треста»2. Сейчас 10-й эпизод, а потом «Лорды»3. Этот эпизод Вс. поставил здорово: во время погони ширмы двигаются в обратном, противоположном движению людей, направлении. Потом так, напр[аво] две ширмы идут одна на другую, и в самый последний момент в них врезается Терешкович4. Он только бегает скверно. Вс. злой как черт. <…>
1 В этот же день, несколькими часами раньше Гарин писал сестре: «Дорогая Татьяна! Пишу тебе из пивной, ибо другого времени не найду. Сейчас начнется “Земля дыбом”. <…> Холод здесь дьявольский, я даже собрался покупать пальто, но денег не дают — все уходит на монтировку “Треста Д. Е.”. “Лес” пользуется бешеным успехом. “Земля дыбом” прошла в первый раз очень успешно. Сцена с петухом прерывалась аплодисментами. Со вчерашнего дня начались репетиции “Треста”. <…> Вообще наши спектакли начали пользоваться успехом. Билеты на “Трест” уже спрашивают».
2 Премьера спектакля «Д. Е.» состоялась 15 июня 1924 г. в Ленинграде. Гарин играл роли семерых изобретателей оружия, появляющихся один за другим в кабинете капиталиста-американца, задумавшего превратить Европу в пустыню. Эпизод в духе эстрадной трансформации по поручению В. Э. Мейерхольда разработал сам актер. Это была одна из первых режиссерских работ Гарина.
3 Один из эпизодов в спектакле «Д. Е.».
4 Терешкович М. А. (1897 – 1937) — актер ТИМа.
130 29 мая, Ленинград, четверг
Милая, дорогая Хеша! <…> Сейчас пишу тебе из театра. Вс. гоняет 5-й эпизод — «Берлин». Теперь, когда все загинают ноги в конце, то Самборский1 делает флик-фляк. Завтра Ильинский уезжает в Москву, сниматься в «Аэлите»2. <…> Лавры в Питере пожал М. Чехов. Он выступал в Александринке с Хлестаковым3. Все газеты и журналы прямо гимны поют. <…>
Измотались все здесь здорово. Малярия свирепствует. <…> Вчера заменял я Кириллова4 в «Рогоносце» — «Страж»5. Я тоже измотался. <…>
Изобретатели мучают меня как ад — сволочи, не находятся так, как бы нужно, по-моему. Большой [эпизод — я в нем] просто как рыба в воде, это эпизод с лордами — он радует меня. <…>
1 Коваль-Самборский И, И. (1893 – 1963) — актер ТИМа.
2 Фильм реж. Я. А. Протазанова по А. Н. Толстому. И. Ильинский сыграл в нем роль детектива Кравцова.
3 В мае — первой половине июня в Ленинграде проходили гастроли Первой студии МХТ. 22 мая, 3 и 7 июня М. Чехов выступил в роли Хлестакова в спектакле Ленинградского академического театра драмы.
4 Кириллов М. Ф. (1895 – 1963) — актер ТИМа.
5 Роль в спектакле «Великодушный рогоносец» по пьесе Ф. Кроммелинка.
31 мая, Ленинград, суббота
Милая, милая Алексанна! Утро сегодня замечательное. Сейчас ходил в молочную и ругался свирепо за то, что молоко кислое дали. Всю злобу изрыгнул на купца, и у меня сейчас хорошее состояние. Впереди у меня самое хорошее в дне — идти на почту. Сегодня «Лес», но я занят на концерте. Что читать, не знаю, но, говоря по совести, мне больше хочется в Александринку на «Дядюшкин сон»1. Вчера выяснилось, что генералка «Д. Е.» будет 13-го, а премьера — 14-го. Сегодня снимаюсь в 6 видах, если будет удачно, то — хочешь? — пришлю. <…> Максу Абрамовичу2 Вс. все дает мизансцены ухода под идущую ширму, он боится ее, как огня, а Вс. орет благим матом. Он нервный стал как черт. В 10-м эпизоде будет фигурировать граммофон (его уже купили) и фонтан.
Хеша, ты не забудь потолстеть, напишешь мне свой вес и потом укуси себя за нос.
До свиданья. Пиши мне. Эр.
1 Имеется в виду спектакль по повести Ф. М. Достоевского (режиссер П. Лешков, 1923).
2 Речь идет о М. А. Терешковиче.
2 июня, Ленинград, понедельник
Дорогая Хеша! <…> Позавчера пришлось все-таки выступить на концерте, ну, приняли ничего, не особо хорошо, но не особо и плохо. Читал, во-первых, «Хулигана»1, во-вторых, «Ты, который трудишься»2. <…> Вчера играл Буланова3. Надоело до черта. <…>
Есть слух, что «Землю дыбом» (кажется, только после «Треста») должны играть на «Авроре» и площади перед Зимним дворцом. <…>
Я стал очень серьезный человек, хожу и смотрю всем в души. Сложилось о многих очень паршивое впечатление, в особенности о женщинах. Хотя и не в особенности. Ну, это психология. Пригодится для суфражистки4. Изобретатели мои пока оставили меня, не мучают. Репетировал их позавчера. Один — экстазно. <…>
131 Эти последние дни чувствую себя крепче, хотя вчера после Буланова устал смертельно, но все же гораздо лучше, чем первые недели. Пью совсем мало, допьяна даже не допивался.
1 Стихотворение С. Есенина «Исповедь хулигана», которое Гарин читал на выпускном экзамене в ГЭКТЕМАСе (см. Биохронику).
2 Стихотворение (1915) В. Маяковского «Теплое слово кое-каким порокам».
3 Персонаж пьесы А. Н. Островского «Лес».
4 Персонаж из спектакля «Д. Е.», в котором Гарин играл десять ролей.
5 июня
Дорогая Алексанна!
<…> В субботу собираюсь идти на «Ревизора» с Чеховым. <…> Народу на спектакле («Земля дыбом». — А. Х.) было человек 200, хотя была одна истерика. В 4-м эпизоде, перед моим выходом, петуха я посадил на колени, и он, мерзавец, меня обтаковал, так пришлось выходить с медалью. <…>
Судя по посещаемости публикой наших спектаклей, мы здесь долго не продержимся. К тому же еще остервеним публику «Смертью Тарелкинской» с Темериным1, которая назначена на пятницу. Сегодня утром была репетиция полная. Я после полуторагоднего перерыва исполнял Ванечку, и, знаешь, в книгах этих2 железным пером вырублено «Х. Л.», а, очевидно, позднейшим Ванечкой написано: «Темерин — бездарная сволочь». <…>
Изобретатели поживают неважно. Как-то о них говорил с Райх. Она говорит: «Почему они все уроды? — Нехорошо, — говорит, — что уроды». — «Не моя, — говорю, — вина». <…>
Вчера у нас в отеле кабаре было, и был Матов3, но я так устал после Буланова, что сразу залег в постель.
Хорошо бы завтра на почте твое письмо было. Эр.
1 Темерин А. А. (1899 – 1977) — актер ТИМа. В «Смерти Тарелкина» играл роль Расплюева. Ему же принадлежат многочисленные фото актеров и спектаклей ТИМа, а также уникальная киносъемка урока биомеханики и сцены из спектакля «Ревизор».
2 Бутафорские «судебные» книги, в которые по ходу действия делает записи писарь Ванечка (это одна из первых эпизодических ролей Гарина в ТИМе).
3 Матов А. М. (1883 – 1942) — эстрадный актер, пользовавшийся большой популярностью в Ленинграде в 20 – 30-е годы. Снимался в фильме Э. Гарина и Х. Локшиной «Женитьба» в роли Анучкина.
7 июня
Дорогая Хеся Алексанна!
Пишу тебе из театра. Ты прости, что вчера не написал и так спешил, что забыл в бандероль положить последний номер «Жизни искусства». Пришлю на следующей неделе. Вчера «Смерть Тарелкина» собрала очень мало публики, но успех имела довольно приличный. <…>
В театре сейчас гонка страшная. Мейерхольд нервничает, ругается. Кельберер, черт его дери, заболел, и приходится с Булановым отложить до Москвы Чехова. — 8-го закрывают сезон Актеатры. <…>
Последние дни у меня беспокойно и очень заботно! состояние души, и писем от тебя нет, а они очень, очень нужны. <…>
8 июня. Воскресенье
Дорогая Хеся Александровна!
Вчера получил четыре письма твоих. Сразу засел в самый уголок фойе и проглатывал.
Алексанна, сейчас ставлю точку, ибо пришел Вс. и сел в аккурат против меня. <…>
Сегодня Вс. был в очень хорошем состоянии души и шутя произносил очень колкие замечания. Облаял Терешковича, Темерина, Самборского и меня за то, что тихо в трансформации говорю — увлекся, говорит, переодеваньем и молчит. <…>
11 июня
<…> Здесь произошли очень серьезные положенья, как-то разграничившие коллектив — это сцена 8-го (июня. — А. Х.) на спектакле «Лес». Чистяков1 сорвал гармоническую сцену2 у Райх и Самборского — З. Н. на сцене истерически заорала (конечно, не на самой сцене, а ближе к кулисам). Результат: Вс. Эм. выгнал Вина3 за шиворот из своей уборной — теперь вчера, вернее, сегодня, ибо это продолжалось до 6-го часа утра с 2-х ночи — собрание, на котором говорилось массу ерунды.
Были предложения прямо-таки комического характера, <…> вроде того, чтобы их развести или убить Райх. <…> Очень, по-моему, здраво сказал Захава4. Он говорит: «Я работал у двух больших мастеров, у Станиславского и Вахтангова, и все они 132 бьют по морде — это в характере гениев, я с этим смирился». Речь очень не понравилась студентам, но она, конечно, единственный исход для тех, кто хочет быть у Мейерхольда. Он останется таким же, как и был, переделать его невозможно. Я произнес макаровскую фразу: «Так было, так и будет». В заключении выбрали комиссию: Захава, Шлепянов5 и Лойтер6 для переговоров с ним и предостережения об огласке этого факта.
Вин произнес трогательную речь оскорбленного старца с гневом и местью и сказал, что будет судиться с ним по проф<союзной> линии и, конечно, уходит из мастерской Крицберга7. В извинительном письме Вину (он все-таки извинился — ха-ха!) — [Мейерхольд] называет [его] в работе рыжим: «Мне в работе рыжих не нужно». <…>
Последняя часть вечера — лирика. Мухин8 посыпал пеплом главу и произнес: «И я, оказывается, бесправный нуль!» Додумался. Моя хамская позиция (тебя, может быть, стошнит, — это мое убеждение): оттого, что какой-нибудь Козиков9 станет полноправным нулем, а я останусь без Мейера, мне не легче. К тому же наши голубчики плохо понимают роль Райх в театре — она, конечно, больше + нежели —. <…>
1 Чистяков Н. В. (1890 – 1966) — актер ТИМа.
2 Объяснение Аксиньи и Петра, роли которых исполняли З. Райх и И. Самборский, шло под звуки гармоники.
3 Вин З. Х. (1893 – 1973) — режиссер.
4 Захава Б. Е. (1896 – 1976) — актер, режиссер, педагог, исполнитель роли купца Восмибратова в спектакле «Лес».
5 Шлепянов И. Ю. (1898 – 1951) — театральный художник, режиссер, выпускник ГВЫТМ.
6 Лойтер Н. Б. (1890 – 1966) — режиссер.
7 Крицберг Л. М. (1899 – 1950?) — режиссер.
8 Мухин М. Г. (1889 – 1963) — актер, исполнитель роли Несчастливцева в спектакле «Лес».
9 Козиков С. В. (1897 – 1943) — актер ТИМа.
14 июня
<…> Завтра премьера «Д. Е.»1. Голос себе попортил в Брандево2 и сиплю здорово, так что вот уж третий день не разговариваю — сегодня лучше, к завтрему оправится совсем — а повредил здорово, шла даже кровь какая-то — мороженое жрал и пиво (пиво-то немного, но холодное). На последней репетиции Мейерхольд после изобретат[еля] в тачке мне аплодировал, и вообще он изобретателей подправил. 8-й эпизод выкинули совсем, 10-й (пустыня) — одно слово: красота. В Ленинграде кончаем гастроли 22-го. <…> Атмосфера здесь очень напряженная и нервная. Я тебе писал уж об скандале. В понедельник Крицберг уезжает домой. <…> Последние дни Вс. Эм. ставил 15-й эпизод — вышло что-то вроде «Принцессы устриц»3. Вообще, третья часть «Д. Е.» — неважная. <…> Если ты не сердишься, то за нос укусить позволь хоть мысленно. Самого хорошего хочу тебе. До свиданья Эр.
1 В тот же день Э. Гарин писал сестре:
«Дорогая Татьяна! <…> Завтра премьера “Треста Д. Е.”. <…> Первый раз “Земля дыбом” вызвала необыкновенный восторг, после 1-го акта вызывали 4-е раза — петух города Ленинграда поддержал ансамбль здорово, создав необыкновенный ракурс, так что после II-го действия кто<-то> кричал: “Повару!” (правда, на III-м представлении он меня обкакал). <…> Обо мне отдельно ничего не пишут — поэтому посылать родителям журналы, где хвалят Ильинского, не хочу. <…>
Первое впечатление от Питера страшное, а потом от него трудно отвыкнуть — хорош городок — одно слово: Европа. Да, а почему у нас называется “Даешь Европу”, когда дают Америку — это не известно».
2 Персонаж из спектакля «Д. Е.».
3 Фильм (1919) немецкого режиссера Эрнста Любича.
14 июня, Ленинград
<…> Еще одно нововведение. Так как пьесу «Д. Е.», т. е. смысла, понять нельзя, то перед началом читается либретто. <…> Перед выходом я волновался здорово, но слышал от публики, что не думают, что играет один. Играть Брандево мне теперь мука, ибо больно горло и голос дребезжит, и сегодня, как на грех, нарвался в столовой на мороженое — пришлось есть. <…>
Бывш[ий] лорд Грау, теперь Грей доставляет мне некоторое наслажденье, а потом, мне нравится играть труп — это то, что в программе помечено «Чезаре»1. Изобретатели немного утемповываются.
Хеша! Ты меня уже ругнула, должно быть, — я нынче необычайно литературен, а мне бы хотелось так пантомимы — куснуть тебе, милая Хе, — ведь эти два дня от тебя нет письма, а последнее твое письмо маленькое было.
Хесик, милая, милая, ты теперь у меня увеличенная в штанах и с папироской. <…>
1 Грей и Чезаре — персонажи спектакля «Д. Е.», роли которых играл Гарин.
133 16 июня
Дорогая Хеся Алексанна!
Пишу тебе после премьеры «Д. Е.». Надо оговориться, что была только одна генеральная репетиция, и закончилась она в 4 часа утра, начавшись в 7. Ширмы и свет задерживали спектакль наполовину. Ну, состояние пустое какое-то. В «Берлине» наибольший успех достался двигающимся ширмам. Ильинского затушевали музыкой. «Пустыня» с Райх, пожалуй, лучший эпизод, и играет она здорово. Мухин в гладком лакированном парике выглядит красавцем. Терешкович как две капли воды похож на Н. М. Фореггера1. Темерин слаб. Захава не в плане постановки: затянул на полчаса, и публика зевала. Наибольшим успехом (если за успех считать аплодисменты) пользовались эпизоды «Даешь Европу», «Французская палата», как это ни странно, и эпизод, который Вс. Эм. поставил в Ленинграде под назв[анием] «Де-факто и де-юре» в стиле «Принцессы устриц». Там, между прочим, Кельберер играет индуса — музыки бездна. <…>2
1 Фореггер (наст. фам. фон Грейфентурн) Н. М. (1892 – 1939) — режиссер, балетмейстер.
2 В тот же день Э. Гарин пишет сестре: «Родная сестра моя! Пишу тебе потому, что у меня сейчас писательское состояние души. Перед тобой написал два письма, но еще пыжи остались. <…>
Сегодня второй день идет “Трест Д. Е.”. Успех приятный. Аплодируют щитам и лозунгам и — идиоты! — они не аплодируют мне, потому что не знают, что все — я, все изобретатели — это всё я, несмотря на то, что в питерских журналах я помечен красной строкой — я и Ильинский».
Ленинград, 21 июня
Дорогая, дорогая Хеся Алексанна!
Наконец твое письмо получил почти накануне отъезда из Питера. <…>
Я за эту последнюю неделю вымотался здорово: то спектакли кончаются в 2 часа, то вчера ездили в Кронштадт. Приехали в 4 утра. Там ходили на дредноут и лежали на солнце. <…>
Матерьяльно наша поездка прогорела: были сборы по 13 червонцев, когда расход что-то около 90. <…>
О «Тресте» я тебе всю прессу направил. <…> Райх действительно играет ничего. <…>
Москва, 25 июня
Дорогая Хеся Александровна.
Пишу тебе из Москвы с Таганки. <…> В Москве же хочу провести некоторый курс загара. Сегодня иду ангажировать лодку на каждое утро и голый буду плавать. Сегодня прикладываю усилия, чтобы не курить совершенно, ибо в последние дни грудь здорово не в порядке. <…>
Сейчас еду в театр — там последние разговоры. Да нужно еще купить питерскую «Жизнь искусства» — теперь, небось, есть что-нибудь про «Трест». <…>
135 Москва, 26 июня
Милая Хеся Александровна! Второе письмо получил здесь. На мои письма Вы почти не отвечаете. <…> Души моей состояние ниже ватерлинии. <…> Эр.
27 июня
Алексанна, твое письмо сейчас получил и захохотал, где ты написала — «сам виноват» — от души, а вообще сердит — ведь свинство, ты хоть согласись, что свинство, тебе я пишу, а ты и не намекаешь, что ты делаешь, думаешь, как живешь, как бы меня это вовсе мало касается. И ежели ты не напишешь письмо по правде, я больше не пишу. <…>
В это воскресенье на Воробьевке «Земля дыбом». <…> Нас предлагают слить с театр[ом] Революции — идет борьба. Вс. Э. здесь.
1 июля, Москва
<…> В воскресенье «Земля дыбом» игралась на Воробьевых горах с участием войск обоза, авто и пр. Надо тебе сказать, что мне понравился спектакль здорово. Повар1 очень крепко принимался, так что после спектакля у меня было даже приличное состояние души. Вчера в три часа была как бы генеральная репетиция «Д. Е.». Присутствовали <…> Коминтерна представители, но пьеса в текстовом отношении как-то будет переделываться. Вообще говоря, она не вызвала того успеха, на который рассчитывали.
Настроение в театре беспокойное. <…> Алексанна, ты совершенно не пишешь о том, что и как ты думаешь делать в ближайшее будущее. <…> Я тебе писал о моем предложении на август числа 12-го – 15-го поехать к моей бабке, по фамилии — Гариной, пожить там недели две-три. <…> Там хороший сад, сливы и очень деловитая бабушка. Стеснять там никого не будем, потому что во времена господства капитала они были лесопромышленниками, и в саду стоит избушка очень комфортабельная, и в ней никто не живет. По этому вопросу ты выскажешься, т. е. выпишешься в ближайшем письме. <…> Да, я забыл сказать о школе Г[осударственные] М[астерские] Мейерх[ольда], так как предлагаю отъезд на вторую половину августа; судя по темпу у нас в театре и в Кореневе2 и по переутомленности, раньше 1-го сентября нечего и думать, чтобы что-нибудь началось. Да к тому же события, которые еще не закончились, могут принести такие неожиданности, что не хочется даже об их исходе фантазировать. Факт «за» — это присутствие Подвойского3 на «Земле» и на «Д. Е.»
Да, Хеся, от сестры твоей я узнал вещь о тебе. <…> Конечно, я-то по доверчивости и не думал, и не стал предполагать, не ожидал, и ты даже не созналась.
Я прямо-таки поразился. И как тебе не стыдно —
оказывается —
ты
куришь, и даже от отца родного тайком.
136 Нет уж, вы напишите об этом в письменной форме. Хеша, жду очень от тебя письма большого и написанного о себе, и пришли мне фото свою.
Получила ли ты О. Генри, фотомонтаж и журналы — напиши.
Целую тебя крепко-крепко и хочу самого хорошего.
Вторник.
1 Персонаж спектакля «Земля дыбом», роль которого играл Гарин.
2 Коренев М. М. (1889 – 1977) — режиссер ТИМа, педагог.
3 Подвойский Н. И. (1880 – 1948) — государственный и партийный деятель, член художественно-политического совета ГосТИМа.
3 июля
Дорогая Хеся Алексанна! <…>
Вчера было в театре собрание. Вс. Э. делал доклад о положении (я тебе писал, что театр хотят отобрать). Теперь это изменилось несколько, и к лучшему. Вс. Э. «объединились» с Плетневым1 (Пролеткульт просит здание вообще, а не наше в частности). А моно2 уже решило объединить Т[еатр] Р[еволю]ции и наш. Теперь театр Зимина3, в прошлом сезоне свободный, нынче присоединили к «Акцетру». Вот тут Вс. Э. и Плетнев ведут политику наступления. Сегодня вечером для Коминтерна в нашем театре спектакль «Д. Е.», который, надо сказать, немного изменили в некоторых местах. <…>
1 Плетнев В. Ф. (1886 – 1942) — драматург, театральный деятель, руководитель Пролеткульта.
2 Московский отдел народного образования.
3 Зимин С. И. (1875 – 1942) — театральный деятель, антрепренер.
4 июля
Дорогая Хеся Алексанна!
<…> Вчера был спектакль «Д. Е.» для Коминтерна — устал адски. Прием был исключительный. Вс. Эм. вызывали минут десять — он все не выходил. Наконец, показался, и его качали. Последний эпизод шел уже по-другому, нежели в Питере, и, надо сказать, гораздо удачней. Спектакль имел, должно быть, здоровый успех, ибо даже пролеткультовцы (я их встретил при выходе) сказали: «Здорово завинчено».
Вот сию минуту принесли письмо твое — то самое письмо, где ты извиняешься за конверт. Не знаю, почему с такой иронией ты относишься к моей усталости. Не знаю, Хеся, почему, но я слишком переутомился, и этим я объясняю себе очень многое.
«Что неладно что-то — ясно мне» — конечно, неладно. Вот и стараюсь сделать ладно. Говорю тебе все — абсолютно все, прошу тебя в каждом письме сказать о себе. <…>
Эр.
<Между 4 и 10 июля>
<…> Недавно был в театре диспут о «Д. Е.», но я ничего не понял, ибо говорили на заграничных языках. Вс. Э., как всегда, говорил митингово, но не хорошо. <…>
Вчера <…> вечером хотел зайти к старшей твоей сестре1, но пришлось составлять сценарий к 10-летию войны, а сегодня придется писать пьесу, так не зашел. Днем ее не застанешь, а ночью возвращаюсь инвалидом. Очень рад, что скоро все-таки закончу.
Хеша, напиши мне все и поскорей.
Эр.
1 Старшая сестра Х. А. Локшиной Мария жила в Москве, на Зацепе.
10 июля, Москва
<…> На Кабельном заводе работа моя кончается 15-го, а в другом клубе — комсомольцев Бауманского района — заканчиваю к 12-му постановку. <…> Предложили ехать в Серебряный бор — там нужно давать для отдыхающих агит-кабаре, но дело это все ж на воде вилами писано. <…>
Эту неделю в клубах каждый вечер до 1 часу ночи. <…>
10 июля
Хеська дорогая, дорогая животина.
Вчера получил после спектакля «Д. Е.» письмо — спасибо, настоящее письмо. Я облаял тебя в ответ на твое первое письмо. Единственно, что нехорошо, это ты не отвечаешь на мое предложение о поездке к моей бабке. Но думаю, что ты еще письма этого не получила. Хешка, в письме твоем отчаянные ноты есть, это о безработице твоей — «все делают». <…> Это ты — ерунду. Во-первых, никто ничего не делает вообще, а наши граждане, за очень редким исключением, — в частности. «Трест» не в счет, да к тому и в «Д. Е.» хорошая большая половина ничего не делает. Теперь, кино — единственный человек — это Охлопков, который, кажется, будет сниматься как следует1. Остальные — так, за трешницу, с подносом.
А что у тебя есть такой драм, зуд — это хорошо, Алексанна. В Москве сейчас нет предприятия, на котором можно остановиться. Очевидно, поэтому вчерашний спектакль «Д. Е.» повесил аншлаг на кассу и вчера, и на сегодня, но прошел все же не с таким успехом, как для Коминтерна.
О летних работах у наших ребят я тебе могу прямо подробно написать.
1. Терешкович, Зайчиков2, Жаров и, кажется, Самборский туда же собирается — у Сабинского3 в Госкино.
2. Ильинский (оставил 1-ю студию) — у «Руси»4.
3. Охлопков в Госкино у Ильина5.
4. Бабанова в Питере в «Киносевере».
Ноты видела рожу этого Петрова, и Бабанова, кажется, продолжать съемку не хочет6. Переутомлены все отчаянно. «Трест» имеет способность вышибать из человека абсолютно [все], до 137 отказа. Я не знаю, почему ты к моему переутомлению отнеслась с предубеждением, но совершенно откровенно говорю, что 10-ю по счету свою роль (в одном спектакле. — А. Х.) — мертвеца — я играю — живого [играть] уже не в состоянии. Сегодня все утро лежал в постели — слава небу, что сегодня — последний спектакль, да у меня еще дьявольски живот болит. <…>
«Трест» перед публичным спектаклем опять переделывали, эпизод «В пустыне» получился глупо, гнусно и фальшиво. Вс. Э. запутал[ся] в трех агит-соснах.
Эту неделю экстренно ставлю спектакль на Кабельном заводе.
В театры не хожу. Был раз в кино, видел грузинскую кинокартину — актриса у них хороша — Ната Вачнадзе7. <…>
Очень, очень целую, и укус в меренбух. Эр.
1 Охлопков Н. П. (1900 – 1967) — актер, режиссер. Речь идет о съемках в фильме «Гонка за самогонкой» (реж. А. Роом).
2 Зайчиков В. Ф. (1888 – 1947) — актер ГосТИМа с 1920 по 1938 г.
3 Сабинский Ч. Г. (1885 – 1941) — художник, режиссер. М. Терешкович, В. Зайчиков, И. Коваль-Самборский снимались в его картине «Враги» (1924). М. Жаров в этом фильме не играл.
4 И. Ильинский снимался на студии «Межрабпом-Русь» в фильмах «Аэлита» и «Папиросница от Моссельпрома» (реж. Ю. Желябужский).
5 О ком идет речь, установить не удалось.
6 Бабанова М. И. (1900 – 1983) — актриса. М. Бабанова сыграла роль американки Джен в фильме «Сердца и доллары» Н. Петрова.
7 Вачнадзе Н. Г. (1904 – 1953) — грузинская актриса. Речь идет о картине «Разбойник Арсен» (1924; реж. В. Барский).
20 июля
Хеша дорогая, получил, наконец, твое письмо — с воскресенья не было. <…> На Кабельном заводе работа моя кончается 15-го, а в другом клубе — «Комсомольцев Бауманского района» — заканчиваю к 12-му постановку. <…>
Во вторник состоялось общее собрание студентов, последнее, где Коренев доложил, что в сентябре должны сдать все следующие зачеты — Мейерхольду письменно — «Что такое игра актера», Гнесину1 — «Музграмота», Аксенову2 — «Английский театр», «Обществоведение» и, кажется, все. Единственный доклад, по-моему, который нужно приготовить, это Мейерхольду, но он сам сказал, чтобы покороче и попроще. <…> Вс. Эм. сказал, что в будущем году все внимание — на актерах. <…>
Здесь тебе посылается иллюстрация (в такой шляпе я хожу вообще). Снимал Мерин-Те3 в последний день перед разъездом.
Целую тебя очень, и не забудь потолстеть еще на 8 фунтов.
Эр.
1 Гнесин М. Ф. (1883 – 1957) — композитор, музыковед, педагог.
2 Аксенов И. А. (1884 – 1935) — поэт, переводчик, критик.
3 Речь идет об А. А. Темерине.
22 июля
<…> Я сейчас бегаю как сукин кот из Красной Пресни в Бауманский, из Бауманск[ого] в Рогожско-Симоновск[ий] — у меня три клуба, приходится совершенно разрываться. <…>
28 июля
<…> Завтра приступаю к последней своей работе, правда, сразу в 3-х местах. Ставлю две свои пьесы. Думаю закончить к 16-17 августа. <…>
28 июля
<…> Я сейчас должен кончить к 15-му августу три постановки. <…> Эти дни сидел, писал сценарии. Написал два — один в 20 эпизодов в обозренческом духе и в 17 — другой, уже почти пьеса. Но хуже всего то, что мне их придется ставить. Все вечера теперь заняты. Никуда не хожу, кроме своей сестры, и как-то раз случайно попал на 2-ую серию «Трагедии любви»1, где привел в восторг меня Яннингс2. Театральная жизнь в Москве сейчас хилая. Жду очень «Смерти Тарелкина» с Кузнецовым-Расплюевым [и] Горин-Горяиновым-Тарелкиным3. <…>
В театре у нас намечается ряд перемен. Во-первых, ликвидация на год реж. фака и отправка всех реж’ов на клубный фронт (тогда количественно я взял уже приз: 42 действия мною будет поставлено в 2 1/2 недели), потом все внимание — слова Мейерхольда — актерскому факу. <…>
Недавно встретил З. Райх и убежал на другую сторону. <…>
1 Фильм режиссера Джоэ Мая (Германия, 1923).
2 Яннингс Эмиль (1884 – 1950) — немецкий актер.
3 Кузнецов С. Л. (1879 – 1933), Горин-Горяинов Б. А. (1883 – 1944) — актеры.
138 7 августа
Дорогая, дорогая живность, милая Алексанна. Твое письмо получил, и можешь себе представить, как оно на меня подействовало. Вчера вечером так знаменито поставил эпизод, что даже самому нравится. Не трюковой, но нашлась замечательная смена настроений, что прямо все отдашь, да мало.
В этом самом клубе построили сооружение прямо грандиозное. В спектакле будут принимать участие прожектор, 3 юпитера кино, дымовая завеса, фейерверк и сигнальные огни, не считая хора, оркестра и драм, исполнителей. <…>
Театр ремонтируют. Нужно думать, что сезон вовремя не начнется, и хорошо.
139 Ну, Хеша, до свиданья, жду. За нос кусну пока мысленно, но когда его осязну, то он поплатится за все время ремонта.
Эр.
7 августа
<…> С вчерашнего дня началась у меня самая гонка. Приехал в Басманный и посмотрел, что воздвигли по чертежам моим — дух захватывает. <…> Я на Кабельном заводе ставлю гиньоль под названием «Операция профессора Дуаэна»1, гнусная штуца (так у Э. Г. — А. Х.), за которую, конечно, облаят.
С Татьяной2 был на «Смерти Тарелкина» в «Эрмитаже» с Кузнецовым и Горяиновым — у нас лучше. <…>
1 Пьеса В. А. Трахтенберга.
2 Имеется в виду сестра Гарина — Т. П. Герасимова.
Москва, 11-е авг.
<…> Эта последняя лихорадочная неделя. В субботу репетицию, начатую в 5 вечера, кончил в 5 утра, вчера с 12-ти утра до 6 веч. был в Красн[ой] Пресне, а с 7 до 1 — в Басманном. Спектакль прошел прилично. Даже были некоторые моменты засняты на кино. Спектакль был на воздухе. Освещал прожектор. <…>
Москва, 5/XI 24
Дорогой Квазимод!
<…> Сегодняшний день начался у меня с заседания в Гэктемасе, посвященного обсужденью программы уроков сценической практики. Вперед читал доклад Вася Зайчиков, потом я. Нужно тебе сказать, что я одержал полную победу. Потом Зайчикова начали так крыть, что мне пришлось вступаться за него. После заседанья случайно встретились с В. А. Шестаковым1 — он попросил рассказать, что я думаю об оформлении. Я ему начал разговор с того, что не смел-де беспокоить такими пустяками, но ему, очевидно, нечего делать на курсе на 3-м, где он преподает вещественное оформление, и он, приняв все мои чертежи, согласился с курсом сделать оформление к водевилю. Этот выход, несомненно, интересней, нежели оформление заказывать бутафору Петрову. В связи с раскопкой иконографических материалов по Востоку у меня навертывается довольно интересная вещь — не знаю, как она осуществится.
В театре пока все тихо. Говорят, Мейер прислал письмо, где пишет, что перед отъездом заедет в Париж. Срока приезда его нет в письме. <…>
1 Шестаков В. А. (1898 – 1957) — театральный художник.
1925
Гомель, 17-е, июль
Чернопузый дорогой Удод!
Пишу тебе после спектакля, который, кстати сказать, прошел отвратительно. <…>
Театр, в котором нынче играли, необыкновенно приятный, деревянный, пахнет сосной, и очень чисто. <…>
140 20 июля, Ялта, понедельник
Дорогая Хессилла! Пишу тебе из «Венеции» — очень скверные меблированные комнаты в Ялте, но зато с знаменитым видом на море. <…> Ялта — это чуть получше наших Патриарших прудов. <…>
Здесь крымская публика мне не нравится, а на пароходе ехала прямо кунсткамера, которую дополнял я, ибо у меня штаны на федре (так у Гарина. — А. Х.) прорвались до размеров, заметных уже невооруженным глазом. Если смотреть на Крым с парохода — жалкое зрелище. <…>
26 июля, Алушта
<…> Читаю газеты и всякую ерунду. Очень мне понравилось (я даже хотел тебе послать вырезку): в каком-то парламенте, вроде как в латвийском, подрались депутаты и так дрались, что вызвали пожарных — разливать. <…>
3 августа, Алушта, понедельник
Чернопузый упырь!
В субботу я уезжал в Ялту, а потом прошелся до Алупки пешком. Ливадия меня убила — замечательно там! Лес, братец, тропический, и без кипарисов. Пришел на дачу Хоста-Яга — встретил меня Паша Цетнерович1. <…> Прошел на Нюру — там Серебрян[икова]2, Темерин, Соколова3, Бебутов4, Л. Коган5, Дзига Вертов6. Меня встретили как знаменитость, пожимали благородную руку. <…>
Администрация гостиницы прямо душевная.
Часов в 12, в 2 (не помню точно) у меня в комнате обнаружилась крыса. Я попросил кошку. Так мне дали кошку, собаку, пришли обе хозяйки и начали ловить крысу.
Собака и кошка подрались, и крыса ушла, а собака и теперь каждую ночь остается охранять меня. Собака эта ревности невероятной, как кто ко мне хочет подойти, она с лаем бросается прямо в морду. Звать ее Джим. Мы обмениваемся блохами.
1 Цетнерович П. В. (1894 – 1963) — режиссер-лаборант ГосТИМа.
2 Серебрянникова Н. И. (1899 – 1976) — актриса ГосТИМа.
3 Соколова С. А. — актриса ГосТИМа.
4 Бебутов В. М. (1885 – 1961) — режиссер.
5 Коган Л. (Е. Я.) — актриса ГосТИМа.
6 Вертов Дзига (Д. А. Кауфман, 1896 – 1954) — режиссер-документалист, сценарист, теоретик кино.
1926
Рязань, 19-е <января>, вторник, 26 г.1
Дорогой мой мымр.
Пишу тебе вечером, ибо сейчас только начал ворочать руками — это значит, истопили печку. <…>
Ехал в вагоне, который отапливался железной печкой, замерз. На вокзале в Рязани выпил рюмку водки, купил Чужака2, но когда ехал на извозчике, опять захолодал. Вошел в дом — и холодней, чем в вагоне, угар, и папы нет, а бабушка слышит плохо, так мама кричит ей. <…>
Вечером после чая мне стало совсем плохо, даже сознание стало совсем улетучиваться. <…> Сегодня я подумал, что я бы не выдержал такой обстановки долго, и не у нас только это в доме, а во всей Рязани гадость, блевотина, мерзость отупения. <…> Мать говорит, что по Есенину вечер устраивал «кто — не знаю», но рязанское землячество устраивает бал-маскарад с танцами до 3-х ночи. <…>
1 Ошибочно указано: «25 г.». Подлинная дата установлена по штемпелю на конверте.
2 Чужак (наст. фам. Насимович) Н. Ф. (1876 – 1937) — литературовед, журналист.
Рязань, 20-е янв. 1926
Дорогой Федряк! Сегодня утром приехал папа. <…> Он два раза здесь смотрел «Мандат» и на самом деле доволен, что Вс. Эм. обругал меня без пяти минут премьером.
Неуютность дома и в Рязани вообще — удручает меня. Вечером купил сегодня «Жизнь искусства» — там очень хорошая песня есенинская.
Ты обратила внимание, что Яхонтов1 работает, очевидно, в Ленинграде в Б. Драматическом театре?
Над Брюно2 еще ничего не делал — может, отосплюсь лучше. <…>
141 Как выглядит «Рычи»3? И Вс. Э. прикладывал руку к нему или нет, и собирается ли?
Здесь в театре анонсируется «Аракчеевщина»4. «Мандат», должно быть, не пойдет, ибо уже прошел 7 раз.
Я никуда не выхожу, кроме как за газетой. Шли как-то до Почтовой ул. с Елизаветой Алексеевной (помнишь, старушка, которая польку играла?). Я спросил ее, какого царя она помнит. Она говорит: «Николая I-го помню, Александра II-го помню».
Это да-а?
Когда посмотришь «Броненосец»5, напиши. Посмотри еще «Женщину с леопардами»6. <…>
1 Яхонтов В. Н. (1899 – 1945) — актер, прославившийся как чтец, создатель «театра одного актера». Ушел из ГосТИМа после назначения Гарина на роль Чацкого.
2 Главная мужская роль в спектакле «Великодушный рогоносец». Возможно, Гарин планировал подготовить роль на случай ухода из театра исполнителя этой роли — И. Ильинского.
3 Спектакль ТИМа «Рычи, Китай!» по пьесе С. М. Третьякова ставил В. Ф. Федоров.
4 Пьеса И. С. Платона.
5 Фильм С. М. Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”» вышел на экраны 18 января 1926 г.
6 Фильм реж. Г. Колкера (США, 1923).
По дороге в Киев, 22-го <мая>
Дорогой мой Квазимод!
Не сочти меня за хама, что на вокзале я выпил рюмку водки с мужем Тяпкиной1 — он, кстати сказать, советовал мне уйти от Мейерхольда, <…> не сердись, было очень тоскливо. Ты так серьезно шла по улице и не смотрела на меня, Сингапур мой! <…>
Дорогой удод мой! Веди себя крепче. Не бегай из санатория. <…>
1 Речь идет о М. Е. Лишине (1892 – 1960) — актере ТИМа. Тяпкина Е. А. — актриса, играла в ГосТИМе с 1924 по 1936 г.
Киев, 23-е мая
Дорогой мой Квазимод! Приехали с Зосимой1 на извозчике — гостиница «Красный Киев». Нам дали приличный номер в четвертом этаже с балконом. Гостиница эта около держоперы — ее было видно из окна «Паласта». <…>
Прогулялись с ним по Крещатику. Идут здесь картины «Людина без нирвов» с уч[астием] Гари Шля2 и «Ведмежья весиля»3. <…> Встретили Михоэлса4. <…>
Помимо нас и Еврейского [театра] здесь гастроли Унтерса с джаз-бандом и цирк. <…>
1 Злобин З. П. (1901 – 1965) — актер, преподаватель сценического движения в ГосТИМе и ГЭКТЕМАСе.
2 Пиль Гарри (1892 – 1963) — немецкий актер и режиссер.
3 Речь идет о фильме «Медвежья свадьба» (1925, реж. К. Эггерт).
4 Михоэлс (наст. фам. Вовси) С. М. (1890 – 1948) — актер ГОСЕТа.
142 Киев, 25-е мая
Дорогой Удод мой! Пишу тебе после спектакля. Поверишь ли? «Мандат» провалился. Репетиция, назначенная на 6 часов вечера, не состоялась. Установка устроилась на сцене крайне невыгодно, потому что саженный просцениум остался перед кругом. Начали в 9 ч. 40 мин. при почти пустом зале. Первый жиденький смешок достался на реплику «Экая сволочь!». Во 2-м акте перед моим выходом слышался мотор, мебель выносили руками. Я играл отвратительно. То страшно нажимал, ибо мне говорили, что не слышно, то совершенно ронял. Третий акт играл почти истерично. Сейчас хриплю. Хеська, к тому же не знаю, что-то со мной сделалось. Потерял чувство темпа, атрофировалась радостность. Ты, конечно, еще понимаешь, что сейчас у меня состояние скверное. Дальше играть просто не хочется.
Поездка гастрольная теперь стоит под риском, ибо «Мандат» сборов не даст, а на «Рычи Китае», каким бы он успехом ни пользовался, далеко не уедешь. Погодин1, как и надо было думать, ничего не сумел организовать — реклама поставлена крайне слабо, а «Мандат» в Киеве шел к тому же в 5-и видах — у Глаголина2, у Курбаса3 и у других. <…>
1 Погодин П. А. — администратор ГосТИМа.
2 Глаголин (наст. фам. Гусев) Б. С. (1879 – 1948) — актер, режиссер.
3 Курбас Лесь (А. С.; 1887 – 1937) — театральный режиссер.
Киев. 26-е мая
Дорогая Хессилушка! Состояние весь сегодняшний день было ужасное. Купил полбутылки водки с тем, чтобы выпить, если провалится сегодн[яшний] спектакль, но этого не случилось. [«Мандат»] прошел благополучно, так что водку стравил добрым знакомым. <…>
Спектакли очень опаздывают с началом. Начинаем в 9-ть, не раньше, и хотя нынче, ввиду поломки граммофона, выпустили мухинский монолог, все же кончили в 12 с 1/2 ночи.
У меня большая потребность побыть вдали от театра и пооценить все сделанное. <…>
Иван Александровича1 еще не начинал работать: Мих. Мих.2 живет в скверных условиях, так что не имеет настроения работать.
143 Как слышно, не только мы одни делаем плохие сборы. Евр[ейский] камерный, в прошлом году с успехом игравший, пустует.
Колоссальный успех у Кузнецова и Блюменталя-Тамарина3.
1 Имеется в виду роль Хлестакова.
2 М. М. Коренев был режиссером-лаборантом во время постановки «Ревизора».
3 Блюменталь-Тамарин Вс. А. — актер, драматург, представитель театральной династии.
Киев, 30 мая
<…> Сегодня первый раз занимались с Мих. Мих., но жара адская разморила. Все же кое-какие мелочи наметились. <…>
Вчера с Зосимой пошли на пляж. Там все, перемешавшись, лежат голые, так мы с Зосимой ушли в луга, не купаясь.
Украинизация доходит до абсурда. На почте все написано по-хохловски, кроме плаката: «Остерегайтесь воров».
О Мейере сведений никаких нет, да его никто и не ждет.
<…>
Киев, <18 июня>
Дорогой мой Фомка!
Не писал эти два дня, потому что все время сплю. Жизнь, как будто бы наладил физкультурно.
Приехал, зашел в театр и сидел у Вс. Составлял он афишу к «Д. Е.». Я его надоумил написать меня иностранцем, что он и сделал: на афише я «Эрнст Гарри». <…>
На Рязань я послал бандероль, где «Глобус» с моей фото, киевский Еженедельник с Токаревской статьей об актерах современности, где на первом месте упоминается Михоэлс, потом я, Ротбаум1 и Бабанова, афишу, где я — шарлатан-иностранец, и журнальчик «Жизнь искусства» со статьей об украинском шовинизме, где за предлог взята статья какого-то укр. поэта-коммуниста. Он пишет: «Кшец задрипанному москофильству». <…>
1 Ротбаум С. Д. (1899 – 1970) — актриса ГОСЕТа.
Киев, воскр., 20 июня
Дорогой мой Фомочка! Не писал тебе — ждал до после спектакля. Все это время прошло в очень нервозной атмосфере подготовки «Д. Е.». Готовили вначале без экземпляра, по памяти. Трансформаторш пришлось за волосы держать, но я все-таки настоял на репетиции не вдень спектакля, и назначили на после «Бубуса», причем в «Бубусе» я играл Секретаря — Жаров уехал в Одессу.
Кончили репетицию в 2 с 1/2 ночи. Сегодня перед спектаклем повторили немного. Волновался здорово. Трансформация прошла здорово, но интереснее всего то, что когда играл Брандево — мне очень понравилось, почувствовал, что вырос. А в Грее сшиб Мих. Мих. Коренева: он изображал Председателя и не знал, когда началась беготня, куда деваться. Что-то у меня вкус к театру появился. Должно быть, нельзя играть одну роль так часто, а «Д. Е.» меня немного оживило. <…>
Завтра утром и веч<ером> «Д. Е.». Конечно, ни о какой основательной переработке не может быть и речи. Я даже думаю, что и «Ревизора» он не тронет в Одессе.
Одесса, 28-е <июня>, понед.
Дорогой Фомочка! Второй день в Одессе. <…> Одесса особого впечатления на меня не произвела: вроде Киева, только с морем и еще мертвей. В порту два парохода и гниль. Театр по размерам Киевская Державопера, но в тысячу раз лучше устроен. Он на русский театр и не похож: порядок до того сердитый — после спектакля, например, весь партер и ярусы закрывают от пыли холстом. На сцене чистота изумительная, и висят такие объявления: «Здесь курит враг советского строительства». <…>
По приезде в Одессу Самим было сделано распределение, где кому жить и в какой гостинице, причем принцип распределения такой: если два человека ненавидят третьего, то этого третьего к ним и вселяют. Причем люди с заслугами перед революцией поселены в Лондонской гостинице, т. е. с Самим, а остальные на почтительном расстоянии в гостинице «Бристоль». Ну, мы с Зосимой, как известно, с заслугами. <…>
144 Сегодня был у Самого. Он крайне мрачен и хочет бросать театр. На меня его состояние произвело неприятное впечатление. Вчера вечером был я на вечере Маяковского. Он читал свои стихи, и мне показалось, что Маяковского принимали так же, как нас, а принимали его так себе, как признанного, но уже надоевшего.
Сейчас сижу в ресторане Укрнарпита и жду, что принесут вечерн[юю] газету — там рецензии о двух спектаклях сразу. Сейчас часов 10. В театре диспут под названием «Октябрем по театру»… Оркестрик подвывает фокстрот, а фокстерьер, помешенный в роду с дворняжкой, подходит к каждому столику, упирается ногами в стул, раз тявкает, и ему дают поесть.
2 июля. Одесса
Дорогой Фомочка! <…> Положенье у театра катастрофическое, несмотря на очень хорошие дела в Одессе. К будущему сезону ничего не подготовлено, и Мейерхольд уже поговаривает о том, чтобы «Ревизор» была 11-й постановкой сезона, ибо в начале сезона театр не поднимет монтировку. Я тебе уже писал, что художником к нам приглашен Татлин1. <…>
Сам ведет переговоры с видными администраторами. Настроение у него ужасное, ибо «Бубус» принят очень холодно, доклад его в понедельник собрал очень мало народу, «Д. Е.» прошло так себе, не вызвав особых оваций.
Несмотря на целую гору скандалов, неприятностей и провалов, у меня выработалось какое-то противоядие, ничего не доходит. Правда, за все время пребывания в Одессе только вчера я был в театре, но и то не до конца. <…>
1 Татлин В. Е. (1885 – 1953) — художник, один из мастеров российского авангарда, автор «знаковой» инсталляции «Башня III Интернационала». В ГосТИМе не работал.
3 июля. Одесса
<…> У нас здесь атмосфера как перед грозой. Очевидно, завтра на общем сборище все польется. Мне очень жалко Мейерхольда. У него вид затравленного волка.
Вчера на третьем в Одессе представлении «Леса», как говорят, было очень мало народа. Сезон открыть денег нет. Пресса центрожурналов, а «Жизнь искусства» в особенности, травит театр. Положение катастрофы перед носом. <…> Сам ходит с № «Жизнь искусства», читает производственные планы всех театров и говорит, что мы — говно, даже не можем написать производст[венного] плана. <…>
6 июля. Одесса
Дорогой Квазимод! В воскресенье произошло событие, во время которого и после я перекрестился, что тебя нет здесь. В 10 часов утра назначена «Беседа Мастера с труппой». Как выяснилось, это было повторение Херсонской истории, но направленной по адресу Н. Н. Буторина и В. Федорова1. Буторина Он облаял совершенно, в свою очередь Н. Н. сделал несколько глупостей, когда оправдывался. Во-первых, написал письмо Мейеру, где его обзывает сумасшедшим и т. п. Потом он зарезал несколько актеров, сказав, что пил с ними. Мейерхольд все это в ответной речи поставил на вид. В. Ф. держал себя исключительно. Обвинения ему поставлены следующие: во-первых, при составлении каталога к музею замолчал об Эйзенштейне и Люце2, во-вторых, при расценке книг юбил[ейных] со своими статьями книги расценил очень дешево, а с Мейера дорого и т. п. ерунда. В ответной речи Вася меня поразил, я никогда не думал, что у него такой диапазон гордости, корректности и логики, речь его в некоторых местах доходила до пафоса. Потом все дерьмо, вроде Старковских3, начали ругать Буторина и Федорова. Затем очередная исповедь З. Райх с демонстрацией настоящих слез и своей трагедии одиночества. Потом Он и Она заявили о своем уходе в МХАТ. М. М. Коренев на сей раз сказал деловито о том, что раз Мастеру неприятно с кем-то работать, то эти люди, конечно, должны уйти, и нечего по этому поводу лаяться. Ну, как и требовалось, Буторин и Федоров подали в отставку4, и все стало благополучно. <…>
Я, Квазимод, стал «диалектически мыслить», поэтому советую тебе, этот ежегодный конфликт чтобы тебя не волновал.
1 Буторин Н. Н. (1893 – 1961), Федоров В. Ф. (1891 – 1971) — сотрудники ТИМа. Последний как постановщик «Рычи, Китай!» состоял в конфликте с Мейерхольдом, претендовавшим на авторство этого спектакля. См.: «Жизнь искусства», 1926. № 36. С. 24.
2 Люце В. В. (1903 – 1970) — еще студентом ГВЫТМа участвовал в оформлении спектакля «Великодушный рогоносец», позднее — режиссер.
3 Старковский П. И. (1884 – 1964) — актер ГосТИМа, исполнитель роли Городничего в «Ревизоре».
4 История конфликта вокруг постановки пьесы «Рычи, Китай!» подробно изложена в книге Е. В. Федоровой «Повесть о счастливом человеке» (М., 1997).
7 июля, Одесса
<…> Познакомился с Кирсановым1. Он очень хвалит Третьякова2 и как в бога верит в Маяковского, а Есенина не принимает. Но он комсомолец, ему так нужно. <…>
1 Кирсанов С. П. (1906 – 1972) — поэт.
2 Третьяков С. М. (1892 – 1939) — писатель, теоретик литературы, драматург.
12 июля, Одесса
<…> Атмосфера в коллективе ужасная. На меня она не действует особо благодаря Зосиме и тому, что поселен в аристократическом квартале, так что «волны народного гнева» до меня, слава III Интернационалу, не докатываются. <…>
147 14 июля. Одесса
Дорогой Квазимод! <…> Я тебя прошу никаким образом не расстраиваться по этим поводам. <…> Эта история — повторение каждогодних, и не стоит об этом говорить, ибо Вс. не переделаешь.
Вопрос ставится так: или уходить, если нужно защищать очень подмоченное доброе имя Буторина, или оставаться и не волноваться этими вопросами. Мейерхольд нам не интересен как коммунист (если вообще мне могут быть они интересны), как кто угодно. Он интересен как режиссер. Совершенно ясно, что в положении, близком к Буторино-Федоровскому, будет каждый из нас. Это факт. <…>
22 июля, Ростов
<…> Надеюсь немного, что на Волге живы капиталистические традиции и удастся отоспаться без скандалов и комаров.
На пароходе в газете прочитал, что в театре у нас открывается кино и вступительное слово говорит Мейерхольд, а о методах игры Кейтона1 — Ив[ан] Ал[ександ]рович Аксенов. Идет «Наше гостеприимство»2. А потом узнаю, что в день открытия кино умер Дзержинский. Кому-то не везет. <…>
1 Кейтон (Китон) Б. (1896 – 1966) — американский актер, сценарист, режиссер.
2 Фильм (1923) Бастера Китона и Джона Дж. Блайстоуна.
28 июля
<…> Мои надежды на капиталистические традиции, сохранившиеся на Волге, не оправдались. Кабак такой же, как и везде. <…> Достать билет 2-го класса в Царицыне было невозможно, поэтому еду в III классе. Две ночи не было места совсем. Спал на палубе на яблоках. Хорошо еще, было довольно тепло. В Саратове получил место, но тут же у меня украли пальто мое рыжее. Теперь спать очень жестко, и по вечерам на палубу не вылезешь — холодно. В кармане было три книжки. Одна из них — «Жизнь искусства», где статья Станиславского о Чехове и выдержка из французских газет о Мейерхольде. Этот номер меня очень развеселил в Ростове — вез тебе. <…>
Вчера в Самаре купил киногазету. Пишут о приезде Фербенкса1 и Пикфорд2 в Москву. <…>
Если этот пароход нагонит свое опоздание, то в Рязани буду в понедельник. Но это навряд: он все время ломается, и сегодня утром был пожар, так что II класс, весь коридор, залили водой. Паники не было, ибо не знал никто — было это около 6 часов утра. <…>
… «Митя» <…> эрдмановский3 будет ставиться в Одессе, куда он должен был приехать числа 18-го. <…>
1 Фербенкс Дуглас (1883 – 1939) — американский актер, продюсер.
2 Пикфорд Мэри (1893 – 1979) — американская актриса.
3 Сценарий «Митя» — дебют Н. Р. Эрдмана в кино. Фильм ставил Н. П. Охлопков.
27 декабря, Ленинград
Ввалились в Ленинград. Пока что узнали следующее: в «Жизни искусства» гвоздевскую статью1 не помещают совсем, а статью Слонимского2 поместят только после того, как получат ругательную статью Бескина3 или Блюма4.
1 148 Гвоздев А. А. (1887 – 1939) — театральный критик. Его статья «Музыкальная пантомима в “Ревизоре”» была напечатана в журнале «Жизнь искусства» (1927. № 1. С. 9 – 10).
2 Слонимский А. Л. (1884 – 1964) — литературовед, писатель. Его статья «Два Хлестакова» появилась в «Жизни искусства», № 4 за 1927 г.
3 Бескин Э. М. (1877 – 1940) — театральный критик, историк театра.
4 Блюм В. И. (псевд. Садко; 1877 – 1941) — театральный критик, редактор журналов «Вестник театра» и «Новый зритель».
1928
Рязань, 7 июля
Дорогой Квас! Я думал, ты будешь немного повнимательней ко мне, но ты, очевидно, присовокупила к моим неспособностям еще — неспособность читать письма. Конечно, это сверхсвинство. Что ты делаешь? Что ты думаешь? Что ты думаешь делать?
<…> Вчера вечером всей семьей ходили в кинематограф — смотрели «Воинственных скворцов»1. Понравилось.
Я стал читать. Прочитал Панаеву2 — очень хорошо. Папа достал мне Гончарова «Мильон терзаний» — крепко написана критика. Подход наш. Вот тебе цитату о Чацком: «Роль Чацкого — роль страдательная: оно иначе и быть не может. Такова роль всех Чацких, хотя она в то же время роль победительная. Но они не знают о своей победе, они сеют только, а пожинают другие — и в этом их главное страдание, то есть в безнадежности успеха». Дальше он пишет о тогдашней критике — это совсем современно. <…>
Теперь читаю эпоху Петра Великого — эксцентрик! Для сцены — вагон матерьяла. <…>
В доме у нас зверье — наша интеллектуальная кошка с двумя дочерьми — они играют, оживляя мрачный пейзаж столовой. <…>
1 Фильм реж. Ф. Гиоля и Т. Уайльда (США).
2 Панаева (Головачева) А. Я. (1819 – 1893) — автор книги «Воспоминаний». В 1927 г. (Л., «Academia») вышло научное издание этой книги под ред. Корнея Чуковского.
11 июля, Дмитров Погост
Дорогой мой Квас! Вчера в 3 часа утра я выехал из Рязани на велосипеде, в 8 часов вечера приехал в Дм. Погост. <…>
Штиблеты мои от одного дня поездки кончили свое существование. Папа просил телеграфировать, когда я приеду, он боялся, что я где-нибудь сдохну. Я пошел на почту босиком — бабушка говорит, что неудобно. Я надел для ее спокойствия штиблеты, но хорошо, что она их не видела, а только слышала стук. Штиблеты повергли бы всю фамилию в вечный позор. <…>
Всю поездку думал о тебе. Квас, тебе непременно нужно окунуться в это величие космоса. <…>
Рязань, 14/VII 28 г.
<…> Моя поездка к бабушке меня освежила здорово. Настроение как после причастия по старому режиму. <…> Сегодня получили журнал. Мама читает папе статью. Папа ругает Тальникова1 и говорит: «Не солидно. Вот Гончаров лучше». <…>
149 Думая о своих ролях, я пришел к убеждению, что костюм, в котором Чацкий приезжает, нужно переделать. Ты позвони Ульянову2, он, может быть, что-нибудь сделает. Он мне говорил сам, что нужно бы переделать. <…>
1 Тальников (наст. фам. Шпитальников) Д. Л. (1882 – 1961) — театральный критик. Автор брошюры «Новая ревизия “Ревизора”» (М.-Л., 1927).
2 Ульянов Н. П. (1875 – 1949) — живописец, театральный художник, автор костюмов в спектакле ГосТИМа «Горе уму».
Рязань, 20/VII 28
<…> Я теперь утрами купаюсь <…> и вечером читаю всякую литературу. Теперь напал на Куприна — оказывается, это очень хорошо. Когда писал последнюю строку той страницы, по письму изящно и как бы в ритме замедленной съемки прошла наша интеллектуальная кошка. <…>
23 июля, Рязань
<…> Я думал, что ты приехала, сидишь в Рязани, пьешь чай и нас ругаешь, и вез я тебе роскошную белую лилию одну — запаковал ее в болотные листы вперед, потом в папоротник, потом в журавлятник — все это намочил и положил в вещевой мешок. <…>
Рязань, 6/IX 28 г.
<…> Приезжай в Рязань — здесь 8-го открывается ярманка. А сегодня, т. е. собственно вчера, мы с папой пришли домой в третьем часу ночи — сидели в цирке и смотрели борьбу. Это великолепно. Боролись пять пар до результата. Азарт в цирке и в нас был адамантовый. Папа — и тот орал «Правильно!» или «Не правильно!». Свистели, орали, — вообще, вечер прошел необычайно. Когда приедешь, свожу тебя в цирк на борьбу. <…>
10 октября
<…> Видел «Белого Орла»1. Это говно высшей марки. Вс.2 очень плох, ломается очень, ракурсики так себе, а место, где он крестится и у него заболевает живот, под стать только Мишелю Жарову. Жаров в этой картине омерзительно невыносим3. И против всяких моих ожиданий очень хорош и по-настоящему культурно играет — это В. Качалов4. Думаю, что в газетах будет крыть Вс. Эм. <…> Поставил половину 1-го акта водевиля — что-то плохо пока выходит5. <…> Пел сегодня как Бог и купил новый романс по рекомендации Мих. Мих. Коренева — он выбрал из шаляпинского репертуара6. <…>
1 Фильм Я. Протазанова (1928) по рассказу Л. Андреева.
2 Вс. Мейерхольд играл в этом фильме роль сенатора.
3 М. Жаров снимался в «Белом орле» в роли чиновника.
4 В. И. Качалов исполнял в фильме главную роль — губернатора.
5 Постановка осуществлялась силами студентов ГЭКТЕМАСа.
6 Гарин регулярно посещал занятия по вокалу, проводившиеся в ГЭКТЕМАСе.
150 Москва, 11 <октября>, 11 часов
Дорогая гагрская девка Кваз!
Сейчас пришел из Театра Сатиры, недосмотрев произведение искусства, захваленное московскими критиками1. Это такая сволочь, что досмотреть до конца не мог. <…> Когда пришел домой, на столе письмо. Вскрыл и прочитал, не из любопытства (ты знаешь, как я ленив), а думал, что деловые соображения, но оказалось дерьмо в стиле Театра Сатиры. Мейерхольдовская мочевая лиричка меня очень забеспокоила. Что же это такое! Ты напиши, как оно впечатлило тебя? — Может, я охамел. Не знаю, доверять ли Гаузнеру и Габриловичу2, но они о пьесе Сельвинского говорят, как о шедевре3. Сельвинский дней через 5 сдает пьесу. Ну, а Мэтр наш что-то непонятен. Сегодняшний вечер облевал меня одесской пошлятиной с двух фронтов. <…> Грош цена всем этим лирикам, настроениям. Но вот работать-то как будем, это вопрос. Очевидно, уехали мы от них куда-то в сторону, если Вс. за три месяца обработан в этом направлении. Вот так разыграли. Квас, ругался я так потому, что взбешен «Сатирой». <…>
1 О каком спектакле идет речь, установить не удалось.
2 Гаузнер Г. И. (1907 – 1934) — театровед, писатель, театральный критик. Габрилович Е. И. (1899 – 1993) — драматург, киносценарист. В 20-е гг. оба были сотрудниками ТИМа, часто выступали вместе как театральные критики.
3 Речь идет о пьесе И. Сельвинского «Командарм-2».
Москва, 12/Х 28
<…> Живу тоскливо. Таскаюсь в Гэктемас — что-то ничего не получается с водевилем хорошего. От Маргариты1 захожу в кино. Видел уже Пата и Паташона2 и «Россию Николая II и Толстого»3 — все дрянь, только парад перед памятником Александра III помпезен. <…>
Мейерхольда за «Белого орла» обложили — правда, очень мягко. Если найду газету, то пришлю вырезочку. Сегодня спрашивал у Февральского4 насчет писем от Мейера — он говорит, что с того письма, где говорится о приезде, нет никаких известий.
У Маргариты пою новый романс Бородина «Лес густой стоял», даже, кажется, не густой, а старый. Дожидаясь своего череду, читал «Печать и революцию» — статью о частушках, и две записал — уж очень здорово:
1. Я сыграю ихахошки
Под милашкины гармошки.
2. Раскаку-каку-каку,
На кого нарвался.
Три раза поцеловал — весь переблевался.
Нравятся тебе иль нет?
На завтра в три часа назначена репетиция «Д. Е.» — «Пустыни». Очень плохо, что Февральский развивает реставрационные планы, поговаривает о возобновлении «Земли дыбом». К чему это — не понятно. Он все-таки безнадежен. Говорят, приехал Сельвинский. Нестеров5 хотел с ним переговорить. <…>
1 Имя преподавательницы вокала.
2 Пат и Паташон — экранные маски датских комических актеров Х. Мадсена (1890 – 1949) и К. Шенстрема (1881 – 1942).
3 «Россия Николая II и Лев Толстой» — фильм реж. Э. Шуб.
4 Февральский (Якоби) А. В. (1901 – 1984) — театровед, в 20-е гг. — ученый секретарь ГосТИМа.
5 Нестеров А. Е. (1902 – 1943) — режиссер, входил в режиссерское управление ГосТИМа.
Москва, 19/Х 28 г.
<…> Сегодня вечером открывается сезон. <…> Я для такого случая черные штаны одену. Пьеса у Сельвинского называется «Командарм два», к тому же он сегодня хочет быть на спектакле. Эрдманская пьеса назыв[ается] «Самоубийца». Сегодня утром была репетиция «Д. Е.». К изобретателям выбрали новую музыку. <…> Хотели музычку вообще подызменить, но в Берлине1 выяснили, что под новую музыку придется подгонять танец, а это — лень, и оставили эту жвачку, какая была.
В сегодн[яшнем] номере «Комсомольской правды» помещено письмо Вс. Эм.2, а в «Совр[еменном] театре» эта стерва опять печатает интервью, где пишет, что театр дефицитен3. Был как-то в Мюзик-холле. <…> Обозрение4 все — дерьмо, только «Герлс» — номер минуты на три — неплох. Сокольский5 читает патриотические монологи, называя Чехова и Мейерхольда мертвыми душами6. <…>
1 151 Очевидно, речь идет об эпизоде из спектакля «Д. Е.» под названием «Берлин».
2 Имеется в виду публикация в газете «Мейерхольд или театр Мейерхольда? (Ответ тов. Мейерхольда на открытое письмо “Комсомольской правды”)».
3 Вероятно, имеется в виду публикация в № 40 журнала (2 октября) «По ту сторону занавеса (производство и быт)» — очерк сотрудника Театра им. В. Э. Мейерхольда.
4 Речь идет об обозрении «Чудеса XXX века», реж. Д. Г. Гутман.
5 Смирнов-Сокольский Н. П. (1882 – 1962) — автор и исполнитель фельетонов.
6 Эстрадный актер откликался на газетные сообщения об эмиграции М. А. Чехова и на слухи об эмиграции В. Э. Мейерхольда, что оказалось ложью. Мейерхольд вернулся в Москву в начале декабря.
20 октября, Москва
… Сейчас утро двадцатого, на другой день после открытия [сезона]. Вчерашний вечер прошел довольно здорово, только было холодно в температурном отношении. Я по такому случаю был в новых штанах и выглядел как именинник.
Гаузнер привел актера из Кабуки1. Мы объяснялись с ним пантомимически. Он, кроме японского, ни гу-гу, а я — кроме русского, но все же объяснились здорово. Во втором антракте пришел Сельвинский. Я на него так насел, что он обещается сдать пьесу через два дня. <…> Перед началом второго действия краснопресненский комсомол приветствовал театр2, и решили послать телеграмму Мейеру. Он в свою очередь прислал такого содержания: «В торжественный день с вами». <…> Спектакль прошел довольно хорошо. <…> Я клакировал во втором акте и очень успешно. <…>
Кабучник тоже очень доволен, говорит, что ему больше всего нравится русский театр, потом немецкий.
Я живу тихо и размеренно: утром пою, потом водевилю. Сегодня же будет такой перебой: петь не буду, а буду часа четыре водевилить. <…>
1 Театр Кабуки (труппа Итикавы Садандзи II) гастролировал в это время в Москве.
2 Как было заведено, творческие коллективы осуществляли шефство над предприятиями и общественными организациями. Театр им. Вс. Мейерхольда шефствовал над комсомолом Краснопресненского района.
Москва, 22/Х 28
Дорогая Хессила! Пишу сегодня открытку, потому как нет денег на бумагу и марки. Вчера на «Р. К.»1 был аншлаг. Японец, которого я водил по музею и угощал в театре разговорами (он ничего по-русски не понимает), подарил мне 10 штук очень интересных японских открыток. На субботу сговорились с ним увидеться — утром он будет показывать приемы «Кабуки». Сейчас иду на урок в Гэктемас. <…>
1 Спектакль «Рычи, Китай!».
Москва, 23/Х 28 г.
<…> Театральные дела таковы: Сельвинский пьесу сдал, но прочитать ее нам, простым смертным, сама понимаешь, нельзя, ибо Нестеров и Февральский здорово поважнели, иногда даже выгоняют актеров из комнаты, и, конечно, разве можно прочитать или даже просто посмотреть раньше их. <…> Вчера вечером был у Яхонтова, он читал свой последний монтаж «Война — войне», пока без игры, один голый текст. Как будто интересно, но особого впечатления не производит. К «Горе от ума» из Рязани хочет приехать мама. Сейчас 5 часов. Я пообедал — на первое — щи, на второе — гречневая каша с молоком. И к 6-ти нужно переть в театр — будет сыгровка оркестра, а я заказал себе к изобретателям новую музычку. Нужно приспособиться. В субботу утром с Гаузнером пойдем к Каварадзаки1 — он будет показывать кабучные приемы, поэтому сегодня Темерину заказал 10 фотографий с изображеньем разных постановок — нужно ему подарить в ответ на его открытки. <…>
1 Речь идет о Каварадзаки Тёдзюро.
Москва, 24/Х 28
<…> Нынешний день я здорово измотался. К десяти часам назначил свиданье с Мальцевой1, чтобы купить шляпу дамскую для 7-й изобретательницы. Пошли в Ателье мод и купили зеленую за 5 руб. Правда, она не очень казиста, но все же лучше, чем была, да к тому же та пришла в полную негодность. Затем 152 купил себе брюки за 27 р. 50 к. для изобр[етателя] — довольно шикарные. Потом репетировал изобретателей под новую музыку и выяснил, что нужно купить зонт. Добыл государственных денег и отправился за зонтом. Купил. Когда вернулся в театр, то <шла> «Пустыня». Устал здорово. <…>
1 Мальцева Т. П. — актриса ГосТИМа.
Москва, уже 25-е
Умная девочка Кваза! Сейчас 1 час ночи. Прошел первый спектакль с моим уч[астием]. Кваз, волновался я ужасно. Прошло все как будто прилично, но не блестяще. <…> Эту неделю буду занят до конца. Завтра второй раз «Д. Е.», потом два «Ревизора» и в воскресенье опять «Д. Е.». Днем же тоже занят очень: в 11 — репетиция «Ревизора», а в 2 — урок в Гэктемасе, так что выпадет пенье, что очень жалко. <…> В немецком журнале «Ди Дамы» помещен Хлестаков и подписано: «Гарина в роли Хлестакова». Пытаюсь журнал этот достать. <…>
От Мейерхольда есть какие-то письма, но после прочтенья твоего я потерял всякий интерес к ним. Говорят, что тончик в них очень муссолиниевский (все письма пишет Райх). <…>
Москва, 25/X 28 г.
<…> Завтра «Ревизор». Утром сегодня очень тщательно прорепетировали вранье с Юр. Серг.1 и кадриль с Папкиным2, завтра — эпизоды без музыки. В канцелярии прочитал концовку какого-то действия у Сельвинского. Здорово! Всю пьесу прочитать не удается — наши главрежи маринуют ее у себя под спудом. <…>
1 Скорее всего, речь идет о Ю. С. Никольском (1895 – 1962), музыканте, сотруднике ГосТИМа.
2 Имеется в виду Паппе А. Г. (1908 – 1980), пианист, концертмейстер ГосТИМа.
Москва, 28/Х 28
Вчера отказался от репетиции и все утро сидел у японца. Он показывал приемы Кабуки. Вблизи и без грима и костюма это производит еще более сильное впечатление. Ему я подарил фотографии с наших постановок, а он мне свою карточку из пантомимы «Даммари» и надписал1. Вчера вечером был на «Ревизоре» и пришел выразить свой восторг. Сельвинский спросил у Нестерова, читал ли я пьесу? Поэтому Нестерову пришлось дать ее мне. Пьеса очень литературная, но места есть замечательные. Только вряд ли ее разрешат. Герой говорит там: «Мне мое сыпнотифозное я дороже трильонов грядущих». Стихи-то есть замечательные. Кончается лирико-трагически. Если Всеволода она заинтересует, то, несомненно, это будет 153 очень интересно. Ни в театр, никуда все это время не ходил и читал только «Игрок» Достоевского с большим интересом.
Первый «Ревизор» смотрела Татьяна. Даже ей понравилось «вранье». <…>
Письмо пишу в театре, в кабинете Самого, и там, где стоит зета, вдруг слышу: «Повар!»2 Я, конечно, сорвался и — на сцену. <…>
1 См. «Биохронику».
2 Персонаж, которого представлял Гарин в спектакле «Земля дыбом».
Москва, 29/X 28
Дорогой Квас! Сегодня получил от тебя два письма.
<…>
Насчет лиричности рассуждение твое напрасно.
В Поэте нашлись такие лирические нюансы, что вчера на спектакле меня вызывали. Вчера я очень плохо играл изобретателей и очень хорошо — Поэта. Вчера же великодушие Нестерова разрослось до гиперболических размеров. На юбилейный спектакль МХАТа1 прислали два билета, и один он отдал мне, другой — Ремизовой2. Так что сегодня я иду в МХАТ и все впечатления тебе опишу завтра. <…>
В воскр[есенье] опять был аншлаг. Все холуи из Латвии и т. п., приехавшие чествовать МХАТ, ходят к нам. Станиславскому Рейнгарт3 подарил авто. Приветствия [пришли] от Чаплина, Пикфорд, Свенсон4. Только Мейерхольд не прислал. (Театр чествовал, конечно.) Если разрешит Нестеров, пришлю тебе Сельвинского экземпляр — лежит у меня на рояле. <…>
1 29 октября 1928 г. состоялся юбилейный спектакль, посвященный 30-летию МХАТа.
2 Ремизова В. Ф. (1882 – 1951) — актриса ГосТИМа.
3 Рейнгарт (Рейнхардт; наст. фам. Гольдман) Макс (1873 – 1943) — немецкий театральный деятель, режиссер.
4 Свенсон Глория (1899(7) – 1983) — американская актриса.
Москва, 30/X 28
Дорогая Квазимода!
<…> Вчера вечером был на юбилейном спектакле МХТ. Играли 2-й акт «Царя Федора», 2-й акт «Гамлета», сцену из «Братьев Карамазовых», 1-й акт из «Трех сестер» и сцену «На колокольне» из «Бронепоезда»1. Самое сильное впечатление произвели «Три сестры». Я не ожидал, что можно Чехова смотреть с таким грандиозным напряжением. В «Трех сестрах» играл Станиславский2. Из актеров очень впечатлил Леонидов в Мите Карамазове. Москвин и Качалов не дошли. И как смешно после такой ажурной работы в «Трех сестрах» смотреть неуклюжий «Бронепоезд». <…>
Спектакль закончился в 1 [час] с лишним. Каждого актера встречали аплодисментами. Наибольшие аплодисменты 154 были по адресу Станиславского и Леонидова. Жара в театре была совершенно невыносимая. <…> У нас в театре тихо. Все режиссерское руководство развалилось, и остались Нестеров, организующий военные драмкружки, и Цетнерович с Зайчиковым, думающие об «Морокко»3, а, так сказать, руководства морального нет никакого. Впечатление таково, что ждут хозяина. Это, по-моему, скверно, ибо хозяина нужно было бы встретить уже с хозяйством с организованным, чтобы, если он начал опять дурить, чтобы можно было его осадить. Водевиль мой подвигается понемножку. Сегодня мне даже понравился первый акт, но на второй очень мало на курсе народа. <…>
Живу я по-старому, только воспалилось горло — очень орал на первых спектаклях. В сегодняшней «Правде» заметка, где упоминается, что я имел большой успех в «Д. Е.». В театре меня сняли с Каварадзаки Чьоджуро, когда будет готова карточка, пришлю тебе. <…>
1 Речь идет о спектакле «Бронепоезд 14-69» по пьесе Вс. В. Иванова.
2 К. С. Станиславский в этот вечер в последний раз выходил на сцену — он играл роль Вершинина.
3 Автора пьесы установить не удалось.
Москва, 31/X 28
<…> В театре все по-старому. Репетируют «Землю дыбом». <…> Нестеров занят подготовкой к октябрьским торжествам, сговорился с частями красноармейскими и собирается грандиозничать. <…>
Москва, 3/XI 28
Дорогой Кваз. <…> Письмо пишу в Реж<иссерской> комнате в театре. Шурка1 сейчас читал мне вырезку из «Возрожденья». Первый абзац о Мейерхольде, где сообщается, что он ищет ангажемент в Америку, но приписка Мейерхольдовой рукой, что «все это ложь». Но второй абзац очень интересен, он таков, что Станиславский подписал контракт с Леонидовым2 (в Берлине) на заграничную поездку весной 1929 года по Скандинавии, Германии и в Лондон. Репертуар: «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Горячее сердце» и одна современная пьеса. — Вот это здорово, а главное, тихо. <…> Шурка мне сейчас говорит, что Вс. пишет, что первая пьеса, которую он будет работать, будет пьеса Эрдмана3, но она, как тебе известно, не готова. <…> Завтра заседание Гэктемаса по вопросу программы преподавания сценической практики. Доклады Зайчикова и мой, а слушать придут гэктемасы и режфаки. <…>
1 Речь идет об А. Е. Нестерове.
2 Имеется в виду Л. Д. Леонидов (наст. фам. Берман; 1885 – 1983) — антрепренер.
3 Речь идет о пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца».
Москва, 4/XI 28
<…> Вчера «Д. Е.» прошло довольно помпезно, народу было — почти аншлаг. Вообще «Д. Е.» совершенно неожиданно пользуется большим успехом. Это все же показатель оскудения зрительского. «Ревизор» прошел оба раза, можно сказать, хорошо. В. Степанов1 вчера показал мне «Ди дойчте» (так у Э. Г. — А. Х.). Фотография моя очень великолепна, причем во всю страницу. Сверху маленький в шубе и очень злобный Мейерхольд, а снизу Райх с видом неважным, как будто ей поставили клистир, но запечатлена она до результата. <…> Вчера в «Д. Е.» фигурировал зонтик старый наш, но обтянутый новой материей — теперь он зеленый, шелковый и выглядит очень приятно. <…>
В театре сегодня утренник «Рычи, Китай», но до сих пор (сейчас 1 час времени) не могут начать — все говорят, Мейеру послана, очевидно, телеграмма, потому как предо мной лежит написанная латинскими буквами. [В ней] следующее: «Sobravchis Teatre varhego imeni den priniatia im chefstva nad nachim zentralnim domom, chlem plamenyi privet vogdu Teatralnogo Octiabria Komsomolzi Krasnoi Presni». <…>
1 Степанов В. Я. (1875 – 1943) — историк театра, в 20 – 30-е гг. заведовал музеем ГосТИМа.
Москва, 7/XI 28
Дорогая Хеся! Пишу тебе сегодня открытку, ибо хватился сегодня, а, оказывается, нет бумаги и конвертов. А сегодня праздник. Достать нельзя ничего. Завтра тебе напишу, как прошла первая «Земля дыбом». Зрительный зал убрали красным и лозунгом, повесили флаги и знамена. Привезли две мотоциклетки и автомобиль. Утром сегодня хотел пойти на демонстрацию. Но опоздал. Хотел догнать, но разошлись. <…> Надо сказать, собралось-то очень мало, и то больше беспартийные. <…>
Москва, 10/XI 28
<…> От Мейерхольда получено письмо. <…> Пишет, что получил пьесу Сельвинского, говорит, что нужно перерабатывать, говорит, что местами пьеса очень нравится. Он же написал письмо Эрдману. (Он, между прочим, сидел здесь — тебе передает привет. <…>) Сегодня пришел слух — не знаю, верный ли? — что «Бег» в МХАТе запретили совсем1. <…>
1 Сообщение об исключении из репертуара МХАТа пьесы М. А. Булгакова «Бег» было опубликовано в «Известиях» 30 июня. Однако с 10 октября 1928 по 25 января 1929 г. в театре велись репетиции спектакля, который так и не был осуществлен.
Москва, 11/XI
<…> Со вчерашнего дня в «Арсе» и «Колоссе» идет пудовкинская картина «Потомок Чингис-хана», которую все хвалят. Прочти, между прочим, в «Известиях» от сегодня письмо 155 Эйзенштейна и Луначарского1. В театрах все по-старому: скука. Только Вахтанговская студия объявила премьеру на послезавтра: «На крови»2. От Немировича-Данченко в театре получена бумага, где он благодарит театр от своего имени, от имени серьезно заболевшего К. С. Станиславского и театра за показ наш на юбилейном торжественном спектакле «Театры Москвы — МХАТу». В начале декабря думают возобновить «Мандат». Выходит так, что в первую половину сезона я переиграю все роли, какие у меня есть в ТИМе. <…>
1 В газете было опубликовано опровержение С. М. Эйзенштейна слухов о том, что он эмигрирует в США, и комментарий А. В. Луначарского.
2 Премьера спектакля по пьесе С. Мстиславского «На крови» в постановке Р. Симонова и П. Антокольского состоялась 13 ноября 1928 г.
Москва, 12/XI 28
<…> Пришел в театр, составил с Нестеровым расписание и распределение ролей «Горе уму»1 и пошел на «Потомка Чингисхана». Некоторые места очень хороши, просто замечательны. <…> В уборной у себя повесил плакат с Мейером — вышло вроде обои. <…>
1 На Гарина вместе с Нестеровым были возложены обязанности по восстановлению спектакля «Горе уму». Об этом он пишет в письме от 14 ноября: «Сейчас иду в театр, ибо я руковожу “Горем от ума”. И сегодня первая репетиция».
Москва, 14/XI 28
Утром сегодня переслал тебе письмо с Мейеррайховскими письмами. <…> Репетицию «Горе уму» вел вперед я, потом ушел наверх заниматься водевилем (который, кстати сказать, проявляется), а «Горе» наблюдал Нестеров.
156 Вчерашний «Ревизор» принимался очень здорово, но матерьяльно осрамился совершенно. Сбор был самый маленький за весь сезон — 500 рублей, и нужно думать, что теперь он довольно долго не будет стоять в репертуаре. <…>
Москва, 16/XI 28 г.
<…> Утром был в Гэктемасе. <…> Когда Бондаренко1 предложил мне взять второй курс, я категорически отказался: во-первых, свинство по зайчиковскому адресу, во-вторых, чисто пердагогическая (так у Э. Г. — А. Х.) работа, в-третьих, осточертеет это. <…>
1 Бондаренко Ф. П. — в 1928 г. актер вспомогательного состава ГосТИМа.
Москва, 18/XI 28
Дорогой Квис! Пишу тебе после «Горе уму». Во-первых, конструкцию упростили — выбросили из нее все железные части. Мостики и оркестр остались стоять, но на деревянных подставках.
Как уж тебе известно, репетиций хороших не было. Так, в сцене приезда Ильинский кончил тем: «Тот нищий, этот франт — приятель. Ах», — и ушел. В своей сцене за бильярдом перепутал весь текст на все 100 %. Он уезжал на эту неделю и совсем не репетировал. Я играл довольно плохо. Доволен только монологом в «Тире»1 — Хераскова2 осталась на первом плане (спиной к публике), и я совершенно замечательно его прочитал. После конца какой-то гусь меня вызывал. <…> Утро сегодняшнего дня посвятил Восточному музею и понял, что это надо делать раньше того, как ставишь3. Краски и костюмы совершенно замечательные. Композиции необычайно сложны и не симметричны, т. е. все как раз наоборот тому, что делал я. Правда, есть позднейшие миниатюры с симметрией и довольно примитивным расположением фигур, но все же досадно. Переделывать не хочется, и не поставленный второй акт поставлю по-новому. <…>
1 Место действия и название одного из эпизодов спектакля «Горе уму».
2 Хераскова (Райх) А. Н. — актриса ГосТИМа, исполнительница роли Софьи в спектакле «Горе уму».
3 Речь идет о режиссерской работе Гарина над водевилем.
Москва, 19/XI 28
<…> Не везет мне на «Горе от ума»: вчера перед вторым актом, как выключили свет, опять ссыпался очень громко. Все прибегли, кто был вокруг, но на этот раз благополучно, ушиб только колено1.
Вечером сегодня Варвара Федоровна Ремизова пригласила меня на «файф-о-клок». <…>
1 Неудобство конструкции спектакля «Горе уму» приводило к падениям и травмам актеров, участвовавших в спектакле.
Москва, 20/XI 28
Дорогой Квасан! Сегодняшний день я доволен собой, правда, еще не известно, как пройдет «Горе уму», пишу тебе в 6 часов вечера, но до 6-ти все шло очень здорово. Начну с «файф-о-клока» у Вар[вары] Феодор[овны]. Во-первых, я совсем не напился, т. е. не только не напился, но даже не был выпимши. За весь ужин выпил только три миниатюрных рюмочки барзаку, но зато здорово поужинал. Такое мое волеупорство на меня очень хорошо подействовало.
Гости там были самых необычайных направлений: гармонисты1 и Логинов2, Бенгис3 и Серебрянникова, Мальцева, Тенина4, Варвара Федоровна и ее муж, Цетнерович и Костомолоцкий5, и Мухин. Бенгис была здорово пьяна. Вечер, очевидно, продолжался до утра, но я ушел близ двух часов. Ночью прошелся великолепно. Утром сегодня был на репетиции — прямо поражен: очень здорово сладились 1-й и 3-й акты водевиля. <…>
После водевиля был у Нестерова. <…> У него же видел письмо от Мейерхольда очень обширное и как будто написанное его рукой. С содержанием не ознакомился, потому как спешил к Маргарите. Пел нынче как бог. <…> Теперь осталось хорошо сыграть Чацкого. <…>
1 Имеются в виду музыканты трио гармонистов во главе с М. Я. Макаровым — А. И. Кузнецов и Я. Ф. Попков.
2 Логинов А. В. (1877 – 1943) — актер ГосТИМа.
3 Бенгис Е. Б. — актриса ГосТИМа.
4 Тенина Р. М. — актриса ГосТИМа.
5 Костомолоцкий А. И. — актер ГосТИМа, автор дружеских шаржей.
157 Москва, 22/XI 28
<…> Вчера носился как угорелый: от Маргариты — на репетицию, потом получил посылку и соснул немного — и на спектакль. Шло «Д. Е.». <…> Изобретателей играл не больно, но Поэта — здорово. Очень этому помог Мишка, наш курьер, — он вчера был имянинник и предложил мне рюмочку спотыкача. Я выпил три и играл очень здорово, одним словом, после ухода с зонтиком [были] аплодисменты. <…> Слухи о том, что Мейе-райхи в Берлине, распущенные Херасковой, абсолютно не подтверждаются, ибо последние письма от них из Парижа получили Елена Логинова1 и Бенгис. Причем Бенгис читала в раздевалке, и я слышал только фразу о том, что они возвращаются так, как в старину помещики из столицы возвращались в свою заброшенную усадьбу. Образочки необычайно Салтычихины, но в общем явствует из всего, что они еще не скоро приедут в Москву. <…>
1 Логинова Е. В. (1902 – 1966) — актриса, режиссер.
Москва, 25/XI 28
Дорогой Квис! Утром сегодня в театре было заседание по вопросам Гэктемаса, и Нестеров дал прочитать мне письмо от Самих. Оно опять произвело на меня совершенно безнадежное впечатление. Во-первых, цитата из Есенина. Во-вторых, высокомерие необычайное. <…> И в заключении — неизвестность приезда, ибо виза у них просрочена на 3 месяца. <…> Конъюнктура театра начинает, по-моему, ухудшаться со всех сторон ввиду безжизненности всего аппарата. <…>
Москва, 26/XI 28
<…> Сегодня опять мелкий и густой дождь, ветер воет, как в Художественном театре. <…>
Утро сегодня было посвящено мною розыску нот для водевиля, но окончилось безрезультатно: теперь категорически ясно, что нот в Москве нет. <…> Был у Маргариты, пел нынче довольно ничего, после нее зашел купить нот уже для себя и купил Глинки «О поле, поле, кто тебя усеял…» и Мусоргского «Ой, честь ли то молодцу лен прясти», 2. «Окончен праздный день», 3. «В толпе ты меня не узнала». <…>
Новостей театрального порядка в Москве по-прежнему нет. Меня только интересуют две вещи: как Терентьев1 поставил оперетку «Луна-парк» и каков новый Фореггерский театр2. В кино все старье. <…>
Все читаю дневник Анненкова3, не могу до сих пор дочитать. Он интересно о Карле Марксе пишет — оказывается, злобный старик был. <…>
1 Терентьев И. Г. (1892 – 1937) — поэт, близкий к футуристам и обэриутам, театральный режиссер, руководитель Театра Дома Печати в Ленинграде.
2 Н. М. Фореггер организовал в Ленинграде труппу «Синей блузы».
3 Анненков П. В. (1813 – 1887) — литературный критик, писатель, автор «Воспоминаний». Книга в 1928 г. была выпущена издательством «Academia».
Москва, 28/XI 28
Дорогой Квас!
<…> «Ревизора» вчера играл очень здорово — давно не играл так воодушевленно. Но второй акт водевиля меня ставит прямо в тупик — очень трудно, оказывается, оперировать массами, хотя всех масс — человек 15-ть, но все же кое-что получается. Очень любопытно, что ты скажешь, когда посмотришь. Что касается дальнейшей работы, то вчера вечером после «Ревизора» читал «30 лет, или Жизнь игрока»1, она хотя очень эффектна, но ставить ее, пожалуй, нельзя. Теперь хочу просмотреть все мелодрамы Лермонтова — может, матерьялец будет поблагородней. <…>
1 Пьеса В. Дю-Ганж и М. Дино.
Москва, 29/XI 28
Мои водевильные дела очень нуждаются в совете, но ты ведь знаешь, я не доверяю никому, кроме тебя. <…>
У Маргариты начал разучивать новую замечательную вещь — арию Руслана, но трудная для меня, черт ее дери. Музыка — прямо ахнешь. Вечером сегодня хочу пойти посмотреть фореггеровское обозрение в «Дом печати».
<…> В театре все собирались встречать Мэтра. Нестеров даже предложил конкурс с премией бутылки коньяка за лучшую встречу. Я предложил два варианта. Первый — на ходулях; второй — напоить театр до невязания лык, и, кажется, мои проекты самые хорошие. <…>
158 1929
Ленинград, 22/V 29
Дорогой Квас! Первый день мой в Ленинграде выясняет очень многое.
Был у Симона Дрейдена1. Первое впечатление — это что <…> дело сделать можно и нужно.
Первое — это привлечь Симона Дрейдена заведовать литературной частью театра (соображенье это мое) Он в курсе если же будет соучастником, то расшибет голову. <…>
2) Кооперативный план, но ведь нужно это толкать, а эта жопа Лойтер сидит и воняет и воображает, что он Гордон Крэг Из беседы с Дрейденом я заключил, что если толкнуть идею в общественность — это успех гарантированный. Конъюнктура в Ленинграде великолепная.
Театру Комедии, по всей вероятности, крест. Драматический же в этом сезоне будет праздновать 10-летие и к нему нужно чрезвычайно осторожно относиться. А больше ничего и нет. Мюзик-холл стяжал скверную славу. Я даже думаю что стоит немедля сменить руководство Лойтера на нашу группу с Охлопковым. <…> пусть Охлопков выразит принципиальное согласие участвовать, чтобы можно было уже сейчас говорить о именах. <…>
Завтра в 10 у меня свидание с Пиотровским2 — он зам зав. Совкино, а зав. — Вульф. <…> Пиотровский хочет говорить со мной о работе на Ленингр[адской] фабр[ике] — так мне сказал Дрейден. <…>
Следовало бы поддерживать связь с группой Театра революции, особенно [с] Бабановой — она здесь будет котироваться очень высоко. <…>
159 Сегодня утром видел «Небоскреб»3 — совершенно замечательное искусство. «Чикаго»4 идет совсем в трущобе, но все же хочу поехать. <…>
Дорогой бузун, целую тебя и жду от тебя вестей о здоровье, самочувствии и деле. Живи сытней.
Эр.
1 Дрейден С. Д. (1906 – 1981) — театральный критик, театровед.
2 Пиотровский А. И. (1898 – 1938) — сценарист, литературовед, театровед.
3 «Небоскребы» — фильм реж. Г. Хиггина (США).
4 «Чикаго» — фильм (1927) реж. Ф. Урсона.
Ленинград, 23/V 29
Дорогой Кви! Вчера весь день бегал по разным важным лицам. Был у Пиотровского, долго с ним говорил. Он очень радушно принял. <…>
1) Речь идет о создании комической маски. Есть двухчастный сценарий, в котором предлагают главную роль; если выпуск будет удачен, то обеспечено перманентное дело. <…>
2) Предстоит разговор с Юткевичем, которого не могу поймать. Он будет скоро снимать большую картину1, как переговорю с ним — тотчас напишу. <…>
Я во второй раз смотрел «Небоскреб». Картина потрясающая. Вечером как-то с Лелькой2 смотрел в клубе на пятом экране «Чикаго». Сделано на все 100 %, но мрачности необычайной. Актеры замечательны. Манера работы совершенно новая, нами невиданная. <…>
1 Юткевич С. И. (1904 – 1985) — кинорежиссер, в это время готовился к съемкам фильма «Златые горы».
2 Имеется в виду Л. О. Арнштам (1905 – 1979) — в 1924 – 1927 гг. зав. музыкальной частью ГосТИМа, в дальнейшем — сценарист и режиссер.
Ленинград, 26/V 29
Дорогой Квас! Вчера говорил с Тимошенко1 о работе в его картине. Пока не договорились, но мне не очень хочется у него работать. Вчера же виделся с Юткевичем. <…> В Баку актером не поеду. Если им нужно2, то согласен режиссером на 1-2-3 постановки в любое время сезона. <…> Что касается Охлопкова и его мечты о создании группы, то на Ленинградской кинофабрике можно, мне кажется, договориться — уж больно здесь все сапожники. Что касается Москвина3, то говорят — он человек очень мрачный. <…> Последнее время я думаю, что из Москвы уезжать очень глупо, особенно на актерскую работу. Видела ли Николая Робертовича4? Как он?
160 <…> Я сижу у Арнштамов все время, какое свободно от киноразговоров. Был в Александринке на «Дельце»5. Довольно гнусно. <…>
1 Тимошенко С. А. (1899 – 1958) — кинорежиссер, сценарист.
2 По всей видимости, речь идет о приглашении в Бакинский Рабочий театр, где работали И. Шлепянов и актеры, ушедшие из ГосТИМа.
3 Москвин А. Н. (1901 – 1961) — кинооператор, постоянный сотрудник фэксов.
4 Речь идет о Н. Р. Эрдмане.
5 Имеется в виду спектакль «Делец» по пьесе Вальтера Газенклевера, поставленный Н. Петровым и В. Соловьевым.
Рязань, 25/VII 29
<…> Ехал поездом, ибо на пароход дают билеты только в салон. Это значит не спать 2 ночи. Выехал в 8 часов из Москвы, заснул в Раменском и проспал Рязань, причем видел чудный сон: как я ехал на паровозе верхом, а весь поезд шел прямо по целине без рельсов, влезая на необычайные кручи. Проснулся, когда поезд отходил от Рязани. Пока я собрался, он уже заворачивал под мост на Московской. Все же я выпрыгнул и около двух часов стучался в родительский дом. <…>
Рязань, 27/VII 29
<…> Все-таки хоть в Песочню, а поеду на пароходе. Единственная отрада — чистая речь. Хоть здесь немного отучусь от одессизмов. <…>
Рязань, 30/VII 29
<…> «12 стульев» Таня прислала мне в Рязань. Это очень не первоклассное произведение, не шире «Крокодила». <…>
Рязань, 31/VII 29
<…> Папа читает «12 стульев». Это книжечка в стиле развязного еврейского мальчика <…> за чаем. <…>
Москва, 29/VIII 29
<…> Приехал около 10-ти часов, полопал на вокзале и пошел пешком. Во-первых, в Москве тепло, во-вторых, довольно уютно. <…> Пошел по поводу военщины1, позвонив Юткевичу, который уехал в Крым. Достал повестку — явиться мне нужно 6-го сентября в 10-ть часов утра. <…> Да, когда шел с вокзала, выяснил, что ворота на Красную площадь не ломают, а как будто даже ремонтируют. Меня это очень обрадовало. Трамвай по Тверской от Страстной до Триумфальной убрали совсем. <…> На моей повестке довольно страшный штамп «Без льгот», так что я испугался и сел курить, чтобы осознать неповторимость моего положенья. <…>
1 Речь идет о воинском призыве.
161 Москва, 31 авг. 29
Дорогой Кваз Задры! Нынешний день принес мне шанец жить. <…> Встретил Коренева — того, что работает в Ц[ентральном] Доме Кр[асной] Армии. Он меня остановил и говорит, что хочет объясниться. Я же ему сказал, что призываюсь. Обещал откомандировать меня к Ц. Д. К. А., причем он очень желает видеть меня режиссером. <…>
Теперь дальше встречи: с Нестеровым. Его призывают. Мейер ездил к Уншлихту1, тот на просьбе об отсрочке написал: «отказать». <…> Так как сам Уншлихт отказал в просьбе самому Мейерхольду, то куда же <мне> лезть с суконным рылом в калачный ряд. Все же заинтересованность во мне Коренева, который, кстати сказать, расточал мне комплименты об Оконном2 и гибели «Мандата» без меня (он видел в Киеве «Мандат») вселяет во мне некую живость. <…>
1 Уншлихт И. С. (1879 – 1938) — партийный и государственный деятель, с 1925 по 1930 г. зам. наркомвоенмора.
2 Роль в спектакле по пьесе И. Сельвинского «Командарм-2», которую репетировал Гарин. Одним из поводов для ухода актера из театра в 1929 г. стали разногласия с Мастером по поводу трактовки роли Оконного.
Москва, 3/IX 29
Дорогой Кви! Утром сегодня был у Катаева. После длительных разговоров он дал мне свою говенную пьесу1 под мою ответственность. <…> Сам он <…> говорит с акцентом и просил предупредить режиссуру, что медведь должен говорить с украинским акцентом. <…> По слухам Багрицкий2 написал пьесу — поеду, узнаю к нему. Живет он в Кускове.
Напиши мне, как Лойтер распределил роли в «Чикаго»3. Дурак он: Рокси-то нужно играть Никритиной4. Это будет неплохо и не похоже на Филлис5.
Ну, Кви, всего. Целую. До свиданья. Эр. Г.
1 О какой пьесе В. П. Катаева идет речь, установить не удалось.
2 Багрицкий (наст. фам. Дзюбин) Э. Г. (1895 – 1934) — поэт, автор либретто «Думы про Опанаса». Возможно, речь идет об инсценировке какого-либо его произведения.
3 Возможно, имеется в виду сценическая версия одноименного кинофильма.
4 Никритина А. Б. (1900 – 1982) — актриса ленинградского БДТ.
5 Речь идет об актрисе Филлис Хэвер (1899 – 1960), исполнявшей в фильме «Чикаго» роль Рокси.
Москва, 4/IX 29
<…> Сегодня утром был у Ивана Александровича Аксенова. <…> И. Ал-ч звонил Багрицкому, и я имел высокую честь говорить с ним. Для Москвы пьеса обещана вахтанговцам. Принципиально он не имеет ничего против, но пьеса будет готова не раньше января. <…> Маяковский в Москве, но поймать его невозможно. <…>
162 <Москва, 5/IX 29>
<…> Маяковскому не могу дозвониться. «Клоп» вышел отдельным изданием и продается в магазинах. <…>
<Москва, 6/IX 29>
<…> Говорил сегодня с В. В. М[аяковс]ким. Он дает принципиально, но очень интересуется деньгами. <…>
Москва, 6/IX 29
<…> Звонил В. Маяковскому. Пьесу1 он дать соглашается и интересовался, не займусь ли режиссурой я. Записал наш ленинградский адрес и собирается быть там числа 14-го. На это дело, между прочим, неплохо было бы нажать. Очень может быть, что-нибудь и выйдет. Из соображений порядка хищническо-режиссерских хочу отменить свое решение о незаходе к Эрдману. — Собираюсь зайти — очень может быть, тоже возможен нажим. <…> Теперь хочу зайти к Фадееву и посмотреть «Разгром»2.
1 Вероятно, речь идет о «Бане».
2 Возможно, речь идет об инсценировке одноименного романа (1927) А. Фадеева, осуществленной автором совместно с М. С. Нароковым.
Москва, 6/IX 29, вечером
<…> Встретил Наталью Ивановну Серебрянникову. Она очень удручена и хочет в театр Революции, но Зубцов1 очень хамит. Порассказала атмосферку. Это просто свистопляска. Рассказала трюк, который дал Мейер Мартинсону. Во-первых, он украл его у меня в «Д. Е.», во-вторых, ни к селу, ни к городу. Рецензии в Киеве очень хвалят <…> Кельберера.
Все сознание мое последнего времени убеждает меня в глубочайшей художественной правоте нашего ухода. Теперь нужно все внимание направить на завоевание режиссуры. Сегодня вечером все же хочу скатать к Эрдману и предложить ему комбинацию только при условии моей режиссуры.
Наташа мне сказала, что на вопрос какого-[то] Некта в сером на общем собрании Гос и т. д. о пьесе Эрдмана Он заявил, что пьеса нам абсолютно не подходит. Это уже значит, что неплохо. <…> Подробно напиши, как дела в труппе, каково обо мне говорят, как Лойтер. <…>
Богопротивность и продажность московских ржецов (так у Э. Г. — А. Х.) искусства безгранична. Где же пафос строительства? Ох, елки-палки.
Да, Вася Федоров ставит «Бориса Годунова». Неужели Лойтер не будет ставить «Макбет»? Ох, елки-палки. Да, Глизер и Штраух2, по слухам, у Всеволода. Ну, Кви, очень тебя прошу позаботиться о себе. <…> Целую и жду твоего руководящего письма. Эр. Г.
1 Зубцов И. С. — режиссер-лаборант, директор ГосТИМа (в 1925 г.), затем — директор Театра Революции.
2 Глизер Ю. С. (1904 – 1968) — актриса, в ГосТИМе не работала; Штраух М. М. (1900 – 1974) — актер театра и кино, играл в ГосТИМе в 1929 – 1931 гг.
1930
11 февраля
Нина1 <…> по секрету сказала, что Мейер в будущем сезоне будет ставить «Гамлета», но просил об этом не говорить никому. <…>
Последняя новость сенсационного порядка — это уход Маяковского из Реф’а2 и вступление его в РАПП, куда потянулись все конструктивисты. <…>
Старая задрыга Москва оставила на мне, несмотря на адский холод, довольно приятное впечатление. Движение здоровенное. <…>
1 Возможно, имеется в виду одна из сотрудниц ГосТИМа: Н. Ермолаева или Н. Григорович.
2 «Революционный фронт искусств» — организация, созданная В. Маяковским после ликвидации ЛЕФа.
163 12 февраля, Рязань
Папа сегодня предлагает пойти в театр. <…> Репертуар здесь кошмарный: «Угар», «Ярость», «Рельсы гудят», «Разгром», «Разлом» и т. п.
18 февраля
Если же у Бартенева1 будешь работать, то посоветуй ему по-дружески Акимова2 не брать. Вчера с мамой мы ходили в кино на «Больные нервы»3, где художником значится Акимов. Все, что им сделано (очень возможно, что он халтурил), до такой степени противно, с претензией на высокий американизм, что хочется блевать. <…>
Насчет чего ты писала Эрдману? Что он не ответил — опять не следует огорчаться. Может, его нет в Москве, может, перед историей кокетничает, лишних писем для потомства не хочет оставить. <…> Ну, не унывай, дорогой Квазимод! Я встретил, как выходил из дома, двух баб с полными ведрами — это чудная примета.
Целую тебя. Эр.
1 Вероятно, речь идет о С. И. Бартеневе (1900 – 1966). Х. А. Локшина не принимала участия в работе над его фильмами.
2 Акимов Н. П. (1901 – 1968) — художник, театральный режиссер.
3 «Больные нервы» (Совкино, 1929) — фильм реж. Н. Галкина.
Москва, 22/II 30 г.
<…> На телеграфе встретил Беляева1 из Детского театра. Пошли в кино — опоздали, пошли в ГосТИМ. Ребята меня встретили очень тепло, расцеловались. В театре полный развал. Так что у меня отбило даже всякую охоту получать деньги. Демагогия Мэтра развилась еще больше. Оконного в поездке играть будет Мартинсон. Сегодня с Таней2 идем к Вахтангову на «Коварство»3, послезавтра с ней же — на «Горе от ума». <…> Сегодня обедать буду у Нины4. Она огорчена, что не взяли ее за границу. Лицемерие и шкурничество прикрывается у них революционной и научной фразой. Гадость страшная. <…>
1 Беляев Е. А. (1872 – 1931) — театральный деятель, в 1926 – 1927 гг. — директор ГосТИМа.
2 Герасимова Т. П., сестра Гарина.
3 Речь идет о спектакле «Коварство и любовь» по пьесе Шиллера, поставленном П. Антокольским, Б. Захавой и О. Басовым.
4 Вероятнее всего, имеется в виду Н. А. Ермолаева.
Москва, 23/II 30
<…> Я думаю выехать из Москвы 27-го из расчета посмотреть «Воскресенье» и «Дядюшкин сон»1. Вчера смотрел «Коварство и любовь». Акимов декоративно эффектен на все 100 %. Первая и некоторые картины ошеломляюще эффектны. Играют так себе за исключением Орочки2. Сегодня собираюсь в Камерный на «Оперу нищих»3. Новый Вахтанговский театр очень здорово сделан. Роскошный зал, техника безукоризненна, большие фойе. <…>
1 Речь идет о спектаклях МХАТа.
2 Орочко А. А. (1898 – 1965) — актриса Театра им. Вахтангова. В пьесе Шиллера играла роль леди Мильфорд.
3 Имеется в виду спектакль Камерного театра по пьесе Б. Брехта «Трехгрошовая опера».
164 Москва, 27/IV
<…> Хожу по солнцу, и хотя меня сегодня вызвали на репетицию, я, как допишу тебе письмо, поеду на Воробьевы горы. Там замечательно! Раз там я был в самый разгар половодья. Просидел полдня на пеньке, даже загорел. <…>
Москва, 26/V 30
<…>Таня передала мне, что мною интересуется Брик Осип1 — на какой предмет, она не знает. <…> В МХТе Хмелев ставит «Первую конную»2. Здесь все театры ставят «Первую конную»3. <…>
1 Брик О. М. (1888 – 1945) — писатель, критик, теоретик литературы.
2 Пьеса Вс. Вишневского. Н. П. Хмелев эту пьесу не ставил.
3 В Москве пьеса Вс. Вишневского была поставлена в Театре Революции (реж. А. Дикий) и в Театре Красной Армии.
Москва, 28/V 30
<…> С Бриком я договорился о пьесе для Сатиры, причем так: текст Асеева1, а сценарий Брика. Сегодня потолкую с Асеевым. До Демьяна2 сразу не дойдешь — он живет в Кремле. <…>
1 Асеев Н. Н. (1889 – 1963) — поэт.
2 Речь идет о Демьяне Бедном (наст. имя и фам. Ефим Алексеевич Придворов; 1883 – 1945).
Москва, 29/V 30 г.
<…> Охлопкова я встретил на улице, но у него был столь гордо провинциальный вид, что я не поклонился. Кстати, Сибиряка1 насильственно выслали из Берлина, он набил морду Гольдбергу2. <…>
1 Сибиряк (наст. фам. Хотинский) Н. В. (1889 – 1974) — актер ГосТИМа.
2 Гольдберг Б. И. — заведующий административно-хозяйственной частью ГосТИМа.
Москва, 1/VI 30 г.
<…> Демьяна Бедного в Москве нет, он отдыхает в Крыму, адрес его не дают и просят писать: «Москва, Кремль». <…> Получила ли ты открытку с адресом Н. Н. Асеева? <…> Писать пьесу они будут с Бриком. <…> Да, Кви, звонила ли ты Мих. Мих. Зощенке, и как он настроен? Если увидишь, передай ему привет. <…>
… Слухи о Всеволоде во всяком случае полукатастрофические. Сюда приехало девять холуев, и хотя все они молчат, но стороной доходит, что там происходили большие мордобития. Когда приедет театр и что он тут будет делать — совершенно не известно. Никто ничего не знает. Репертуара нет. Мейер и З. в Париже. Остальные в Франкфурте-на-М[айне] сидят и ждут, когда те устроят им гастроли1. <…>
1 В течение апреля, мая и первой половины июня труппа ГосТИМа гастролировала в Германии, в июне гастроли продолжились в Париже.
Москва, 3 июня
<…> Вчера видел Н. Р. Эр[дмана] — он собирается писать, но рассчитывать на него как на первого в сезоне нельзя. Переговоры с Бриком нужно вести через Н. Н. Асеева. <…>
Москва, 5/VI 30 г.
<…> Н. Р. Эрдман все хочет говорить обо мне в Б. Драматическом театре, чтобы они дали мне Подсекальникова1, но, говоря откровенно, я очень сомневаюсь, что пьеса вообще пойдет. Ильинский рвется в Париж. ГосТИМ там уже [гостит] порядочно и будто будет турнировать по Франции. Между прочим, теперь я не понимаю, уходит ли Ильинский или нет. Уж после того, как он побывает на гастролях, довольно нахально будет бросать театр в Москве. В то же время Н. Р. Эрд[ман] говорит, что Ильинский просит пьесу2 для Второго МХТ. Теперь выясняется картина с возвратившимися. Всех их, как будто за исключением Чикула3 и Кельберера, Мейер мешалкой погнал. <…>
Наркомпрос командировал Мейера и Таирова на 15 июля в Гамбург на какую-то Международную конференцию. Ильинский о тебе говорит в необычайно почтительном тоне. К Охлопкову я так и не звонил — уж больно нахальная рожа.
Вчера вечером заходил к Бабановой. Живет она в трущобе. Жильцы о ней говорят с большим почтеньем и уваженьем — очевидно, она дворовая гордость, но дома ее не застал, ибо сидит она на даче. <…>
1 Главная роль в пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца».
2 В итоге Ильинский репетировал роль Подсекальникова в постановке ГосТИМа.
3 Чикул М. А. — актер ГосТИМа.
Москва, 6/VI 30 г.
Дорогой Кви! Утром сегодня звонит Февральский и просит завтра зайти в Мюзик-холл для переговоров о работе в Т[еатре] Кр[асной] Армии — он говорит, что они решили дать мне постановку. <…>
С папой вчера ходили обедать в Парк культуры и ели рагу из хвостов. Я прямо захохотал кассирше в рожу — уж очень смешное название, но блюдо оказалось прекрасное, мы здорово наелись. <…>
Москва, 9/VI 30 г.
<…> Вчера <…> был вызван в Мюзик-холл для разговора по поводу работы в Театре Красной Армии. Свидание не состоялось, но я имел честь видеть репетицию, ведомую заслуж. арт. респ. Прозоровским1. Это нечто катастрофическое. У меня отпало всякое желание работать у них. <…>
[Демьян] Бедный отказался писать пьесу. Теперь решил разговаривать с Архангельским2 и Петровым и Ильфом. Сегодня 165 у меня свидание с Панковым в цирке. Хочу договор подписать3. <…>
Между прочим, я хочу играть. Говорил с Эрдманом. Если этот № не выйдет, то в ГосТИМе (если у него будет существовать сезон). <…>
1 Прозоровский Л. М. (1880 – 1954) — театральный режиссер.
2 Архангельский А. Г. (1889 – 1938) — поэт, пародист.
3 Э. Гарин вместе с С. Эйзенштейном держали «экзамен» перед руководством цирка и получили приглашение работать там в качестве клоунов (сообщено мне Х. А. Локшиной. — А. Х.).
Москва, 10/VI
Архангельский дал принципиальное согласие писать пьесу. <…> Сегодня виделся я с Ильфом и Петровым. Они написали либретто для Мюзик-холла, но склонны больше отдать его для театра. 13-го они приглашают меня на худсовет цирка, где будут читать. <…> Между прочим, если бы работу в Сатире я начал 5-го августа, я бы снялся хоть у Юткевича, но, конечно, не навязываясь. Поэтому интересуюсь, виделась ли ты с ним и что за разговоры были.
Сегодня М. И. Бабаниха1, вернее, Дрейден сам навязался и меня навязал на обед к ней. Придется подарить ей белую розу. <…>
Возьми в Сатире мой договор на «Ув[ажаемый] т[оварищ]»2 и бумажку, что я договор выполнил, а то нельзя стать на биржу.
1 Речь идет о М. И. Бабановой.
2 Пьеса М. М. Зощенко, которую Гарин (совместно с Х. Локшиной) ставил в Ленинградском театре Сатиры.
Москва, 11/VI
<…> Сейчас у меня спит Симка1. Вчера он навязал меня обедать к Бабановой. После пошли в МХАТ, но нас погнали мешалкой — пришлось пойти в Революцию, где видели последний акт «Истории одного убийства»2. Очень говно. <…>
1 Имеется в виду С. Д. Дрейден.
2 Пьеса М. Левидова по М. Андерсену и Хикерсону. Режиссер Л. Волков.
Москва, 12/VI
Вчера встретил Ник[олая] Роб[ертовича]. <…> Он мне рассказывал план новой пьесы1. Это очень интересно. <…> Петров и Ильф сдают свою работу вместо Мюзик-холла — Сатире, я с ними говорил еще раньше. Сегодня же заключат договор с Адуевым2, Архангельским и Асеевым-Бриком. Скажи им, сволочам, что без меня они бы дальше Типота с Гутманом3 не уехали. <…>
1 Возможно, имеется в виду пьеса «Гипнотизер», над которой работал Н. Эрдман после «Самоубийцы». В РГАЛИ сохранились наброски этой пьесы.
2 Адуев Н. А. (1895 – 1950) — писатель.
3 Типот В. Я. (1893 – 1960), Гутман Д. Г. (1884 – 1946) — режиссеры эстрады.
Москва, 13/VI
Несмотря на катастрофический заграничный провал Всеволода и месячную их голодовку, вплоть до цинги у Блажевича1, я предпочту играть в ГосТИМе. К тому же целая серия предположений позволяет надеяться, что эрдм[ановская] пьеса2, если где и будет, это в первую очередь в ТИМе, а из режиссеров все же лучше даже «общее наблюденье» мэтра, нежели Константина Тверского3.
Москва, 19/VI 30 г.
<…> Читаю Марлинского и очень доволен. Какой великолепный писатель! Например: «Смех, эта Клеопатрина жемчужина, растаял в бокалах». <…> «Там визжит угнетенная невинность или поросенок в мешке». <…> Великолепно!..
1 Во время заграничных гастролей ГосТИМа у некоторых актеров на почве хронического недоедания обнаружились признаки цинги. Блажевич В. Д. (1910 – 1971?) одно время состоял в труппе ГосТИМа.
2 Речь идет о «Самоубийце».
3 Тверской (Кузьмин-Караваев) К. К. (1890 – 1944) — режиссер, ученик Мейерхольда, одно время — главный режиссер БДТ в Ленинграде.
Москва, 21/VI 30 г.
<…> Видел твоего мэтра Сабинского картинку «Последний Бек»1 — ни единого живого места. Все гладко, как по-писаному. <…> Присутствовал на просмотре картины Райзмана «Земля жаждет»2, после которой состоялись прения, где выступали 166 Охлопков, Пудовкин и др. Впечатление от выступлений ужасающее: апломб, наглость, безграмотность. <…> Звонила ли Мих. Мих. Зощенко, и как он вообще настроен? Передай от меня привет. <…>
1 Фильм «Последний бек» (1930) был поставлен Ч. Г. Сабинским на студии «Узбеккино».
2 Фильм (1930) был выпущен студией «Востоккино».
Москва, 26/VI 30 г.
<…> В Театре Красной Армии познакомился с Алексеевой-Месхиевой1, которая почему-то очень просила поговорить с ней об искусстве. Там же видел князя Бебутова. Он стал заливала и ободрыш. <…>
1 Алексеева-Месхиева Н. В. (1897 – 1956) — актриса.
Москва, 3/VII 30 г.
<…> Вчера вечером был у Мих. Мих. Коренева. У него очень неустойчивое [положение] в ТИМе, и он предлагает вести в каком-нибудь учебном заведении курс сценической практики совместно, причем теоретическая часть будет лежать в большей степени на нем, а практическая — на мне. Мне это соображенье показалось достойным внимания, потому как с ним можно будет кое-что почерпнуть, а то ведь я все ставлю, не подкрепляя себя никакими богатствами — ни теоретическими, никакими другими. Вот, например, сейчас я с удовольствием посмотрел бы картинки или прочитал что-нибудь, но ключ от шкафа у тебя. <…>
Москва, 8/VII 30
<…> Встретил Мариенгофа1 и Никритину, причем Никритина говорила, что Монахов2 зубами вгрызся в роль Подсекальникова и ни за что не отдаст, она же выражала желание, чтобы я перешел в Д. Т. При такой постановке вопрос, по-моему, отпадает. <…>
1 Мариенгоф А. Б. (1897 – 1962) — писатель, поэт, вместе с С. Есениным, Н. Эрдманом и В. Шершеневичем входил в группу имажинистов.
2 Монахов Н. Ф. (1875 – 1936) — актер БДТ.
Москва, 20/VII 30
<…> Утром нынче заявилась Татьяна — приехала сегодня же из Рязани. <…> В Рязани все по-старому. Только завлитчастью оперетты состоит Вадим Шершеневич1 — очевидно, из-за любви к родине своего друга. <…> В Рязани Таня встретила Нину Боголюбову2 — та по простоте душевной рассказала, что поездка была сплошная унизительная мука и что Райх как-то сказала, что тебя она никогда не вспоминала добрым словом, но вот теперь поняла, что единственная по-настоящему мейерхольдовская работница — это только ты. <…>
1 Шершеневич В. Г. (1893 – 1942) — поэт.
2 Боголюбова Н. — жена Н. И. Боголюбова.
Москва, 8/VIII 30 г.
Дорогой Квазимод! Вчера появился Гершов1. Сегодня мы встретились в Парке культуры и пошли пешком домой. По дороге снялись — фото тебе посылаю. Не думай, что я так худ — это произошло оттого, что я очень загорел и румянец провалился. Снялись мы, как видно на карточке, на бульваре. Я по-прежнему утрами езжу на лодке и купаюсь. <…>
1 Гершов С. М. (1906 – 1980) — художник, автор портрета Гарина. См. его воспоминания в этой книге.
Москва, 11/VIII 30
<…> Относительно Сельвинского. <…> Сценария он не напишет, ибо в своей пьесе не может свести концы с концами. <…> Что касается всех разговоров о Пудовкине и т. п., это ерунда, ни к кому из них я кланяться не пойду. Да к тому, присутствовал на конференции по звуковому кино1 и просматривал звукокартины, после коих просмотров мне внушено полное отвращение к этому бездарному предприятию. <…>
Все это за человеческим искусством, а чтобы быть механиком — у меня нет к тому призвания. Звукоконференция произвела на меня впечатление гнусного пикника на ворованные деньги. Подлинное пошехонье. ЛАПП2 говно. Нужно для этого прочитать «Рождение героя»3. В театре они мечтают о том, чтобы звучала их гнусная литература, а посему ничего путного ждать нельзя. <…>
167 По поводу самотренировки — я себя тренирую только с внешней стороны. По-прежнему каждый день на воде. Что касается насчет шатанья, то это у меня уж должно быть на роду написано. Самое главное, что я хотел сказать тебе и всегда согласен в этом тебе помочь, это раз и навсегда бросить вождистские настроения. Это осталось от Мейера и так крепко потому, что мы были щенята, а он матерый волк. У кого можно сейчас учиться, когда все плавают как говно в проруби, и тот же Козинцев <…> хорошо говорит, но (по сообщеньям видевших) делает дерьмо сам если не на 100 %, то около.
Учиться сейчас можно только на своем самостоятельном опыте, и поэтому я тебе предлагаю подумать и работать самой, одной. С Козинцевым же только в случае, если это тебе с какой-либо стороны поможет более крепкой самоработе. Ты пишешь о какой-то системе Козинцева — ее нет, так что тратить год на уяснение несуществующей системы глупо. Семь лет мы уясняли систему Мейера — оказалось, что это блеф. Бояться безграмотности ты не имеешь права в самостоятельной работе. Я на всей конференции, где был цвет московской кинематографии, не видел грамотеев. Все сапожники. Нужно накапливать свой опыт. А при твоей организационной воле это раз плюнуть. <…>
Не знаю, вытащат ли это письмо из почтового ящика, т. к. ящик стоял в Парке культуры и отдыха, где вся культура сосредоточена в очередях за обедом — единственным приличным на всю Москву. <…>
1 Речь идет о расширенном совещании АРРК по звуковому кино, проходившем в Москве 7 – 11 августа.
2 Ленинградская ассоциация пролетарских писателей.
3 Роман Ю. Либединского, одного из лидеров РАППа.
Москва, 12/VIII 30
<…> Плучек1 рассказывал, что, встретив Утесова в Киеве, спросил о нас, причем Утесов нежно говорил о твоей лекции на последнем спектакле «Ув[ажаемый] товарищ»2. <…>
1 Плучек В. Н. (1909 – 2002) — актер, режиссер.
2 Утесов (наст. фам. Вайсбейн) Л. О. (1895 – 1982) — актер, эстрадный певец, руководитель оркестра, исполнитель главной роли в спектакле «Уважаемый товарищ» по пьесе М. Зощенко в постановке Э. Гарина и Х. Локшиной.
Москва, 14/VIII 30
Дорогой задрыга Квазимод! Сегодня получил два твоих письма. <…> Все очень хорошо, но, только как ты постигнешь систему Козинцева и будешь мочь ставить хорошие картины, ты умрешь. Согласиться работать звуковой вариант «Одной»1 (без отдыха), кстати сказать, заранее обреченный на провал, ибо он не органичен, глупо и вероломно по меньшей мере. <…> Ты упустишь лучшее время для отдыха. <…> Я считаю это последним сроком, когда имеет смысл о себе заботиться. Упустив этот срок, тебе суждено уже явное доживание, причем в условиях пятилетки в 4 года. Это очень быстро. <…>
Брось звонить Вишневскому, не следует заботиться об идиотах. Я за последнее время становлюсь матерьялистом-механистом. <…>
Вчера вечером был в цирке, где мне с большим почтением рассказывал о делах капельдинер в пенсне и приглашал вернуться. <…> Мейер не приехал и, говорят, приедет не скоро, ибо болен сердцем и печенью. <…> Рецепт тебе. Проверен на себе. Купи свежей моркови, оскобли ножом и жуй — приятно, полезно и недорого. <…>
1 На картине Г. Козинцева и Л. Трауберга «Одна» Х. Локшина работала ассистентом режиссеров.
Москва, 17/VIII 30
<…> Под секретом: МХАТ пьесу Эрдмана не взял. Он теперь отдает ее в ТИМ, но, по его сведениям, Всеволод назад не приедет. <…>
20 августа 30
Дорогой Кваз Задры!
<…> Получил также твое письмо с козинцевской фотографией. Вот она, идеология-то, оказывается. Он формалист и мистик. Снимись у уличного фотографа и пришли мне ясную и простую фотографию. <…> Моя жизнь по-прежнему течет на 50 % на Москва-реке. <…>
Видел Ник. Роб. Эрдмана. Пьесу он отдает в ТИМ, но будет ли ТИМ ставить — вот вопрос, ибо он весь на ходу в Америку. <…> Завтра с Эрдманом у нас свидание в кружке. Интересно он настроен: довольно кисло, и при том, что если его требованья не выполнят, он пьесу бросит в корзинку, такое у меня впечатленье. <…>
Москва, 24/VIII 30
Дорогой Кваз Задры!
<…> Позавчера был у Кошеверовой1, где видел Бартенева, который превратился в совершенную свинью (с виду), даже пятачок ясно вырисовывается. Он предложил мне сняться, но для этого нужно уехать на месяц, да и картина, по рассказам Кошеверовой, говно, поэтому я очень нежно отказался2. Пономарев3 усиленно зовет меня работать в Пролеткульт в качестве и актера, и режиссера, но я не собираюсь туда закабаляться. <…> Вчера по пути к купанью встретил Шурку Нестерова. Он рассказал мне о письме Мастера по поводу «Уваж[аемого] тов[арища]». Мастер хочет пьесу ставить как трагедию. Мастер сделался наивным. Эрдманская пьеса, безусловно, будет у него. <…>
1 Кошеверова Н. Н. (1902 – 1989) — режиссер. Работу в кино начинала как ассистент фэксов.
2 Речь идет о фильме «Человек из тюрьмы», выпущенном на экраны в 1931 г.
3 Сведений о нем установить не удалось.
168 Москва, 6/IX 30
Дорогой Кваз Задры! После твоего отъезда прочитал Марка Твена — мне очень понравилось. Вчера даже радийная репетиция доставила мне некоторое удовольствие. Собираюсь пойти на «Принцессу Турандот» к Вахтангову. <…> Вчера за ужином встретил Нестерова, который сообщил, что Эрдмана пьеса запрещена реперткомом. Это может быть одно из двух: либо Н. Р. ее взял, либо действительно она засыпалась. <…>
Москва, 8/IX 30
Дорогой Кваз-Задрыжка!
<…> Вчера вечером пошел к Вахтангову и смотрел «Льва Гурыча»1 со вниманьем. <…> Некоторые актеры довольно хорошо играли. Эрдманские каламбуры, на аплодисменты принимаемые публикой, до меня не дошли. <…>
Позавчера поехал к Тане в библиотеку2, и теперь у меня бездна книг: Диккенс «Лавка древностей», Плеханов «Об искусстве», сегодня весь вечер читал — очень хорошо, <…> затем «Русский быт XVIII века по воспоминаниям современников»3, да еще книги купленные — Ремарка4 я ведь так и не дочитал в Ленинграде. <…>
1 Речь идет о спектакле «Лев Гурыч Синичкин» по водевилю Д. Ленского, поставленном Р. Симоновым в 1924 г. Н. Эрдман сочинил к этой постановке куплеты. В 1930 г. им была написана дополнительная сцена к водевилю.
2 Т. П. Герасимова работала в Москве библиотекарем.
3 Имеется в виду книга «Русский быт по воспоминаниям современников. XVIII век» (ч. 1 – 2. М., «Задруга», 1914 – 1923).
4 Роман Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен» (1929) был в том же году переведен на русский язык и вышел в издательстве «Федерация» под названием «На Западе без перемен».
Москва, 15/IX 30
<…> За последнее время ощущаю, что для киноработы я не создан и поэтому постараюсь работать в театре. У Вахтангова лежат обе пьесы Мейера — и Эрдман, и Олеша1. Кстати, Эрдман в Ленинграде, неужели ты его ни разу не встретила? <…>
1 Речь идет о «Самоубийце» Н. Эрдмана и первой редакции «Списка благодеяний» Ю. Олеши.
Москва, 16/IX 30 г.
<…> Сегодня мне обещались дать эрдманскую пьесу. Я хочу прочесть с тем, чтобы либо решиться разговаривать с вахтанговцами, либо нет. Слухи о театре МейерРа (так у Гарина. — А. Х.) вздорны. Сезон у них начался вчера, и даже театр покрасили сверху и внутри. Мэтр не приехал. <…> Сегодня, может, соберусь в кино — у нас показывают хронику «Цеппелин в Москве»1. В театры меня тянет на самые залежалые вещи, как-то: «Мещанин во дворянстве», «Свадьба Кречинского», «Бедность не порок», и всё в Малый театр. Все театры Москвы работают с аншлагами. <…>
1 В письме от 11 сентября Гарин писал о том, что дирижабль «сняли в звуковом и в немом — теперь посмотрим на экране».
Москва, 18/IX 30 г.
<…> Поташинский1 мне рассказал, что Кулешов2 снял полнометражную картину в 48 часов в ударном порядке под названьем, кажется, «Прорыв»3 — это, пожалуй, и Сабинский не может. <…> Очень хочу повидать Николая Робертовича. <…> Ильинского как летуна вертают в ГосТИМ. В ГосТИМе полная анархия. Заседают все время и придумывают Мейерхольду ультиматум. Он ожидается в ближайшие дни. Кроме этих спектаклей, которые идут, не могут ничего ставить, так как «Командарм» в Берлине, а «Ревизор» в Париже4. Настроение, судя по беглым встречам в кружке, ниже среднего. Все справляются — как, не страшно ли уйти5. Жду тебя в ближайшие дни. <…> В Москве пойдем в цирк — говорят, что 10 бульдогов играют в футбол, потом две передираются и их уносят на носилках с поля. <…>
1 Поташинский (Оттен) Н. Д. (1907 – 1983) — писатель, драматург, переводчик.
2 Кулешов Л. В. (1899 – 1970) — кинорежиссер.
3 Речь идет об одночастевом агитфильме, снятом Л. Кулешовым на студии «Межрабпомфильм».
4 Речь идет о декорациях спектаклей, оставшихся после гастролей за рубежом.
5 Как известно, Гарин ушел из ГосТИМа в мае 1929 г. (см. Биохронику).
Москва, 21/IX 30 г.
<…> Очень интересный трюк, как говорят, произошел с Эрдманом. Пьесу-то он отдал к Вахтангову, а они ввиду пессимизма отказались, и теперь он, уж не знаю с какой рожей, пошел к старому мэтру. Мэтр же не приехал, но мне очень интересно, как он на это посмотрит. Очевидно, ввиду морального расстройства Ник[олай] Роб[ертович] нигде не показывается. <…>
Москва, 4/X 30 г.
<…> Вчера после блестящей репетиции на радио пошел к Мастеру в театр. Шла последняя картина «Леса». Вошел в кабинет — уборную Мэтра, меня встретила З. Р.1 каким-то возгласом, на что я ей ответил: «Какого черта вы сидите, когда уже “Лес” кончается?», тем самым выпроводил ее из кабинета. Входит Мастер. Нежное рукопожатие и разговор о зарплате. <…> Сегодня утром звонил Февральский и сообщил, что мэтр, читая экспозицию, сказал, что им приглашен артист Гарин2, после чего зрительный зал энергично рукоплескал, так что на лице новатора появилось смущение, а читал он экспозицию на расширенном худ[ожественно-]политическ[ом] совете. <…>
Вчера утром с Поташинским в 1-м Совкине <смотрели> программу звуковых фильмов пластиночно-граммофонного типа. Запись звука не посредством света, а посредством граммофонной пластинки, скомбинированной с киноаппаратом. Звучание, пожалуй, лучше, чем со свето-звуком. Показывал немец. Одна картина была французского производства — «Счастье дам» Золя3 — очень здорово сделана. Очень смешно выглядела 169 хроника — «Гомон» показывала похороны королевы Виктории шведской — прямо как костюмно-историческая пьеса.
Умоляю тебя беречься и ухаживать за собой потчательнее (это слово не удалось изобразить графически). <…>
1 З. Н. Райх в «Лесе» исполняла роль Аксиньи. Ее гримуборная находилась в кабинете Мейерхольда.
2 О возвращении Гарина в труппу ГосТИМа см. в Биохронике.
3 Имеется в виду фильм (1929) реж. Ж. Дювивье «Дамское счастье» по роману Эмиля Золя.
Москва, 5/X 30 г.
Дорогой Кваз!
<…> У меня за вчерашний день событий никаких не произошло кроме звонка Мих. Мих. Коренева с предложеньем преподавать сценическую практику в Гэктемасе. Я ему ответа решительного не дал до выяснения дел с театром. <…>
Москва, 9/X 30 г.
<…> «Мандат» пойдет 24-го, а радио 17-го в 8 часов вечера1. Может, ты послушаешь и потом напишешь. <…> Нина Ермолаева2 очень волнуется и ерепенится, так как Варвару3 будет играть З. Р. Играть мне очень хочется, должно быть, буду здорово это делать. В радио буду продолжать работу и как актер в «1905 году», и как режиссер. <…> Работа эта, вопреки ожиданию, очень любопытна. <…> Как-то на днях ходили с Поташинским на завод «Серп и Молот» — очень интересные впечатления, особенно от людей. <…>
1 См. об этом в Биохронике.
2 Ермолаева Н. А. (1902 – 1991) — актриса ГосТИМа.
3 Роль сестры Павла Гулячкина, главного героя «Мандата».
Москва, 11/X 30 г.
<…> «Мандат» репетировал два раза с большим удовольствием и запалом. <…> Во-первых, ничего не утерял, а приобрел необычайную теплоту в слове. Радио мне тоже очень много приятного приносит. Сегодня вечером на репетиции сидел Гаузнер и говорил после, что очень хорошо читал и, говорит, гораздо лучше Яхонтова. Мне бы очень хотелось, чтобы ты послушала, ибо я много жестикулирую и мимирую и боюсь, что, если это отнять, будет суховато. <…> Ни в каком случае бросать радио не хочу и буду продолжать работать. Что касается ТИМа, то пока глупостей не делал и бываю там минимальное количество времени. О тебе, Кваз, все время думаю, и думаю, что, воспитываясь для режиссуры, ты в себе воспитываешь меня и я в тебе себя. <…> Что касается проблем звукового кино, то я, конечно, не прочь сняться, но, естественно, не бросая базы, ибо я тогда теряю почву под ногами — это будет до тех пор, очевидно, пока я не оперюсь (если я когда-нибудь оперюсь). Милый Кваз, о тебе я все время помню и тебя прошу себя беречь. <…> Нужно нормировать время работы, нельзя так, без конца и без отдыха, как ты делаешь. Фэксы — это такая же сволочь, как и Всеволод (больше или меньше — это роли не играет), и должно думать о том, чтобы больше взять и содержать себя в порядке. <…>
Москва, 13/X 30 г.
<…> Версию о своем поступлении в ТИМ я рассказываю так, что встретил Мастера на улице. В театре не был довольно давно и, говоря откровенно, не тянет. Там большой скандал. Райх постановлением месткома выкинули из союза и теперь ставят вопрос о снятии ее с работы. <…> Мое пребывание там дало мне некоторую опору, и поэтому тонус жизненный у меня повышен. Боюсь, что большая любовь Мастера ко мне не позволит ему дать мне жалованье больше Зины. <…> Я очень доволен своим радио-успехом, но тут еще много приходится приспосабливаться к технике микрофона — еще есть места, когда дребезжит мембрана. <…>
Очень тебя прошу не думать по вопросам о моем вступлении в театр и разговорах вокруг этого. <…> Для меня за последние дни все это не существует, ибо кто собирается меня обсудачивать? «А судьи кто?», и т. д. Так как у тебя есть склонность придавать значенье всем Матерсоновым рассужденьям1, 170 то я и хочу тебя настроить на спокойствие, ибо мне-то хоть по той же мандатной репетиции видно свою твердость и безвозражательную уверенность.
<…> В ТИМе есть свойство, что люди, долго сидя там, либо теряют чувство удельного веса, что очень противно и ужасно для них, либо теряют веру в себя. Я же сейчас нахожусь в том блаженном состоянии, когда меня нельзя упрекнуть ни в том, ни в другом. <…>
Принципиально я не против звуко-кино работы, но то, что называется среда, для меня необходимо. ГосТИМовский навоз — это дает мне все-таки соки, и я не прочь, конечно, к этому навозу прибавить деликатесов какого-нибудь суперфосфата из ФЭКСов, но не отрываясь от навоза. <…>
Что касается всех излияний в хорошем ко мне отношении, то им не следует очень верить: почему-то меня всегда жаждут, когда я нахожусь у дел, а не наоборот.
Квазилла, я очень горжусь твоей большевистской душой. Мой приход — это явно выраженный меньшевизм, идеализм и интеллигентщина. И еще интересное явление: репетирую третий акт «Мандата», выясняется, что необычайно глупо играть кошмар или не кошмар абсолютно никому не интересных людей. Раньше было наоборот: мы стеснялись первых двух актов, как анекдотов, и жили в 3-м. Теперь как раз наоборот: анекдоты имеют право на жизнь — для смеха хотя бы, и галиматья в третьем акте звучит просто нелепицей. <…>
Репетиции в театре произвольно пропускаю. <…> Там создано такое количество комиссий, подкомиссий, штабов-бригад и просто штабов, и просто бригад, что они целиком и полностью залепили всю стену, ведущую в партер на лестнице, причем естественно, что все они между собой грызутся, ибо за наше отсутствие самолюбие «каждой отдельной единицы» дошло до размеров гиперболы. <…> Был у Степанова в музее2 и ясно почувствовал, что все в прошлом, ибо ни одну из показанных там пьес театр не в силах показать. <…>
1 Имеется в виду С. Мартинсон.
2 Степанов В. Я. (1875 – 1943) — историк театра. В 20 – 30-е гг. заведовал музеем ГосТИМа.
Москва, 14/X 30 г.
<…> Сейчас звонил Н. Р. Эрдман, спрашивал о тебе. Он через два дня едет в Ленинград и спрашивал, где ты обитаешь, чтобы зайти. Даже предложил свои услуги на перевоз тебе тяжестей, но у меня их нет. У него как будто хорошее настроение, и он верит, что Вс. поставит его пьесу. Он мне сказал, что Мейерхольд просил Сольца1 назначить комиссию по обследованию театра на предмет дачи возможностей ему работать. Что из всего этого выйдет — покажет будущее. <…>
1 Сольц А. А. (1872 – 1945) — в 1920 – 1934 гг. член Центральной Контрольной комиссии РКП (б) — ВКП (б).
Москва, 18/X 30 г.
<…> Вчера я читал по радио «Японию». Слушала ли ты? Если да, то — как ты находишь? После передачи состоялся диспут, где классифицировали мою передачу единогласно как блестящую. В одной из комнат было устроено нечто вроде зрительного зала: стояли рядами стулья и на столе громадный громкоговоритель; у стола были положены пар четырнадцать наушников, так что слушатели могли варьировать свое слушание. Во время исполнения свет в комнате гасили и сидели в темноте. Утром сегодня я уже получил комплимент за 200 верст родительский: звонил папа. Они слушали с матерью около громкоговорителя у кого-то из своих знакомых. <…>
По мере моего вхождения в театр у меня начинается все большее охлажденье. Халтура цветет на все 100 %. Обнаглела вся публика до отказу. Ничего нового не делают и грозятся возобновлением «Д. Е.». Это ужасно.
Успех мой радийный дает мне уверенность и самоуверенность, что нужно совершать переход в другое искусство. Я начинаю обнюхивать кинозвук и собираюсь предпринять там работу.
Меня очень огорчит, если ты не слушала меня, потому как ты только и понимаешь все мои ходы. <…>
Москва, 21/X 30 г.
<…> Получил очень манерное и изысканно петербургское письмо от Козинцева и подумал: может, тебе следует перевестись в Москву? Пока я ему не ответил. Сегодня собираюсь в баню. <…> В Радио Волконский1 в «1905 году» собирается привлечь Качалова, Жихареву2 и меня. Здорово.
В театре Мейер начал выходить из равновесья и вчера как встарь репетировал «Мандата» 3-й акт, только постарел здорово и одышка — побегает, а потом, как лошадь, высовывает язык. Вечером вчера Олеша и Вишневский читали свои пьесы3. Я слышал только Олешу. Мне не понравилось. Сплошь философствует истерическая баба. Ежели вообразить, [что] изображать оную будет Сама, то номеруля получится интересненький. Жалованье мне положили, как у Райх, но Всеволод в декабре клятвенно обещался прибавить. <…> Нина4 очень свирепая: ее сняли с «Мандата», и она мечет гром и молнии и следит за компанией по свержению Мейера. Я же полагаю — лучше Мейер, чем Глеков и Бондаренко5.
1 Волконский (наст. фам. Муравьев) Н. О. (1890 – 1948) — режиссер радио, Гарин называл его «крестным отцом своего радиорождения».
2 Жихарева Е. Т. (1887 – 1967) — актриса.
3 Речь идет о «Списке благодеяний» Ю. Олеши и «Последнем решительном» В. Вишневского.
4 Имеется в виду Н. Ермолаева, репетировавшая Варвару в «Мандате».
5 Глеков А. П., Бондаренко Ф. П. — актеры ГосТИМа. На 1 декабря 1930/31 производственного года из вспомогательного состава переведены в труппу в качестве «актеров 11-го положения».
171 Москва, 22/X 30 г.
Дорогой Квазимод!
<…> В Рязань собираюсь поехать после спектакля «Мандат» 27-го в ночь, ибо черт боднул каких-то идиотов восстанавливать «Д. Е.» к октябрьской революции в новом варианте (вместо «Туннеля»1 — «Пятилетка»). Вчера на вечернем заседании Худ.-полит. совета выяснилось лицо сезона, ибо приняли к постановке две пьесы: 1) Вишневский — «Последний и решительный» — пьесы-то, собственно, пока нет, но сценарий забавный, играть в ней пока не очень интересно; 2) Олеша — «Список благодеяний». Там есть несколько довольно выгодных мужских ролей.
Судя по ситуации с Ник[олаем] Роб[ертовичем], дело можно считать законченным — пока всюду запрещено. <…>
Олешина пьеса вся в разговорах, написана она совсем не в манере театра — это-то, пожалуй, и интересно, и, я думаю, Всеволод в ней окончательно завершит круг своих нововведений, вернувшись к приемам символического условного театра.
При театре непрерывно идут скандалы, отголоски коих доходят и до меня. Недавно была баня в Ц. К. Союза Рабиса2, где Всеволоду намылили здорово. Все эти встряски, по-моему, гальванизируют его, ибо он ведет себя очень энергично. И можно думать, что и постановки будут все же выше «Бани». Козинцеву на письмо еще не ответил, все не соберусь. Ты ему передай привет пока. <…> Дорогой мой Квазимод! Очень без тебя тоскую, а ты еще совсем не пишешь о своей жизни. Целую тебя и жду подробного описанья. Был ли у тебя Эрдман, и что вы с ним беседовали? Какое у тебя от этого свиданья впечатление? Как получилась «Одна»? Хорошо ли? Это меня очень интересует. Целую тебя крепко и желаю добра. До свиданья.
ЭрГ.
1 Имеется в виду роман (1913) немецкого писателя Бернхарда Келлермана, легший (наряду с «Трестом Д. Е.» И. Эренбурга) в основу пьесы «Д. Е.».
2 Речь идет о профсоюзе работников искусств.
Москва, 23/X 30 г.
<…> Нынче с 11 до 4 была генеральная репетиция «Мандата». Прошла довольно ничего, но не очень. По мне, это хорошая примета, ибо, когда генеральная проходит очень хорошо, то спектакль идет так себе. Сейчас звонила Магарилл1, но меня, как сказала Беллочка2, не было дома — перед премьерой я не разговариваю по телефону. <…>
В Олешиной пьесе я с удовольствием сыграл бы рольку. У меня почему-то предчувствие, что здесь Мейерхольд тряхнет своей стариной — уж очень необычен материал для ГосТИМа, — это, во всяком случае, интересно. В Вишневском, я боюсь, будет много ору и галдежа. <…>
1 Магарилл С. З. (1900 – 1943) — актриса кино, входила в группу ФЭКС. Работая в Ленинграде, Х. Локшина обычно жила у нее на ул. Красных Зорь.
2 Фридман Б. М. — соседка Гарина, впоследствии — ассистент режиссера на «Мосфильме», жена С. П. Урусевского.
Москва, 30/X 30 г.
<…> Теперь о нашем деле вообще. Я очень радуюсь за тебя и, прямо сказать, тобой живу. Мое сознание за период скитаний выросло необычайно, и делать то, что я делаю, что-то не очень приятно. Иногда я думаю, что мной утеряно мое социальное амплуа, иногда кажется, что утеряна непосредственность. Во всяком случае, свое ощущение проверю на новой работе, тогда можно сделать настоящий вывод. <…>
Рязань произвела на меня удручающее впечатление. Понимаешь, я все не могу никак дознаться — неужели всегда была такая чудовищная пропасть между тем, чем живут в Москве и ряде других городов, и Рязанью (Рязань, конечно, не единична). Там никому ни до чего абсолютно нет дела. <…>
Нынче <…> пошли смотреть ударные бригады гор. Москвы. Это ужасно. Теперь в ГосТИМе Зин. Райх, Свердлин1, Мартинсон, Кельберер и Горский2 устраивают монтажно-ударный халтурник. <…>
1 Свердлин Л. Н. (1901 – 1969) — актер. Учился в ГВЫТМе, с 1926 г. работал в ГосТИМе.
2 Горский А. С. — актер.
175 Москва, 2/XI 30 г.
<…> Нынче с утра до пяти была репетиция. В эпизод «Пустыня» Мастер ввел всех, кого можно: и Штрауха, и Мартинсона. Что из этого получится — неизвестно, одним словом.
Сегодня Мессерер1 ставил испанский танец так, что у меня сейчас болят все бока. После обеда ходили в МХАТ и смотрели «У врат царства»2 — очень тихий и приятный спектакль. <…>
1 Мессерер А. М. (1903 – 1992) — танцовщик, балетмейстер.
2 Пьеса К. Гамсуна была поставлена в МХТ в 1909 г. Вл. И. Немировичем-Данченко и В. В. Лужским. Спектакль был возобновлен в 1927 г. Н. Н. Литовцевой.
Москва, 3/XI 30 г.
<…> Нынче утром был на репетиции1. Очень глупо было играть трансформацию, а с Поэтом очень наломался. Мессерер ставит танец, а так как я давно не тренировался, то болят и ноги, и живот. О новых постановках нет никакой речи. <…> Мэтр ругается страшно на местком. Выжил Шульмана2 — он уходит из театра. Теперь все силы напрягает на выживку Мухина и др. Сейчас, к моему глубокому сожалению, театр отнимает у меня довольно много времени. <…> Ник[олай] Дав[идович]3 написал рецензию на мою радиоработу, и я, грешник, дал ему фотографию с рисунка Акимова — я боюсь, что из этого может произойти скандал (если напечатают) в газете «Рабочий и искусство» от 12-го числа ноября. <…> Если бы ты как-нибудь встретила бы Гершова, то скажи ему, чтобы он выслал мне фото с портрета. <…>
Очень доволен твоим здравым отношением к фэксам. Я вовсе их не собираюсь ругать, но думаю, что долго сидеть около них не следует. <…>
1 Речь идет о возобновлении спектакля «Д. Е.».
2 Шульман М. Б. — актер ГосТИМа.
3 Имеется в виду Н. Д. Поташинский (Оттен).
Москва, 5/XI 30 г.
<…> Все последние дни очень устаю физически. Так болели мускулы на ногах и животе, что не мог садиться, — все от танца в «Д. Е.», который ставит Мессерер. Я этим, между прочим, очень доволен. Потом вчера Всеволод велел в «Д. Е.» умирать, «как в Кабуки», то есть с лежания на полу перейти в мост и потом идти на руках. Это очень трудно сделать, я этого сразу не мог. Он очень огорчился. Теперь я и этот номер тренирую. Все эти физические тренажи доставляют мне некоторое удовольствие. Сегодня же поставил по-новому выход изобретателя с костылями — тоже потел эти последние дни. <…>
Поташинский живет у меня. <…> Вчера вечером читал он мне и Тане свою пьесу1, которую должен ставить на радио я. Не знаю, какое впечатление она произвела на Татьяну, но на меня очень прямо отвратительное. Эти ленинградские хлыщи умеют трепать чью-нибудь манерку, а сказать-то нечего. Остается впечатление манерности и только манерности, да еще работа с Яхонтовым сказалась на нем: вдруг ни с того, ни с сего Хлебников ввернут. В общем, ставить ее я несомненно не буду. <…>
В театрах одна канитель и мякина. Всеволод, конечно, удавил всю оппозицию, и теперь началось бегство в кусты. <…> Нового в театре ничего. Некоторые ненавидят Всеволода прямо по-звериному и странно: напр[имер] такие, как Логинов. Даже Варвара Федоровна2, эта испытанная энтузиастка, и та холодна. Театр стал совсем другой, настоящий заправский профессиональный академический. <…>
С Гэктемасом заниматься еще не начал, но если начну — у меня идея сколотить режиссерскую группу из моих бывших учеников, они энтузиасты и сами наводят меня на эту мысль — это приятно с очень многих сторон. <…>
1 Имеется в виду пьеса «Дирижабль».
2 Речь идет о В. Ф. Ремизовой.
Москва, 9/XI 30 г.
Дорогой Квазимод! Не писал тебе два дня по причине переутомления и перегрузки. Вчера, напр[имер], было два «Д. Е.», а позавчера генералка, и спектакль1, и шествие на Красную площадь. <…> Вчера публика принимала меня очень здорово — у меня ведь танец с З. Она, конечно, его очень медленно усваивала, и он выпадал из эпизода, но теперь подтянулся. Я обрел себе очень простой и эффектный костюм, и вчера были аплодисменты довольно приличные. <…>
Прочитал в «Лит. газете» исключительно похабный документ «Декларация прав поэта И. Сельвинского». Он кроет Маяковского с видом героя и стоит у станка на электрозаводе, но, кроме своей мизерной славишки, все же никакого смаку в пафосе не нашел. Жалкая фигура, прочти.
Был нынче на радио. Очевидно, скоро состоится повторение «Японии». Когда точно будет известно, сообщу тебе. <…>
1 Возобновленный спектакль получил новое название «Д. С. Е.» («Даешь Советскую Европу»).
Москва, 10/XI 30 г.
Дорогой Квасяга Задры! Сегодня я встал постаревшим на год1. <…> Дрейден прислал мне открытку, где предлагает прочитать свою статью. <…> Пишет он [о] Вишневском, о «Последнем и решительном». Пьеса неплоха для эстрадных выступлений, но что получится на сцене — ничего не известно, ибо матерьяла нет, одни ремарки, которые нельзя играть. <…> Получила ли ты и Козинцев мои письма из Рязани?
1 10 ноября — день рождения Э. Гарина.
176 Москва, 10, почти 11-е, ибо уже 1 час ночи XI – 30 г.
<…> Поташинский предлагает поехать на день в колхоз под Москву, на что я дал согласие. Интересно посмотреть, как это бывает. Интересуюсь я, получила ли ты открытку с фреской Боттичелли или на почте ее кто-нибудь сколлекционировал. Ник[олай] Дав[идович] приносил стихи Заболоцкого, ленинградского поэта, книжечку под названием «Столбцы»1 — читали ее вслух. Очень смешно, некоторые стихи мне очень понравились. <…>
1 Первая книга (1929) поэта Н. А. Заболоцкого (1903 – 1958).
Москва, 13/XI 30 г.
<…> Сегодня Мастер зачитывал экспозицию «Последнего и решительного». Говорил довольно ничего, но делать, по-моему, будет так себе, ибо срок 26-го декабря. Из пьесы можно сделать приличный спектакль, это — несомненно, но мне почему-то кажется, что это у него не ударная работа. Что там буду делать — еще не знаю. В Радио у меня состоится 17-го передача в 8 часов вечера — послушай. <…> Отношение Мастера — академическое. Мастерица держит себя очень вежливо и без фамильярностей. Позавчера они столкнулись со мной в просмотровом зале Союзкино на «Свадебном марше» Штрогейма и были, как показывали их лица, удивлены. Картина, кстати сказать, — жалкий перепев «Веселой вдовы»1.
С Мартинсоном он носится, но в «Пустыне» это мне не очень вредит, ибо он играет такую явно опереточную фигуру. Каплан2 (помнишь такого?) пришел после спектакля ко мне и говорил, что это моя лучшая роль. Правда, спектакль шел очень хорошо. <…> В Радио буду работать опять с Волконским в «1905 году» Пастернака. <…>
1 Речь идет о фильмах Эриха фон Штрогейма «Свадебный марш» (1928) и «Веселая вдова» (1925).
2 Вероятно, речь идет о Э. И. Каплане (1895 – 1961) — оперном актере, режиссере и педагоге.
Москва, 14/XI 30 г.
<…> Вчера в театре состоялось открытое собрание ячейки ВКП, где в числе вопросов стоял вопрос о принятии М. Г. Мухина в кандидаты, причем Сам и Сама выступали с гнуснейшими помойными наскоками на Мухина. Все же, несмотря на это, его приняли. Я на этом собрании не был, но рассказали мне о нем как о новой бестактности главковерхов наших. Вчера же [с] Поташинским смотрел «Баню» с Штраухом1 — играет он очень плохо. Совершенно непонятно, как его могли так хвалить. <…>
1 М. Штраух исполнял роль Победоносикова.
Москва, 16/XI 30 г.
Дорогой Кваз! Получил от фэксов и книги, и письмо. <…> Не понравились они мне страшно. Очень уж блюдут хороший советский тон. <…> На спектакль «Д. Е.» они не ходили, ибо при них я говорил Арнштаму, что контрамарок достать невозможно. <…> Все контрамарки забрал Мастер и распределял, очевидно, с целью хорошей клаки для З. Н. Утром вчера Мастер продолжил экспозицию1. Из нее теперь явствует, что в спектакле будут две группы конферанса: комический и трагический. Так вот, в комическом он собирается занять Штрауха, Зайчикова, Мартинсона и меня, да еще Маслацова2. <…>
1 Речь идет о беседе с участниками спектакля «Последний решительный».
2 Маслацов В. А. — актер ГосТИМа.
Москва, 17/XI 30 г.
<…> В театре им. [Мейерхольда], совершенно теперь очевидно, с «Последним и решительным» назревает халтура. Посмотрю еще попристальней, да надо будет тогда из этой постановки сматываться. <…>
Я для радио, а может, и для эстрады начинаю делать композицию на тему о семи столицах СССР. Когда более или менее вылупится вся штука, тогда напишу тебе подробно. Ну, «Короля джаза»1 я посмотрел наконец, за что очень признателен Траубергу, но картина-то — подлинная буржуазная сволочь, и там я, между прочим, осознал, что заверенья Мастера о том, что собирается традиции «Кабуки» насаждать в театре, показались пушкой, ибо он как раз собирается насаждать традиции западного мюзик-холла. Дорогой Кваз! Совершенно очевидно, что мы подросли настолько, что надо вылезать на самостоятельный путь. Как это делать, чтобы не сесть еще раз в калошу, об этом следует подумать, но что ничему учиться у наших мэтров нельзя — это тоже ясно, хотя можно научиться эстетской хандре. <…>
P. S. Фэксам скажи, что пустой чай был по причине полного безденежья.
1 Фильм (1930) реж. Дж. М. Андерсона с участием Бинга Кросби и джаз-оркестра П. Уайтмена.
Москва, 18/XI 30 г.
<…> В ГосТИМе сегодня состоялось очередное собрание со слезами, причем присутствовали на нем Боярский1 и Феликс Кон2, которые говорили, что будущая постановка Мейерхольда будет как бы экзаменационная. Потом начали выступать разные личности, но вскоре мне это надоело — так конца я и не дождался и пошел обедать. Как выяснилось потом, все остается по-старому, как и требовалось ожидать. <…>
1 Боярский Я. О. (1890 – 1940) — председатель ЦК РАБИСа.
2 Кон Ф. Я. (1864 – 1941) — деятель польского и русского революционного движения. В 1930 – 1931 гг. — зав. сектором искусств Наркомпроса.
177 Москва, 19/XI 30 г.
<…> Ник[олай] Дав[идович] живет у одного совкинодеятеля, который слышал «Японию» и предлагает сделать звуковую картину, причем, как он говорит, мне придется принять участие и как сценаристу-монтажеру, ибо очень многие куски — [такие,] как японский театр и пейзажи, — естественно, будут документальными. Если это осуществится, то я буду очень рад. <…>
Нынче на спектакле был Эрдман. Мельком рассказал о тебе. Говорил, что мне неоднократно звонил, но не дозванивался. <…> Папа прислал открытку — пишет, что сидит в Криуше и собирается меня слушать. <…>
Напиши мне, где лежит мой грим, а то я до сих пор гримируюсь огрызками. <…> Читаю «Гамбургский счет»1. Там насчет фэксов хорошо сказано — это насчет иронии и ума. Конечно, к ним это не на все 100 % подходит, но все же подходит. <…>
1 Книга В. Шкловского (1928). В ней в разделе «Кино» была напечатана статья «О рождении и жизни ФЭКСов».
Москва, 20/XI 30 г.
<…> Как выясняется, пока я в «Последнем и решительном» не занят. Боюсь, что займут в следующих эпизодах. Пока поставлен только один — первый. Как-то не очень, но лучше чем Н. Лойтер. В Радио дела понемногу налаживаются, и, кроме «1905 года», я собираюсь сделать еще два монтажа. <…>
Москва, 23/XI 30 г.
<…> Все последние дни я очень много занят, и завтра, т. е. даже сегодня (пишу тебе в 2 ч. ночи) — два «Мандата», утром и вечером. Нынче же (т. е. вчера, т. е. 22) с Поташинским выезжали в совхоз в Подольск. Это необычайно интересно со стороны общественной. Видели замечательные вещи, да к тому же была хорошая солнечная погода со снегом, да еще там же стоит замечательно изящная церковь, построенная в 1690 году. Мы очень здорово проветрились. Потом я согласился сниматься для фотофельетона в журнале «Рабис», так что позавчера полдня возился с фотографом и сняли всего 5 шт. фотографий, а нужно 17. <…> Сегодня как будто выяснится вопрос о кинофикации «Японии». <…> Таня <…> набрала мне книг для монтажа о 7-ми столицах — матерьял очень интересный, нужно только здорово его собрать. <…>
Москва, 25/XI 30 г.
<…> С Поташинским провели целый день. <…> Он очень ничего человек, а его любовь к манерам и форме я выбиваю. Тут как-то вечером слушали у брата Шульмана музыку — играл он Шопена, Мусоргского, Бетховена, Моцарта и Дебюсси, и Ник[олай] Дав[идович] начал петь оды последнему, за что я его изругал, на чем свет стоит — он согласился. <…> Как тебе уже писал, Филиппов предложил мне сняться для фотофельетона для «Рабиса» — я согласился и уже штук 13 снял — некоторые фото получились замечательно. Так как я принимал в их компоновке большое участие, то мне очень приятно было видеть некоторые фото. <…> Снята вся моя жизнь и даже наша комната. <…>
Монтаж, который я собираюсь делать, — под условным названием «7 столиц».
Приблизительная наметка такова: был Петербург — одна столица. Идет А. Белый, Пушкин, Мицкевич, и хотим ввернуть впечатление о России иностранцев — сюда пойдут Гамсун, Джон Рид, и узнаем, написал ли что-нибудь Бальзак, когда женился в Бердичеве. Сюда же пойдет Дюма — у него есть впечатление о Петербурге. <…>
<…> Сейчас я в театре пишу письмо. Мастер ставит пародию на «Красный мак»1. Одна формочка осталась. Все картинки с иронией устраивает. <…>
1 Балет Р. Глиэра «Красный мак» (1927) шел в Большом театре.
Москва, 26/XI 30 г.
<…> Вчера в театре влетел на роль автора Вишневского1. Роль очень так себе. Только первые слова хороши — он говорит о том, что доколе же эту дрянь будут показывать на театрах. <…>
1 Речь идет о роли Конферансье в спектакле «Последний решительный».
Москва, 28/XI 30 г.
<…> Сегодня отбатался (так у Э. Г. — А. Х.) от одной крикливой роли в «Последнем и решительном», чему несказанно рад. Вообще радости в театре немного, и я бы с гораздо большим энтузиазмом работал бы в Радио, но матерьял чрезвычайно трудно достать и просто не знаешь, кому заказать. <…>
<…> Вчера слушал, как читал Маяковского Яхонтов. Этот поэт ему не очень удается, но все же очень приятно его было послушать. <…> Мейер поставил одну первую сцену и завтра собирается ставить финал — вот бы не влипнуть. <…>
Москва, 30/XI 30 г.
<…> Гаузнеру заказал новый монтаж. Он как будто будет с удовольствием работать. Тема — «Пуанкаре», политический очерко-шарж. Это должно получиться довольно любопытно. <…> В театре вчера не был. Говорят, Вс. наворачивал какую-то бузу. Очень хорошо, что я не втяпался. Боюсь, что дальше займут — уже очень много эпизодов. <…>
Москва, 1/XII 30 г.
<…> Сейчас сижу в театре. Пока я (тьфу, не сглазить!) не занят. Все время идет стрельба в барабан. <…>
178 Москва, 3/XII 30 г.
<…> Вс. ставит «Последний решительный». Одну картину поставил хорошо. Боголюбов1 умирает семь минут, причем Сам показывал с большим искусством. Ругать за эту картину будут страшно. Картина очень по-западному поставлена, с пацифистскими тенденциями, но очень традиционно, и поэтому крепко.
1 Боголюбов Н. И. (1899 – 1980) — актер ГосТИМа с 1923 по 1937 г.
<3 декабря 1930>
В ГАХНе1 был доклад Павлова2 о творческом методе театра. Там обвинили в мистике и меня как проводника этой линии в Хлестакове и Чацком, и мне противопоставляется как диалектический актер Мартинсон в Хлестакове. Театр в целом обвиняют в механистичности (идеологической) и определяют его как театр либерально-буржуазной интеллигенции, тянущейся к пролетариату. Нынче в 7 вечера будет продолжение дискуссии. Очевидно, и Сам будет принимать участие. <…>
1 ГАХН — Государственная Академия художественных наук.
2 Павлов В. А. (1899 – 1967) — театровед, социолог.
Москва, 4/XII 30 г.
<…> Вчера с Гершовым с большим удовольствием посмотрели «Генерала»1 с Бестером Кейтоном в кино «Великий немой». <…> Портрет мой Гершов торгует в Третьяковскую галерею. <…>
Нынче получил письмо от Глаголина — он слушал радио в Курске и хвалит. На 7-е напригласили таких зубров, что даже страшно становится: Пудовкин, Ромм2 и т. п. <…>
1 Фильм (1926) реж. Б. Китона.
2 Имеется в виду А. М. Роом (1894 – 1976) — кинорежиссер. В 1923 – 1924 гг. он работал в Театре Революции, был сопостановщиком (с В. Мейерхольдом) спектакля «Озеро Люль».
Москва, 6/XII 30 г.
<…> С Гершовым были на выставке Пиросманошвилли (так у Э. Г. — А. Х.) — очень здорово. Всю ее целиком отправляют за границу. На этих днях звонил Волконский и пригласил на репетицию «1905 года». Нынче с 10-ти утра сидел в студии и слушал музыку. Вещь эта оказывается чтением на музыке, так что, прямо сказать, мне не нравится, но если мирно-нежным путем не уйду от Волконского, читать буду, ибо мне это повредить не может.
В театре Сам ставит эпизод под «Доки Нью-Йорка»1. <…>
1 Фильм (1928) реж. Дж. фон Штернберга.
Москва, 7/XII 30 г.
Дорогой Кваза! Не мог до сих пор тебе написать, ибо весь день был занят утром на репетиции. Вчера вечером Мейер дал роль матроса, того самого, о котором когда-то шла речь1. Я не отказывался. Утро все репетировал. Кое-что неплохо пошло. Да и вообще, сыграть нужно, не держась очень за роль. Считаю для себя полезным немножко потренироваться. <…>
1 Речь идет о роли матроса Ведерникова (Жана Вальжана).
Москва, 9/XII 30 г.
<…> В театре репетирую. Кое-что получается. Я заинтересовался. <…> Волконский спрашивал, что я хочу читать в «1905 годе» — я сказал, что «Морской мятеж» — это эпизод с «Потемкиным». <…>
Сейчас очень рано — встал раньше, чем надо. Но к 10-ти нужно переть в театр — Штраух, Тяпкина и я сговорились потренироваться. Роль моя простирается на 3-й эпизода и заключает в себе и комические, и трагические моменты. В уборной в театральной устроили прямо выставку плакатов — Поташинский выписал 30 штук всевозможных плакатов, и мы их для красоты развесили. С трепетом жду твоего письма о радио. Все время [когда читал радиокомпозицию] хотел сказать: «Хеся, как ты?» Но, как ты и так заметила (если слушала), что я волновался и раза три оговаривался. Между прочим, «Последним и решительным» театр будет праздновать десятилетие. <…>
Москва, 14/XII 30 г.
Дорогой Квазимод! Приехал я при довольно странных обстоятельствах: при выходе из вагона меня встретил строй пионеров, который заорал: «Гарин, Гарин!» Оказывается, подшефный ГосТИМу отряд встречал коммуниста1, но так как первым из вагона вышел я, то меня тоже приветствовали. <…> Гершов уехал и картину взял с собой. Поругался он, что ли, с Третьяковкой — не знаю. «Мандат» играл очень здорово. В конце много вызывали.
Местком просил помочь оформить встречу Нового года на Электрозаводе. Я взялся. Сегодня утром был на заводе. Из этого можно сделать довольно интересную вещь. После Электрозавода был на радио. Сговорился с Волконским о «1905 годе». Я буду читать «Морской мятеж». <…>
1 Имеется в виду В. Э. Мейерхольд.
179 Москва, 16/XII 30 г.
<…> Видел здесь «Города и годы»1 — так мне понравилось. Он2 художник все же, а не трюкач на содержании. Но конец у картины мрачный. Говорят, их было много. Играют хорошо Гетцке3 и Мичурин4, хуже Чувелев5 и Магарилл6. <…>
1 Фильм режиссера Е. В. Червякова по роману К. А. Федина.
2 Имеется в виду Червяков Е. В. (1899 – 1942) — режиссер и актер.
3 Гетцке Бернхардт (1884 – 1946) — немецкий актер.
4 Мичурин Г. М. (1897 – 1970) — актер.
5 Чувелев И. П. (1904 – 1942) — актер.
6 Б. Гетцке исполнял в фильме роль майора фон Шенау, Г. Мичурин — инженера Курта, И. Чувелев — художника Старцева, С. Магарилл — Мари Урбах.
Москва, 17/XII 30 г.
<…> В Радио начал репетировать, но весь антураж настолько убийственный, что я еще не решил окончательно, делать это или нет — стихи на музыке ломаются, и им навязывают совершенно не свойственные стихам ритмы. Что касается премьеры «Последний и решительный», то она, судя по всем данным, будет не раньше 10-го января. <…>
Москва, 20/XII 30 г.
<…> Из Германии возвращаются две постановки — «Рычи, Китай» и «Командарм». Как я полагаю, принимать в них участие я не буду. «Последний и решительный» репетироваться стал — через пень колода. Очевидно, пойдет еще не скоро. <…>
Москва, 23/XII 30 г.
Утром был на репетиции «Последнего, решительного», причем репетировали без Мастера, был только Вишневский. Он мне сказал, что та наметка, которая у меня имеется, правильная; тут же приписал несколько реплик. Реплики совершенно замечательные. <…>
Москва, 24/XII 30 г.
<…> Вишневский дал мне сегодня монолог, тот, о котором говорил в Ленинграде. Монолог замечательный. Вообще мне он очень нравится. Всеволод все куда-то бегает, как будто его греют за Париж. Работает не очень интенсивно. Все же, как мне кажется, это будет самая интересная постановка за 3 последние года. Шебалин1 написал музыку гораздо хуже, чем была, а была — Скрябина. <…> На радио завтра собираюсь говорить о самостоятельной вещи. Подробности напишу завтра. Целую тебя крепко.
Приезжай, мой усталый задрыжка Кви.
Целую. ЭрГ
1 Шебалин В. Я. (1902 – 1963) — композитор.
Москва, 26/XII 30 г.
Дорогой мой деувка Кваз! Нынче встал в 8 часов утра с тем, чтобы пойти смотреть какую-то заграничную картину — но просмотр не состоялся.
Репетиция шла нынче хорошо — очень многие места пошли. Как говорят, на роль моего партнера вместо Штрауха назначают Ильинского. Здесь возможны бенефисные эксцессы, но пока я укрепил себя довольно выгодно, следует это только все обработать. Вс. мне поставил очень хороший выход. Вишневский талантлив до черта и очень приятен и прост. Тяпа1 заболела и начала репетировать мадам2, но мадам бывает редко, и Вс. занимается с нами. На радио работать продолжаю. 7-го состоится передача, только я тебя прошу не слушать — послушай лучше «Японию».
На Электрозаводе продолжаем встречу готовить3. Выдумался один трюк — мне он очень нравится. Перед выходом лодырей, рвачей и прогульщиков через весь зал Колонного дома Союзов свинья (живая, дуровская) расстилает ковер, потом выходит на сцену, раскланивается и бьет в гонг, после выходят все вышенаписанные группы. <…>
Елена Львовна4 очень предупредительна: у меня сломался будильник, я его отдал чинить и на двери своей вывешиваю объявления такого содержания: «Стоп, вниманье! Кто идет в уборную, разбудите меня в 8 часов». <…> Е. Львовна очень волнуется, когда объявленья нет. <…>
Квазимиллушка, целую тебя очень крепко и хочу видеть в Москве. Целую. До свиданья. ЭрГ.
1 Речь идет о Е. А. Тяпкиной.
2 Имеется в виду З. Н. Райх.
3 Речь идет о встрече Нового года.
4 Соседка Гарина по квартире.
Москва, 28/XII 30
<…> В ГосТИМе следующее. Штрауха сняли, и роль моего партнера играет Игорь1, но так как он поставил себя богом, то ему переписал Вишневский весь эпизод, так что роль Жан-Вальжана, т. е. моя, получилась больше, чем куцая. В таком виде я ее, конечно, играть не буду, и сегодня на репетиции во время «Д. Е.» было следующее. После выхода Ильинского, когда стало очевидно, что этот, т. е. Жан-Вальжан, ничего не делает, Всеволод подбегает, чтобы показать, как мне открыть бутылки. Я ему заявил, что иду гримироваться на «Пустыню», и ушел. После «Пустыни» ко мне прислали помрежа, я нарочно разгримировывался час и, придя на репетицию, даже не занял своего положения на сцене. Как это дело будет течь дальше, буду тебе постепенно описывать, но очень прошу не волноваться этим вопросом, так как я смотрю на всю эту процедуру чрезвычайно хладнокровно. <…>
Нынче был с Эрдманом в радио, он там хочет работать. По дороге зашли в «Academi»ю, и он мне подарил книгу Толстого2 с надписью. Когда приедешь, то я тебе покажу.
180 Штрауха послали мешалкой. Теперь будут Игорю делать бенефис. Предстоят дни, полные дипломатий. Целую тебя крепко и жду. ЭрГ.
1 Речь идет о роли матроса Самушкина (Анатоля-Эдуарда), которую в первых спектаклях исполнял И. Ильинский.
2 Роман А. Н. Толстого «Петр Первый» с надписью: «В день общего огорчения».
Москва, 29/XII 30
Дорогой Квасяга! <…> Что касается моих взаимоотношений с мэтром, то они колеблются в зависимости от его и моего настроения. Вообще же признаков явной склоки ни с его, ни с моей стороны не наблюдается. Как я тебе писал во вчерашнем письме, теперь вопрос о «Последнем, решительном» встает в связи с Ильинским. Нынче я решил на репетицию не ходить и проспал до 2-х часов. Приехал к 2 с половиной, и, как оказалось, репетиция и не начиналась по причине болезни премьера. К нему на квартиру поехал Вишневский, очевидно, его уговаривать. Этот морячок довольно упрямый и хочет пьесу свою обставить звездами. Не знаю, что из этого всего будет. <…>
Квазочка! Поздравляю тебя с Новым годом и надеюсь, что этот год будет хорошим. Целую тебя крепко и жду. <…>
1931
Москва, 1/I 31 г.
Дорогой Кваз! Сейчас 4 часа ночи, только что ушел Плучек. Папе мы читали Маяковского. В общем, вечер под новый год прошел очень хорошо. Спектакль Электрозавода прошел с большим политическо-художественным успехом. <…>
Дорогой Квазимод! Теперь я жду тебя уже скоро. Надеюсь, что свою лаборантскую работу1 забросишь к чертовой матери и будешь вести самостоятельную художественную жизнь.
В ГосТИМе перемена: назначен директор, и на сей раз с самостоятельной физиогномией — некто Беляловский.
Что касается «Последнего и решительного», то Ильинский все продолжает болеть, и уже опять вызвали на репетицию Штрауха. <…>
Что же касается того, буду ли читать в «1905 году» — не знаю, что-то очень не хочется. Говно получается не у меня, а вообще (у меня, конечно, тоже).
Целую тебя крепко, жду.
До свиданья. ЭрГ.
1 Х. Локшина числилась в ГосТИМе режиссером-лаборантом.
181 Москва, 2/I 31 г.
Дорогой Квасиша!
<…> В «Последнем решительном» каждый день приносит решительные перемены, и Вишневский здорово просчитается, написав такой колоссальный монолог Игорю: он болен, и чувствуется, что выздоровеет только после премьеры. Как мне кажется, Штрауху эту роль не поднять. Маремазель Райх от Кармен отказывается, и Тяпкину вызывают на репетицию. Это все, конечно, может быть тактика, но, во всяком случае, что-то будет. Премьера пока что не может пойти до 23-го, ибо уже вывешен репертуар. Моя интуиция почему-то очень ободряет меня с этим спектаклем. Посмотрим. Папулю водил сегодня полюбоваться искусствишком. Смотрел он «Выстрел»1, досидел до конца, но как будто не очень остался доволен. <…> Вчера сидела у нас Таня — читали стихи, дошли даже до Есенина, но забирались до Пастернака. Рабле заказан в 2-х местах, так что где-нибудь укуплю2. Присмотрел «Литературные салоны в XIX веке»3 — любопытно. <…>
Мих. Мих. Коренев сказал, что по городу расклеены афиши РВ. 2: «Слушайте! Слушайте! 1905 год с уч[астием]» и т. д., и у афиши стоял сам засл. реж. Волконский. <…>
1 Пьеса А. Безыменского. Спектакль ГосТИМа был поставлен в 1929 г.
2 Гарин собирался ставить на радио «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле.
3 Речь идет о книге «Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX века» (М.-Л., «Academia», 1930).
Москва, 4/I 31 г.
<…> Пошел смотреть «Сегодня» Шубову1 — мне понравились уж очень у ней некоторые монтажные переходы. С «Последним решительным» положение все не выясняется. Нынче пришла Тяпкина, но репетировали сонно, ибо у нашего трио самое хорошее настроение, так и у меня. Максим2 только ходит по мизансценам и вообще чувствует себя висячим. Приблизительно так же чувствует [себя] и Тяпа. Завтра должна быть капитальная репетиция, после которой я тебе опишу все нюансы. Ильинский все болен и сегодня отказался играть «Клопа»3.
1 Фильм режиссера Э. Шуб.
2 Имеется в виду М. Штраух.
3 И. Ильинский играл в «Клопе» роль Присыпкина.
Москва, 6/I 31
Дорогой Кваза! Мои надежды на вчерашнюю репетицию не оправдались — она прошла так же буднично, как прошлые, и ничего не определила.
Вчера ходил на просмотр картины «Соль Сванетии»1 — картина очень хорошая. Встретился там с Виктором Алексеевичем Шестаковым — он предложил мне сниматься в своей новой картине2 — я принципиально согласился, но выразил желанье прочитать сценарий и вообще ознакомиться с планом постановки. <…> Сейчас же пишу из театра, в зрительном зале идет такая пальба, что просто ахнешь. В театре появился новый директор, который грозится ремонтировать капитально весь театр.
Собираются возобновлять «Р[ычи], Китай» и «Командарм», но все это, конечно, после премьеры, которая будет не раньше 25-го января. <…>
Дома читаю подаренную Ник[олаем] Роб[ертовичем] книгу «Петр Первый» — мне очень нравится. Сегодня мне должны дать ответ о «Пантагрюэле». <…>
В Радио с «905 годом» выступать не буду, и Качалов отказался, но послушаю.
Дорогой Кви, целую тебя и жду. Папа тебе кланяется. Всей семьей собираемся идти на «Воскресенье»3.
ЭрГ
1 Фильм (1930) режиссера М. Калатозова.
2 Речь идет о фильме «Токарь Алексеев». Гарин в этом фильме не снимался.
3 Имеется в виду спектакль МХАТа по роману Льва Толстого (постановка В. И. Немировича-Данченко; премьера — 30 января 1930 г.).
182 Москва, 6/I 31 г.
Сегодня на репетиции Мэтр сделал мне довольно приличный кусок, причем, как говорят в публике, кусок со слезой, такой «комсомол-неврастеник». Завтра на 11 часов назначена закрытая репетиция, вызываются и Штраух, и Ильинский, и Райх, и Тяпкина. Я один без дубля. <…>
Видел нынче Ильинского, он говорит, что будет играть. Мэтр мне переделал и первую сцену, и я не могу пожаловаться, что это стало хуже, пожалуй, даже лучше.
Как говорят, по вечерам у него на дому идет работа над Алешой1 (так у Э. Г. — А. Х.), там уже роли распределяют и т. п., и будто бы роль Татаринова предложили Игорю — он, конечно, отказался. Если меня не займут, то я не горюю ни в какой степени — подработаю в какой-нибудь другой области, как радио или кино. <…>
1 Имеется в виду пьеса Ю. Олеши «Список благодеяний».
Москва, 8/I 31 г.
<…> Очень хочу, чтобы 11-го в 8 часов вечера ты послушала «Японию» — как будто это будет последний раз. <…> Не пропускай, очень интересуюсь, как тебе это понравится. Мне повезло, что отказался читать в «905-м годе». Вчера состоялась, так сказать, премьера. После был диспут, причем очень ругался Пастернак, ему очень не понравилось. Качалов тоже не участвовал. <…>
Москва, 9/I 31 г.
<…> Нынче же купил очень хорошую книгу: Генрих Вельфлин, «Основные понятия истории искусств — проблема эволюции стиля в новом искусстве». <…> Издана она Academia’ей и очень роскошно, с прекрасными иллюстрациями. В Гостеатре сегодня была первая репетиция с оркестром, но репетировали только два эпизода на сцене, в которых я не занят. Смотрел — что-то непонятно, но стреляют много. <…> Я до сих пор увлечен «Петром Первым», читаю каждый вечер. <…>
Оформление «Последнего и решительного» мне не нравится и совсем не похоже на все, что было в театре. И вина Вс., ибо Вахтангов1, как выяснилось, совсем безынициативный художник. Нестеров тянет меня преподавать в цирковой техникум, что-то не хочется. Квазила, от тебя давно нет писем. Пиши мне, как живешь и как постигаешь монтаж2. Интересно ли это? Удается ли тебе?
1 Вахтангов С. Е. (1907 – 1987) — архитектор, сын Е. Б. Вахтангова, позднее автор проекта нового здания ГосТИМа (совместно с М. Бархиным и Вс. Мейерхольдом).
2 На Х. Локшину фэксами были возложены функции ассистента по монтажу.
Москва, 11/I 31
Дорогой мой Квазимод!
<…> Два последние дня не писал, так как был все время занят на репетициях и утром, и вечером, во время «Лесов»: в театре-то все время «Лес» идет, и репетируем на галерке в зале. Сцена получилась довольно приличная. Сейчас пришел с радио — у меня сидит Таня, папы все нет. Мы вскипятили [воды] при помощи электричества (аппарат купил папа), я купил чудного черного хлеба и у спекулянтши за 50 коп. роскошную белую булку. Попили чайку, подошел папа. Он 183 меня слушал, мой радиоконцерт. Я все время думал, слушала ли ты сегодня? Как будто сегодня передача была неплохая, хотя случилась авария со вторым микрофоном — он во время второй части сломался, и вся вторая часть шла на одном микрофоне. <…>
Последние дни спал очень мало, ибо был до чрезвычайности увлечен романом А. Толстого «Петр Первый» — теперь прочел до конца, и мне очень понравилось. Теперь принялся за твою рожденную книгу — Г. Вельфлина1. <…>
1 Книга была куплена в качестве подарка к дню рождения Х. А. Локшиной (17 декабря).
Москва, 12/I 31 г.
<…> Нынче читали новый эпизод, который прислал Вишневский. Я и Мейеру посоветовал заткнуть фонтан этому автору, каждая новая вставка все хуже и хуже, просто тошно слушать, да как будто и Вс. надоело ставить. <…>
Москва, 14/I 31 г.
<…> В ГосТИМе пьесу все выдерживают, хотя надо было ее выпустить две недели назад. Репетиции — сплошной разврат: Мастер сплошь и рядом не приходит, и ведет Козиков. Может ли быть что-нибудь более гнусное? Цетнерович рядом кажется гигантом. Этот идиот Вишневский присылает все новые и новые сцены, и, как всякие поправки, сцены эти намного слабей того, что было, но Мэтр их вставляет — откуда-то появилась такая исключительная бережливость к авторскому тексту. Жаргон, на котором говорят персонажи, слушать уже невозможно. До сих пор не могу выбрать время проветриться на лыжах. Вчера вечером дошел до того, что в очереди в 1-й Союзкинотеатр на процесс промпартии1 простоял час и так и не попал. <…> Завтра Мастер ведет беседу о пьесе «Решительный», и я после пойду искать Рабле. Между прочим, книга Вельфлина очень хороша. <…>
1 Речь идет о документальном фильме «Процесс Промпартии» (1930).
Москва, 16/I 31
<…> Нынче была первая прогоночная репетиция. Некоторые места у меня пошли довольно хорошо. <…>
У Горького вычитал совершенно замечательные строки о людях наедине с собой. Он застал Толстого в солнечный день стоящим над ящерицей, и тот всерьез спрашивал ее: «Ну что, хорошо тебе?» И через некоторую паузу: «А мне не хорошо!» И там очень любопытные, прямо для сцены ситуации. Это «Заметки из дневника». <…>
Москва, 17/I 31 г.
<…> Я очень обрадован твоим письмом и сегодня репетировал хорошо. Первый раз в эпизоде «В порту» играл оркестр музыку Шебалина. Музыка изумительная. Мэтр на ней разошелся и дал несколько приятных mise en scène. Елена Алексеевна1 панике, так как после вчерашней прогонной репетиции З. Р. захотела опять играть «Кармен» и сообщила об этом Е. А., но сказала, что будет с ней в очередь. Та, конечно, в панику, <…> так что пришлось ее долго успокаивать. Игорек опять изволили заболеть, хотя вчера халтурили. Так что понять ансамбля, в котором мне приходится играть, невозможно. Все же я значительно похамел и импровизационно присваиваю себе слова и игришку. <…>
1 Имеется в виду Е. А. Тяпкина.
Москва, 22/I 31 г.
<…> Как-то на днях ужинал у Цетнеровича с водкой. Он очень печален и иногда даже возражает Мейерхольду. Спектакль, несмотря на Вишневского, получается очень приличный (как мне кажется). <…> За этот период времени как будто совсем выбыли из пьесы Игорь и Тяпа. Последняя хоть и сидит на репетициях, но только скулит. <…>
184 Москва, 24/I 31 г.
<…> Вчера посмотрел прогоночную репетицию, и что-то мне не понравилось, то ли объясняется усталостью, то ли уж потеряли всякие критерии, но настроился я мрачно. Тяпочкина меня все уговаривала повеселеть и рассказывала неприличные анекдоты.
<…> Нынче наконец пришел гений, но репетировал вполголоса. Всеволод около него увивался до противности, даже о Зине забыл, как будто ее не существует: показывал, бегал, а Игорь повторял, как бы делал одолжение. <…> Купил Шкловского «Турксиб» и «Материал и стиль в романе Толстого “Война и мир”»1. <…>
1 Речь идет об очерках «Турксиб» (М.-Л., 1930) и книге «Матерьял и стиль в романе Льва Толстого “Война и мир”» (М., «Федерация», <1928>).
Москва, 25/I 31
<…> Четыре спектакля отменяются для выборов в Моссовет. От нас выдвинули человека, о котором немцы, не зная русского языка, написали необычайно меткую рецензию — что актер, играющий Несчастливцева1, не постарался даже прикрыть свой идиотизм. Я голосовал против.
1 Имеется в виду М. Г. Мухин.
Москва, 26/I 31
<…> Утром завтра первая генеральная репетиция при авторе. <…> Грозятся, что параллельную с Вс. работу поведет Нестеров. Очевидно, Мастер нашел наконец работничка, который не угрожает конкуренцией. <…>
Москва, 28/I 31
Дорогая Кваза! Утром нынче состоялась генеральная репетиция. Прошла как будто ничего, но без публики, так что черт его разберет, как это все получится. С Вишневским Мастера облепило все еврейское бонтонное общество: тут и Вишневецкая1, тут и Нюма2, и еще какие-то холуи, которых я не знаю. <…>
Был нынче вечером на Рапповском совещании театральном — это полный сумбур. <…> Выступали все, кроме нашего Мэтра. Мэтр же ограничился очень маленьким выступлением. После «Последнего решительного» будут готовиться сразу две пьесы. Избави Бог, попадешь к Нестерову. Я, должно быть, не выдержу такого издевательства. <…>
Жду тебя с нетерпением и буду выхаживать, чтобы привести в приличный вид и состояние. Книжиц накопилось, помимо присланных тобой, обильное количество, так что ты, сытая, будешь лежа почитывать и поплевывать. <…>
1 Вишневецкая С. Г. (1899 – 1962) — театральный художник, жена В. В. Вишневского.
2 Имеется в виду Н. Б. Лойтер.
Москва, 30/I 31
<…> Нынче утром была репетиция и беседа с Мастером и Вишневским. Все это было не очень интересно. Вишневский же рассказал идею новой своей пьесы, она мне очень понравилась. Он хочет взять по принципу Ремарка семь человек и провести их по войне, и империалистической, и гражданской. Роли хочет писать прямо на живых людей и просит помочь, написав ему письмо о том, кому я (и каждый из семи) сочувствую в книгах Ремарка, Дос Пассоса и Барбюса и трех каких-то русских, неизвестных мне авторов. Занять он предполагает Ильинского, Зайчикова, Боголюбова, Мартинсона и меня и еще кого-то, кого я не знаю и он сам, судя по рассказу, еще не знает. Идея, во всяком случае, очень интересная.
Позавчера прошедшая первая генеральная репетиция показала как будто, что спектакль слажен, во всяком случае, он собран более или менее и совсем не напоминает премьер «Горя от ума», «Клопа» или «Окна в деревню»1.
Холодино стоит в Москве страшный и, главное, ветер в сторону окна, так что все тепло выдувает. Сейчас сижу в шубе и пишу тебе — несмотря на то, что окно завешено одеялом, все же холодно. Купил книжечку Тынянова «Подпоручик Киже», очень изящно изданную, а читаю Шкловского о толстовской «Войне и мире». Живу в общем тоскливо, и холода на меня нагоняют совсем мрак. <…>
1 «Окно в деревню» — обозрение (текст Р. Акульшина), коллективно поставленное под руководством В. Э. Мейерхольда (премьера — 8 ноября 1927 г.).
Москва, 5/II 31
<…> Вчера был просмотр. Было довольно много публики. <…> После просмотра была дискуссия реперткома. Пьеса встретила оживленные прения, причем вся военная часть критиковавших высказывалась круто против. Некоторые доходили до требования снятия ее с репертуара. Завтра в 12 дня очень торжественный просмотр и, несомненно, снова обсуждения. Пьеса, как теперь выясняется, говно. <…>
185 Москва, 8/II 31
<…> Вчера состоялась официальная премьера. <…> Генералка прошла с грандиозным скандалом. Во время эпизода «У Кармен», когда красные моряки пьянствуют и занимаются развратом, из публики стали доноситься слова «Долой! Позор Мейерхольду!». Мейерхольд находился в публике и отвечал. Начался полный скандал. Сцену мы доиграли. А потом скандаливших вывели. Вчера же премьера прошла с большим подъемом и успехом.
<…> Все же Вишневский как драматург разоблачен. Все отзываются о пьесе как об очень слабой. <…> У меня роль получилась прилично, но не из ряда вон выходящая.
<…> За все последние дни атмосфера в театре была чрезвычайно напряженная. Штраух подал заявление об уходе — с ним предстоят еще разные разговоры. Башкатов и Краликовский1 были публично изруганы Мастером. Но после вчерашнего успеха все как будто сглаживается. Генералки играла Тяпкина, а вчера — Райх, и так как спектакль уже слажен, а она в него пошла после, то вела себя скромно.
За этот период, что я тебе не писал, над спектаклем производили столько переделок, что учету никакому не поддается. Утром поставят новую сцену, а вечером ее играют. Вишневский на 7-м небе. Этот вьюнош <…> явно потерял чувство реального. Аплодируют-то явно не ему, а он вылезает кланяться. Упорные слухи идут о том, что Нюма приглашается работать в филиале. <…> В общем, «Поосери!» — так я по-японски научил говорить Тяпкину, и она говорит. <…>
1 Башкатов К. А., Краликовский М. И. — актеры ГосТИМа.
12/II 31
Дорогая Квазочка!
<…> Вчера, 11-го, состоялся спектакль для прессы. Как мне кажется, и судя по приему и отзывам, у меня было здорово. <…>
Сейчас я сижу, закрывшись в комнатушке Гэктемаса у Мих. Мих.1 Только отыграл свою роль в «Посл[еднем решительном]», но из зала доносятся выстрелы2 — идет последний акт. После спектакля будет репетиция для ввода Макса Штрауха3, а потом вечерний спектакль. На утреннем сидит человек 200 — весь бельэтаж и галерка пустые. РАПП будет выступать против. Охлопкову спектакль не понравился.
С папой ведем длинные беседы о театре. С театральными людьми знакомства не вожу. <…>
1 Имеется в виду М. М. Коренев, курировавший работу ГЭКТЕМАСа.
2 По поводу пулеметной стрельбы в финале спектакля некоторые критики иронизировали, предлагая заменить пулемет на гаубицу.
3 М. Штраух вводился на роль Самушкина (Анатоля-Эдуарда), которую репетировал И. Ильинский.
Москва, 14/II 31 г.
<…> Театр последние 4-5 недель отрывал у меня слишком много времени. Так что, сыграв позавчера 2 спектакля (а вчера — репетиция и спектакль), — нынче утром была температура 36,2. <…>
Послал тебе афишу, программу и фото. В театре у меня были большие неприятности. Всеволод написал мне письмо. Я его читал тайно, но официально оно до меня не дошло — он его вернул. Все же содержание его я знаю — оно очень хамское и клеветническое. Он обвинил [меня в том], что я играл в нетрезвом виде, что, конечно, было клеветой, ибо и Серебрянникова, с которой я сижу очень близко, ничего подобного не видела. Ну, официально письма я этого не видел, поэтому молчу. Сейчас он заболел, и в театре спокойно. Как выяснилось потом, в день написания письма был скандал с Ильинским. Он всех администраторов и худ[ожественное] рук[оводство] послал к матери, отказавшись играть по два спектакля. Очевидно, злоба изливалась на меня. Но моя чудная заповедь — японское изреченье «Поосери!» Поэтому меня это не огорчает. <…>
Москва, 17/II 31
Дорогой Квазан! Сидим с папой дома в польтах, прямо как на Маточкином Шаре. Ветер-сволочь выдувает все тепло. Чувствую я себя хорошо. Во-первых, оттого что за четыре дня лежки отдохнул, во-вторых, что меня заменили, в-третьих, что спектакль с заменой завалился. <…> Лежа, очень много читал. Между прочим прочитал Замятина «Наводнение». Таня мне сказала, что в «Новом мире» в книге первой напечатано хорошее стихотворение Пастернака «На смерть поэта» с явным намеком на В. В.1 Она его читала наизусть. Я же, когда пойду, куплю эту книгу. <…>
Как мне сказал Ник. Давыд.2, Всеволод для постановки пригласил Грипича3. В театре же, судя по навещавшим меня ученикам, этого не знают. Там идет длительное производственное совещание. <…>
1 Стихотворение Пастернака написано на смерть Маяковского.
2 Речь идет о Н. Д. Поташинском (Оттене).
3 Грипич А. Л. (1891 – 1983) — ученик Студии Мейерхольда в 1913 – 1915 гг.; в 1924 – 1930 гг. — главный режиссер Театра Революции.
Москва, 17/II 31 г.
<…> Для радио изобрел тему «Дирижаблестроение». Буду работать с Ник. Дав. Матерьялом возьмем Жюль Верна, былины и к концу — современный научный матерьял. <…> Далее, мне предложили ставить в Сатире пьесу «Класс» Арбузова1. Хочу взяться, предварительно с тобой посоветовавшись. Ты никому не говори, а мне напиши, как ты по этому вопросу думаешь. <…>
1 Арбузов А. Н. (1908 – 1986) — драматург.
186 Москва, 18/II 31
<…> Сейчас пришел из театра — в первый раз смотрел спектакль, нынче не играл. Что-то мне не очень понравилось, и выяснилось с еще большей очевидностью, что автор чистой воды говно. <…>
Нынче заключили предварительный договор с Радио на написание радиокомпозиции «Дирижабль». <…>
Москва, 24/II 31
<…> Шостаковичу очень не понравился спектакль, говорит, давно он такого говна не видел. Кстати, когда он смотрел, я не играл. <…>
Москва, 27/II 31
<…> Видел в Московском ТРАМе очень хороший спектакль «Тревога» и потом слушал Яхонтова композицию «Петербург»1 и концерт Оборина2 в кружке3. Он был в ударе и играл хорошо. Слушал чудный концерт квартета Консерватории с Борисовским4, которому во время исполнения упала ширма на голову.
1 Композиция «Петербург» (1927) состояла из «Шинели» Н. В. Гоголя, «Медного всадника» А. С. Пушкина и «Белых ночей» Ф. М. Достоевского.
2 Оборин Л. Н. (1907 – 1974) — пианист. Ему Мейерхольд посвятил спектакль «Горе уму».
3 Имеется в виду клуб театральных деятелей в Старо-Пименовском переулке («Теаклуб»).
4 Борисовский В. В. (1900 – 1972) — альтист, солист квартета Московской консерватории (впоследствии — им. Бетховена).
Москва, 28/II 31
Дорогой Кви!
<…> «Последний решительный» надоел до отказа, да играла-то вчера Мастерица, она даже достаточно обнаглела, чтобы паузить до потери сознания и говорить бездарнейшую отсебятину. Единственная приятность, что большую часть спектаклей играет Тяпкина1. В театре снова повисла тоска.
1 З. Н. Райх и Е. А. Тяпкина играли «в очередь» в спектакле «Последний решительный» роль портовой девицы по прозвищу Кармен.
Москва, 2/III 31
<…> Виделся со Шкловским, он предлагает свой материал для чтения, я согласился. Кстати, он хочет переделать его из сценария1, а сценарий дал читать мне. <…>
1 О каком сценарии идет речь, установить не удалось.
Москва, 3/III 31
<…> Нынче утром читали вновь переделанную пьесу Олеши. Она мне окончательно не понравилась. Трактует проблему, которая абсолютно никому не интересна <…> — проблема интеллигенции, причем главный персонаж списан с З. Райх. Какая это интеллигенция и кого она может интересовать, да и вообще этот вопрос о пупе земли — какое высокомерие и гнусность для наших дней.
Говорят, дают играть какого-то сумасшедшего белогвардейца. Руководство в ГосТИМе тупеет, это совершенно очевидно. «Посл[едний] и реш[ительный]» надоел до черт знает чего. Спектакль уже начал разваливаться. Этому очень помогает отсутствие Ильинского, и сегодня и Штраух заявил о своей болезни. <…> Должен был сегодня читать по радио вещь о меньшевиках, но Ник[олай] Давыдович написал ее так пусто и безлично, что я принужден был отказаться. <…>
Москва, 5/III 31
Дорогая Квазимилла!
<…> В ГосТИМе опять базар. Вчера утренник был для актеров — и Ильинский, и Штраух оба заболели, так что играли только эпизоды без них. Спектакль, естественно, продолжался не более 1 1/2 часов1. <…> «Дирижабль» наш находится все еще в эмбриональном состоянии. <…>
1 В режиссерскую часть ГосТИМа в тот же день артист обращается с просьбой: «8 утро и 10 утро и вечер прошу передыху. 5/III 31. Эр Гарин».
Москва, 7/III 31
Дорогой Квазимод! Был вчера на концерте Коутса1 — это замечательно! Если он будет в эти дни в Ленинграде, то непременно пойди послушать и посмотреть. <…>
Утрами я заниматься стал тренажом с Гетье2 — он очень хорошо ведет уроки. <…>
Сегодня будет первая читка Олеши. Как я уже излагал, никакого энтузиазма пьеса эта у меня не вызывает. <…>
1 Коутс Альберт (1882 – 1953) — английский дирижер, композитор; в 1910 – 1919 гг. — дирижер Мариинского театра. Сотрудничал с Мейерхольдом.
2 Гетье А. Ф. (1894 – 1937) — преподаватель бокса в ГЭКТЕМАСе.
Москва, 8/III 31
Дорогой Кваз! Я уже тебе писал о Коутсе. Сегодня я выяснил, что его выступления будут в Ленинграде. Советую тебе — обязательно — на один из его концертов, либо когда он будет дирижировать в опере — обязательно сходить. Это высший класс искусства, и ты получишь колоссальное удовольствие. Я сегодня утром освободился наконец от утренника и на тренаж не пошел, а отправился в Музей изящных искусств, с удовольствием провел там часа 3. Помимо всего прочего, там выставка художника Богородского1, у которого замечательно получаются 187 рыжие и вообще цирковые мотивы. Сейчас около 12-ти ночи кончил свою игру в «Посл[еднем] реш[ительном]», причем играли легко, ибо самое тяжелое отправили в Ленинград — Мастера и Мастерицу. Играла Елена Ал. <…> Читал нынче письма в редакцию «За коммунистическое просвещение» Вс. Вишневского, из которых явствует совершенно, что это низкой души человек и дурак к тому же.
1 Богородский Ф. С. (1895 – 1959) — художник-живописец, педагог, профессор ВГИКа.
Москва, 10/III 31
<…> Утро просидел в Морозовской галерее1, пообедал и спал. Сейчас пришли ко мне Плучек и Ник. Дав. И собираемся идти в кружок — сегодня там Леонидов2 будет читать из Достоевского отрывки. Писал тебе и повторяю — какую хочешь цену плати за билет и слушай Коутса. Это же гениально. <…>
1 Речь идет о собрании И. А. Морозова (1871 – 1921), ставшем Вторым музеем новой западной живописи.
2 Леонидов (Вольфензон) Л. М. (1873 – 1941) — актер МХАТа.
Москва, 16/III 31
<…> Рольку в новой пьесе мне вручили — она во мне вызывает омерзенье, да и вся пьеса в целом такая трухлявая говенная интеллигентщина. <…>
Позавчера труппочка приняла новый вариант гробовым молчаньем. <…>
Москва, 16/III 31
<…> Ночью видел кошмарный сон, причем там мне продемонстрировали один трючок, который в кино может пригодиться. <…> Сны мне снятся редко, и поэтому нынче я очень мрачно настроен. <…> В театре на последних спектаклях появился Гвоздев в очках и с книжечкой. Игорь, по всем данным, из театра уйдет. <…>
Москва, 17/III 31
<…> Вчера вместо «Леса» играли «Мандат». Первые два акта я не играл, а отговаривал, а третий рванул, как Мочалов1. В конце девочки из второй ступени очень вызывали. <…>
1 Имеется в виду актер П. С. Мочалов (1800 – 1848).
Москва, 19/III 31
Дорогой Кваз! Получил два твоих письма — одно для Козинцева, другое для себя. Там у тебя насчет Мэтра ерунда — поздороваться надо было, а звонить ни к чему. <…> Гений этот для нас ясен давно как апельсин, и вообще с этикетами и его мнениями считаться рекомендуется только начинающим.
Ходил сегодня в третий раз на лыжах. Это великолепно. Вечером же, возвращаясь домой из кино, где видел занимательную комедию с уч[астием] Бэб Даниэльс1 «Плыви, девушка, плыви», нарвался на Мастера. Он говорит: «Где же ты пропадаешь?» Я говорю: «Накапливаю оптимизма на лыжах».
Ну его, Мастера, в болото — пусть сам кладет, как знает. Несмотря на то, что отношения у нас очень приличные, никакой симпатии к нему вблизи не питаю. Начали разрабатывать «Дирижабль». От лыж загорел. За последнее время очень большевизировался. Попутнический курс ГосТИМа стал для меня явно тесен. Целую тебя крепко. Читай хорошие книги вроде «Уленшпигеля» или «Пантагрюэля» («Уленшпигеля» я купил). Не читай интеллигентщины ленинградской. <…>
1 Речь идет о Бебе (наст. имя Вирджиния) Дэниэлс (1901 – 1971) — американской актрисе, начавшей работать в театре с трех лет, а сниматься в кино с семи.
Москва, 20/III 31
Утром нынче смотрел вашу картину1. Хорошо, конечно, но нестерпимо скучно, я весь иззевался. Картина, конечно, немая, ибо весь музонаворот жалок и беспринципен. То я музыку воспринимал как эффект монодраматический, то натуралистический, то просто сопроводительный. Все же выдумочки, как, например, «Какая хорошая будет жизнь», — говно. <…> Песенка «Семеро, миленький, семеро, родненький» или что-то в этом духе, что очень плохо делает Бабанова, — просто ни к чему, а зачем шарманка? Что же касается немоты, то тут безупречен один Москвин, — все сделанное им замечательно. У фэксов же можно учиться, по-моему, только построению кадра статического, все они сделаны очень хорошо. Как только в кадре начинается движение, то оно намного ниже. <…> Что же касается их умения строить, как говорится, по вертикали, то они обладают какой-то необычайной способностью так замертвить, застилизовать, залюбовать матерьял, что зевота разрывает челюсти. <…> Очень плохая сцена замерзания, это совсем никуда, позочки все. Какой же дурак когда так держал руки, когда ему холодно? Это все от какой[-то] мелодрамности. <…> Алтай подан совсем не ново и опять по-барски. Кузьмина2 на этот раз никаких восторгов у меня не вызвала. <…> Таково у меня впечатление. Какое у тебя — не знаю, ты мне ничего не писала. Напиши. Виделся с Козинцевым и с Траубергом; и тому, и другому сказал, что очень хорошо, но скучно, на что Козинцев сказал, что все говорят, что не скучно, и жалеют ее (кстати, судьба ее почему-то совсем не заинтересовывает), а Трауберг сказал: «Неужели нужно еще подрезать?» В общем, осадок от этого утреннего просмотра у меня довольно неважный, исправил его лишь тем, что немедля после искусства пошел на Воробьевку и до 5 часов ходил на лыжах. <…> Пессимизм мой по поводу картин и вообще искусства возможен еще 188 и потому, что весной искусство тошно, а потом за последнее время уж очень я ненавижу барство. <…> Тут еще, может быть, мешает личное знакомство с авторами. <…> Мнения Мастера не знаю, да и знать не хочу. Ему Каверин3 нравится, он, должно быть, впадает в детство. <…>
Завтра придется идти в театр. Не хочется. <…>
1 Речь идет о фильме Г. Козинцева и Л. Трауберга «Одна».
2 Кузьмина Е. А. (1909 – 1979) — актриса, училась в мастерской ФЭКС. В фильме «Одна» играла роль Учительницы.
3 Каверин Ф. Н. (1897 – 1957) — режиссер, с 1925 по 1943 г. возглавлял студию Малого театра.
Москва, 23/III 31
Дорогой Кваз! <…> О картине вашей идут довольно мрачные слухи, правда, совсем не проверенные, о том, что картину как будто зажимают, что [требуют изъять] отдельные места, как, например, «С неба полуденного [жара не подступи,] конная Буденного раскинулась в степи» и кадр с баранами. <…> Хозяев твоих не вижу, так что проверить все это не могу.
В театре вчера произошел настолько скандальный случай, что впору <…> отмежевываться от своего вождя.
Был спектакль, проданный пограничникам. <…> Спектакль шел прекрасно, принимали очень хорошо. Начался диспут. Очень доброжелательно и культурно высказывались. Как вдруг вышел Сам и начал совершенно неприлично всех громить, причем разговаривал так, как будто люди тем и заняты, что читают рецензии о ГосТИМе. <…> Я еще никогда не видел Всеволода, чтобы он так бездарно говорил и в позе какого-то Магомета. Естественно, тогда после речи публика начала возмущаться, и тогда эта запасная курица Зинаида Райх истошным голосом заорала: «Тревога! Травля! Травля!» и т. д.
Мое впечатление от всего произошедшего: все это, конечно, очень печально. Старый баран совершенно выжил из ума и к тому же болен манией преследования и авансов перед постановкой бездарнейшей и салонной Олешей, вопит, что его зарезали. Тогда как после Олеши его уж наверняка стукнут по башке. Вообще круг впечатлений Мастера сузился, очевидно, до проблемно-полового треугольника: Он — Зина — Оборин. Все это, конечно, очень печально, но факт. Так что ты (я горжусь за тебя), что не влезла в эту явно гнилостную яму. Из всех видевших вашу картину (Ильинский, Сибиряк) все восторгаются только Москвиным. <…>
В Москве много премьер, но все, говорят, тоскливые. От очень многих слышал, что очень хорош в Александринке «Робеспьер»1 — ты бы взглянула. <…>
Прошу тебя радоваться солнцу и весне. Целую крепко. До свидания. Эраст.
1 Речь идет о спектакле по пьесе Ф. Раскольникова (1931, режиссеры Н. Петров и В. Соловьев).
Москва, 25/III 31
Дорогой Квасяга! <…> Приехал папа и пробудет здесь дней пять. Мама вот уже два месяца лежит и чувствует себя весьма неважно, а было, как рассказывает папа, так, что мать просила позвать попа, и тут папа выступал в роли агитатора из безбожника1.
Вчера сыграли 50-й спектакль2. Присутствовали Мастер и Мастерица с Тверского бульвара3. Вчера у меня были аплодисменты на фразу, на которую до сих пор не было их ни разу. <…>
Скандал на диспуте пока замялся, хотя об нем очень много говорят в городе. <…> Кукрыниксы почему-то преподнесли мне свою книгу новую с надписью. Там очень смешная пародия на Сельвинского. Начинается так:
«Йехали да констры, йехали да монстры!
Инберы-вымберы, чубы по губам!..»
Но, когда приедешь, посмотришь сама.
Получила ли ты Шкловского и прочла ли? Как тебе все это понравилось? <…>
Приеду я, значит, четвертого утром (если не опоздает поезд). И где ты будешь — дома или у Арнштамов?
Приедет весь театр, так что на вокзал (если тебе не хочется видеться с кем-нибудь) не вылезай.
У меня очень много накопилось всяких мыслей и соображений и жду очень с тобой поговорить.
Просил отпуск — не дали, сукины дети.
Говорил с Олешей и очень его обидел, сказав, что роль мне совсем не нравится. Между прочим, читал я ее позавчера очень неплохо (судя по вниманию, так сказать, зрительного зала). Поправляйся как можно интенсивней. В Москве стоит весна, тепло и грязно. Как у вас? Неужели все ветры и морозы? <…>
Целую тебя крепко и скоро увидимся. До свидания. Эр.
1 Вероятно, имеется в виду журнал «Безбожник».
2 Речь идет о «Последнем решительном».
3 Очевидно, имеются в виду А. Таиров и А. Коонен, чей Камерный театр находился на Тверском бульваре.
Москва, 26/III 31
Дорогой Кваз! Получил два твоих письма. <…> Акимов прав насчет «Одной», теперь другие качества следует ценить в искусстве, совсем не те, которые мы привыкли. Акимов же сам эстет — говно (это я его не ругаю, а определяю). Книжечка «Гамлет» Аксенова1 есть, но только там как раз и написано, что для современности «Гамлет» не идет. Я ее привезу. Что же касается «Гамлета» в 3-й Студии2, то, конечно, дорогу-то он перейдет. Утром нынче Мейер читал экспозицию. (Между нами), старик впал в детство. После этой постановки его ликвидируют. <…> Решил он приемами символического театра орудовать. Установку сделал глупее глупого, но провозглашает как революцию.
Разговор после доклада носил салонный, даже спиритический характер. Мадам вдохнула в него густой марксизм. <…> 189 Выжили из ума. <…> Не писал эти два дня по причине полного отсутствия письменных принадлежностей. Сейчас пишу тебе и курю выданную в театре сигару. <…>
Зачем покупаешь такое дерьмо, как «Белинский в кругу друзей»3? <…>
1 Имеется в виду книга И. Аксенова «“Гамлет” и другие опыты в содействие отечественной шекспирологии» («Федерация», 1930).
2 Речь идет о работе Н. Акимова над спектаклем «Гамлет» в Театре им. Вахтангова.
3 Вероятно, имеется в виду сборник «Виссарион Григорьевич Белинский в воспоминаниях современников» (Л., «Academia», 1929).
Москва, 28/III 31
Дорогой Кваз! Вчера не писал, потому что очень устал: играл два спектакля и после пошел на сценарное совещание, где <…> видел «Очень хорошо живется»1 и твоих хозяев2, уже не ходящих по полу, а выступающих. Видел Эрдмана и много пролеткультовцев, ныне работающих в кино. О «Очень хорошо живется» — во-первых, бестактное название, которое совершенно резонно запрещено, во-вторых, бездарная картина (хуже «Одной»). Совершенно ханжонковская ситуация3 пошлейшая раскрывается с глубокомысленным и философским видом, к ней с двух сторон механически пришпилен конец и начало (по рецепту «Бубуса», когда врываются в буржуазный дом вооруженные рабочие). Все снято в замедленных темпах, и Эрдман, когда я у него спросил об «Одной» и об «Хорошо живется», совершенно замечательно сказал: «Это же, — говорит, — не люди ходят, а какие-то древние греки». Нынче был на репетиции и считаю ее продуктивной, ибо во время ее запломбировал зуб. — Странные вещи — видел Слепнева — помнишь, член Худсовета «Сатиры», ныне вождь ЛенРАППа — он мне рассказал о пьесе Олеши «Список благодеяний» совершенно восторженные рецензии всех рапповцев (там Олеша читал свою пьесу). Ничего не понятно, но убеждает меня в том, что она говно. <…>
Говорят, в «Рабочем театре» появилась рецензия о «Послед[нем] Реш[ительном]». Если я там упоминаюсь, купи.
Целую тебя крепко и скоро увидимся.
До свидания. Эр.
1 Фильм В. Пудовкина по сценарию А. Ржешевского. На экраны вышел под названием «Простой случай».
2 Имеются в виду Г. Козинцев и Л. Трауберг.
3 Речь идет о сюжетах фильмов русского кинодеятеля А. А. Ханжонкова (1877 – 1945).
Москва, 30/III 31
Дорогой Кваз-Задряка.
<…> Вчера отыграли последний «Последний и решительный» в Москве. Декорации сегодня отправят в Ленинград. <…> Не советую тебе меня встречать на вокзале, так как поедет вся банда и потом будет гуртом отвозиться в общежитие где-то чуть ли не в Новой деревне. Я приеду прямо к тебе на фабрику. Ты уж не уходи и подожди меня.
Пришли из-за границы две постановки: «Рычи, Китай» и «Командарм» и пойдут, очевидно, в мае. Я сомневаюсь, чтобы Олешина пьеса пошла в этом сезоне — уж больно она репетируется в загробных темпах. Я на репетиции хожу очень редко, и пока никаких скандалов нет.
На мою роль назначена целая армия. Раз я прочитал, и теперь читают по очереди Кельберер, Кириллов, Сибиряк, Мартинсон, Циплухин1 (есть такой, из студентов) и Фролов2. Зина себе выбрала надежную дублершу — Суханову3, и все идет как по маслу. Вчера на спектакле мрачно сидел гений Пудовкин. Арнольда4 вчера встретил в кружковой столовой — ему «Одна» не понравилась, хотя он ФЭКСовый патриот. Там же встретил Утесова и просил его передать привет Зощенко.
Целую тебя крепко. До свидания. ЭрГ.
1 Цыплухин В. А. — артист ГосТИМа, играл в пьесе Ю. Олеши роль «У рояля».
2 Фролов Г. Н. — артист ГосТИМа, играл в «Списке благодеяний» Сантиллана.
3 Суханова М. Ф. — актриса ГосТИМа.
4 Арнольд А. Г. (1897 – 1969) — начинал свою работу в ФЭКСе, позднее — режиссер цирка.
Москва, 31/III 31
Дорогой Кваз! Эти дни смотрел искусство запоем. Вчера вечером в клубе был вечер МХАТа I. Читали Книппер, Леонидов, Москвин, и совершенно поразил меня Качалов. Читал он отрывки из «Воскресенья». Говорили — хорошо, но я не верил. Это действительно шедевр. Утром нынче на репетиции опять не был и пошел на общественный просмотр «Строителя Сольнеса»1 к Коршу в постановке Марджанова2. Оказывается, он очень уверенный режиссер и может с Таировым конкурировать, но играют совершенно сногсшибательно, хуже некуда.
Вечером, вот только сейчас вернулся, был в Малом театре и видел вторично «Свадьбу Кречинского». Завтра пойду смотреть кулешовскую картину «Сорок сердец». Сколько мастеров я посмотрел 190 за это время, и сколько пшена из них. В театре своем что-то давно не был. Как-то проспал репетицию. Вчера считал, что у меня выходной день, а сегодня, так как ввели 39-часовой отдых, то должен был прийти к 3-м часам, а так как к 3-м часам я никому там не нужен, то я и не пошел. <…> Письмо это я пишу зря, ибо получишь его, очевидно, в день приезда, а хочется поговорить живым, а не письменным образом, поэтому, оказывается, оно ни к чему, ибо самое главное я не могу написать.
Нынче у Корша Арбузов (это приятель Поташинского, с которым мы вместе смотрели спектакль «Строитель Сольнес») показал «Рабочий зритель» с фотографиями «Робеспьера» — как будто очень любопытно, и мне очень бы хотелось посмотреть. Может, соберемся вместе в Александринку.
Целую тебя крепко и скоро увидимся.
До свидания. Эр.
1 «Строитель Сольнес» — драма (1892) Г. Ибсена.
2 Марджанов (Марджанишвили) К. А. (1872 – 1933) — режиссер.
Москва, 15/IV 31
Дорогой Кви! Сижу в театре, идет конец первого акта «Мандата», утренник, народу человек сорок. Говорим про себя, ибо еще играть вечером. Вчера носился по поводу работы режиссерской, сторговал постановку за пять сотен. Завтра вечером начинаю. Купил ноты, те, которые дал Арнштам. <…>
Директор Белиловский говорит о том, что Мастер будет ставить Олешу, и конец. Затем будут ставить молодые, а Сам должен на год засесть за «Гамлета». Театр пришел в полный упадок, течет крыша и капает в зрительный зал. <…>
Премьера, в которой я не хотел принимать участие, т. е. в пьесе Поташинского, позорно провалилась, и провалилась не только для автора, но и для режиссера Лукацкого. Ее сняли сразу, и в радио целый скандал. Куски нашей композиции получаются очень интересные, но целиком вещь еще не проявляется. Постановку, и ту, о которой писал в начале письма, и радио должен кончить к концу мая, <…> К первому мая выставили мою кандидатуру на постановку интермедии, но я отказываюсь. К моему счастью, ее запретил репертком за то, что в ней выведен Карл Маркс. Думаю о том, чтобы сыграть Татарова в Олеше, мне кажется, в этом есть смысл. Кизеветтера же играть глупо. <…>
Москва, 18/IV 31
Дорогой Кваз! Так устал от двух вчерашних спектаклей «Мандата», что приехавший сегодня утром папа не смог меня разбудить. Охрип даже. Сегодня чувствую себя изнасилованным. Вечером у меня свидание с труппой текстильщиков и первое объяснение насчет постановки.
Теперь сижу у Ник[олая] Дав[идовича]. Мы долго беседовали с ним по поводу «Дирижабля» — очень приятно вырисовывается план. Теперь дело за словесной обработкой. <…>
Из Ленинграда приходят вести, что Мастер превзошел самого себя — так все замечательно делает, но, конечно, верить нельзя и нужно посмотреть самому. Как будто на 28 мая назначается торжество 10-летия театра. Церемониал еще не известен. <…> Федоров ставит «Записки из мертвого дома»1 на русском и немецком языках, причем роль Достоевского играет Хмелев. <…>
1 В связи с 50-летием со дня смерти Ф. М. Достоевского студия «Межрабпомфильм» приступила к постановке фильма «Мертвый дом» (сценарий В. Шкловского, реж. В. Федоров, в главной роли Н. Хмелев).
Москва, 21/IV 31
Дорогой Квазимод! Наконец получил от тебя письмо, писанное 17-го, с рецензией. <…> В Рязань до тебя я вряд ли поеду, так как мне в это время придется сдавать работы — одну в радио, а другую у текстильщиков, с которыми я вчера окончательно договорился, причем в необычайно быстрых темпах обещался построить обозрение, написать и поставить к 15-20 мая. Сюжет уже довольно интересно закрутили. В помощь пригласил Ник[олая] Дав[идовича]. «Дирижабль» тоже подвигается и обещает быть интересным. Вчера, как говорят, приехал Всеволод. Говорят, что он очень много поставил в Ленинграде. Может быть, мои кусты с Кизеветтером будут легки и органически, ибо Кириллов уже насобачился. <…> Рецензию, которую ты прислала, прочитал только в разделе о себе, а всю читать было лень. <…>
14-го Таня смотрела «Мандат». Ей очень понравилось, как я играл. Она даже хотела тебе написать, но, очевидно, не собралась.
Москва, 22/IV 31
Дорогой мой Кваз! Все утро сегодня сидим с Ник[олаем] Дав[идовичем] и сочиняем сценарий обозрения, которое я буду ставить у текстильщиков. Погулять хочется очень, ибо погода сегодня на все 100 % весенняя, солнце, тепло, и по предсказаниям должен сегодня тронуться лед. <…>
В театре объявили репертуар до 16 мая. В этот период собираются возобновить «Рычи, Китай». Поговаривают о «Ревизоре», но — как и когда — ничего пока не известно. В мае будет праздноваться юбилей 10-летия, и опасаются за то, что «Список благодеяний» не будет готов в этом сезоне. Я тебе уже писал, что директор Белиловский хочет, чтобы после Олеши Мастер ставил только «Гамлета» года полтора, а все остальные работы будет делать молодежь, и будто бы Грипич, который входит в театр с 15-го со своими молодцами.
Остальное в театре все по-старому, и бываю там я только во время спектаклей, которые приходится играть. «Мандат» все же, очевидно, потерял всякий интерес в современности, ибо совсем не собирает публику. <…>
191 Москва, 24/IV 31
<…> Вчера просидел всю репетицию на галерке с таким расчетом, чтобы меня не заставили самого изображать Кизеветтера и, во-вторых, в подробностях посмотреть, что навернул гений за ленинградские гастроли. Все мои ожидания на дерьмовость были перевыполнены. Эпизод, о котором я тебе рассказывал в Ленинграде, не вырос ни на йоту, только играть стали хуже. Затем показали эпизод, о котором в театре стояли восторженные отзывы. Эпизод таков: перед отъездом за границу к Гончаровой приходит юноша, как бы комсомолец, и от рабочих преподносит жасмин. Как выяснилось из сценического толкования, юноша влюблен в премьершу, он с восхищением смотрит на нее, хочет украсть ее роль, роль эту трет в руках и показывает публике, что получает удовольствие. Затем говорит слова о том, что гордится, что Гончарова — актриса в стране Советов. Просмотрев в первый раз этот эпизод, я ахнул: это бестактно до черт знает чего, сработано по системе «Фрейд для бедных». Этот юноша, как бы комсомолец, переодет явно из пьес, подобных «Семнадцатилетним» и т. п., вообще из репертуара Глаголина-сына1.
Вечером на спектакле «Д. Е.» произошел у меня разговор с Мастером, и я прибег к трюку. Он, как полагается, вначале спрашивал, я, как полагается по уставу внутритимовой службы, говорил, что хорошо. Когда же дело дошло до Кизеветтера, то попросил Мастера переключиться на другую роль, т. е. Татарова, на что он согласился с необычайной охотой. Конечно, играть ее я не буду, но на первое время хоть окончательно сбросить себя с Кизеветтера.
Позавчера весь день сидели с Николаем Давидовичем, выдумывали сценарий к текстильщикам. Сейчас он сидит у меня и описывает все это словами. В 7-мь часов нынче у меня первая репетиция, и теперь уж я буду валандаться с ней до конца постановки, т. е. до 15-20 мая, причем в начале мая вступит вторая работа по радио. В театре на меня нагрузили в связи с юбилеем радиовещание, но я от этого отбрыкаюсь так же, как от первомайской постановки, о которой я тебе подробно писал. <…> Погода стоит в Москве совершенно летняя, хожу в пиджаке и немецкой шляпе, причем мальчишки на улице нашли, что «с такой рожей, как у меня, нельзя ходить в шляпе».
Целую тебя крепко и жду. До свидания. ЭрГ
1 Речь идет об А. Б. Глаголине, сыне Б. С. Глаголина (наст. фам. Гусев; 1879 – 1948) — актера, работавшего с В. Э. Мейерхольдом.
Москва, 27/IV 31
<…> Мне все-таки думается, что <тебе> нужно похлопотать и все-таки приехать пораньше. У меня же стали бродить такие мысли: отказаться от летней гастрольной поездки. Что же ехать и играть Жан Вальжяна (так у Э. Г. — А. Х.), это уж очень бедно. А если к этому присовокупить «Список благодеяний», то считаю, что лучше совсем не демонстрировать искусства и провести лето в режиссуре. Кое-какие удочки по этому поводу я закидывал: можно в Пролеткульте получить кое-что неплохое в материальном отношении и интересное в моральном. Как к этому вопросу относишься ты, а то можно и с Сим[оном] Дрейденом поговорить и у нас в предприятиях получить хоть эпизодическую работу на месяц — на полтора. Вчера очень честно просидел всю репетицию «Списка». Кизеветтера играть окончательно не хочется, а Татарова уже так заштамповали, что влезать туда себе дороже. Репертуар поездки таков: «Лес», «Рычи, Китай», «Список» и «Последний, решительный». <…>
Хожу по солнцу, и хотя меня сегодня вызвали на репетицию, я, как допишу тебе письмо, поеду на Воробьевы горы — там замечательно. Раз там я был в самый разгар половодья. Просидел полдня на пеньке, даже загорел.
Пьеса, которую мы с Николаем Давидовичем делаем, получается как будто ничего. Он очень нежно ко мне относится и один раз хотел было схалтурить, но потом переправил, и получилось очень прилично. Завтра у меня первая репетиция у текстильщиков. В начале мая начнем осуществлять «Дирижабль». Прочитали про «Одну» в «Известиях» очень хорошую статью К. Радека1. Твоих мэтров поставили на свое, настоящее место. Очевидно, до них дошли строчки, написанные курсивом.
Пытался довольно упорно читать присланную тобой книгу Марселя [Пруста]2, но обозлился до того, что ее запустил в угол. Не по мне. <…>
1 Радек (наст. фам. Собельсон) К. Б. (1885 – 1939) — партийный работник, журналист.
2 Речь идет либо о романе «В сторону Свана» (Л., «Academia», 1927), либо о первом томе «Под сенью девушек в цвету» (Л., «Academia», 1928).
Москва, 29/IV 31
Дорогой Квазимода! Вчера не писал тебе, т. к. совсем замотался то в театре, то у текстильщиков, и, наконец, спектакль, который начался вчера в половине десятого. <…>
Вчера внимательно смотрел репетицию. Идет все довольно туго и осложняется это все стычками между мастерами. Позавчера же произошла сцена (к счастью, я на ней не присутствовал) под названием «Разгром музыкального цеха». Сам выгнал всю музыкальную часть, но все обрушилось на новую пианистку и затем на Паппе. Никольский уже человек отпетый. Теперь играет пианистка из Гэктемаса — Давыдова1. При скандале был добром помянут Арнштам, можешь ему рассказать. Помянут он был так: «Был у нас скверный пианист Арнштам, но он, бывало, приносил такую кучу материала, что можно выбрать». Настроение в театре очень нервное. <…> Несмотря на то, что работаю не так интенсивно, чувствую переутомленность и с удовольствием бы посидел бы с тобой в Солодче2. <…>
У нас в начале мая объявлены оперы под управлением Коутса. Ежели будет он в Ленинграде, послушай.
192 Дорогой Кваз. Целую тебя, жду и очень беспокоюсь. Хочется мне, чтобы ты была толстая и счастливая. Целую. До свидания. ЭрГ. Передай привет Москвину, Наде3 и Акимову. И Арнштамам.
1 Речь идет о Е. В. Давыдовой.
2 Имеется в виду Солотча — пригород Рязани.
3 Имеется в виду Н. Кошеверова.
Москва, 30/IV 31
Дорогой Квазан! Тут все каждый день приносит разнообразные новости. Вчера на производственном совещании Белиловский сказал, что очень вероятна такая возможность, что театр всю зиму пробудет в Ленинграде, ибо только в июле начнут его ломать. Выяснилось про Грипича, что он едет в поездку по Донбассу и будет во время поездки ставить. В другую поездку, по Украине, едет Сам, и тоже будет ставить.
Ты мне что-то давно не писала. Я всегда, когда прихожу из театра, ожидаю увидеть в ручке дверной письмо, и вот уже какой день все нет. Третьего мая предстоит удовольствие: объявлена «Хризантема» Крюзе1.
В театре, оказывается, каждый день скандалы. Хорошо, что я не прихожу, и приятно, когда рассказывают, что свидетелем этих сцен я не был. <…>
Видел как-то картину Ленинградской фабрики, реж. Иогансон, «Сын страны»2 — говно ужасное, а больше ни в какие театры, ни кины не ходил. <…>
1 Крюзе Джеймс (наст. имя и фам. Енс Крюз Бозен; 1884 – 1942) — американский режиссер.
2 Фильм (1930) реж. Э. Ю. Иогансона (1894 – 1942).
Москва, 2/V 31
<…> Дали мне билет в Большой театр на Коутса — должен был идти «Борис Годунов», но была «Кармен», и без Коутса, <…> я очень был рад, что остался. Максакова-Кармен1 замечательна. <…> Ходить, конечно, надо только в оперу. <…>
1 Максакова М. П. (1902 – 1974) — певица, в Большом театре — с 1923 г.
Москва, 4/V 31
<…> С летней поездкой до сих пор ничего не известно, так что ничего сказать не могу определенного. Кизеветтер пока проходит хорошо — ничего не делаю. В театре вообще, как всегда весной, чрезвычайно нервно и бестолково. <…> Как видно из прессы, к январю можно надеяться, что кризис пленочный будет изжит.
Что будет с театром — тоже до сих пор не известно, ибо если ремонт начнется, то зимой он будет в самом разгаре. Куда денется Феатр1 — не известно, но можно думать, судя по темпам, что он начнет строиться. Юбилей подготавливается без всякого энтузиазма, а чисто казенным образом.
Итак, пока со «Списком благодеяний» у меня лично все обстоит благополучно. <…>
Привет передай Арнштамам, Акимову.
До свидания. Целую Эр.
1 У Гарина в тексте буква «фита».
Москва, 6 мая 31
Дорогая Квазочка! Вечером написать не мог, ибо устал на репетиции у текстильщиков. Работать у них согласился после настоятельных их просьб. Поставил вчера два эпизода и, говоря откровенно, рад, что согласился работать, ибо ужасно стал засыхать в театре. Вчера не был на радио, но естественно, что там в один день ничего не сделаешь. В театре явный антракт. Барыня заболела, и, естественно, вся работа остановилась. Ведет и изводится на репетициях Павел Цыперович1, и они не двигаются с места. <…> До сих пор не могу выяснить вопроса о летней поездке. Белиловский сам решить не может, а Мастер не заседает по болезни барыни.
О юбилее никто ничего не думает, и как бы из этого предприятия не получилась явная и конфузная халтура. <…>
1 Очевидно, имеется в виду П. Цетнерович.
Москва, 9/V 31
Дорогой мой Кваз, давно от тебя нет вестей. <…> Из репетиционных зал поступают сведения, что получается очень интересно, поэтому собираюсь сегодня посмотреть репетицию. Вчера был «Мандат» и на нем был Пискатор1. Играл я на редкость здорово, особенно третий акт. Накануне же был «Последний, решительный». Эта роль мне окончательно осточертела.
Игорь как будто, судя по (количеству и разным местам) поданным заявлениям, окончательно собирается уйти из театра. <…>
В театре сукины дети до сих пор не дают мне ответа о том, еду ли я или могу быть оставлен. С Ник. Давидовичем ходили в «Колосс» и смотрели Гарольда Ллойда2 в «Младшем сыне»3. Сценарист4 совершенно поражает своей изобретательностью и умением обсасывать все возможности. Картина очень приятная. <…>
1 Пискатор Эрвин (1893 – 1966) — немецкий режиссер.
2 Ллойд Г. (1893 – 1971) — американский актер, один из лучших комиков немого кино.
3 Скорее всего, речь идет о фильме «Младший брат» (1927).
4 Своим успехом Г. Ллойд был во многом обязан сценаристам, гэгменам, сорежиссерам (Х. Роуч, Ф. Ньюмейер, Т. Уайльд).
193 Москва, 12/V 31
<…> В театре Всеволод поставил один эпизод очень хорошо, но играть мне в нем некого. Эпизод этот в Мюзик-холле. Тот самый, который был напечатан в «Лит. газете». <…>
Харьков, 23/VI 31
Козинцеву написал. <…> Что касается того, что там фигуряет какой-то деревенский парень, да еще веселый1, мне не очень нравится, и ежели ты будешь с ними по этому поводу изъясняться, то на мой счет скажи, что я к Китону равняюсь. Мне свойственней мрачный гумор (конечно, так мне кажется). <…>
Если бы они начали так, как предполагают, то в успехе своего отпуска я уверен. Вообще же им следует сказать, чтобы они много не звонили обо мне, а то Сам возревнует ни с того, ни с сего, и дело изгадит. Каждое утро в половине девятого занимаюсь тренажом. <…> Вчера, наконец, отыграли «Последний, решительный» первую партию. Сегодня «Лес». Вчера, несмотря на то, что играли Бочарников и Нина2, спектакль шел очень хорошо, и после Кармен были аплодисменты, а накануне с Игорем и не было. Играть очень тяжело, ибо обливался потом. Жара в театре сверх меры. <…> Посылаю тебе рецензию, где упоминаются фамилии. В украинских газетах — в одной кроют без имен, а в другой только Ильинского, что без целеустремления играет. Послезавтра «Рычи, Китай», и как он пройдет, буду уезжать за город и дышать свежим воздухом. Хочу на морду потолстеть, а то очень охудел. Как начал заниматься тренажом, курю не больше 8 штук в день, так что даже о папиросках не забочусь.
Дорогая Квазочка, прошу тебя очень дышать воздухом и не пессимизироваться. <…>
1 Речь идею роли Васюты Барашкина, которую должен был играть Гарин в фильме «Путешествие в СССР».
2 Бочарников Т. П. и его жена Бочарникова Н. — артисты ГосТИМа.
Харьков, 27/VI 31
Дорогая Хесюша! Очень беспокоился все эти дни и наконец сегодня получил твою открытку, которую ты написала в Севастополе. <…> Живу я как часы. Утром встаю к половине девятого. Не курю. Иду в соседний майдан (сад) и занимаюсь 30-35 минут тренажом, затем час или полтора играю в волейбол. Затем иду в душ, весь искупывываюсь, пью чай и тут продымляю первую папироску.
Потом до сего дня включительно шел на репетицию «Рычи, Китай», затем обед и — спать. Вечером то был в театре по вопросам костюма, аксессуаров, либо ходил к почтамту, затем пил чай в каком-нибудь трактире, и спать.
Вчера играл в первый раз в «Рычи, Китае», как говорят, и как сам чувствую, ничего (по тому времени, которое затрачено на репетиции). В 3-м эпизоде, т. е. в том, где тонет Холей, у меня был трючок: я взял у Риты купальный костюм заграничный, снял рубаху, подвернул брюку. Руки занял аксессуарами и в рот набрал воды. Выход этот имел большой успех. Затем, когда выносят Холлея, я смешил все время публику, и Цетнерович просил меня не срывать серьезность сцены. Вид таков: соломенная шляпа — канапе, роговые очки и белый костюм. Если удастся, то постараюсь сняться и прислать тебе фото. Первое фото, уже посланное тебе, сделал Языканов1 в том самом майдане, в котором каждодневно занимаюсь. <…> Купил себе третьяковскую книгу о колхозах под названием «Вызов»2. Сейчас пойду играть во второй раз «Рычи, Китай». Целую тебя крепко и ожидаю увидеть потолстевшей раза в два. До свидания, пиши. Эраст.
1 Языканов И. — актер театра Пролеткульта.
2 Речь идет о книге С. Третьякова «Вызов» («Федерация», 1930).
Харьков, 29/VI 31
Дорогая Хесюша! Второй день от тебя нет писем. Что случилось? Сейчас, отыграв «Рычи, Китай» утренник, был на вокзале и справлялся о цене на билет до Севастополя. Завтра решу, 194 поеду к тебе в Симеиз или нет, это зависит только от того, сколько денег у меня будет. <…> Эти дни жил довольно тупо, ибо каждый вечер шел «Рычи, Китай». Сегодня отыгрываю в последний раз и вечером получаю деньги и, может быть, что завтра с тем поездом, с которым ехала ты, приеду в Симеиз. <…> Утром нынче приехали Мастера, но встречали их только лица официальные, как-то реж<иссерская> и прочая часть. <…>
Харьков, 30/VI 31
Дорогая Хесенька! Эти дни волнуюсь страшно, от тебя нет писем. Вчера настроился приехать к тебе, но после получения жалованья эта возможность отпала. <…> Вчера приехавшие Мастера пришли на «Рычи, Китай», и сегодня, когда была репетиция «Списка» (а я на нее пошел только для того, чтобы подтвердиться в своем мнении об игре артистов, а сегодня она была без костюмов и без публики — это все же совершенное говно), мне были сказаны комплименты за корреспондента1. Что это должно означать — не понятно. Очевидно, Мартинсон просит еще прибавить жалованья. За дни без твоих писем и с «Рычи, Китаем», а вчера их было два (поэтому я и не докончил письма), я очень устал и сегодня, если бы получил от тебя вести, спал бы как сукин сын.
Приехавший Мэтр сказал, что он договорился со следующими авторами: Д. Бедный, Ю. Олеша, В. Вишневский и А. Безыменский. Как видишь, самая полная беспринципность и растерянность. <…> Погода у нас стоит холодная, так что в Крыму, думаю, ничего. В Москве и Ленинграде, говорят, совершенные холода. Каплер2 говорит, что чуть ли не в шубах ходят, и поэтому он боится ехать туда снимать. <…> Козинцев мне ничего больше не пишет. <…> Пиши мне каждодневно хоть на открыточках. Целую. Эраст.
1 Речь идею роли, которую Гарин исполнял в спектакле «Рычи, Китай!».
2 Каплер А. Я. (1904 – 1979) — сценарист, актер, режиссер.
Харьков, 2/VII 31
Дорогая Хесенька!
<…> Напиши весь свой обиход в санатории. Куда ходишь (там ведь даже кино имеется). Приходят ли пароходы, и какие, на чем ты ехала в Симеиз, на авто, на бусе или на легковом, или же водой. Какая стоит погода в температуре и по впечатлению. Купаешься ли, мерзавка, и как куришь?
<…> Я большую половину спектаклей отыграл: 4 «Последний, решительный» и 5 «Рычи», теперь гуляю и сегодня, например, с 8 ч. 30 мин. до 12 занимался в саду сперва тренировкой, а потом волейболом. Осталось сыграть 4 «Посл[едних], реш[ительных]». Вчера была, так сказать, премьера1. Причем местными блюстителями вычеркнуты сцены с фонарщиком и Чаплиным и сцена с поцелуем в Мюзик-холле. Этакое южное тупоумие просто умилительно. Уж снимали бы все. А «Тихий Дон»2 идет, как и у нас, и публика лезет, как будто выдают мясо. «Список» прошел очень неважно, как говорят. А парикмахер в гостинице, большой знаток искусства и харьковской публики, утверждает, что спектакль не будет пользоваться успехом у харьковян. Я тебе в прошлом письме писал об авторах, с которыми заключены договора, и забыл сообщить самого слона: Всеволод Иванов. Все это совершенно феноменально. Ни фэксы, ни Блюменфельд3 ничего не отвечают. Получила ли ты письмо, где вложена копия письма к Козинцеву? Как ты его находишь? Гр[игорию] Мих[айловичу] я приписал пункты, в которых я буду находиться. Харьков очень может надоесть — очень наглый и бесталанный город, на редкость не приветливый, и осточертел он очень. Спасаешься только тем, что рядом сад и душ. А с другой стороны театр. <…> Взял у Тяпкиной «Землю» Золя, так что получил сельскохозяйственное воспитание в надежде, что этот материал, чуть фантазированный, пригодится к осени. Сюда понаехала туча театров, и все горят: вахтанговцы, МХАТ II, Театр Революции. Расклеил свои лучшие афиши Малый, и в садочке, где мы купаемся, играют евреи с Михоэльсом (так у Э. Г. — А. Х.), да на задворках где-то Пролеткульт. В кинах идет совершенная заваль, так что ни разу до сих пор никуда не подавался. Вчера приехал Игорь из Донбасса, говорит, что подобной халтуры нигде не видел. «Клоп», говорит, идет до невозможности скверно — ни одного аплодисмента. Скоро туда отправится Сам для наводу порядка4.
Атмосфера в поездке приличная. Вопросами никто никакими не интересуется, интриг нет, как будто только Сам скоро собирается выступить с рецензией на «Рычи, Китай» — тогда тебе напишу. <…>
1 Речь идет о первом представлении «Списка благодеяний» в Харькове.
2 Фильм (1930) реж. И. Правова и О. Преображенской.
3 По всей видимости, театральный либо кинодеятель административного профиля.
4 Труппа ГосТИМа была разделена на две части, гастролировавшие в разных городах.
Харьков, 3/VII 31
<…> Вчера с трех до 12 ночи толпился с Каплером и его приятелем по Харькову. <…> Его товарищ, фамилию которого я забыл1 (он режиссер ВуФЭКСа2), предложил мне сниматься в его картине в Киеве и сегодня обещал принесть для прочтения сценарий. <…>
Сказать по правде, к киевлянам и харьковянам у меня нет никакого доверия, не говоря уже о художественном, но все же в этом году хотелось бы дело это тронуть. Глубоко уверен, несмотря на то, что Каплер человек очень приятный, что картины хорошей у него не получится. Это я заключил потому еще, что ему понравился «Список благодеяний»: значит, интеллигент, да еще девяносто шестой пробы. Несмотря на то, что прием спектакля в театре носит явно иронический характер. Для иллюстрации посылаю тебе рецензию, появившуюся сегодня утром. Вражда к какой-то болтливости и несерьезности всех южан у меня явная. Север мне гораздо приятнее своими людьми и искусством. 195 И все же, несмотря на это, я бы взялся за картину и отнесся к ней как к экзерсису. Жду по этому поводу твоих соображений.
Жизнь моя течет все так же по расписанию. Вчера с Каплером и этим субъектом ходили смотреть на матч волейбола между нашими и вахтанговцами, где встретился со старым пролеткультовцем Янушевским. Он нас снял, как будет готово — пришлю для смеха. <…>
Сами не появляются на нашем горизонте. Живут они в другой гостинице под названием «Спартак». На спектакли я не появляюсь и потому не принимаю участия в той катавасии, которая идет около спектакля и через четвертое эхо доносится до меня. Это вечный вопрос: хвалят одних и ругают других, и до каких-то идиотов это доходит, кто-то взволнован, а кто-то ходит гоголем, в общем, старая извечная история.
Квазимилла! Очень обижен, что у тебя плохое состояние, и всеми силами хотел бы тебя привести в благодушие. Жду от тебя подробного письма с изложением внутренностей и внешностей своей жизни. Купи себе «Землю» Золя, я сейчас ее читаю. Между прочим, это значительно лучше Сергея Третьякова, и теперь я их читаю вперемежку. <…>
Повторяю просьбу сняться где-нибудь близ скалы Айвазовского на натуре во весь рост, чтобы я мог посмотреть, как на тебя действует Крым. <…>
Ни в какие театры, ни кино не хожу и не хочется. В дни, когда не играю (а сегодня третий такой день), не ощущаю себя даже служащим ГосТИМа.
Только шестого собираются пить мою кровь и назначили два спектакля утром и вечером.
Дорогой Кваз, целую тебя крепко и жду письма, которое позволило бы мне захохотать прямо на площади от радости, что ты чувствуешь и настроена хорошо. Целую тебя крепко и ожидаю увидеть толстой и здоровой. <…>
Эраст.
1 Речь идет о М. Л. Билинском (1904 – 1966) — кинорежиссере, который работал над фильмом «Генеральная репетиция».
2 ВуФЭКС — шутка Гарина, объединившего название ФЭКС, с которым был связан А. Каплер, и ВУФКУ — Всеукраинского фотокиноуправления.
Харьков, 4/VII 31
Дорогая Хесенька! <…> Вечером вчера принес этот гусь <…> (фамилия его Билинский) — сценарий, и я его внимательно прочитал и отказался от участия. Картина задумана как эпохальная, людей нет, есть только представители масс. Играть в ней нет никакого интереса. Причем сделана совершенно не самостоятельно. Тут и «Арсенал»1, тут и «Конец Санкт-Петербурга» — вообще вот в таком стиле, который мне совсем не нравится. <…>
1 «Арсенал» (1929) — фильм А. Довженко.
Харьков, 6/VII 31
<…> Сейчас восемь часов, я соснул после обеда и, написав тебе письмо, пойду играть первый из четырех «Последних, решительных». Утренник, к счастью, отменили. Культпоходами меня не беспокоят ввиду лирического репертуара. Предполагается какой-то грандиозный выезд в лагеря1, но я если и поеду, то только как свидетель, ибо ни в «Выстреле», ни в «Заставе № 6»2, ни в концертных агитках, сооруженных по планам Грипича, [участия не принимаю]. Тяпкина сказала мне предположение, а сама узнала от Бирман3, что будто бы Мейерхольд уедет на зиму за границу и театр останется на Грипиче и т. п. — это с одной стороны неплохо, ежели удастся провести тот план, о котором говорили. Фэксы до сих пор ничего не пишут, так же как Блюменфельд. <…>
1 В порядке шефства гостимовцы выезжали с выступлениями в военные лагеря, расположенные под Харьковом.
2 Эпизод из спектакля «Последний решительный».
3 Бирман С. Г. (1890 – 1976) — актриса и режиссер.
Харьков, 8/VII 31
<…> Сегодня после тренажа поехал с бригадой на Тракторострой и только сейчас вернулся. Впечатление грандиозное. Ошеломляющие сроки строительства. Вечером после спектакля участвую в концерте — читаю Маяковского. <…>
Посещение Тракторостроя очень знаменательно. Театр уже перестал себя ощущать органической частью страны, а ощущает себя как явный попутчик, что, конечно, не было в его молодости. <…> Сам ходит один как прокаженный. Эти два «Последних решительных» приходил и смотрел, и никто к нему не приближается, и он один мрачно уходит. <…>
Приходил как-то Сам осматривать, как живут актеры (они ведь, естественно, в другой гостинице), и тут ему сообщили о смерти Лужского1. Это на него произвело мрачное впечатление, и он выкатился на улицу. <…>
1 Лужский В. В. (1869 – 1931) — актер МХАТ, один из его корифеев. Выполнял роль посредника в конфликте В. Э. Мейерхольда с руководством Художественного театра в 1902 г. Мейерхольд писал ему: «О Вас, дорогой Василий Васильевич, я уношу с собой хорошие воспоминания. <…> 21 февраля 1902 г.» (В. Э. Мейерхольд. Переписка. 1896 – 1939. М., «Искусство», 1976. С. 38).
196 Воронеж, 14/VII 31
Дорогая Хеся. Вчера приехал в Воронеж. Весь день шел дождь, но, несмотря на это, пошли в звуко-кино на «Путевку в жизнь»1. Все же это очень неплохо, но техничка здесь дерьмо — очень мало слышно. Анонсируется «Одна» и «Механический предатель»2 с Ильинским. <…>
1 Фильм (1931) Н. Экка (наст. фам. Ивакин; 1902 – 1976).
2 Фильм (1931) А. Дмитриева. И. Ильинский сыграл в нем главную роль — бюрократа Прута.
Воронеж, 16/VII 31
<…> Нынче должен был состояться первый спектакль ГосТИМа «Пос[ледний] реш[ительный]» в Воронеже, но состоялся скандал. (Я, между прочим, абсолютно не взволнован происшедшим — не могу больше.) Не пришли ноты и костюмы.
Публика собралась, битком набила театр, и тогда решили, что, пока придут ноты и костюмы, Сам скажет вступительное слово. Сам начал говорить — ты знаешь, как он говорит экспромты. В общем, кто-то сказал: «Довольно!» Он тогда наивно поставил вопрос: «Может быть, я надоел?» — Публика помолчала, и он ушел, но спектакль-то начать было все равно нельзя, ибо не было еще нужных вещей, и тогда после перерыва объявили, что спектакль отменяется по вине транспорта. Положение глупое было у всех. Теперь на 18-е назначили два спектакля, один в 6 часов, другой в 9 с 1/2. <…> От фэксов до сих пор не получил ничего, но думаю, у них что-нибудь не клеется. <…>
Воронеж, 17/VII 31
<…> По слухам, театр переходит в будущем сезоне на хозрасчет. Это, конечно, очень серьезные последствия повлечет за собой. Всеволод уже и теперь начал поговаривать о новой постановке пьесы Вишневского (очень печально) и второй Олеши (еще того хуже). <…>
Воронеж, 21-VII-31
Дорогая Хесенька!
<…> Я вчера с Маслацовым предпринял длительную поездку по реке — ездили 5 с лишним часов, так что я сжег себе солнцем подколенники. В заключении хлебнули в лодку воды, когда Володя хотел окунуться, осклизнулся и зачерпнул полную лодку, так что по городу я шел совершенно мокрый. Плавать стал довольно здорово. Для поездки в колхоз изучаю «Медного всадника». Поездка в колхоз <…> меня очень интересует.
Мастер во мне вызывает все сильнее и сильнее чувство омерзения. Вчера они поехали на лодке, и если бы кому-нибудь рассказали, как вождь Театрального Октября купается со своей лучшей актрисой, то всякого бы вырвало. Воды боится, раздеться боится — все это рассказывал Поплавский1, ибо он их сопровождал, а живет он рядом с нами. Был с Никольским в кино на «Государственном чиновнике»2 с М. Штраухом — это совершенно ужасно. Все, начиная от режиссера и кончая Штраухом, который решил, что покрыл Крауса3 в «Жене статс-секретаря». Он приклеил такие же усы и все время кривлялся — досидеть до конца мы не могли. <…>
1 Поплавский Н. А. — актер ГосТИМа.
2 Фильм реж. И. Пырьева.
3 Краус Вернер (1884 – 1959) — немецкий актер.
Воронеж, 21-VII-31
<…> Ходит слух, что Мастер сговорился с М. Горьким о постановке его пьесы. Старый <…> наш стал просто коммерсант. <…>
Я даже в этом нахожу удовольствие — в самом процессе письма, как волостной писарь, а так как я никому, кроме тебя, не пишу, то казенных писем у меня не бывает. <…>
197 Киев, 3-VIII-31
Дорогая Хеся! Ночью вчера приехали в Киев. Нынче искупался и сейчас уже отыграл «Последний, решительный». Город в этот приезд произвел на меня очень хорошее впечатление, но в деле чувствую совершенно несказанную тоску. И очень забеспокоился, что с фэксами все сорвется. Жить в ТИМе просто не могу. <…>
Собираюсь, чтобы уехать от говенной атмосферы, которую скоро еще сгустят приехавшие Мэтры, в Днепрострой. <…>
Киев, 5-VIII-31
Дорогая Кваз! Сегодня получил твою открытку из Рязани и в театре получил письмо Козинцева. <…> Он еще пишет, что снимать будет 6-7 месяцев. Вот как ты думаешь насчет театра? Я сниматься хочу во всяком случае, но все же тыл хотелось бы сохранить. В Киеве каждое утро физкультурюсь, затем купаюсь, обедаю в Пролетарском саду — это бывш. Купеческий сад. <…> Каплеру запретили ставить сценарий, и он поехал на Донбасс в качестве хроникального режиссера1. <…>
1 Речь идет о съемках агитпропфильма «Шахта 12-28» («Донбасс»), который не был выпущен на экраны.
Киев. 8-VIII-31
Дорогая Кваз! Получил телеграмму из Пролеткульта: «Телеграфируйте место и сроки вашего пребывания, необходима встреча с вами — Ленинградский Пролеткульт»1. Я должен тебе сказать, что очень волнуюсь, как бы все три организации не обмануть. Мне очень хочется сниматься у фэксов, и нельзя нахальничать с Пролеткультом, <…> а тут еще вчера ввалился Мастер с пьесой Вишневского, которая в читке идет 4 часа2. <…>.
Пиши мне, как ты думаешь — как мне быть? Эраст.
1 Гарин должен был ставить в Ленинградском Пролеткульте пьесу Н. Погодина «Поэма о топоре».
2 Возможно, речь идет о пьесе «Германия».
Киев, 8-VIII-31
Дорогая Кваз! <…> Нынче послал тебе спешное письмо, полное своих волнений перед предстоящим сезоном. Вот дурацкое воспитание — все кажется, что если связываешься с фэксами, то ничего не должно существовать. Боюсь я запутаться с тремя делами, а тут еще эти остолопы — пролеткультовцы прислали телеграмму, которая попала, конечно, не ко мне, а к местным Кочкаревым — Соколовой и Никольскому1. <…> А тут еще абсолютная неразбериха с гастролями — кто, куда, когда? — никто не знает. Теперь, если влипнешь в пьесу Вишневского, то тогда — ау, фэксы. А экспедиция у фэксов — ау, Пролеткульт. <…> Вот во всех этих мотивах я и дрожу. Веду себя очень режимно, и хотя сегодня днем пил водку, но это по соображеньям медицинским: поехали на лодке, и хватил нас такой дождь, что продрогли до костей (были-то голые). <…>
Напиши мне — когда я кончу гастроли, ехать прямо в Ленинград? Или заехать в Рязань? Поговорить с Мастером или не надо, или лучше после совершившегося факта тяпнуть письмо ему? Мартинсона он отпустил на два месяца сниматься к Пискатору2 с условием приезжать играть «Список». Макс тоже в отпуску. Игорь, очевидно, уйдет — он все же приехал в Киев и уедет завтра, ему дали отпуск, так что я могу быть козлом отпущенья.
Кваза, только прошу тебя очень, забрасывая тебя вопросами, — прошу тебя не надсаживаться, выясняя все это — у меня такой характер метлишливый (так у Э. Г. — А. Х.), а ты чувствуй себя хорошо, и надеюсь тебя встретить толстой и обретшей радость жизни. <…>
1 Сотрудников ГосТИМа Гарин сравнивает с персонажем «Женитьбы» Гоголя, хотя в данном контексте сравненье с почтмейстером Шпекиным или с Бобчинским и Добчинским из «Ревизора» казалось бы более уместным.
2 Речь идет о фильме «Восстание рыбаков». С. Мартинсон сыграл в нем роль судовладельца Бределя.
Киев, 9/VIII 31
<…> Глубина чувств различна у человеков. <…> Но все же тот жалкий диапазон чувств, которыми я располагаю, принадлежит тебе. <…>
Мне же хочется передать математическую стенограмму моего нутра. <…>
198 А как же эгоизм и одиночество? Ведь все дело в том, что в этом эго сидишь ты. <…>
Я сейчас стал думать, как Марсель Пруст. <…>
Я тебе говорил об одиночестве, но сейчас его почувствовал не как то философское раздумье, а как совершенно явное.
Киев, 11-VIII-31
Дорогая и единственная Хесенька!
<…>Твой отъезд из Воронежа, очень неудачный из-за моей нерасторопности, у меня в душе остался как начало нашей настоящей жизни. <…>Твоя человеческая грандиозность ставит меня на колени перед тобой. <…> Как же это могло все-таки получиться? <…> Тебе видна была цель, а я разъехался по всем швам, явно это сознавая, но явно и думая, что это проходяще, — разъехался по всем планам, и человеческим, и рабочим. <…> Почему прошу у тебя поддержки. <…> Очень прошу помощи у тебя потому, что лучше всего на свете отношусь к тебе. [И] «это не факт, а на самом деле»1. <…>
Я хочу знать, что наш воронежский договор будет настоящим, и ты, и я обретем настоящую жизнь. <…> Милый Кваз, как только я кончу здесь эту бузу, так немедля приеду к тебе, чтобы нам всерьез можно было идти вместе. Мне ты напиши немедля, как ты себя ощущаешь. Я только прошу меня слушаться, потому как ты очень отбилась от рук. <…> Как мне казалось, в Воронеже мы начали входить в колею настоящей жизни, понимая друг друга. Кваза, очень тебя прошу вернуться к Воронежу, и дойдем до радости. Целую тебя.
Эраст.
1 Цитата из пьесы И. Сельвинского «Командарм-2».
Киев, 13-VIII-31
Дорогая Хесенька. <…> Приехал Босулаев1 и привез мне пьесу, которую я должен ставить в Ленинграде, и это свиданье меня так заняло, что пишу тебе на день позже. <…> Пьеса-то — «Поэма о топоре». Сперва я был накануне отказа, но потом передумал, ибо это все-таки единственная пьеса, зарекомендованная как большая в репертуаре Пролеткульта. Затем Босулаев предложил свои соображенья. Я ему ничего не сказал, взял пьесу, прочитал сегодня ночью, утром искупался и пришел к нему с целым рядом возражений, которые ему, по-моему, очень понравились. Свиданье было очень длительное, целый день, а сейчас я пишу на окне Киевской Держоперы во время второго эпизода. <…>2 Идея очень хороша, хотя и отдаленно напоминает «Д. Е.». Имеется возможность для необычайно эффектных сцен. Пьеса после того, как я ее внимательно прочел, показалась мне приемлемой. Места же, где фальшивит Бабанова3, нужно выкинуть, это безболезненно. Тебе нужно послать доверенность, чтобы ты взяла аванс, или как? Как ты вообще смотришь на все это? Пиши мне скорей. Босулаев, вначале как будто очень скептически ко мне относившийся, после разговора и после того, как я поставил перед ним вопрос совершенно по-новому решить сцены, почувствовал ко мне уваженье и, уезжая, прощался необычайно пораженный.
Думал за эти дни очень много по всем вопросам жизни, а так как к тому же и работал, то даже похудел и, так как оброс усами и бородой, то вид липовый. <…> Сейчас начинается III эпизод, и я бегу.
Целую тебя.
До свиданья.
1 Босулаев А. Ф. (1904 – 1964) — художник.
2 Здесь пространно излагается идея сценической установки.
3 М. Бабанова играла роль Анки в спектакле «Поэма о топоре» на сцене Театра Революции в постановке А. Д. Попова.
Киев, 14-VIII-31
<…> По мере того, как я подумакиваю над постановкой, приходят всякие мысли. Очень хорошо, что при мне остался цирк — там много интересного. <…> Завтра пойду в кинематограф на Гарольда Ллойда — по-украински это называется «Гарi поливода», а по-русски «Быстрота и натиск»1. <…>
«Рычи, Китай!» играть просто нет сил — устаешь просто до геморроидальности, а тут устроили с 23<-го> три дня подряд утро и вечер. <…>
Чикул отпросился домой, и роль Улялюма дали Мартинсону. Так он будет играть и Татарова, и Улялюма2. Вообще, очевидно, спектакли будущего будут играться только двумя артистами.
1 Фильм (1928) режиссера Тома Уайда.
2 Улялюма в спектакле «Список благодеяний» играл М. Чикул.
Киев, 17-VIII-31
Дорогая Хесенька! <…> Наконец, посылаю тебе фото — одна у Киевского театра, а другая в Воронежских лагерях, где я был конферансье. <…>
В Пролетарском саду встретил Арнольда. Он мне сказал, что эрдмановскую пьесу1 читал Максим Горький и будто бы передал самому2. Какое же впечатление она произвела — не известно. На Максима же большое. Говорил ли тебе об этом Ник<олай> Роб<ертович>, или он сам не знает? <…>
1 Речь идет о пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца».
2 Имеется в виду И. В. Сталин.
Киев, 19-VIII-31
<…> Ходил нынче в Лавру — теперь естественно музей, и ходил в пещеру — чуть не сделалось дурно, уж не знаю, от психики или от сердца. Эти три дня свободен, поэтому все время читаю о французской революции. <…>
199 Читать стал что-то очень много, часов по 6 в день. Придется, пожалуй, скоро заводить очки. Целую тебя. До свиданья. Эраст.
Киев, 24-VIII-31
<…> Теперь в театре Белиловского выжили, и опять вся власть перешла к сюзерену (пока она еще ограничена еще не ушедшим Белиловским). В театре ни с кем не вожусь и не чаю, как приехать в Ленинград. <…> Козинцеву скажи, что театральных навыков у меня нет в сознании, если они будут проскальзывать, то только бессознательно, но я не думаю. <…>
<Киев, 24.08.31>
Дорогая Хесенька. Пишу во время утреннего спектакля. <…> По поводу Голубенцева1 <…> я, собственно, не протестую, потому как писать музыки почти не надо, нужно только подобрать русские северные песни. <…> Хотя я Босулаеву сказал, что неплохо было бы [пригласить] Шебалина. (Кстати, Шостакович отказался писать музыку для Мастера в новой пьесе Вишневского «Германия».) Он, то есть Вишневский, хотел приехать сюда читать пьесу, но будто заболел и не приехал. <…> Ежели будешь видеть Босулаева, то скажи ему, чтобы максимум вниманья он уделил решению авансцены. Спектакль должен быть стадионного типа, а не передвижнически-рамочным, как в Театре Революции. <…>
Работать, и именно самостоятельно, мне очень хочется, поэтому буду с удовольствием разводить2. Ты бы взяла в Пролете экземпляр и подчитала, посоветовала что-нибудь. Кваз, к твоему весу костей необходимо приращивать вес радости. Прошу тебя очень вести себя хорошо и кормиться получше. <…>
Сказать нужно как будто очень много, но тут, в атмосфере спектакля, трудно собраться с мыслями.
Приветствуй фэксов.
Целую. До свиданья.
Эр. Г.
1 Голубенцев А. А. — композитор, предполагавшийся для музыкального оформления спектакля «Поэма о топоре» в Ленинградском Пролеткульте.
2 Имеется в виду профессиональный термин, определяющий один из компонентов режиссуры: «разводка мизансцен».
Киев, 26-VIII-31
<…> Вообще, хорошо бы фэксы не очень распространялись по этому вопросу1. <…> В Москве думаю увидеть Мастера и сказать ему, что хочу в отпуск заняться режиссурой в провинции. Думаю, что возражений не будет, но ты мне напиши свои соображения по этому поводу. <…>
1 Речь идет об участии Гарина в съемках фильма «Путешествие в СССР».
Москва, 2/IX-31
В Москве мне в этот приезд очень не понравилось, я совершенно был убит. Когда ехал на 25-м, то увидел, что сломали ворота у Иверской. Это просто варварство. Москва стала холодная, противная. <…> Мэтру ничего не говорил даже о Пролеткульте, хотя об этом, конечно, надо сказать. <…>
Рязань, 4-IX-31
<…> Мама очень постарела, я просто ахнул, и стала похожа на Ротшильда. Очевидно, я в старости буду тоже очень похож на Ротшильда. В Рязани меня угнетает, как ужасно живут люди, странно. А афиши здесь смешные. Напр[имер] «Долина горячих скал», причем первая буква последнего слова выпала на очень многих афишах. Сейчас были с папой на ярмарке, там у карусели толпится народ и играет гармошка со скрипкой, кругом четыре-пять палаток торгуют засранными конфетами.
<Рязань, IX-31>
Д. Х. Завтра собираюсь выехать отсюда. Сегодня ночью клопы меня окончательно доконали. Да к тому же до сих пор нет уборной, приходится ходить в Парк культуры и отдыха. <…> Как припрусь в Москву и схожу в баню, напишу письмо спешное. Целую. До свиданья. Эр.
1932
Москва, 8-I-32
Дорогая Хеся! Приехал в Москву с большим запозданием. В комнате совершенное запустение и холод. <…> Лампочка горит до того слабо, что читать нельзя. В Гостеатре черт знает что. Сегодня собираюсь к Мейеру. На днях хотят везти театр в Орехово-Зуево. Чувствовал себя довольно скверно, но после того, как пропарился в бане, оживел. <…> Вечером смотрел «Поэму о топоре» — говно совершенное, несмотря на участие М. И.1 Не знаю, как обманывается публика, принимая ее за наивную и непосредственную простушку, когда совершенно ясно, что это злобная и престарелая фокстерьерка. Сейчас был у Блюменфельда. Он предлагает работать. Обещался увидеться с ним после свиданья с Мастером. <…>
1 Имеется в виду М. Бабанова, игравшая роль Анки в спектакле Театра Революции.
200 <10/I 32>
Дорогая Кваз!
<…> Вчера не писал, потому как весь день был в гостях — сперва у Боголюбова, потом у Штрауха, который уже ушел из театра, но играет еще в ТИМе, и потом у Погодина, от которого узнал, что приехали фэксы. <…> Они, судя по Погодину, обхаживают М. И., а она заговаривает зубы Кнорре1 — это ТРАМ. Баб[анова] пришла туда как раз, когда я был у Штрауха, а он сосед Кнорре. Погодин мне сказал, что о соединении ролей капитана Гранта и Васюты2 не может быть речи, так как очень оголится артель. Был у Мастера, говорил о Ташкенте, а он мне сказал, что дня через два, возможно, выяснится, что туда не поедет театр. По поводу работы у меня довольно мрачное настроение и нахожусь в нерешительности, но в ТИМе не хочу коптеть, так что осторожно посматриваю на фэксов.
Москва мне очень приятна и хочу, чтобы ты перевелась сюда. <…> Приятный город, законный и естественный и такой же грязный, как был.
1 Кнорре Ф. Ф. (1903 – 1987) — писатель, драматург. В то время жил в комнате уехавшего в заграничную командировку Эйзенштейна в квартире, принадлежавшей отцу Штрауха.
2 Персонажи сценария Н. Погодина «Путешествие в СССР».
<11/I 32. Москва>
Дорогая Хеся!
<…> Сейчас сижу у Тани, потом пойду в театр на репетицию «Посл[еднего] и реш[ительного]» — там собираюсь продолжить беседу с Мастером. <…> Как чувствуется из источников Рабиса, Союз не будет возражать на уход в режиссуру. <…> С Мастером говорил вежливо, но нагловато. [Фэксам] звонил раз 8-мь — они оставили телефон Гранд-отеля, но нет их дома, очевидно, котуют. Судя по слухам, можно и в Москве найти работу по режиссуре. <…>
Сам подал в Рабис заявление — просит о помощи: разбегаются актеры. Охлопков работает в Реалистическом театре, но, судя по всем данным (я видел Кельберера), это сдуто с «Хочу ребенка»1. <…>
1 Речь идет о спектакле «Разбег» (по очеркам В. Ставского), который ставил в Реалистическом театре Н. Охлопков. Принцип решения театрального пространства Н. Охлопковым был схож с решением В. Э. Мейерхольдом (художник Эль Лисицкий) пьесы С. Третьякова «Хочу ребенка», запрещенной к показу Главреперткомом.
Москва, 12-I-32
Дорогая Хеся!
<…> Утром сегодня позвонили фэксы — пошел к ним в Гранд-отель. <…> Пил там в ресторане чай с сыром, и Козинцев заплатил за меня — отдай ему <…> 3 р. 60 коп. (три руб. 60 коп.). <…> В театре полный бардак. Твое решение перейти в Москву приветствую — надо во всяком случае теперь добиваться самостоятельной работы хоть на советской пленке. Сняться у фэксов я все же думаю, ибо нет перспектив ни в ГосТИМе, ни в Пролеткульте, который располагает только пьесами Арбузова, а это не очень художественно. <…>
Москва, 14-I-32
Дорогая Хеся! Совершенно очевидно, что нужно бежать из ТИМа: полный развал, и к тому же Мастер начинает [ш]пынять: мне передали, что на ячейке он меня поставил в пример «как человека, который, занимая ответственный участок, на стороне делает постановки и уже через наши головы дал согласие участвовать в картине». Слух этот до него дошел либо [через] Мартинсон[а] — Бабанов[у], либо <…> — Даревские1. Теперь идет разговор о том, чтобы мне быть в Ташкенте не больше месяца, а меня заставляют из[-за] двух спектаклей остаться на 8-е – 9-е марта, вот и скандалю. План таков: когда приду за результатом (очевидно, откажут), но в кармане буду иметь заявление об отказе от поездки совсем — по причине маминой болезни. В общем, думаю, что мне удастся выторговать то, что я хочу. <…>
1 Даревский З. Ю. — актер ГосТИМа.
Ташкент, 1-II-32
Дорогая Хессилла Квазимод! Приехали, наконец, в Ташкент. <…> Отвезли нас в гостиницу, и мне достался очень приличный номер. <…> Большинство из труппы устроили в общежитиях в ужасающих условиях. Вчера я был у Юр[ия] Серг[еевича]1 — он живет в комнате с еще 12-ю человеками — вонища страшная. Так же — большинство женщин. Несчастная немка2 сидит на кровати и говорит: «это софершенно нефозможно» — и, действительно, невозможно не только для немки. Сортира у них нет, а умывальник стоит в коридоре. А общежитие это — красноармейское. Театр из бывшего цирка весь засрат лошадьми и публикой. К нашему приезду его вытерли керосином — теперь вонь совершенно невероятная. Город сам довольно приятный — типичный южный город, а на улицах лежит снег. Солнце светит уже прямо в глаз, и воздух очень нежен. И необычайная голубизна и утром, и вечером. <…> В гостинице же и утром, и вечером подают самовары, что, несомненно, в обстановке «золотой и дремотной Азии» приятно. <…>
Для глаза, привыкшего к серости в Москве и Ленинграде, здесь необычайное разнообразие. Туземцы ходят в разных цветах, в необычайных костюмах и на средствах передвижения, начиная с «форда» и кончая ишаком. Весна здесь, должно быть, совершенно волшебная. <…>
Юрий Серг[еевич] был перед отъездом у Станиславского, и он ему хвалил меня в «Мандате» и довольно липово отзывался о Мастере. <…>
1 Имеется в виду, вероятно, Ю. С. Лавров (1905 – 1980), актер, служивший одно время в ГосТИМе.
2 Возможно, речь идет об актрисе ГосТИМа Л. М. Шмидт, немке по происхождению, числившейся в труппе на амплуа старух.
201 Ташкент, 3-II-32
Дорогая Хессилла! Сыграно уже два спектакля, причем вчера играл очень хорошо: без Мэтра я чувствую себя уверенней и спокойней. <…> Плучек играет вместо Мартинсона американца и имеет шумный успех. <…>
Ташкент, 7-II-32
Здравствуй, дорогая Хессилла!
<…> Вчера пришлось играть два «Мандата» — от этого я уже отвык. <…> На здешнем безрыбьи мы идем за сазанов, и уже предлагают продлить гастроли до июня месяца. Никакой работы никто, конечно, не ведет. Есть здесь слух, что Мейер добился включения театра в число ударных строек, и будто бы здание будет готово к ноябрю. Все это, конечно, очень фантастично. Грипичи здесь потихоньку интригуют. Публика исключительно бесталанная и сволочная. <…>
Ташкент, 11-II-32
Дорогая Хесенька! Пользуюсь случаем отъезда Тяпкиной, чтобы отослать тебе письмо. <…> Играть приходится очень много. С вчерашнего дня начал выступать с Маяковским на концертах, но за это не очень много платят. От гнусного климата охрип и говорю и в жизни, и на сцене вполголоса. Развлеклись здесь вырезкой из «Советского искусства», где пропечатан разрыв с Мастером1 Вишневского. <…>
1 Речь идет о передаче Вс. Вишневским пьесы «Германия» в Театр Революции. Спектакль был выпущен в 1933 г. под названием «На Западе бой».
Ташкент, 15-II-32
<…> Играть просто осточертело. Публика здесь ужасно неинтересная, она и не проста, и не квалифицированна. Спектакли идут по-казенному. Письма и слухи доходят сюда через две недели. Я приспособился к Эдгару По — это очень хорошо. Так как много хожу по улицам, чуть загорел. По утрам тренируюсь. Занятия ведет Зосима и, надо отдать ему справедливость, очень хорошо. Приятно, что когда приедет Мастер, я как раз уеду. Пресса о нас ничего не пишет — очевидно, потому, что Грипич ее переработал. <…>
<Ташкент, 19-2-32>
Дор. Хеся! До сих пор от тебя ничего не получил. Вчера не писал, так как очень устал: было два «Мандата». Единственное развлечение здесь — это хождение по ковровым базарам. Но купить мне что-нибудь трудно, так как меня считают за скупщика и спекулянта — все знают в лицо. <…>
202 Ташкент, 22-II-32
Дорогая Хесенька! Наконец, получил от тебя закрытое письмо. <…> Сегодня я узнал, что 8-го и 9-го марта «Мандаты» не отменяются, что меня очень огорчило, но я хочу попробовать еще один трюк: у меня что-то вроде невралгии в левой части груди, так что завтра собираюсь посетить амбулаторию и попросить бюллетень. Тогда, возможно, меня заменят в «Мандате» (обнаружен артист, игравший в мейерхольдовской постановке в Тифлисе Гулячкина, по фамилии Зубков). Ежели же меня заменят, то тогда от тех мартовских двух я отбоярюсь. <…> Начал было ходить на тренаж, но прекратил, ибо больно грудь. <…> Хотел раньше я проехаться в Самарканд, а может, и в Ашхабад, но грязь здесь столь грандиозна и экзотична, что только тут постигнешь такую вещь, что мы, между прочим, живем в Европе. <…>
Ты бы как-нибудь зашла посмотреть «Поэму» — очень ли развалился спектакль?
Ну, всего доброго. Целую крепко.
До свиданья. Для приличия передай привет Козинтраубергу.
Да, о стишках1. Нужно приблизительно такие:
Что нам скрипка,
Что нам бубен,
Мы на пузе
Играть будем.
Пузо лопнет — наплевать:
Под рубахой — не видать.
Ты им не показывай, а то передадут кому-нибудь.
1 Имеются в виду «стишки» для роли Васюты Барашкина. Насколько последовательно Э. Гарин вел поиски подобного материала для этой роли, можно судить также по его письму к сестре, Т. П. Герасимовой:
«Ленинград, 2/IV 32
Дорогая Татьяна! Большая к тебе просьба: помнишь, года два или три назад М. Горький в какой-то статье приводит стихотворное рассужденье деревенского парня о нелюбви к городу и нежности к деревне, и что он хочет заработать [на] пиджак и уйти в деревню. Если бы можно это найти, то ты бы прислала. Это очень нужно для роли в картине».
24-II-32
Дорогая Хеся! <…> Сегодня в последний раз было два «Мандата». Если не удастся уехать раньше срока, то проедусь в Самарканд. Днем было совершенно весеннее оформление. Я даже сжег себе морду, ибо все перерывы сидел на солнце. «Мандат» здорово подсократили. <…> Вчера очень хорошо читал на концерте. <…>
Ташкент, 26-II-32
<…> Вечером вчера был на концерте-банкете в местной газете «Правда Востока», где было чествование персидского поэта Лахути1. Мне пришлось по шпаргалке читать его стихотворение — хорошо, что оно было маленькое, затем я читал Маяковского и монолог из 3-го акта «Мандата» и во всех выступлениях имел самый шумный успех. <…>
Ожидается на днях Мастер, у которого хочу испросить разрешение на выезд отсюда 2-го, но что-то до сих пор нет телеграммы о [его] выезде — уж не сыграл ли он болезнь. Что касается ударной стройки театра, то как бы ударна она ни была, все равно меньше чем [за] полтора года сделать это невозможно, а по сведениям, которые есть у нас, ломать еще не начинали. <…>
1 Лахути Абулькасим (1887 – 1957) — таджикский поэт. По происхождению — перс.
Ленинград, 24 III 32
Дорогая Хесенька! Получил сейчас записку с Бабанихой, а вчера вечером был у хозяев1 и получил сценарий, лег и читал, и совсем расстроился — очень говенные куски, которые мне нужно играть. К тому же такая туча всего, что досмотреть эту картину будет невозможно. Да, вообще нужно бросать актерство — не могу играть, что заставляют. Теперь просто жалею, что согласился на эту миссию. Смотрел тут Ильи Трауберга картину2 — это нечто нечленораздельное, бездарщина вопиющая, а там сидят и чего-то обсуждают. Максим играет совсем несерьезно3. Узнай, пожалуйста, про московскую конъюнктуру. Здесь я все же очень печально настроен и не симпатизирую хозяевам, возможно, это очень шкурная точка зрения. К черту всех, нужно делать самим. Сегодня с Симкой4 собираюсь в цирк. Он мне вчера звонил и приглашал и тебя, и меня. Посмотри репетицию у Охлопкова. Неужели хорошо? <…>
1 Имеются в виду Г. Козинцев и Л. Трауберг.
2 Трауберг И. З. (1905 – 1948) — режиссер, сценарист, киновед, брат Л. Трауберга. Речь идет о фильме «Для вас найдется работа».
3 М. Штраух играл в фильме, рисующем жизнь Германии, Франца Виннера, мастера колбасной фабрики.
4 Имеется в виду С. Дрейден.
Москва, 9-V-32
Дорогая Хесенька!
<…> Сейчас сижу у фэксов — они в «Национале», № 334, но под угрозой выставки, ибо это не гостиница, а валюта. По поводу Мэтра много любопытного. Вечером напишу тебе подробности.
Целую. Эр. Г.
Приехал Эйзенштейн1. Видел Тяпкину. Все собираются бежать.
1 Речь идет о возвращении из-за границы группы С. М. Эйзенштейна.
Москва, 9-V-32
<…> Завтра в 12 дня общее собрание и доклад Мэтра — хочу сходить послушать. Труппа вся возвратилась, ибо гастроли не состоялись во Фрунзе. <…>
У фэксов все в порядке — начинают снимать в ближайшие дни. Пока сидят с Погодиным. Завтра хочу заехать к нему. <…> 203 В театре на 11-е назначена читка «Самоубийцы». Режиссура З. Райх. <…> Встретил пролеткультовцев, они приглашают зайти. Я обещался. <…>
Москва, 10-V-32
Дорогой Кваз! Вот как течет моя жизнь. Утром пошел на общее собрание ГосТИМа. Новый директор Шлуглейт1 (это тот самый, который был в Соловках) делал доклад о строительстве. По его словам, театр будет построен, но в старых стенах. Приступлено к этому будет в ближайшие дни, а осуществлено все к январю, но возможны всякие неполадки и даже возможно, что играть придется не в Москве. Директор производит очень приятное впечатление. Затем очень хорошо говорил Мастер, и кончилось все благополучно. После собрания я с ним поздоровался. [Он] очень был мил и спросил, кончил ли я? Я сказал, что осталось кое-что доснять. Ругнул ему это искусство. Тогда он оживился совсем и на ухо мне сказал: «Что граммофон, что звукокино — говно». Буквально. Потом [я] сказал: «На июнь опоздаю, — я говорю, — стараюсь не опоздать, но, возможно, опоздаю». Он: «Угу». Так что мое впечатление от встречи очень благоприятное. От Никольского же слышал, что Мартинсон подписал к Пискатору и должен ехать к 1-му июня в экспедицию. А там «Списка» в репертуаре до черта. Как бы с этой стороны не вышло свинства. Поэтому завтра собираюсь на репетицию «Самоубийцы», где будет Эрдман. Свинство можно еще ждать от Чиркова2, с которым Мастер увидится, думаю, будучи в Ленинграде. Тот скажет, что ничего не начинали делать, вот и будет нехорошо. Видел Макса — он все не может решить, где он. <…>
Вечером пошел в «Зеркальный» смотреть «Гарольд — спортсмен»3 — там он играет немую сцену с У-О-А-И — то, что мы записали на звукопленке. После кино заехал к фэксам, но их нет, поэтому оставил записку. К Бабановой дозвониться не мог и плюнул. <…>
Целую тебя и завтра напишу разговор с фининспектором и Мастером.
Звонил Акимов и приглашал — послезавтра собираюсь посмотреть4. Завтра собираюсь увидеть фэксов и узнать, как дальнейшие дела. Целую ЭрГ.
1 М. М. Шлуглейт (1883 – 1939) работал в ГосТИМе с 1932 по 1934 г.
2 Б. Чирков, как и Гарин, должен был сниматься в фильме Г. Козинцева и Л. Трауберга «Путешествие в СССР».
3 Фильм (1925) реж. Ф. Ньюмейра и С. Тейлора.
4 Речь идет о спектакле «Гамлет», который Н. П. Акимов ставил в Театре Вахтангова.
Москва, 12-е V-32
Дорогая девка Кваз! Только что проводил [Трауберга] до «Националя» — смотрели-с «Разбег». <…> Кратко охарактеризовать можно следующей фразой: это одна сплошная бестактность. Ни одного живого места, фиглярство, все построено по принципу пушки, т. е. публика берется на пушку то шумом, то колокольным звоном, то беготней, то песней, то суетней. Спектакль столь пуст, что возмущает, что-либо говорить о нем — это блеф.
В антракте зашел на репетицию «Самоубийцы» — вообще я был чуть выпимши, чтобы не смущаться, так как боялся в «Разбеге» сидеть на сцене и освещенный. С Зиной имели игривый разговор о роли Подсекальникова. Разговор закончился — она предложила билет на Казадезюса1 — идти с ней или, говорит, я отдам билет другому. Я говорю: «Отдайте другому». Она: «Ты меня не любишь». Я: «Я не люблю Казадезюса». Видишь как, совсем в стиле Дидро. Это меня очень радует, что я могу так шикарно изъясняться. Мастер-то будто поехал в Ленинград надолго — уж не на постановку ли. <…> Видел на репетиции Эрдмана, очень мило поговорил с ним. Пожалуйста, не думай, что я был пьян хоть в малейшей степени похоже на Трауберга — нет, как француз, очень легко. <…>
1 Казадезюс Робер (1899 – 1972) — французский пианист, композитор, неоднократно гастролировавший в СССР (впервые — в 1929 г.).
Москва, 13-V-32
<…> Вечером пошел на репетицию «Самоубийцы», читал Семен Семеновича. Вся труппа это делала по складам, но я все-таки читал прилично. В антракте говорил с Эрдманом. Он говорит, что хозяева собрались поставить к сентябрю. Райх действительно сидит за пультом и дирижирует. Мастер вернулся и сидит сбоку. Иногда по многолетней привычке что-то хочет поправить, но понемногу смиряется с новым положением. Эрдману передал твой привет — он просил передать тебе и Магарилле. Собирается приехать в Ленинград.
С Мастером беседовал о театре, говорил ему о большом наплыве трудящихся актеров в его театр. Хвалил за приглашение Чиркова1. Он говорит, что очень рад, что мне нравится этот актер. <…>
1 Б. Чирков в ТИМе не работал.
Москва, 13-V-32
<…> Завтра пойду к Акимову на репетицию «Гамлета». <…> По приезде Мастера ясно мне, что меня не требуют в театр. Это была фантази Зины. Так как в списке «Ревизора» меня поставили во 2-ую очередь, я теперь и говорить ни о чем не буду — просто не приеду на июнь, прислав телеграмму, а июль — отпуск. Был рано утром у семитов. Мое мнение, что они отложили думать о картине как о юбилейной.
Звонила Кузьмина и, как выяснилось, о комнате — ну, я ее послал к черту очень вежливо.
Сейчас звонили из театра — требуют прийти на репетицию, но я их вежливо послал к черту.
Очень вежлив я стал, просто — ну, не подкопаешься.
Ну, всего доброго. Целую.
До свиданья. ЭрГ.
204 Москва, 9-VI-32
Дорогой Кваз! Окружение у меня в вагоне было совершенно ужасное: два маленьких поганца, которые орали препротивнейшими голосами, как только я влез в вагон. Затем эти гонококи орущие начали жрать, затем пить. Я все собирался выяснить социальное происхождение родителей, чтобы выяснить систему воспитательных традиций. <…>
Виделся с Мастером, который сказал, что нужно играть Хлестакова. Я пробурчал невнятное. Затем внимательнейшим образом просмотрел «Самоубийцу» — репетицию. Впечатление скуки и казенщины ну совершенно, так как представляешь себе, что сделает Мейер. Поставлена III картина с цыганами. Неплохо в общем, но все игровые мотивы настолько знакомы, совершенно не оплодотворены современными наблюдениями, настолько академичны по-гостимовски, что «не захватывают». Это не только мое мнение, но, как мне кажется (я не спрашивал, но вижу), судя [по] тонусу общего интереса к репетиции, всем надоело. При всем моем уважении повторение смотреть не остался. <…>
Да, имела место беседа со Шлуглейтом, который, как мне показалось, решил меня осчастливить и дает играть мне два «Ревизора». Тут уж я вопрос поставил категорически, что играть в этом сезоне не буду. Он предложил мне побеседовать с Мастером. Я говорю — беседуйте Вы, а я буду завтра у Вас и окончательно закрепим наш уговор. При создавшейся ситуации играть не буду ни под каким видом, вплоть до ухода из театра. Маразм разъедает весь организм. Жена Мичурина репетирует Стеллу1. Мичурин — Калабушкина2 — «истасканно, как пословица»3. Бодров — поэта. Можешь себе представить? Ну, не лежит душа совсем к этому предприятию. <…>
В комнате относительный порядок, только спертоват (спертый) воздух (отнюдь не от слова спирт). Мастер постарел, такой сморщенный старикашка с кровавыми глазишками. <…>
Эрдман не очень, но доволен. Игорь ничего себе, только Мейер из него сделал полоумного дурака4. Мартинсон вышел из пьесы, играет теперь Мологин5, вообще его положение довольно неважное. <…>
1 Речь идет о введении на роль главной героини пьесы Ф. Кроммелинка «Великодушный рогоносец».
2 Персонаж пьесы Н. Эрдмана «Самоубийца».
3 Гарин цитирует Маяковского.
4 Ильинский репетировал роль Подсекальникова.
5 Мологин (наст. фам. Мочульский) Н. К. (1892 – 1951) — актер ГосТИМа.
Москва, 10-VI-32
Дорогой Кваз!
<…> Папа мой очень волнуется за театр, боится скандала, но уход, если он состоится, благословляет. Раньше, говорит, я был за то, чтобы он не уходил, а теперь за то, чтобы ушел из театра. Собрался смотреть «Ревизора» с Мартинс[оно]м, но в тревоге от этого вечера безмятежно проспал весь спектакль. <…> Совершенно естественно, что нужно самим писать сценарий. Цирк я, к сожалению, проспал — там будет работать Смолич1. <…>
1 Смолич Н. В. (1888 – 1968) — актер и режиссер.
Москва, 25-VI-32
Дорогой Кваз Перелопа!
<…> Разговорчик состоялся с Морисом Шлуглейтом. <…> Что касается права на режработу, то, говорит, ежели вы будете ставить, допустим, в Театре Революции, то не разрешу, ибо предприятие конкурирующее. А у меня намечается связь с Коршем1. <…>
В Рязани был недолго. <…> С Татьяной покупались в Оке и видели пароход с оригинальным названием «Большой театр». <…> С Мастером так и не виделся. Говорят, что он 5[-й] акт поставил интересно. Игорь прямо на 7-м небе. <…>
1 Гарин получил предложение театра Корша принять участие в спектакле по случаю юбилея Октября (см. Биохронику).
Москва, 6/VII 32
<…> Ну, побег на вокзал, ибо уже 6 часов, и трамвай может сломаться, а Курский вокзал черт знает где. <…> Сожители мои — один восторг: Каюков с коньяком, Чирков с пирогами1 — не думай, что сопьемся. Абсолютно не будем пьяны. Целую Эр Г.
1 С. Каюков, Б. Чирков должны были вместе с Гариным участвовать в съемках фильма «Путешествие в СССР» в Мариуполе (см. об этом подробнее в Биохронике).
Мариуполь, 10/VII 32
Дорогая Хеся! <…> Первые дни шли дожди, и поэтому с тоски выпили «сантифарису» — это Каюков так назвал водку. Теперь отпаиваюсь молоком. Завтра первая съемка. <…>
Мариуполь, 14/VIII 32
<…> Навертываем вот уже три дня, и как будто удачно. Некоторыми кусками я доволен, а некоторыми нет. У меня что-то расходились какие-то органы, и ночью ору, чем пугаю хозяев. Сегодня поймал себя на том, что лез на стену во сне. 205 Думаю, что после сегодняшней съемки все придет в норму, ибо даже сейчас болит плечо — таскал все время сундучок и мешок — все это весит пуда полтора. Живу внизу у моря рядом с Козинцевым, Енеем1 и Москвиным, после обеда всегда отдыхаю у Чиркова и Каюкова на диване. Они организовывают халтуру. Собираюсь с Тархановым2 играть «Хирургию». <…>
1 Еней Е. Е. (1890 – 1981) — художник кино.
2 Тарханов М. М. (1877 – 1948) — актер МХАТа; в фильме «Путешествие в СССР» играл роль Хозяина артели.
Москва, 28/VIII 32
Дорогая Хеся! Всеволод встал на дыбы и не отпускает. Я мог бы, конечно, поскандалить, но сам Трауберг дал совет этого не делать, ибо он не уверен в картине. <…> Теперь, отыграв «Ревизора», я хочу попросить еще раз и прилететь на аэроплане с тем, чтобы захватить Тарханова. Говоря откровенно, не предполагал никак, что такой камуфлет случится. Естественно, настроение ниже среднего, и очень возмущен союзкиновцами — как же можно после такой небесной беззаботности связывать себя с этими людьми. Так у меня впечатление правильного поведения, но недоконченной картины угнетает страшно. <…> Видел Эрдмана. Он очень в большой претензии на то, что актеры, по его мнению, угробили пьесу. Есть предположения, что она все же пойдет, но, видимо, Мастер сам смущен чем-то. Посмотришь внимательно мои вновь привезенные кусочки и подробно опишешь, как это получилось. Видел Эйзенштейна — он закончил сценарий, который должен обрабатывать Эрдман1, но, судя по намекам, Ник[олаю] Роб[ертовичу] совсем это не по душе.
Насчет зимы — все как будто будет очень трудно, поэтому ежели барак будет сниматься в Москве, это очень было бы хорошо. Писал ли что-нибудь Цехановский2? Козинцев меня пудит (так у Э. Г. — А. Х.), должно быть, как Бабанову.
С Траубергом я в Москве вошел в самые нежные отношения. Пиши, как живешь. Ни с какими девушками не вижусь и не собираюсь — настроен совершенно на другой лад.
Был у Татьяны и заказал ей фрейдистские исследования творчества Гоголя.
Ну, вот все обстоятельства. Целую тебя и надеюсь вылететь в Днепропетровск на аэроплане. Привет всем. Если Чирков приедет, то назад не уедет, а так может проволынить по телеграфу. Оказывается, одна большая телеграмма от Мейера пропала — там меня требовали немедленно и подали заявление в ЦК РАБИСа.
Целую. Эр Гар.
1 В газете «Советское искусство» (1932, 9 июля) была напечатана заметка «Самое забавное…», в которой С. Эйзенштейн делился планами ставить комедию по сценарию В. Шкловского (с диалогами Н. Эрдмана).
2 Цехановский М. М. (1889 – 1965) — художник-график, режиссер-аниматор.
<Москва, до 18 сентября>
Дорогая Хеся! Пользуюсь случаем отъезда Хржановского1 и пишу тебе, ибо нет конвертов и до сих пор нигде не получил денег. <…> Вчера случайно попал к Федорову с Тяпкиной, оттуда к Шлепянову, где и обедал, а нынче кормил Хржановский. Мы с ним пошли смотреть «Генерала»2 Кейтона. После картины мне показалось, что я в кино не очень плохо играю. «Раунды» понемногу приближаются к концу, числа 20[-го] думаю приступить к репетициям. Видел сегодня у Грипича 100-й Александринский выпуск3. Мастер наш занимает там не очень большое место, Акимов же — очень большое. <…> Видел Эрдмана, он передал тебе привет, после того, как я приветствовал от тебя. Желаю всего доброго. Целую. До свидания. ЭрГ
1 Хржановский Ю. Б. (1905 – 1987) — художник, актер. См. его воспоминания о Гарине в этой книге.
2 Фильм (1926), поставленный Б. Китоном в сотрудничестве с К. Брукменом.
3 Речь идет об издании «Сто лет. Александринский театр — театр Госдрамы» (Л., 1932).
Москва, 18/IX 32
Дорогая Хеся! Вчера на вечер Таню посадил в качестве собаки на предмет апробации «15 раундов». Ей как будто понравилось, но, говорит, очень трудно исполнять. Кое-какие трючки приходят в голову, так что пока есть надежда не провалить это дело. <…> Таня принесла мне дневник и письма Чехова — очень любопытно. Начинать думаю трючком-стихом Бодлера (почему Бодлера — неизвестно), но чтобы было настроение, а не повествование. <…> Смотрела ли ты кусочки днепропетровские? Какие мнения? Больше интересуюсь своей частностью. <…>
206 Москва, 19/IX 32
<…> Я все большее количество дня и вечеров сижу над «15 раунд[ами]», ибо уже 20[-го], т. е. завтра, назначена сдача литературного экземпляра и режиссерского толкованья — в 4 часа. Вчера сделал конец, теперь осталось только 2 раунда предпоследних. Редко вижусь только с Еленой Алекс[еевной]1, которая собирается меня на днях вести к Татлину — он, говорит она, очень заманчиво поет песни. С ней же условились идти на «Страх»2. «Горе от ума» уже отложили на октябрь. <…> Жду от тебя письма в полной подробности о самых ближайших перспективах своей жизни. Тебе, как понимаешь сама, нужно приезжать в Москву и писать себе сценарий. Мне очень загорелось поставить пьесу. Скоро буду одну читать — название замечательное: «Парадом командую я» — Гладкова. Целую тебя. До свиданья. Приветы знакомым. Идет ли «Поэма»3? Как «Женитьба»4? ЭрГ.
1 Имеется в виду Е. А. Тяпкина.
2 Спектакль МХАТа по пьесе А. Афиногенова.
3 Имеется в виду «Поэма о топоре».
4 Речь идет о сотрудничестве с М. М. Цехановским в работе над киносценарием «Женитьба» по пьесе Н. В. Гоголя.
<Москва, 20/IX 32>
Дорогая Хеся! Твое письмо меня очень обрадовало. Я начинаю оживляться. Посылаю тебе свое письмо к Цехановскому. Как оно, не очень глупо? Менеджер, ты смотри, не устрой такого матча, где мне совершенно разобьют морду. Фэксам передай привет. Насчет Мейера с Юрьевым1 я не понял ничего. 25, 26 заставляют играть Хлестакова. <…> Сейчас бегу на репетицию, ибо уже опоздал с письмом Цехановского. <…>
Да, от Цехановского получил письмо, почему и отвечаю.
1 Юрьев Ю. М. (1872 – 1948) — актер. С 1893 г. — в Александринском театре. Вероятно, речь идет о приглашении его в ГосТИМ на роль Кречинского в спектакле «Свадьба Кречинского».
Москва, 22/IX 32
Сегодня вечером у меня первая репетиция «15 раундов». Вчера я только осознал, что задача эта для актера колоссальна. Я даже похудел. Потом волнуюсь очень за Цехановского — должно быть, я ему написал невнятную чушь. <…> Сейчас я сижу на читке «Вступления»1. Читает Сам. <…> Судя по началу, это олеографическое говно. <…> В шкафу достал Переверзева2 о творчестве Гоголя. Он там с говном смешивает Ермакова3, называя его не исследователем, а толкователем — это, говорит, современный талмудист от Фрейда. В свою очередь современная марксистская критика смешивает с говном Переверзева. <…> Вчера вечером собрался идти в Театр Революции на «Доходное место»4, <…> но до поздней ночи просидел в радио. Было обсужденье. <…> Говорили очень много, но все ерунду. Только одна девушка какая-то — музо-спец — сказала, что «15 раунд[ов]» нужно похерить как вещь омерзительную, у ней даже тошнота была. Значит, будет нравиться.
Тоска на читке развеивается подсевом к моему столику Тяпы — она хохочет. Пьеса чем дальше, тем хуже. К концу будет совсем говно. У меня такое впечатление, что пьеса на всех производит удручающее впечатление. Вряд ли она додержится до премьеры. Мейер делает вид, что очень интересно. Но его пушка ни до кого не доходит. <…>
1 Пьеса Ю. Германа.
2 Речь идет о кн.: Переверзев В. Ф. Творчество Гоголя. Иваново-Вознесенск, «Основа», 1928.
3 Проф. Ермаков И. Д. — автор книги «Очерки по анализу творчества Н. В. Гоголя» (1924).
4 Имеется в виду спектакль, поставленный В. Э. Мейерхольдом в 1923 г.
Москва, 23/IX 32
Дорогая Хесенька! Вчера провел первую репетицию — очень возможно, что получится неплохо. Лично Потоцкий (композитор)1 мне понравился. <…> Вчера же меня записали (я читал из «15 раундов» и Маяковского), и вчера же я слушал. Между прочим, голос получается хорошо. <…> Вчера же вечером встретился с Эрдманом, гуляли с ним по улицам. Я ему рассказал про «Женитьбу» — он очень приветствует эту мысль и рассказал мне про свою «Женитьбу» — он хочет писать такую пьесу. Современную «Женитьбу», где жених выпрыгивает из окна, но окно то на 7-м этаже. Вчера же утром была читка пьесы Грипичем2, после которой я высказался против в очень резком тоне. После же радиорепетиции зашел в театр, и Всеволод был совершенно изысканно вежлив. Моцарт вкомпоновывается совершенно замечательно3. <…> Хеся, тебе предлагают заведовать кабинетом телевидения при научно-исследовательском ин-те Р. В. <…>
1 Потоцкий С. И. (1883 – 1958) — композитор. Позднее написал музыку к фильму Э. Гарина и Х. Локшиной «Принц и нищий».
2 Очевидно, речь идет о той же пьесе — «Вступление».
3 Речь идет о музыке к радиокомпозиции «15 раундов».
Москва, 24/IX 32
<…> Вчера <…> после театра пошел в машинное бюро и три часа диктовал «15 раундов» — нарочно, чтобы вчитаться. <…> После читки пьесы я выступил первый против так, что теперь Грипич смотрит на меня косо и, зная по прошлой практике мой характер, — не займет. Пьеса, как я тебе уже мельком описывал, совершенное говно. <…>
Завтра и послезавтра играю Хлестакова. Сегодня немного подрепетировал.
Как до Цехановского дошло мое письмо? Неужели, по-твоему, оно прилично?
<…> Вчера был [в] теаклубе на диспуте-встрече драматургов с режиссерами. Всеволод явно выжил из ума, старый баран. Даже такое говно, как Таиров, говорил умней и дельней. 207 Вел он себя как мальчишка избалованный. Игра противная донельзя, для биографии. Волконский у меня спрашивает: «Что с Мастером-то? Ерунду какую-то мелет…» Я ему ответил: «Зато с темпераментом!»
Пьяный Олеша доказывал, что в «Списке» он предвидел Горгулова1, что он даже фамилии угадал: Горгулов и Татаров. Общее, разве, то, что кончаются на въ. <…>
Сговорился с Эрдманом, он мне расскажет свои соображения о «Женитьбе». Он считает это замечательной идеей. Видишь, веду себя, сам по себе, очень хорошо. Пиши мне все в подробностях. Целую. До свиданья. ЭрГ.
1 Горгулов П. Г. (лит. псевдоним П. Бред) — русский эмигрант, застреливший в мае 1932 г. президента Франции Поля Думера.
Москва. 28/IX 32
Дорогая девка Кваз! <…> Тебе эти дни не писал по причине чрезмерной перегрузки. Оба «Ревизора» играл, и неплохо. Как будто Мартинсон подал заявление об уходе — ну, кажется, вопрос уладили бескомпромиссно и не за мой счет1.
Затем, очень рано репетирую на радио — с девяти часов утра. Начало вылупилось очень интересно. Сегодня все утро пришлось ругаться с композитором, он меня очень мягко, но назвал диктатором. Он передвижник, но человек очень приятный.
Почему-то ко мне очень нежно стал относиться Шкловский (очевидно, за то, что я ругал его пьесу) и приглашает к себе. Я иду к нему на предмет выяснения Гоголя. Он занимался со мной длинной беседой и разоблачал Гоголя. Я, не раскрывая карт, интересуюсь выпытать его о «Женитьбе». Вчера был на рауте у Тяпы, где должен [был] быть Эрдман, но он не пришел. <…>
Хржановскому передай, что Эрдман пока писать не будет ему скетч2, а подумает об этом только тогда, когда приедет в Ленинград.
Несмотря ни на что, меня заняли во «Вступлении». Три дня я не являлся, но, наконец, явился на читку и всех уморил. Диалог построен с радио, а радио читал сам Грипич, а мои первые слова, вызвавшие энтузиазм, таковы: «Заткни глотку! Паразит!» — были приняты чуть ли не на аплодисменты. Ну, я об этом не очень думаю. В 4 часа сегодня был на «Динамо» — для «15 раундов» смотрел матч футбола Германия — Москва. Был у меня разговор со Шлуглейтом, и из него я выяснил, что очень может быть, что мне в ГосТИМе дадут постановку. <…>
1 С. А. Мартинсон, так же как и Гарин, был исполнителем роли Хлестакова в спектакле «Ревизор».
2 Скетч был Н. Р. Эрдманом написан, и артист успешно выступал с ним на эстраде в течение многих лет.
Москва, 30/IX 32
<…> Только что с репетиции Радио и опять на репетицию. <…> Тут у меня новость: пригласили в ТРАМ ставить. Вчера слушал Пастернака и Эйзенштейна в теаклубе1. Вечером сегодня сговорился с Погодиным, а на днях буду у Шкловского. <…>
«Раунды» получаются довольно интересно. Приедешь — увидишь. <…>
<…> Зайцев приглашает меня в режиссеры (на радио. — А. Х.) на постоянную службу и чтобы я возглавлял бригаду театра Мейерхольда. Я предлагаю себя только соло, ибо возиться с этими бандитами себе дороже, но вообще это предложение меня мало увлекает. Я последнее время очень волнуюсь за «Женитьбу». Я боюсь, что Цехановский начнет без меня, а <я> очень обогащаюсь гоголеанством. Нынче на свободе внимательно прочитал Ермакова, и должен тебе сказать, что ведь психоанализ-то написан с меня, а не с Гоголя. Ведь Подколесин-то явно Гоголь. Но не по одной клинической линии мы совпадаем с Подколесиным. Я очень явно ощущаю серьезность других фигур комедии. А Подколесина я сыграю на «Ъ». Это чередование физиологичности и лиризма мне очень близко. Я уверен, что Цехановский, отказавшись от меня, не обретет себе такого актера, который бы так сочетал в себе технику игры и близкий автору внутренний строй. Постепенно освобождаясь от «Раундов», влезаю в «Женитьбу». У меня такой интерес к этому опыту, какого не было за всю жизнь. Достану всю литературу. Ежели бы приняться вплотную, то быстро бы до деталей выстроились образы.
Между прочим, прочитав книжечки, я понял, что Сергей Александрович2 на поприще Хлестакова не можете нами конкурировать. 208 <…> Между прочим, «Горе от ума» в этот раз, мне кажется, буду играть лучше. Спектакль пойдет 21-го октября.
<…> Волосы у меня отросли, я их подстриг скобочкой, а усы стали темней от грима, который остался от последнего «Ревизора», похож я на Николая Васильевича как две капли.
Да, предполагал открыть новую манеру читки в «15 раундах». Оказывается, это не так легко. Ноты «Японии» явно звучат, только подпущены еще всякие психологизмы. Начинается замечательно, с Эдгара По. <…> Взял я кусок из «Бочки Амонтильядо», да это на Моцарте. Музыка строится так: лейтмотив лирический — это Моцарт — «Фантазия» (кстати сказать, здесь слово «лирический» употребляется в широком смысле, иначе «Фантазия» не может соответствовать — это не Фильд3 и не Шопен). Затем музыка извне под названиями:
1) фокстротоподобный маршеобраз;
2) благополучный вальс;
3) танго (из «Двойника», получилось мистическое танго);
4) вальс, который перекликается с «Фантазией»;
5) галлюцинация (это когда нокаут).
Весь конец идет на финальной странице Моцарта, сначала только на фортепиано, а затем в оркестровке.
Арбитр и толпа говорят на французском языке.
Получил твое письмо с Акимовым. Он пригласил на свой доклад о «художнике в театре». Был на нем вместе с Тяпкой и Яншиным. Выяснилось, что он остряк в своей комнате. <…>
Да, о ГосТИМе. Сегодня видел первую репетицию Грипича. Это самовлюбленно безгранично и столь же бестактно, как и бездарно. Я пока роль имею на руках. Беспокоят редко. Она (роль) довольно смешная, так что если не поругаюсь на репетициях (пока он делает все, что хочу я), то могу спектаклей 5 сыграть. <…>
1 29 сентября 1932 г. С. М. Эйзенштейн выступал в Московском клубе теаработников, где рассказал о своих зарубежных впечатлениях.
2 Имеется в виду С. Мартинсон.
3 Фильд Джон (1782 – 1837) — ирландский композитор. Его музыка была использована в спектакле В. Э. Мейерхольда «Горе уму».
Москва, 12/XI 32
Дорогая Хеся! Твоим сообщением о консервации очень огорчился. <…> Гамлетизм наших водителей1 меня возмущает. Носятся со своей невинностью, боятся провалиться — вне сомнения, они и новую картину провалят. Мне очень обидно, если картина замаринуется. Я не понимаю, почему так скоро сбился у них пыл ставить. Смутил, что ли, успех коммунистов «Встречного»2? Так можешь их утешить, что Шкловский собирается писать громовую статью3. У меня как-то опустились руки. Столько времени, столько неприятностей перенесено, и все кошке под хвост4. Убийственно досадно. Вообще я за чечевичную похлебку против первородства неизвестного «Большевика»5. <…> Теперь о московских делах. В Мособлрабисе вел себя скромно, но непреклонно. Меня принудили играть — тогда я поставил вопрос так, что, заставляя меня играть, дирекция добивается моего ухода из театра. Вечером мне звонил Циплухин и просил позвонить Мастеру. Я позвонил, и он сказал мне, что я дурак, я должен заболеть. У меня такой план: пишу в Рязань с просьбой прислать тревожную телеграмму, чтобы я выехал. <…>
1 Имеются в виду Г. Козинцев и Л. Трауберг.
2 Фильм режиссеров Ф. Эрмлера и С. Юткевича.
3 Статья В. Шкловского «Две неудачи» (о фильмах «Встречный» и «Иван» А. Довженко) была напечатана в газете «Кино» 30 ноября 1932 г.
4 Работа над фильмом «Путешествие в СССР» Г. Козинцева и Л. Трауберга была прекращена на стадии, близкой к завершению.
5 Так должен был называться новый фильм Г. Козинцева и Л. Трауберга, в окончательном варианте известный как трилогия о Максиме («Юность Максима», «Возвращение Максима», «Выборгская сторона»).
Москва, 13/XI 32
Дорогая Хеся! Начинаю опять с возмущения против консервации. Так им, подлецам, и скажи. <…> С Зайцевым договорился об открытом концерте в радио-театре. Может быть, уж лучше пустить сразу две вещи и Некрасова1. <…> С ГосТИМом наступили лады. Всеволод, говорят, посмотрел репетицию и, очевидно, проникся ко мне уважением. Про «Вступление» сказал: «Это же МГСПС2, при чем здесь мы?»
Циплухин мне рассказал, что, когда ему доложили про финал Мособлрабисн[ого] разговора, старик так расстроился, посерел и звонил мне 6 раз. Вчера была встреча у Шлуглейта в кабинете, там он тоже был. Я не подал вида, что с ним говорил. Теперь все в порядке. — Сволочи фэксы. <…> Арнштам мой приходит каждый день буцой. На лаврах запивает свою славу3. В Рязань послал письмо. Боюсь только, что они суеверны и глупы и будут опасаться предложенного мной трюка. Нынче последний раз играем в ГПУ4. Репертуар специально для съемок5. Зайду перед спектаклем к Тархачу6, поспрошаю, как он — получил ли от них какое-нибудь известие.
Целую тебя крепко. До свиданья. Пиши. ЭрГ.
1 Постановка и чтение на радио композиции по произведениям Н. А. Некрасова входила в творческие планы Гарина.
2 Речь идет о Театре МГСПС.
3 Л. Арнштам участвовал в качестве соавтора сценария и сорежиссера в фильме реж. Ф. Эрмлера и С. Юткевича «Встречный».
4 Театр им. Вс. Мейерхольда, не имея своего помещения для полноценной работы, вынужден был давать спектакли на разных сценических площадках. В данном случае речь идет о клубе ГПУ.
5 Имеется в виду занятость Гарина в спектаклях, которая позволила бы ему в перерывах между спектаклями сниматься в кино.
6 Имеется в виду М. М. Тарханов.
Москва, 14/XI 32
Дорогая Хеся! Сегодня в 7 с 1/2 буду еще раз вещать со станции Сталина.
Звонил папа, ему понравилось, но, говорит, очень тяжело. <…> Нужно мне приезжать или нет — телеграфируй. Позднее будет нельзя: начнется «Горе уму». <…>
Вчера Сам просмотрел «Вступление», и как будто есть даже соображения пьесу снять, а всю грипичевскую компанию ликвидировать. Очень хорошо.
209 Блюменфельд прислал письмо с предложением ставить пьесу одного из авторов компании Поташинского — что-то у меня не очень лежит к этому душа. <…>
Москва, 15/XI 32
Дорогая Хеся! Получил твое письмо и телеграмму. <…> Мероприятия, проведенные мною:
1. «Цусима» из красноармейской (редакции. — А. Х.) перенесена в экспериментальную.
2. Получен аванс. <…>
3. Две партии книг на собственном горбу доставлены и сложены штабелем в углу. Осталась одна партия. <…>
Звонил папа. Я просил его ничего не писать, ибо теперь это ни к чему.
Книг о Некрасове туча — только поворачивайся.
Письмо пишу на [адрес] фэксов. Не знаю даже, посылать ли привет — я очень обозлен.
Ну, целую, жду.
ЭрГ.
P. S. Хотел в адрес «Союзкинофильм» послать телеграмму, что привлекаю их к ответственности за творческую консервацию.
Как Михаил Михайлович1? Может, мне приехать дня на два? Я могу выехать 19-го. <…>
1 Речь идет о М. М. Цехановском.
Москва, 18/XI 32
Дорогая Хеся! Сейчас иду на радио — сегодня передача в 11 часов ночи.
Получив телеграмму, огорчился ужасно. Тут же остригся, побрился и напился.
В театре Мастер явно свихнул с ума. Нынче весь день провел в ГосТИМе — читали пьесу Волькенштейна «Накануне»1. Говно страшное. Я очень невнятно выступил и ругал. Послезавтра я должен читать «Свадьбу Кречинского». Играть там, может, дадут Кречинского, но я сомневаюсь. Настроение у меня становится говно.
Был на просмотре еще двух бездарнейших американских фильм, несмотря на Глорию Свенсон.
Сегодня Мастер собрал нас после читки и просил, чтобы мы ставили «Вступление». Я ничего не говорил, но видно, что Сам просто боится теперь матерьяльной ответственности. Его едино-начальный трюк со «Вступлением» уже обошелся в 35 тысяч — как ему теперь признать себя ошибившимся? Ругает Грипича. Про Кречинского рассказывает любопытно. Зина вспоминала на этом сборище тебя как безупречную энтузиастку ГосТИМа.
Ну, в общем, все это говно, но фер-то ке?2
Почему ты ничего не пишешь? Ни про дела, ни про себя? Котуешь с Чирковым?
Кстати, как же Каюков? Он, должно быть, ошарашен произошедшим?
На просмотре видел <…> Бабанову с Файко3. Ее приглашает Экк к себе в картину. <…>
1 Волькенштейн В. М. (1883 – 1974) — драматург, театровед.
2 Спародированное французское выражение, означающее в переводе «что делать?».
3 Файко А. М. (1893 – 1959) — драматург. М. Бабанова играла роль Гоги в спектакле Театра Революции «Человек с портфелем» по пьесе А. Файко (реж. А. Дикий).
Москва, 19/XI 32
Дорогая Хеся! Вчера послал тебе мрачное письмо. Утром сегодня получил от тебя, а вечером вчера на радио пожал лавры: хвалили страшно.
Был устроен диспут, причем в двух помещениях. Вперед нас слушали (громкоговоритель работал), а потом — наоборот. Волконский превозносил меня до небес. Вообще не было ни одного ругательного выступления. Читал вчера, как никогда, хорошо. Говорят, что даже хотят премировать.
Очень бы хотел завтра уехать, но денег нет. <…> Купил три книги рублей на 75 — один «Эрмитаж» стоит 60 рублей. <…> Сегодня заберу последнюю партию книг, самую маленькую — все сложено штабелем и накрыто матрасом. Сейчас у меня на диване сопит Плучек — он был вчера на передаче и на диспуте, оттуда мы вернулись в 3-м часу ночи. <…> Завтра должен в театре читать «Свадьбу Кречинского». <…>
Сейчас напьюсь чаю и пойду на промысел — может быть, мне удастся на радио как-нибудь урвать денег. Вечером тебе еще напишу.
Надо делать Некрасова хорошенько — теперь завал неудобен просто.
Репертуар таков, что могу свободно приехать до 29-го утра — там может быть скандал с «Ревизором».
Ну, целую крепко. Пиши. До свиданья.
ЭрГ.
210 1933
Москва, 25/II 33
<…> Сегодня пойду на репетицию «Кречинского» (планировочную). <…> В марте я занят всего два раза: 4-го и 5-го «Ревизор». <…>
<Ленинград, 9/III 33>
<…> Пробовался два раза1. Вчера видел себя на экране, но так как я заплакал от света, то вчера снимали со звуком. Нынче посмотрю. Файнциммер2, конечно, сапожник, а «Белгос-кино» по устройству конюшен, где происходят съемки, далеко догнало и перегнало «Союзкино», это совершенный бардак, к тому же не отапливаемый. Сегодня у меня организационный разговор — пока никаких недоговоренностей нет. Судя по сценарию, по моим сценам, их очень быстро можно отснять, — всего их 130. Посылаю тебе дуэтную пробу — другой у меня нет.
Все необычайно предупредительны и вежливы. Я вожусь больше всего с Бабочкиным, Каюковым и Чирковым — последний купил тебе коньки, которые я и привезу. Дни проходят очень наполненно. Вчера все утро ходил с Ал. Глаголиным на лыжах, а сейчас пойду, договорюсь на радио. Видел всех, за исключением Москвина и Мих. Мих. Крайний срок отъезда отсюда — 12-е, ибо 12-го состоится разговор с Тыняновым, хотелось бы на нем быть. Если возникнет какая-нибудь буза в театре, телеграфируй на Арнштама. С ним я иду на «Дон Жуана»3 сегодня. <…> Был на «Свадьбе Кречинского» и в Мюзик-холле — и то и другое очень говно. Кадрик не показывай пока никому. <…> Степа и Борис мрачноваты4. Фэксов хвалю так, что все шарахаются и боятся. Это я делаю без гротеска, а всерьез. Утром сегодня изучал сценарий. Можно смешно играть. <…> Магарилла будет играть фрейлину. <…> В общем, мне надоело здесь, хочется в Москву. Но нужно увидеться с Цехановским обстоятельно.
Вообще говоря, я заметно обнаглел. «Женитьбу» нужно ставить, и никаких гвоздей. <…>
1 Речь идет о пробах к фильму «Поручик Киже» по сценарию Ю. Тынянова.
2 Файнциммер А. М. (1905 – 1982) — кинорежиссер.
3 Спектакль В. Э. Мейерхольда, поставленный им в Александринском театре в 1910 г. и возобновленный в 1932-м (премьера — 26 декабря).
4 Имеются в виду С. Каюков и Б. Чирков.
Ленинград, 9/IV 33
Дорогая Хесенька! Не ругайся за то, что до сих пор не выслал денег, ибо совершенно загонялся. Вчера утром к 10-ти часам приехал на «Белгоскино», там никого не было. Дали они автомобиль и повезли в костюмерную Александринского театра, оттуда должен был ехать уже в «Выборгский» на репетицию «Ревизора». Всеволод бросил курить и свиреп несказанно. Там прорепетировали до 5-ти.
После фабрики пошел к Наде1. Пегги меня очень долго встречала и очень нежно2. Пообедал у них вторично, и Ник. Пав. дал мне записку в Александринку, где я мог высидеть только два акта и ушел спать. Сегодня у нас генеральная «Ревизора». <…>
1 Имеется в виду Н. Н. Кошеверова, бывшая в то время замужем за Н. П. Акимовым.
2 Речь идет о собаке Кошеверовой и Акимова.
Ленинград, 13/IV 33
Дорогая девка Кваз! Замотался последние дни страшно, почему и не собрался написать. Утром был в «Белгоскино», потом бежал на фабрику «Росфильма», а вечером «Ревизор», С «Белгоскино» все покончено, и в ближайшие дни приступят к съемкам со сцены с писарем (писарь, как я уже говорил тебе, — Костричкин1). Фэксы что-то манежатся. Вначале они, по-моему, признали мой захват «Киже», теперь же, <…> после беседы с правлением, т. е. со Шнейдерман[ом], Обнорским, Пиотровским, которым, как они говорят, рассказывали сценарии, а правление их похвалило, они немедля обнаглели, и торгуемся из-за двух недель июля2. Вчера я к ним похолодал. Они застали меня телефоном у Москвина и просили, чтобы я пришел к ним вечером, но я играл. Буду звонить сегодня, как просил Козинцев. Магарилл на фабрике ведет себя довольно вульгарно, но в работе очень тактична и прилична. После заседаний с Файнциммером, которому мы сцены все напридумали, у меня создалось впечатление, что он не очень изобретателен, но отдыхаю я на нем по причине того, что он не кичится своей гениальностью, а то наш старый пердун бросил курить и теперь рвет и мечет, а первый акт идет из рук вон плохо. Тяпа играет очень плохо. Сибиряк совершенно жуток. Юрьев до того мне надоел, что не могу слушать. Сам орет, толкает ногами стулья и сидит на репетициях3 в окружении Царева4. <…>
1 211 Костричкин А. А. (1901 – 1973) — актер.
2 Речь идет о запуске в производство фильма «Большевик».
3 Имеются в виду репетиции спектакля «Свадьба Кречинского», премьера которого состоялась в Ленинграде на следующий день, 14 апреля. Е. Тяпкина играла роль Атуевой, Н. Сибиряк — Муромского.
4 Царев М. И. (1903 – 1987) — актер.
Ленинград, 15/IV 33
Дорогая Хесенька! Сейчас только был у Шлуглейта по поводу мая и лета. Все это возможно, но хуже, чем с нашим театром, нельзя найти объекта для разговора. Оказывается, репертуар в гастролях опять изменили — начинать будут с «Ревизора» в Харькове, но подробно здесь никто не знает. <…>
Прошла вчера премьера, кончилась в час ночи. Хоть и аплодировали Ильинскому1, спектакль получился <нрзб>. Первый акт совершенно невыносим — шел 67 минут, а второй акт 1 час 40 м. К числу нововведений новаторских принадлежит восстановление занавеса — он фигурировал после 2-го акта и третий уже был как в Александрынском (так у Э. Г. — А. Х.) театре.
Царев водится Самим как корифей под ручки. Фэксы мне звонили, да и сам Чирков говорит, что хочет поступать в театр к нам. Видел на спектакле Галя2 и Беюл3 — они в восторге. Мыслящая часть, как то Степан Каюков — зевал. Видел Дрейдена, Цимбала4 — всем не нравится. <…> «Киже» сегодня будет репетиция с Костричкиным, а сейчас пойду примерять костюм в Александринку. Получил здесь две книги по твоим извещениям, которые передала мне Над[ежда] Ник[олаевна] — один том Литературной энц[иклопедии] и 26-й том Б. С. Э. Взял «Русскую историю» и читаю павловское время. Погода в Лен-де испортилась, и теперь опять холодно. Встретил вчера Козинцева, немного поговорили на улице. Спрашивал про тебя, — я сказал, что ты приедешь, как получишь посланные мной деньги. Они хотят пригласить Н. Ф. Погодина писать текст (текст ли только). Ну, целую. До свидания. ЭрГ.
1 И. Ильинский играл роль Расплюева.
2 Галь Э. — актер, работал в группе ФЭКС.
3 Беюл О. П. — актриса.
4 Цимбал С. Л. — театральный критик.
Ленинград, 28/V 33
Дорогая Хеся! Приехал вчера в два часа. Был на фабрике. Смотрел подмонтированные куски — это уж вовсе не так плохо. Выспался наконец и сейчас сижу у Арнштама и пишу письмо. В Ленинграде холодно. [Фэксы], как мне вчера сказала Магарилл, поехали в Москву, и сценарий произвел на всех потрясающее впечатление. Зная райховские приемы магарилловских повествований, интересуюсь истиной и хочу тебя предупредить, чтобы ты (в случае, если сценарий действительно хорош) не очень торговалась и грубила, все равно это последнее униженье уж нужно пройти, и до конца.
Видел жену Цехановского1, просил передать привет и завтра собираюсь к нему зайти. <…>
1 Речь идет о Вере Всеславовне Цехановской — художнике и режиссере-аниматоре.
212 Харьков, 7/VI 33
Дорогой Кваз!
<…> Здесь я живу ничего. В «Даму»1 уже не попал, почему очень рад. Спектакли «Ревизора» идут хорошо, в то время как «Вступление» пустовало. Думаю смыться отсюда 10-го, т. е. с 9 на 10 в ночь. <…> На первом «Ревизоре» получил письмо от своего старого гимназического и Песочинского товарища, некоего Жоржа Лозового. Теперь мы с ним бродим по улицам, и сегодня он пригласил меня к себе обедать. <…> Мастер однажды устроил доклад о т[ак] наз[ываемом] социалистическом реализме. Оказалось на поверку, что это говно, ибо он уже был проведен Зин. Райх в сцене Мюзик-холла в «Списке благодеяний».
Вообще коробка у Мастера явно с дырами, причем с дырами в буржуазное прошлое. Своим докладом он произвел очень неприятное впечатление. <…>
Как фэксовые дела? Неужели у них дело заело, а театр осенью будет в Ленинграде. По всей вероятности, меня займут в Волькенштейне, но это будет очень не скоро, ибо премьера «Дамы» назначена на конец ноября. <…>
1 Речь идет о «Даме с камелиями» А. Дюма-сына.
Одесса, 4/VII 33
Дорогая Хеся! Приехал в Одессу, а тут целый скандал. Мичурин, Свердлин заболели и, кажется, крепко, поэтому «Вступление» не могло идти и пошел «Список благодеяний» в декорациях и музыке от «Вступления».
Сам совершенно остервенел. Теперь, в связи с тем, что театр горит, назначили «Ревизора» на 6, 7, 8, 9, 10, а 11-го «Посл[едний и] Реш[ительный]». Я пока еще не зондировал почву, чтобы не играть «Решительный», но, может статься, что придется это сделать, а так как в Киеве открываемся «Посл[едним и] Реш[ительным]», то может быть катастрофа. <…> Говоря откровенно, вся атмосфера, которая создана здесь вокруг капризничающих Мастера и Мастерицы, мне до тошноты противна, но в то же самое время абсолютно нет твердой уверенности в [фэксах]. Все же я думаю, что это нужно сделать так, чтобы договор-то был подписан. Буду ждать твоей телеграммы с нетерпением. Вот копия письма Козинцеву, она немного напыщенно декламационна, но, во всяком случае, патетична.
«Ознакомившись с содержанием В[ашего] письма, сообщаю Вам, что я ясно представляю масштаб Вашего замысла и огромную общественную и художественную ответственность во взятой на себя задаче — исполнении роли Максима в картине “Большевик”, а потому, со своей стороны, представляю Вам всю свою творческую энергию и время не менее 20-25 дней в месяц.
Актер Эраст Гарин».
На второй странице я написал письмо частного характера и такого содержания:
«Дорогой Григорий Михайлович!
Удовлетворит ли такая редакция Вас? По моим скромным соображениям, она позволит нам спуститься с Монблана юридических дискуссий в долину творческих волнений, и вообще заняться своим прямым делом». <…>
Не знаю, как на твой тонкий вкус, по-моему, ничего, пусть даже немножко слишком (этот «лишек» — естественное начало протеста против местного хамства). <…>
Энея1 попроси подобрать брюки для Максима. <…>
Цареву устраивается пышная встреча. Мастер выписал автомобиль из Москвы и перекрасил в модный цвет.
До чего надоели мне эти советские феодалы! Боже мой! Сама из себя корчит Рейнхарда — я был на репетиции, где она пророчествовала.
Я миндальничать с Мастером не собираюсь и буду вести свою линию японскими методами, но срыв возможен, так что, ежели вдруг возникнет телеграмма о моей болезни, ты не пугайся, ибо если я заболею на самом деле, то подпишусь Эраст Гарин, а если для дипломатии, то одним: либо фамилия, либо имя. <…>
1 Речь идею Е. Е. Енее.
Киев, 27/VII 33
Дор. Хеся. Только что получил твое письмо. Вот бы выехать сегодня, но фэксы обещались 26-го дать телеграмму, а ее до сих пор нет. Это вынуждает меня остаться здесь, а чтобы мне платили деньги, согласился играть «Посл[едний и] Реш[ительный]» 1-го, так что ночью на 2-е могу выехать. <…>
У меня твердая уверенность в том, что все мое предприятие пройдет. «Ревизора» вчера играл очень хорошо. А у фэкс[ов], должно быть, что-то заело. А вообще, когда обещаются дать телеграмму, тогда и дают, ибо у меня с этим связано целое разговорное событие с мэтром. <…>
Киев, 31/VII 33
Дорогая Хеся!
<…> Получил твою телеграмму. Фэксы сами так и не дали никакой вести. С Мастером ни о чем не говорил — он мне очень противен. В театре одна мерзость за другой. Повесился Боря Маслюков прямо в помещении театра на ремне от штанов.
Завтра будут хоронить. Мохамеда1 объявили классовым врагом за то, что до этого за два дня он сказал тихо и скромно Мейеру, что работать в театре он не будет больше. Все это, вместе взятое, и затем выступления Мастера, которые я, к своему счастью, не слушаю, ибо просто не хожу на собрания, создали здесь атмосферу маразма.
Рассказывают, что когда Сам узнал, что повесился Борис, — прямо без шапки и без автомобиля побежал в театр 213 и страшно боялся оставленной записки, но, когда узнал, что записка нейтрального содержания, сразу принялся за демагогию и травлю Мохамеда. <…>
Теперь с отъездом отсюда. Собираюсь выехать в ночь с 1-го на 2-е, но может случиться так, что спектакль перенесут на второе — тогда выеду только 2[-го] ночью. Спектакль этот идет на стадионе «Динамо». <…>
Немедля нужно толкать «Женитьбу», иначе мы теряем темпы.
Ну, Кваз, целую тебя крепко.
Скоро приеду. Эраст
1 Речь идет об И. Д. Мехамеде, помощнике режиссера.
Москва, 15/IX 33
Дорогая девка Хеся! Сейчас пишу тебе — теперь вечер; пришел из цирка, где был на открытии сезона. «Ревизора» отменили, как они говорят, только вчера в 2 часа. Все же я довольно деликатно, но внушительно сказал, что надо послать было телеграмму, но это еще не все. Сегодня же пожарная инспекция запретила давать спектакли в этом помещении, так что вряд ли 18-го состоится открытие сезона. Даже после «Белгоскино» ГосТИМ произвел на меня впечатление удручающее. Несомненно, бежать. <…>
Совершенно потрясающую новость рассказал мне Шлуглейт о Мих. Мих. Тарханове — что три дня назад он ушел из дому на бега, и до сих пор его нет, что всюду заявлено, но до сих пор он не отыскался. <…>
Очень тебя прошу — пиши и держи меня в курсе дела своей души. <…> Крепко тебя целую. Кастрюлька закипела — пойду пить чай, а то боюсь, что протухнут пирожные (говорил тебе — ешь). Целую. Эраст.
В театре получил письмо от Козинцева, написанное в «Национале».
Приписка утром.
<…> 5. Поехать в Гагры очень бы хорошо, и думаю, что можно. Между прочим, Игорь уезжает на два месяца сниматься. Чиркову будет раздолье.
6. Зашла Таня, долго рассказывала. <…> Правда, не спятил ли папа с ума — что-то делает тучи глупостей и пьянствует. Звонил сегодня по телефону, клялся, что пить не будет.
7. С удовольствием читал «Чехов в жизни» по воспоминаниям его брата1.
8. Какое впечатление у тебя от кусков «Киже», если ты их видела?
Кваз! Целую.
ЭрГ
1 Имеется в виду книга М. П. Чехова «Вокруг Чехова. Встречи и впечатления» (М.-Л., «Academia», 1933).
Москва, сентябрь 17, утро, 33 г.
Дорогая Кваза! За вчера набралось довольно много приятных вещей.
С утра <…> пошел на радио, где меня очень хорошо встретили. Договорились так: 1) сыграть 1 раз «15 раундов»; 2) окончательно оформить вопрос о «Цусиме», т. е. либо подписать договор, либо ее не играть; 3) молодежная передача предлагает мне сделать «Сердце» Ивана Катаева1. К сожалению, я вещь не читал; 4) красноармейская передача предлагает годовой договор; 5) колхозная передача — работу с композитором и постановку. <…>
1 Повесть (1928) И. И. Катаева (1902 – 1939).
Москва, 27 <сентября>, утро
Дорогая Хеся! Вчера провел первую репетицию на радио и после разговора сделал заявку на работу над Конан-Дойлем («Шерлок»), причем в ЦК Комсомола сказали, что если редакция 214 находит нужным ставить, а Керженцев1 против, то все равно ставьте.
Видел В. А. Шестакова, он мне сказал, что Вс. Мейерхольд сообщил ему в беседе, что театр нужно вернуть к провинциальной непосредственности — отсюда, очевидно, и «Дама». <…>
1 Керженцев (Лебедев) П. М. (1881 – 1940) — партийный и государственный деятель, в 1931 – 1936 гг. — председатель Радиокомитета.
Москва, 30/IX 33
Дорогая Хеся! Не писал тебе эти дни потому, что очень загонялся с репетициями, пением, розысками Холмса. Приехал папа, говоря откровенно, невмоготу такого свойства жизнь, бегу из дому, чтобы побыть одному, а работать очень трудно. Сбагрю «Мандат» завтра и займусь комнатными делами вплотную. <…> Единственное у меня приятное ощущение — от маргаритиных уроков (сегодня только первый день пропустил ввиду того, что он — выходной). Стало очень ничего получаться, беру ноты и поймал секрет с дыханием. Теперь задача для тембра — не курить утром и не пить пива. <…> Рвусь на «Евгения Онегина» с Козловским1 — ну, это, может, отложим до твоего приезда. Целую тебя крепко. До свидания. ЭрГ.
1 Козловский И. С. (1900 – 1993) — певец. В Большом театре — с 1926 г.
<Без даты>
Дорогая Хеся! Пишу тебе записку от Жарова — он едет в Лен-д. Достань у Трауберга или Блеймана1 или еще какого-нибудь любителя бульвара «Шерлок Холмса» Конан Дойля. В Ц. К. комсомола утвердили постановку, и нужно ее проталкивать. <…>
1 Блейман М. Ю. (1904 – 1973) — критик, сценарист.
Москва, 2/Х 33 г.
Дорогая Хессилла! Получил вчера после спектакля твое письмо и телеграмму. Возвратился я очень поздно, ибо встретил на Тверском бульваре Ив. Ал. Аксенова и часа полтора беседовал с ним на темы о Конан Дойле и Холмсе. Перед спектаклем с Хржановским поехали на Воробьевы горы, так что очень утомился и хотел спать. Зашел к Маргарите размять голос и передать ей контрамарку (она занимается очень внимательно) и стал очень волноваться.
Волновался и на спектакле, но играл очень хорошо и убедительно. Публика была очень тонкая. Меня даже поразило, что во 2-м акте аплодисменты были на фразах два раза, а в конце вызывали только меня.
Выходил четыре раза, а ты знаешь, что раньше еле натягивали два. После спектакля Морис1 пришел поздравлять меня. У меня было ощущение, что работал высококачественно и как артист.
Некоторые места никогда так не доходили (это, очевидно, еще и от помещения — здесь очень удобно играть). Напр[имер], сцена на сундуке «И зачем это, маменька», и т. д., и потом III акт необычайно дошло место: «Вы думаете, если вы человеку». У меня все же было чувство, что играл лучше всех в Москве. Теперь боюсь за сегодня. <…>
Мое мнение — не дожидайся меня в Ленинграде и кати сюда. Перед отъездом на курорт подработаем радиовещи — сегодня я там должен быть и окончательно договориться о дальнейшей работе. Вчера же избегал все магазины и не мог найти «Вселенной вокруг нас». <…>
1 Речь идет о М. М. Шлуглейте.
Москва, 4/Х 33
Дорогая Хесенька! Вчера после «Мандата» получил твою записочку и Конан Дойля. Судя по записочке, ты мрачна, а я прошу тебя приехать в Москву. «15 раундов» пойдут 10-го в 7 1/2 со станции ВЦСПС. На Тверской вывешивается плакат с картинкой боксеров и крупно подписано мое имя. <…>
От «Мандата» устаю. На него началось гонение. Вчера цензура выкинула совершенно безобидную [фразу:] «Мне божиться нельзя, теперь диктатура пролетариата». Эрдману послал приветственную телеграмму. Играю очень хорошо, как мне кажется. Впрочем, тебе Хржановский расскажет, он видел два акта. Репетирую «Ревизора». Сами еще не приехали. Говорят, что они везут новую пьесу Кроммелинка. Что же молчит М. М.1? Хочу ему написать. Сегодня же напишу Козинцеву и вложу отпечатанное на ремингтоне приглашение на «15 раундов», где значится исп[олнитель] — «известный артист», и т. д. Целую тебя и категорически жду. <…>
1 Речь идет о М. М. Цехановском.
Москва, 7/X-33
<…> Веду разговор о постановке оперы в Передвижной опере и разговор о постановке в Передвижном театре драмы. И по последнему к тебе просьба: коли попадется комедия какого-нибудь Лябиша1 или советская, что еще лучше, то сообщи мне.
В Гостеатре события таковы. Приехали Мэтр и смотрели «Мандат». Принимала публика замечательно. После спектакля Мейер позвал к себе для разговора, где спросил о тебе, и просил передать привет. Предложил он мне играть Расплюева2. Я согласился с тем условием, что в первую очередь играет В. Зайчиков. Так что если будет желанье — сыграю, а для практики можно порисовать, к тому же роль без формалистских загибов. <…> Послал письма Козинцеву и очень интересуюсь, какое впечатление произвело мое письмо на Цехановского: там было анонимно помещено стихотворение 215 Тургенева (он, наверное, думал — либо я с ума сошел, либо пьян). <…>
1 Речь идет об Эжене Марене Лабише (1815 – 1888), французском комедиографе.
2 Предложение последовало в связи с уходом из театра И. Ильинского, игравшего эту роль.
Москва, 8/XI 33 г.
Дорогой Сидорчук! Нынче ввалился домой. <…> По приезде позвонил Козинцеву и Цехановскому. Вечером в день приезда был у Трауберга, где был и Козинцев — ну, это так, трепня была. На второй день был у Цехановского, с которым поругался, но потом, ввиду моего напора по вопросам «Женитьбы», сговорились. Но представляешь мое изумление по приезде в Москву: захожу к Ваське Федорову, и он мне говорит: «Придумал постановку — “Женитьба”». Я его долго отговаривал, но сейчас пишу Цехановскому, чтобы тот немедля заявку пускал в ход. <…> Был вчера у Козинцева. <…> По моему глубокому убеждению, они «Большевика» ставить не будут. Козинцев лежит в постели и говорит, что никуда не поедет (т. е. на сдачу), сценарий еще не готов, и он совершенно увлечен цирком. У Трауберга ничего вытащить на этот счет невозможно (а об цирке он не знает), а по москвинскому варианту — он пишет сценарий какому-то Иванову. Я ему, т. е. Козинцеву, сказал, что вот, с «Грозой», говорю, «Межрабпом» приглашает1, а про «Женитьбу» пока не сказал. <…> Шостакович высказывает большой энтузиазм по поводу «Женитьбы». Зощенку не мог поймать. Он, сволочь, к телефону не подходит, а дома его нет. Посмотрел «Киже» — получилось ничего, так себе. Хорошо, что коротко — всего 2400 метров. Это редкость для звуко-картины. Прокофьев2 написал прекрасную музыку на место, когда адъютант возвращается в Петербург — это место будет на аплодисменты. <…> Утро седьмого просидел у Андрея Николаевича3 — он меня снимал всячески. Карточки обещается дать в следующий приезд. Ехать, по всей вероятности, придется числа 13-го — с оркестром озвучиваться. Песню озвучали — вышло ничего. Вообще все озвученное в этот приезд — очень неплохо. <…> Перед отъездом зашел к отцу в клинику и пришел как раз в тот момент, когда он собирался слушать меня по радио, а этот сеанс, т. е. 4-го, был отменен предоктябрьскими информациями. Теперь Козинцев пристал с «Уленшпигелем» — играть, конечно, интересно, но как увязать с театром? — Пока не думаю, до тех пор, пока у него не будет реальностей. Он еще ни договора не подписал, ни сценария не получил.
Фантастику свою они еще не собрались пустить в ход и ждут Ильфа и Петрова, а последние, кажется, в Москве. <…> Веди себя получше и, пожалуйста, как следует поправляйся — дело будет с «Женитьбой».
От «Грозы» хочу отказаться — не хочется волноваться. Теперь буду кончать Холмса. <…>
1 О каком проекте идет речь, неясно. Позднее «Грозу» поставил на «Ленфильме» режиссер В. Петров.
2 Музыка к «Поручику Киже» — первый опыт работы в кино С. С. Прокофьева.
3 Имеется в виду оператор А. Н. Москвин.
Москва, 13/XI 33 г.
Дорогой Сидорчук!
<…> Я затыркался здорово. «Шерлок» подходит к концу, а «Цусиму» отложил на две недели. Сегодня приходится ехать в Ленинград еще для «Киже» — последние съемки. <…> В Ленинграде поговорю с Козинцевым насчет «Уленшпигеля». <…> Плучек предлагает делать в электрозаводском ТРАМе арбузовскую оперетту. Об этом думаю, ибо предпочитаю ее «Лжи» Афиногенова1. <…>
На столе лежит «Женитьба», которую обещался Мих. Мих. привести в тот вид, который мне нравится. Эти кижисты меня просто выбивают из колеи. Кстати, они мне прислали поздравительную телеграмму, это очень мило с их стороны, такого содержания: «Здравия желаем точка порутчики Киже».
1 «Ложь» (1933) — пьеса А. Н. Афиногенова (1904 – 1941).
Москва, 17/XI 33 г.
Дорогой Кваз-Сидорчук!
<…> Был эти дни в Ленинграде. <…> Очень длительно беседовал с Козинцевым. Он увлечен цирком и теперь сам пишет сценарий «Тиля». Затем мне сказал, что «Большевик» уже кончен. <…> Это явная пушка. <…>
Потом, когда я сидел у Дрейдена перед отходом на поезд, я позвонил ему по телефону, и он мне начал говорить, чтобы я бросил театр и вообще перебирался к ним. Я очень обозлился — мне надоели демагоги. <…>
Теперь в театре Мейерхольд вызвал к себе 15 человек старейшин для разговора по вопросам о театре, о кредо, о репертуаре, об участии в производстве и т. д. Это, очевидно, вызвано, с одной стороны, чисткой, а с другой, упорными слухами об расформировании 2-го МХАТа1 и выселении из помещения Дома Правительства Нового Театра2 и вселении туда Охлопкова.
Вечер у Мэтра прошел довольно деловито, но закончился пьянством. Некоторые были вдрызг. Я на этот раз был галантен и не пьян. Особенно пьян был Ю. Юрьев, даже плакал. Мне прямо жалко стало старика. <…>
<…> «Киже» новые куски довольно удачны; когда я не стараюсь, выходит лучше. <…>
1 МХАТ 2-й был закрыт в феврале 1936 г.
2 Новый театр носил свое название до 1936 г., а под именем Московского драматического театра просуществовал до 1944 г.
Москва, 19/XI 33
<…> Да, этот период приходится много играть. Последние два «Ревизора» играл очень хорошо. На последнем, т. е. вчера, во вранье были 3 раза аплоды: среди действия на танец, на опору Старковского1 и на «на столе, напр<имер>, арбуз». 216 Занимаюсь пением у Адена и в другие дни у Маргариты. <…> Очень мне нравится, как получился «Шерлок Холмс». <…>
Вчера <…> был у Эйзенштейна. Он пишет книгу о режиссуре2 и своей десятилетней работе и просил, чтобы мы вспомнили «Противогазы»3 — с грехом пополам вспомнили. <…>
1 П. Старковский играл в «Ревизоре» роль Городничего.
2 Книга о режиссуре задумывалась Эйзенштейном в нескольких томах. Первый том — «Искусство мизансцены» был издан в 1966 г. (Эйзенштейн С. Избранные произведения. В 6-ти т., т. 4).
3 Спектакль Пролеткульта, поставленный Эйзенштейном в 1924 г.
Москва, 22/XI 33
Дорогой Сидорчук!
<…> Завтра собираюсь <…> засесть за «Цусиму». Хочу писать с конца, т. е. со сцены боя — она у меня выносилась. Обещался сдать не позже 28-го, так что надо приналечь. К тому же взялся работать с электрозаводским ТРАМом оперетту арбузовскую «Мечталию», ты ее уж зря так захаяла. <…> Пользуюсь случаем, что это электроток, и закачу декорации из неоновых трубок (это что употребляется на уличные рекламы). Получил от Цехановского письмо по поводу «Женитьбы». Он уже дал заявку Обнорскому-Пиотровскому, но разговор может состояться. Пиотровский предложил комиссию в составе авторов, т. е. Цех[ановского], Шестакова и меня, а они — плюс Козинцев. Мих. Мих. опротестовал последнюю кандидатуру, но так как он заявил им, что все равно поставит, хоть на другой фабрике, то даже очень возможно, что «Женитьба» войдет в тематический план. <…>
Был я у Зайцева в «Межрабпоме». Он мне предложил делать картину для себя. Я предложил «Женитьбу» со всей компанией. Продолжение разговора должно состояться на днях. <…> В театре у нас положение без перемен — все готовят «Даму», на которой я не был. <…>
Москва, 26/XI 33
Дорогой Кваз!
<…> Нынче читал Керженцеву «Шерлока», но до конца обсуждения быть не мог, ибо должен [был] играть в театре. Так и не знаю, чем дело кончилось, но возможно запрещение. Это, конечно, досадно. С «Цусимой» до сих пор сижу. <…> Вообще, литературная работа мне осточертела, и хочется добраться до своего дела.
Хоть бы «Цусима» не встретила возражений, а то переделки меня совершенно замаринуют. Числа 28 хочут приехать фэксы, но наверно опоздают и будут сценарий читать Кагановичу1. <…>
Арбузовскую оперетту еще не начал ставить — все занят в театре. Наверное, послезавтра будет первая читка. Посмотрю, как это будет разворачиваться, а то брошу, ибо устал. Сегодня на «Мандате» Тяпкина мне сказала, что [мною] интересуется Александров2, но до сих пор не звонил. Играл нынче здорово, давно так не играл. Особенно третий акт. Вчера играли «Ревизора» в Дворце культуры на месте бывшего Симоновского монастыря. Принимали как никогда, хотя играл неважно.
Видел 1-й акт «Дамы». Поставлено очень изящно и грациозно, но не больше; и, как это ни странно, лучше всех Сама3.
Царев совершенно непристоен, как мешок с сухим говном, но все говорят, что в 4-м акте (который Мастер собирается переставить) он разбрызгивает темперамент4. Я не видел, поэтому ничего не могу сказать. <…>
1 Каганович Л. М. (1893 – 1991) — партийный деятель.
2 Александров (Мормоненко) Г. В. (1903 – 1983) — кинорежиссер. В 20 – 30-е гг. как актер, ассистент и сорежиссер сотрудничал с С. Эйзенштейном. В 1934 г. поставил фильм «Веселые ребята», где Гарин снимался в эпизодической роли ветеринара (эпизод в фильм не вошел).
3 З. Райх в «Даме с камелиями» играла главную роль — Маргерит Готье.
4 М. Царев играл роль Армана Дюваля.
Москва, 29/XI 33 г.
Дорогой Кваз!
<…> Я заканчиваю «Цусиму» и собираюсь послезавтра сдавать. <…> «Шерлок Холмса» ставить нельзя: я читал Керженцеву, он хоть и ничего отрицательного не говорил, но по тону его ясно, что нежелательно. <…>
Сейчас 3 часа дня, я все сидел над «Цусимой» — нужно промяться, опустить тебе письмо, да зайти поглазеть на хвост репетиции. <…>
1934
Москва, 3/III 34 г.
Дорогая девка Кваз!
<…> Весь день вчера уминались дела с «Братьями»1.
Репертком так и не разрешил называть «Миллион мертвеца». Сегодня заказывают афишу с авторским названием. <…> Начал читать «Капитальный ремонт»2. Вот что бы надо было делать вместо «Цусимы»! Был в «Межрабпоме» — работу они предлагают неинтересную — откажусь. Но <…> Зайцев просит меня не занимать время на 34 год, ибо они имеют на меня виды. <…> От Трама отказался и просил переключить мой аванс на следующий год. <…>
«Киже» все еще не идет. Идет только в ГПУ, где пользуется большим успехом. <…>
1 Имеется в виду спектакль «Братья Кастильони», поставленный Гариным. (Подробнее см. об этом в Биохронике.)
2 Роман Л. Соболева (1932).
217 Москва, 3/III 34 г.
Дорогой Кваз! Торжествуй, Аркашка! Мы победили, и враг бежит. При сем посылаю тебе рецензию Гладкова1. Здорово, черт возьми!
Занят все время организацией «Братьев Кастильони».
Сдали афишу в печать. <…>
1 Речь идет об А. К. Гладкове (1912 – 1976), критике, драматурге, мемуаристе.
Москва, 7/III 34 г.
Дорогой Кваз!
<…> Был у Гриши Александрова. Беседовали о будущей работе. То, что он рассказал, мне очень понравилось, и я дал согласие. Сценарий ему пишут Ильф и Петров. Вообще он на меня произвел очень простое и приятное впечатление. Нынче репетировал «Братьев» — за время после показа все очень выросли. <…>
Напиши мне про фэксов — как же репетирует Чирков?1 В том же виде, как я, или — изменено, и вообще, каким матом меня вспоминают. Сейчас пришла Таня, говорит, что на Арбате висит реклама «Киже» и я красивый выставлен напоказ из фанеры. Папа после того, как ему влили соллерган, побежал в кино на «Киже» и говорит, что толпы в кино. <…> «Дама с камелиями» откладывается на 19[-е], и говорят, 14 – 15[-го] пойдет «Мандат». Сам, говорят, свирепствует. В театр не хожу. Сам (мне передал Каплан), составляя афишу, поместил меня крупным шрифтом (очевидно, на него подействовала «Киже»). <…> Очень скучаю, что тебя нет на премьере, и вообще. Ленинград надо, конечно, бросать. Боюсь, Файнциммеру не удастся снять вариантов2 — очень я похудел. <…>
1 Ввиду отказа Гарина от участия в съемках фильма «Большевик» роль Максима была поручена Б. Чиркову.
2 Речь идет о досъемках к окончательной редакции фильма «Поручик Киже».
Москва, 12/III 34 г.
Дорогая девка Кваз!
<…> Теперь вот опишу все сначала.
Про 9-е. На спектакле1 в основном была публика рабочая. Из пришедших — Цетнерович, Тяпкины, Аден, Потоцкие. Спектакль, с моей точки зрения, шел плохо, актеры были утомлены переездом из колхоза, где они играли 8-го, но, несмотря на это, смеху было много. Все якобы мистические места доходили на смех: с простыней, вообще, первый акт шел очень живо и хорошо. <…> Сцена на рояле шла с напряжением, а ганон вызвал аплодисменты всего зрительного зала. 3-й акт доходит великолепно, в конце очень большие аплодисменты и меня вызывают, но, так как я сидел очень в глубине зала, то, чтобы добраться до сцены, мне нужно было время довольно значительное, я уж думал, аплодисменты кончатся, а оказалось, когда я появился на сцене, то была прямо вроде овация. 10-го же я лично разослал всем по твоему списку и потом наприглашал всех знакомых из радио, из театра и просто кто попадался на улице. Очень опасаясь, что приглашенные светила не придут и зал будет пустой, <…> надел белую рубаху, попросил Ирмич и Незнамова, у которого хороший костюм (это актеры Крицберговского театра), встречать вместе со мной гостей. И собрался весь ГосТИМ. Из приглашенных пришел только Васька Федоров, Гладков и, кажется, больше никого. <…> Спектакль шел очень хорошо. После каждого действия очень солидные аплодисменты, и среди действия аплодисменты были на ганон, на падения Гвиди и на бросок Гвиди. В конце меня вызывали, как Мейерхольда во времена самых цветущих его опусов. Все поздравляли. Гостимовцы отнеслись необычайно тепло. <…>
Когда уже часть публики вышла из зала и я уже довольно долгое время — минут 10-ть — говорил в уборной с актерами, меня потребовали на сцену. Там была группа людей; Гладков, Москвичева, Февральск[ий], Логинова2 и пр., и пр., меня встретили аплодисм[ентами], и преподнесли цветок, и черепушку надели на голову — я раскланивался с черепушкой. Потом она упала и разбилась. Мих. Мих. Коренев взял кусок горшка, положил мне в карман и говорит, что это хорошая примета. Пошли из театра группой — Каплан, Варпаховский3, Плучек, и условились идти в Дом Герцена. Я остался с Васей Федоровым, и мы на пару посидели часа полтора в пивной, разговаривая. «Женитьба» ему не удалась.
Потом я проводил его, встретил Костомолоцкого, который шел в Дом Герцена, я решил зайти на минуту. Войдя в зал ресторана 218 (бражка-то наша была пьяна), меня встретили громом аплодисментов, так что сидящие спрашивали: «Кто этот Габриэль Д’Аннунцио?»4 Там я посидел минут сорок и пошел спать. <…>
Напиши, как меня уничтожают как бывшего Максима. <…> Целую. До свиданья. ЭрГ.
1 Имеется в виду премьера спектакля «Братья Кастильони».
2 Логинова Е. В. — актриса.
3 Варпаховский Л. В. (1908 – 1976) — режиссер, в те годы — сотрудник ГосТИМа.
4 Д’Аннунцио Габриэле (1863 – 1938) — итальянский писатель и драматург.
Москва, 15/III 34 г.
Дорогая Хеся! Пишу тебе открытку, потому как зверски взялся за «Японию», которая будет называться «Зеркало, яшма и меч» и пойдет 22-го со станции В. Ц. С. П. С. Этим и закончу нынешний сезон. <…> Нынче вышел № 2 «Театра и драматургии», там закатили мой портрет в красках — ты его где-нибудь посмотри, но не покупай. Я купил, а стоит он 6 рублей. <…> Передай привет Мих. Мих.1, Москвину, Шостакам2 и фэксам. А Арнштаму скажи, что за то, что он не привез мне галстух — презираю. <…> Вечером завтра с Февральским иду на премьеру в театр Красной Армии — в 1-й раз в жизни. Целую. Эраст.
1 Имеется в виду М. М. Цехановский.
2 Шостак М. С. — организатор производства на кинофабрике «Союзкино», директор картин Г. Козинцева и Л. Трауберга.
Москва, 17/III 34 г.
Дорогая Квазимилла! Был у Тарханова. Он мне сказал, что [фэксы] развили безумную деятельность и начали снимать. Он мне сказал, что снимали ночью. Черт бы их драл. Нужно, наконец, решительно бросать эту лавочку жизни в разных местах и без толку. <…> Загрузился я последнее время страшно: 1) писал статью для ленинградской газеты о «Мандате»; 2) писал комментарии для «Цусимы» (которые не кончил)1; 3) написал интервью по поводу новой постановки в радио. <…> Не чаю, как уехать в Ленинград. Завтра опять рано утром тащиться на радио. Так хочется ничего, наконец, не делать. За «Киже» от всех слышу комплименты, а на сеансах аплодисменты (очевидцы рассказывают). Пользуюсь случаем отъезда Боголюбова (он едет к Эрмлеру)2, чтобы переслать тебе письмо. <…>
1 См. Биохронику.
2 Н. Боголюбов снимался в фильме Ф. Эрмлера «Крестьяне».
Москва, 19/III 34 г.
<…> Про «Даму» должен тебе рассказать, что пущено здорово. Это вроде «Ревизора» по значению спектакль. Только в вопросах костюма, цвета, нюансировки сделанный во много раз тщательней. Сцены некоторые, например, бала, смерти, сделаны замечательно. Спектакль по времени очень длинный, но смотрится все-таки. Мастеру аплодировали шумно и много. Из актеров лучше всех играет Кельберер — графа де Жирея. Царев мне не понравился: несмотря на темперамент, никакого образа нет. Самой роль разделана на такие нюансы, тонкости и в такой замечательной mise en scène, что даже она прилично выглядит и пока не выказывает никаких бестактностей. Очень хорошо поет Ремизова какие-то похабные куплеты. Тебя я очень прошу посмотреть внимательно этот спектакль. Ведь пьеса все же остается таким же дерьмом, как и была, и только мейерхольдовская поэзия так преобразила все. Цвета, декорации — это просто на большой палец. <…> «Дама с камелиями» на меня произвела такое же впечатление, как в свое время «Бубус». Это академия. Наломался я за последние дни страшно, и хочется 219 обдумать все навороченное за последнее время, и как же дальше. Смотря на «Даму», я думаю, что хорошо, [что] я в ней не играл. Это все очень хорошо, но все конкретно в ней делаемое мне глубоко чуждо, и нравится мне в ней то, что она аттракционно шевелит ассоциациями. Это в целом опять барокко, но, вообще говоря, за этот спектакль можно всех фэксов связать узлом и утопить, и никто не заметит. <…>
Москва, 20/III 34 г.
<…> «Киже» понемногу уходит на вторые экраны, а девушки действительно после «Киже» мне пишут письма. Жду твоих писем. ЭрГ.
Москва, 21/III 34 г.
Дорогая девочка Кваз!
Получил сейчас твое письмо. Сейчас одиннадцать часов вечера, и [я] здорово выспался после утомительной репетиции «Японии». Их всего три с оркестром, поэтому хочется хоть что-нибудь выколотить. Авторство я не подписал совершенно намеренно — литературный матерьял не больно доброкачественный, и поэтому пусть за него он, Брауде, и отвечает. Это пшют и кретин совершенно в манере Мартинсона, с которым он, кстати, учился вместе. <…>
<…> Меня остановил один человек (не могу припомнить его фамилию) на радио и говорил мне минут 30 о том, что печатно раскаивается в своих ошибках, обвиняя меня за «Цусиму» и т. д., что то, что я делаю, — это путь создания современного сказителя, и [он] закатывает громадную статью с научно-исследовательским уклоном по поводу моих работ.
Теперь своей следующей работой, и очень серьезной, я думаю избрать «Слово о полку Игореве» — это даст возможность ухватиться за основу традиционного сказительства, но модернизировать и проложить мост, здорово продуманный, к современному материалу.
Меня этот парень убил тем, что все мысли, им высказанные, я только хотел изложить в «Письме к моим слушателям» — ответе на письма о «Цусиме», которых много и большинство которых ругательные. В «Японии», которая будет называться «Зеркало, яшма и меч», введены мною настоящие японские пластинки, что необычайно оживляет и придает подлинный колорит передаче.
«Дама с камелиями» <…> мне очень понравилась. <…> Всеволод сделал титаническую работу. «Бубус» и «Ревизор» по тщательности обработки ничто по сравнению с «Дамой». Сегодня в газетах «Комсомолке» и «Раб. Москве» уже две ругательные рецензии. Это доказывает, что дело сделано не плохо. <…> Вообще, против искусства ничего не возразишь. <…>
Москва, 23/III 34 г.
Дорогая девочка Кваз! Получил нынче твое письмо с Ильей Траубергом. <…> Утром нынче получил письмо от Козинцева. Сейчас написал ему ответ с острословием — какое это на него произведет впечатление? Передача моя отменена за два часа до премьеры1. Ее нашли очень резкой и, по всей вероятности, политически бестактной. Я и рад, потому как так утомился и утренними, и вечерними репетициями, что читать-то просто не хотелось. Теперь осталось написать только статью «Ответ моим слушателям» — писем набралось до черта.
К тебе у меня будет просьба — купить (выходит с иллюстрациями палехского мастера в Academia) «Слово о полку Игореве»2 — хочу ставить на радио. На эту тему мы с тобой поговорим, а книжку купи, сколько бы она ни стоила…
Кончил только читать «Капитальный ремонт». Мне очень понравилось, и я жалею, что для радио выбрал «Цусиму», а не «Ремонт» — последняя для меня написана. <…>
1 Речь идет о радиокомпозиции «Зеркало, яшма и меч».
2 Речь идет об иллюстрациях Ивана Голикова к изданию «Слово о полку Игореве» («Academia», 1934).
220 Москва, 25/III 34 г.
Дорогой Квазимод!
<…> Получила ли ты письмо, где пишу тебе об ответе фэксам? У Козинцева есть такая фраза: «Кончим эту картину, и меня на такую тему не загонишь с милицией». Должно быть, дело это им здорово надоело. <…> Вчера вечером был на открытии Клуба мастеров искусства. Собралась сугубо строгая мужская компания: Кельберер, Боголюбов, Царев, Мичурин, Чикул. Я, естественно, быстро ушел домой. <…> Хозяева наши как будто почили на лаврах — ни о какой работе даже нет разговора. <…>
Москва, 28/III 34 г.
<…> В театре наступило полное затишье. Сами улеглись на лавры, которые почему-то редеют. Никаких прогнозов в будущее нет. На днях было производственное совещание и Сам как воды в рот набрал, но, очевидно, цикл «Женщина» будет продолжен. <…>
Ходят слухи о гастролях в Ленинграде, причем в репертуаре ни одной пьесы со мной: «Рогоносец», «Вступление», «Дама» и «Лес», так что если будет киноконъюнктура, то очень выгодно со временем. <…> Сейчас влез в ящик и выяснил, что лежат не «Раунды», а «Япония». Кваза, может, по получении этого письма ты запакуешь их с нотами и либо спешной, либо воздушной почтой пошлешь в Новосибирск, — мне кажется, что очень бы пригодилось там это дело. <…>
В санатории занимался чтением Чехова и Шекспира, хотел почему-то просмотреть Лермонтова, но там не оказалось. <…> Заделался ярым волейбольщиком, и хоть играл из рук вон плохо, но всех смешил до аплодисментов включительно. <…>
Москва, 30/V 34 г.
<…> В театре ходит слух, что Сам хочет ставить «Бориса Годунова» при таком распределении: Годунов — Ильинский, Мнишек — ясно, и Самозванец — я и Царев, причем первой всюду называют мою фамилию. К этому нужно отнестись, конечно, осторожно. <…>
Новосибирск, 8/VI 34 г.
Дорогая Квазимилочка! Сидим вот уж почти одну треть месяца в Новосибирске. Театр здесь не встречает никакого сочувствия. Прошли «Посл[едний] реш[ительный]» (который я не играл), «Мандат» и «Лес». Скоро приедут Сами. Ограждая себя от неврозов, я уехал из гостиницы и живу на окраине. <…> Настроение у всех довольно кислое, особенно в связи с печальными перспективами на следующий сезон — это гастроли в Ленинграде, где я не занят. Так что у меня опять начинается чесотка — не сбежать бы. <…>
Город этот довольно хаотичен и ни в какое сравнение со Свердловском не идет. Театрик маленький — на 700 мест.
До сих пор не могу окончательно установить, какой же репертуар будет, и поэтому не знаю, удастся мне поехать к Эрдману1 или нет. Расстояние, между прочим, довольно значительное — тысяча километров, причем 450 по реке, что меня очень и смущает из-за медлительности.
Как Боголюбов? Левка Свердлин подписал к Довженко2. Как же идет «Большевик»? Да, настроеньице у меня довольно говенное. Тут есть предложение возглавить драматический театр в Магнитогорске за 2500 рублей со всякими квартирами. Подходит старость, а мы с тобой все щенки. Вечера здесь холодные и пустынные.
Взял с собой Белого3, но до сих пор еще не читал.
По тупости времяпрепровождение может конкурировать с домом отдыха. Моя тенденция — превратить это в санаторий, и поэтому пью очень много молока.
Здесь два звукотеатра. «Киже» уже прошел, так что меня публика немного знает. Здесь необычайно внимательны к актерам. Из наших актеров сочувствие встречают просто единицы.
Из злостных слухов, распространяемых в труппе, интересен один, что Зина учит Маргариту на языке французов и будто бы предполагает там блеснуть. Эмиграционные нотки у нашего мэтра, очевидно, еще тлеются.
По приезде он собирается сделать опять творческую конференцию, ну, уж на этот раз помолчу и послушаю, а если будет тепло, то просто буду купаться в Оби. <…>
Дорогой Кваз, мне очень здесь скушно, а ты совсем не пишешь. <…> Если идти отсюда пешком, то нужно потратить три месяца. До свиданья. Эр.
1 Н. Р. Эрдман, арестованный в Гаграх во время съемок «Веселых ребят», в это время находился в ссылке в Сибири, в г. Енисейске.
2 Возможно, речь идет о предполагавшемся участии Л. Свердлина в фильме А. Довженко «Аэроград».
3 Имеется в виду книга А. Белого «Мастерство Гоголя».
Новосибирск, 17/VI 34 г.
<…> Приехали зубры. Вчера заходил ко мне Габрилович Женя. Он приехал в Новосибирск для встречи челюскинцев. Вчера же они проехали с триумфом. Наш старый пердун поехал на кляче их встречать.
Театр по-прежнему не вызывает у местного населения никакого энтузиазма. Приличней всего проходит «Ревизор», но и он не жирно — в начале спектакля сидит половина зала, а так как зал на 700 человек, то особого подъема для игры трудно найти. Коммуна наша очень приятная, и так как мы живем в стороне от большой дороги театральной политики, то чувствуем себя приятней: играем в волейбол у себя во дворе и в подковку. <…> Каждый день утром сбиваем гоголь-моголь и скоро предполагаем выехать на прогулку по Оби в лес — по слухам, здесь хороши окрестности. От тебя до сих пор не получил ни одного письма, что меня очень беспокоит. Бессмысленность пребывания в ГосТИМе без перспектив к настоящей 221 жизни во вне довольно удручительна. По моим предположениям, Гриша Александров меня надул. Я совершенно не знаю, как у него дела. Смотрел ли Джаз-комедию1 Сталин, и как он к ней отнесся? Тяпка же мне сказала, что он собирается снимать какую-то монодраму со своей Зинаидой2. Я даже стал подумывать о Файнциммере.
Мейерхольд подписал договор в радио на постановку «Дон Жуана»3 с участием Зины, Царева и Мичурина, причем Зина будет «сполнять» сразу две роли и, очевидно, одну будет говорить басом, а другую тенором. Хочу поговорить с Мастером о будущем сезоне. <…>
Как идет у фэксов картина? Неужели хорошо? Как процветает Боголюбов у Эрмлера? Не зарезали ли отца в Боткинской больнице? Как ты побыла в Москве? Целую тебя крепко. До свиданья. Эраст.
1 «Джаз-комедия» — рабочее название фильма Г. Александрова «Веселые ребята».
2 Имеется в виду Л. Орлова.
3 Речь идет о «Каменном госте» А. С. Пушкина. Премьера радиоспектакля состоялась 17 апреля 1935 г.
Новосибирск, 24/VI 34 г.
<…> Вчера улетел в Москву Мэтр, но перед отлетом сделал собрание и доложил перспективы будущего сезона. Передо мной расшаркивался страшно (всерьез я это принять не могу, ибо здесь какой-то подвох), затем мне поручил постановку «Груньки»1 (которую я не возьму) и исполнение в ней главной роли (которую я играть не буду). Затем наговорил всему собранью, чтобы занимались поэзией и что вождь этого дела я. Вечером я его видел и очень индифферентно отнесся к его речам по поводу того, что пьеса очень хороша. Но откровенно выступать против его демагогии сейчас не буду, ибо осенью состоится юбилей. Здесь состоялся банкет для театра. <…> Мастер говорил коммунистические речи (но самое интересное, что ему никто не верит, даже из посторонних и видящих его в первый раз людей). Все аплодисменты и приветствия носили явно фарисейский характер.
В столовой ко мне подошла девушка и от группы студентов поблагодарила за игру. Это все-таки приятно в наш век. При сем прилагаю рецензию. Очень рад, что о Зине ничего не сказано, а то уж она очень обнаглела и за кулисами говорит, что ей очень неудобно, что она выше всех на голову. Ну, это все, что касается нашего болота. <…> Здесь же жара страшная и довольно частые грозовые дожди, так что нам в этом отношении везет, ибо город очень пыльный. <…> Ездили по Оби купаться на катере килом[етров] за 18. Река очень красивая, широкая и дикая. Вообще в Сибири довольно ничего, и за обедом дают такой роскошный пирог с печенкой и настоящим маслом, что я начинаю толстеть и загорать. <…> В подковку игра продолжается, причем выяснилось, что в эмбрионе я левша. Я левой рукой играю гораздо лучше, чем правой. <…>
1 ГосТИМ планировал своего рода трилогию о судьбе женщины: следом за «Дамой с камелиями» должны были быть поставлены спектакли о Софье Перовской и Груне Корнаковой (ткачихе, принимавшей участие в революционной борьбе).
Прокопьевск, 2/VII 34 г.
Дорогая Кваза!
<…> Я категорически решил навестить Николая Робертовича. У него я пробуду не более двух дней, а потом в Москву и Ленинград. Если картины подождут, то буду работать, а если нет, то спешить не буду. <…>
В Прокопьевске мы живем в довольно приличных условиях, но бани здесь — это высший класс наслаждений. Я покупаю роскошный томленый березовый веник и влезаю на полок. В бане стоит очаровательный аромат (стены сосновые), и начинаю себя истязать. Этот вид массажа русского типа великолепен. <…>
Сегодня вечером провожаем Ю. М. Юрьева — он играет последний спектакль и уходит из театра. <…> Прочитал (купил на вокзале) «Историю Ижорского завода». Книга очень интересная, и для ФЭКСовой картины там сцена хороша — «Собрание большевиков на лодках». Сейчас пойду на почту и пойду в книжный магазин что-нибудь купить для почитать. <…>
223 Прокопьевск, 7/VII 34 г.
Дорогая Кваза! Завтра утром отправляюсь в последний гастрольный пункт — Сталинск1. Еду раньше всех на день, ибо думаю получить там твои письма. <…>
Здесь я достал пару любопытных книжиц: «Женитьба», ее история сценоинтерпретации2 и очень хороший № журнала «Искусства» с <…> очень хорошей статьей Абр. Эфроса3 с палешанами — несколько хороших репродукций. <…> Публика здесь в наш театр не ходит. Наибольшим успехом пользуется «Ревизор», потом — «Кречинский», потом «Мандат», и совсем валятся «Лес» (странно) и «Посл[едний] реш[ительный]» (в котором я теперь не играю). Положение моральное у театра — провал. Массы отвергают все: и что занавеса нет, и что бедно, и говорят здесь совсем наоборот: что играют хорошо, а уж очень все убого. Выступал с хорошим успехом с «15 раунд[ами]» на концерте, но так запотел, что с меня просто текло. Здесь ужасная жара. <…>
1 Ныне — Новокузнецк.
2 Речь идет о книге С. Данилова «“Женитьба” Н. В. Гоголя» (Л., 1934).
3 Вероятно, имеется в виду статья А. Эфроса «Вчера, сегодня, завтра» о выставке «Художники РСФСР за 15 лет» («Искусство», 1933, № 6).
Сталинск, 10/VII 34
Дорогая Кваза! Сижу уже четвертый день в Сталинске. Вчера сыграли впервые «Ревизора». Сталинск — совсем молодой город с первоклассной металлургией, но без дорог. Атак как уже шестой день идет дождь, то ходить по городу можно только на аэроплане, а у меня нет — даже калош. <…>
Нынче утром, зайдя в театр, получил телеграмму, которую и препровождаю тебе1. Хочу только сказать, что денежный вопрос мною даже не подымался. Весь день думаю об ответной телеграмме, которую раньше завтра не пошлю все равно. Она мне смыслово рисуется так: Предлагаю ставить «Бедного Генриха» Ю. Германа2. Весенний разговор с ним оставил меня в уверенности, что в пьесу роман можно переделать месяца в два. В случае согласия вашего облеките доверием для переговоров с автором. Железнов оставляет меня холодным. Эр. Гарин. Точка.
Мне кажется, я прав, ибо браться за такую бледную чушь — глупо и даже сверхрискованно. Все же до завтра подумаю и к тому же устраиваю завтра читку для всей труппы пьесы Железнова, а во вступительном слове к труппе скажу, что, выполняя волю Мастера, доводим до сведения пьесу. Прошу высказать конкретные предложения для ее переделки. (Я, конечно, уверен, что все ее обосрут.) Не думаю и не могу на основании практики предполагать, что присланная телеграмма простое благодеяние, тут, конечно, зарыта какая-нибудь собака, и бросаться сломя голову на приманку нет никакого смысла. Неплохо, конечно, повидаться с Эрдманом.
Мейерхольд на собрании сказал, что Ник[олай] Роб[ертович] прислал ему письмо, где пишет о том, что пьесу готовит для ГосТИМа3.
С Володей Маслацовым вечером пошли в цирк. В цирке было человек 80, ибо шел проливной дождь. Нас же он не промочил, так как цирк рядом. Здесь же был в свое время в ссылке Достоевский4. Очевидцы утверждают, что сохранился дом, где он жил — я еще не ходил осматривать достопримечательности, ибо нет калош. <…> Начал читать Андрея Белого о Гоголе — необычайно интересно. Потом еще приобрел книгу о «Женитьбе», историю ее театральных постановок, и опять вспомнил о Мих. Мих. Цехановском — видишь ли ты его? Не говорит ли он об этой затее? Наверно, уж уперся в какого-нибудь Золя. <…>
1 Телеграмма Мейерхольда Гарину 9 июля 1934 г.: «Ваш новый оклад шестьсот тридцать тчк Телеграфьте работаете ли пьесой Железнова тчк Сентябре заключу вами договор по режработе этой постановки — Мейерхольд» (РГАЛИ, ф. 2979, оп. 1, ед. хр. 412).
2 Роман (1934) Ю. Германа.
3 Имеется в виду пьеса «Гипнотизер».
4 В Кузнецке 6 февраля 1857 г. состоялось венчание Ф. М. Достоевского с М. Д. Исаевой. Через две недели молодые выехали в Семипалатинск, место ссылки писателя.
Сталинск, 15/VII 34
<…> Когда письмо получишь, я буду ехать к Николаю Робертовичу. У него пробуду не более двух дней и поеду в Россию. <…>
Мастеру послал телеграмму приблизительно того содержания, которое написал тебе в предыдущем письме. <…> Естественно, до сих пор ответа не последовало. Ставить же эту «Груньку» до такой степени глупо и не нужно, что не следует и мараться. Все же сегодня я читаю «Груньку» для труппы — не для получения окончательного вывода, а просто для проверки своего восприятия. Не знаю, как получится с этой работой в театре, придется себя страховать на стороне. Если у кого будет на меня спрос, то в начале августа я буду в Ленинграде, и не прочь продаться. <…>
224 Сталинск, 17/VII 34
<…> Нестеров прочитал мне письмо, полученное в ответ на мою телеграмму Мастеру. Письмо написано в очень добродушных тонах, но Мастер не соглашается на инсценировку «Бедного Генриха», и кончается абзац тем, чтобы ему прислали воздушной почтой пьесу — он собирается составить бригаду для постановки.
Заключительная строка абзаца: — Вот буза!
За границу его, видно, не выпустили, ибо до сих пор сидит в Москве и хлопочет о фестивале.
Подводя итоги гастролям, нужно прямо сказать: театр потерял всякие симпатии в публике: и гурманы не восторгаются, и широкий зритель не находит отрады. Нынче утром был диспут, где, как говорят, все выражали недовольство, особенно досталось «Посл[еднему] и реш[ительному]». — Хорошо, что в нем я не принимаю никакого участия. Материально же поездка была очень выгодна театру; да все равно не впрок. <…>
Мне теперь осталось сыграть только один «Мандат» и поеду к автору, а потом быстренько к домам (так у Э. Г. — А. Х.). <…>
Сталинск, 22/VII 34
<…> По слухам, Мейерхольд остервенился и будет пьесу Железнова ставить сам (что-то не верится). <…>
До Эрдмана-то, я думал, близко, а начали считать — оказалось 1500 километров, <…> пять дней ехать, а аэропланного сообщения из Красноярска нет. Теперь бы я полетел, ибо 5 дней ехать, не считая парохода, очень надоедно. <…>
Москва, 4/IX 341
<…> В театре полная безнадежность. <…> Мастер ни о каких постановках не заикался.
В радио работы — завались. Пока остановился только на Олеше более твердо. <…> Предлагают в драмвещании «Капитальный ремонт», «Мюнхгаузена», я предлагаю «Похождение факира»2. <…>
В ближайшие дни <…> возобновляются «15 раундов» и «Цусима». Кстати, Новиков3 написал обо мне замечательную рецензию (как мне сказали, сам не читал), причем кроет Радиогазету за ее отношение к моей работе. Теперь Вишневский предложил сниматься в «Мы из Кронштадта»4 с 10-го сентября в Кронштадте. Прочту сценарий — дам ответ. <…>
1 Письма от 4, 8 и 9 сентября написаны на обороте листов с текстом роли Расплюева из пьесы А. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского».
2 «Похождения факира» — автобиографический роман Вс. Иванова. Первая часть была опубликована в 1934 г.
3 Речь идет о А. С. Новикове-Прибое (1877 – 1944), авторе романа «Цусима».
4 «Мы из Кронштадта» — фильм, поставленный Е. Дзиганом, вышел на экраны в 1936 г. Э. Гарин в нем не снимался.
225 Москва, 8/IX 34
<…> «Дама» вчера ожидаемого успеха не имела. Даже после 4-го акта вызывали всего два раза. Сам так волновался, что ходил потный. <…> На радио думаю ставить «Петра I-го» А. Толстого, в 2-х частях на 1 час. 30 минут. Это будет здорово. <…> В радио подписался под некрологом о Грише Гаузнере. <…> Когда кончишь свою бузу, а я кончу ремонт, засядем работать. Еще я хочу взять III курс ГэкТеТИМа — им теперь дают новое и отдельное помещение. Как ты смотришь на эту деятельность? <…> Целую тебя крепко, и будем думать и делать вместе.
Эраст
Москва, 9/IX 34
Дорогая Кваза! Прочитал Вс. Иванова — для радио не годится. Сунулся в Гоголя — ничего не прибавишь. <…> Директор «Мы из Кронштадта» поймал меня — теперь я попросил рабочий сценарий. Вечером принесет. Прочту. С комнатой в театре тянут. Мейер может, конечно, за телеграмму отомстить комнатой — оказывается, он о ней никому не говорил. <…> Просили в какой-то сборник мой портрет, так я им ввернул Фабисовичевой работы — помнишь, такой сахарин с лимонадом. Но публике нравится. Вчера видел Гвоздева — он мне наговорил тучу комплиментов за «Ревизора». <…>
Москва, 12/IX 34
<…> Я на всякий случай кронштадцам дал сроку еще день терпеть о моем решении. <…>
Тебе предлагают возобновить работу над Некрасовым в радио, да надо и «Ремонт» делать вместе («Капитальный», конечно, а не комнатный).
Москва, 14/IX 34
Дорогая Кваза! Жить мне становится противно. Я нахожусь в смятении. <…> В радио все осточертело, в довершение всего не могу отпереть ящики, где хранится «Цусима» — ключи, обнаруженные в бюро, не открывают ни один ящик — либо замки заржавели, либо ключи не те. <…> Сегодня элегически прочитал две «Женитьбы», нашу и Мих. Мих. Наша намного художественней. Один даже в радио работать не могу. В театре чепуха. Сниматься у этого кретина Дзигана ниже человеческого достоинства, но я уж так опустился, что даже ему послал телеграмму с просьбой отсрочить ответ. <…> Почему ты ничего не пишешь о своих делах и думах? Не обижайся, что пишу на «Ревизоре»1 — это не нужный эпизод. Между прочим, «Женитьба» шутя, шутя сделана, а я прочитал даже с некоторой гордостью. Мих. Мих. ничего в этом деле не понял — у него всё собаки везде. Целую тебя крепко. Напиши мне.
Эраст.
P. S. Несмотря на мрак, в бане все-таки был.
1 Письмо написано на обороте текста роли Хлестакова — IX эпизод, сцена с частным приставом Уховертовым.
Москва, 25/Х 34
Дорогая Кваза! В уединении вагона мои мысли пришли в порядок. Я думаю, что панику-то мы немного гиперболизировали. <…> Судя по телефонному разговору с С. Иос.1, он обеспокоен, что я Козинцеву рассказал «Женитьбу» — имей в виду, он ничего не понял, я рассказывал исключительно один эпизод, без связи и установки, так что понять что бы то ни было невозможно.
Приехал я очень вовремя: радио обзвонилось, и сейчас прямо иду на репетицию. <…> На завтра договорился о читке Селина2, так что после репетиции доделаю «Париж» и потом <…> займусь составлением и проработкой «Женитьбы» уже удобочитаемой и годной к пуску во все лит. худ. отделы.
Еще тебе один совет — в разговорах с Козинцевым вали все на меня как на утопленника, благо меня нет, да если и буду, 226 то мне приятней будет ясно и резко объясниться, хоть и с вежливостями. Говори, что я дурак (оно, может, так и есть), но должен тебе сказать, что вчера я понял, что это за иезуит и блядюга. Мой лозунг: довольно церемониться и играть из себя бедных родственников. Рецепт: вали на меня, а я потом буду расхлебывать. <…> Целую. Эр.
1 Имеется в виду С. И. Юткевич, в мастерской которого Гарин и Локшина осуществили постановку «Женитьбы».
2 Селин Л. (наст. имя и фам. Луи Фердинанд Детуш; 1894 – 1961) — французский писатель. Гарин работал над радиокомпозицией по его роману «Путешествие на край ночи».
Москва, 30/Х 34
Дорогая Кваза!
<…> Из радиоконсультации я вышел с большой честью. Артисты МХАТа остались мной очень довольны, и благодарили, и приглашали к себе (арт. Гиацинтова, Азарин и Добронравов1). Передача прошла очень прилично. Читал редакции «Путешествие в ночь», но они боятся, что это пацифизм. Я настоял, чтобы была расширенная читка при участии Керженцева и Черных и представителей Цекамола. Завтра она состоится в 7 часов вечера. «Цусиму», наверное, скоро запишу на пленку. Первого читаю ее в живом виде.
Видел вчера Юткевича — он был у Шумяцкого2, и тот утвердил и кандидатуру Гоголя, и нашу. Теперь остается увязать организационно с ГосТИМом вопросы и начать рвать. <…>
В радио всю пьесу переделал в две ночи — взял ножницы, все экземпляры и клей. Сидел пианист; некоторые монтажные трюки, которые выдумывал на ходу, встречались присутствующими на аплодисменты, но надо сознаться, что с этой бузой очень утомился, но тут уж было дело чести, ибо до моего приезда Потоцкий так разбузился, что пошел в другую редакцию и просил Волконского сделать постановку. Дело дошло до Черных и, вероятно, до Керженцева (он был на просмотре). Волконский стал ломаться и говорить, что для этого нужно два месяца, новый план и пр. И тут-то приехал я. И в две ночи утер всю корпорацию. Мне было приятно. Но я очень волновался. Дорогая Кваза, мне нужно очень с тобой поговорить. Как ты себя чувствуешь? Зубы я чищу (иногда). Целую тебя крепко. <…> Эраст.
1 Речь идет об актерах, работавших как во МХАТе, так и МХАТе 2-м: С. В. Гиацинтовой (1895 – 1982), А. М. Азарине (наст. фам. Мессерер; 1897 – 1937) и Б. Г. Добронравове (1896 – 1949).
2 Шумяцкий Б. З. (1886 – 1938) — руководитель кинематографии.
Москва, 25/XI 34
Дорогая Кваза! Сегодня подал Мастеру заявление такого содержания: прошу вашего разрешения на предоставление мне отпуска без сохранения содержания сроком на год.
«Репертуарный план настоящего сезона безболезненно допускает мое отсутствие.
Расстройство моей нервной системы и моральная прострация, в которой я нахожусь, требуют длительного отдыха. При необходимости отдельных выступлений в Москве и Ленинграде оставляю за собой обязательство их выполнить».
За последнее время Мастер проявляет в мой адрес чрезвычайную «предупредительность». Так, Манухину, который теперь служит в радио, на просьбу его дать в вечер театра 227 Мейерхольда по радио «Горе от ума» он сказал: что же, у меня Царев прекрасно читает монолог из четвертого действия1. Статья моя2 произвела на него, видимо, тоже неблагоприятное действие: на режколлегии он говорит, что теперь все пишут, и он поэтому не будет читать газет. О всех бытовых мелочах, которые просто возмущают более или менее порядочного человека, я тебе и не пишу. Ну, это все осколки разбитого вдребезги. Я же каждый день занимаюсь «Женитьбой», и, надо сказать, она очень выросла. Много придумал и даже прилично изложил. Очень жаль, что ты не соберешься приехать на днях, ибо хотелось, чтобы ты с первого целиком посвятила себя ожирению и приведению своей нервной системы в творческое состояние. Я приеду числа второго, чтобы провернуть радио-дела. Хотелось бы к этому времени увязать все вопросы, связанные с проведением сценария и подписанием договора с Юткевичем, а это можно сделать, когда Сергей будет в Москве, так что ежели бы ты выбралась хоть дня на три-четыре, то мы бы договорились по всем и домашним, и деловым вопросам. <…>
«Путешествие на край ночи» продвигается довольно медленно. Да, говоря откровенно, мне эта работа очень надоела. Смотрел «Пиквикский клуб»3. Вильямс4 сделал прекрасные костюмы и в некоторых картинах замечательное декоративное оформление. После разговора с тобой звонил ему раза три, и никто не отвечает. Думаешь ли ты иногда про «Женитьбу»? Я вчера расспрашивал про «Мертвые души». Теперь на Чичикова пригласили Горюнова5 и думают пригласить Вильямса в художники — я отговаривал — что он-де очень эстетен для Гоголя6. Сыграл два «Ревизора» с большим удовольствием. В Хлестакова ввожу Садовского7 — пока говно. <…> Папа нашел какого-то дурака, который ему за 50 руб. исправил машинку — теперь он будет их у меня вырабатывать, переписывая «Женитьбу». Как тебе нравится, что письмо напечатано — правда, как в Америке? Я побрился, чтобы не было в театре никаких разговоров.
Ничего, за два месяца отрастут. <…>
Кончай скорей свою поденщину, и давай займемся делом. <…> А как поживает Гриффитц-Арнштам8? Уж, наверно, начал накручивать?
Целую тебя, Бикалимбо, и жду.
Эраст.
Папы, естественно, кланяются.
1 М. Царев сыграл Чацкого в возобновленной редакции «Горе уму» в 1935 г.
2 Имеется в виду, очевидно, статья Гарина «Красота и стилизация» в газете «Советское искусство» (см. Биохронику).
3 Спектакль МХАТа (1934).
4 Вильямс П. В. (1902 – 1947) — театральный художник, живописец.
5 Горюнов (наст. фам. Бендель) А. И. (1902 – 1951) — актер Театра им. Вахтангова.
6 Можно предположить, что Гарин собирался пригласить П. Вильямса для работы над «Женитьбой». См. о Вильямсе и его отношениях с Э. Гариным и С. Юткевичем в воспоминаниях С. Юткевича.
7 Садовский М. М. (1909 – 1977) — актер.
8 Гарин называет Л. Арнштама Гриффитцом (по фамилии американского кинорежиссера Гриффита), поскольку тот приступил к съемкам своей первой картины «Подруги».
228 1935
Москва, 11/III 35
Дорогая Хеся! Сегодня был у Боярского — от него не получил никакого ответа определенного, но, пришедши в театр, получил резолюцию об увольнении. Теперь могу плюнуть на доигрыш спектаклей и мог бы приехать к 14-му, но думаю получить все бумаги, чтобы быть окончательно свободным.
Переговаривал с М. М. Климовым1, он согласен, но, судя по интонациям, заломит много денег. <…> Из артистов, которые могут быть интересны: Коновалов2 (Анучкин, Жевакин), с ним переговорю. Борская (бывш. Корш)3 на сваху, Милютина4, на плохой конец. Теперь на Яичницу у меня мысль пригласить Сушкевича5, рожа богопротивная в достаточной мере. Из актирсов (так у Э. Г. — А. Х.) на Агафью пригляделись Корнакова из МХАТ’а II-го, та, которая играла в пьесе Бабеля «Закат»6, и Назарова из Камерного — теперь она в Малом, но, думаю, худовата. Тяпкина может приехать на 14, 15-е или позже. <…> Иду сегодня на «Женитьбу» в МРХТ (так у Э. Г. — А. Х.).
ЭрГ.
1 Климов М. М. (1880 – 1942) — актер Малого театра, должен был пробоваться на роль Яичницы в «Женитьбе».
2 Коновалов Н. Л. — актер театра Красной Армии. С Гариным снимался позже в фильмах «Музыкальная история» и «Свадьба».
3 Борская (наст. фам. Климова) Н. Д. — актриса, играла в театре Корша в 1912 – 1933 гг., с 1933 г. по 1936 г. — играла во МХАТе 2-м.
4 Милютина Е. Я. — актриса Театра Сатиры.
5 Сушкевич Б. М. (1887 – 1946) — режиссер, актер, педагог.
6 «Закат» (1928) — спектакль МХАТа 2-го.
1936
26-IV-36
Дорогая Хеза!
Сняли прыжок1 и Матова2 (синхр.). Собираемся ехать на проход Чикаевского3. Как себя чувствуешь и что тебе нужно — скажи Степану4 — он мне передаст, я все сделаю. Целую — Эраст.
1 Имеется в виду прыжок Подколесина из окна.
2 А. Матов снимался в роли Анучкина.
3 Исполнитель роли Старикова в «Женитьбе».
4 Имеется в виду С. Каюков. На оборотной стороне записки — его приписка. Х. Локшина в это время находилась в больнице.
<Без даты>
Дорогая Хеза!
Вчера сходил в баню и после присутствовал на публичной репетиции «Ревизора», держал себя с сурьезом и достоинством и имел у публики успех. <…>
Москва, 28/IV 36
Дорогая Фыка!
<…> Погода здесь стоит прекрасная, но уехать не могу, ибо Мастер все репетирует. <…>
229 Дер. Радомля, 1/V 36 г.
Дорогая Фыкочка! Вчера приехал с Дмитрием Эрастовичем на дачу к ним. Здесь просто волшебно. Дышу кислородом, не пью никаких алкоголен и уже вчера выкурил только пять папирос. <…>
Перед отъездом сюда звонил Юткевич — снял первый павильон и подмонтированный привез в Москву. Обещался показать. Каценельсон1 предложил ему доделать «Женитьбу» и разрешил построить последний павильон, чтобы можно было доснять выход Подколесина без горшка, но я полагаю, спешить особо не нужно, да и Юткевич не собирается спешить. Третьего я увижу Юткевича и тогда тебе подробно напишу. У дяди Мити очаровательная интеллектуальная свинья, вернее, поросук, и собака. Сейчас ходили гулять, и собака нашла ежа, все время хотела его укусить, но обжигала морду. Мы его отняли, и он выставил свою морду и посмотрел на нас одним глазом с выраженьем: «Это что за идиоты?»
<…> Утром сегодня мы наблюдали здесь парад воздушных сил — зрелище грандиозное по впечатлению, было штук 900-1000 машин. <…>
Целую тебя крепко. Эраст.
P. S. Сейчас мы пообедали и будем засыпе, а я выкурил всего две папиросы за все 1-е мая. Вот я какой.
1 Речь идет о Г. Л. Кацнельсоне — директоре «Ленфильма».
<Сентябрь 1936>
Дорогая Хезочка! Не звонил потому, что хотел все описать после поездки со Шкловским в Ростов, но он как сволочь уехал в Горький, сообщив, что после приезда поедет в Ростов.
Рассказанное ему очень понравилось1, и он хотел делать. Теперь дождусь его приезда и ставлю вопрос в лоб. Пока хожу по галереям и смотрю картинки.
Театром удручен ужасно, просто готов убежать хоть куда-нибудь — после свободной жизни это невозможно. «Павел Корчагин»2 — очень плохая пьеса, не знаю, стоит ли еще год трепаться. При сем бумажка от Уринова3, который очень удручен делами мастерской. Он говорит <…> у Сергея4 дела плохи. <…>
Что мне делать, подумай: «Ревизор» Всеволод насажал очень часто — до 5 октября он идет 15, 19, 26, 30, 4, 5. <…>
Я же думаю дождаться Шкловского. Если будет случай, пришли 1-й вариант сценария — у трепанга5 нет. <…>
Целую. Толстей, имей в виду, что я свешался сегодня в бане — теперь во мне 62 1/2 кило (1 1/2 кило прибытка). <…>
1 О каком совместном с В. Шкловским замысле идет речь, установить не удалось.
2 Пьеса «Одна жизнь» по роману Н. Островского «Как закалялась сталь» была написана для ГосТИМа Е. Габриловичем.
3 Уринов Я. И. (1898 – 1976) — режиссер.
4 Имеется в виду С. Юткевич.
5 Речь идет о В. Шкловском.
1937
<Апрель 1937>
Дорогая Фыка!
Посылаю тебе Шумяцкого ответ1 (какая великосоветская формулировка).
Можно на таком основании закабалиться в Украинфильм.
Целую тебя. Не копти.
Эраст.
1 Б. Шумяцкому принадлежала идея постановки Э. Гариным «Дон Кихота» и исполнения им заглавной роли. Возможно, в ответе Б. Шумяцкого речь идет именно об этом.
230 1938
<28/IV 38>
Дорогая Хеза! Ты будешь изумлена мною. Совершенно не пью уже 10 дней, курю в день не более 15 штук и принимаю регулярные ванные и электропроцедуры1. <…>
Группа «На границе»2 живет как впотьмах — никто ничего не знает, когда что начнется. <…> Опиши мне про себя, как чувствуешь, и, пожалуйста, не устраивай карточных игр <…> до 5 утра. <…>
1 Письмо отправлено из Ялты.
2 Речь идет о фильме «На границе» (реж. А. Иванов), в котором Гарин играл роль диверсанта Волкова.
<Без даты>
… Дорогая Фыкса! Посмотрел пробы1 — много хорошо, <но> есть ляпусы (так у Гарина. — А. Х.). Организовал дальнейшие пробы, они были сегодня. Хорошо получился Осадчий — Полицеймако2, Бек Агамалов — Копелян3, и не плох Шульгович — Бабурин, но ему грим еще не нашли. <…> Кузнецова4 перегримировали, и как будто ничего. <…>
С Вахером у меня отношения обострились потому, что они не могли два дня устроить Толю5 в гостиницу.
Сегодняшним днем я очень доволен, потому как Вахера извел до чертиков к концу дня, он сказал, что в группе работать не будет. Я был очень удовлетворен. Все было тактично и не подкопаться, но оскорбительно в стиле Мастера периода расцвета. Пробу Царева назначили на 28 <-е…>. У меня столько хамства накопилось, что картину снимем на вазелине. <…>
1 Речь идет о пробах для фильма «Поединок» по повести Куприна. Гарин должен был его ставить и играть в нем главную роль — поручика Ромашова. Э. Гарин, имевший обыкновение поручать сестре, Т. П. Герасимовой, в ряде случаев функции ассистента режиссера, остался верен этому обыкновению и во время подготовки к съемке «Поединка». Так, незадолго до съемки проб, он обращался к ней:
«Татьяна!
У всех своих знакомых поищи семейных любительских альбомов. Картина на мази. Нужно скоро начинать. Поторопись, пожалуйста. Нам это очень поможет. Если в семье военные, было бы прекрасно. Может, у кого есть фото из быта царской армии. Напоминаю хронологию ввиду твоей забывчивости: начиная с 1895 по 1904 год» (почтовый штемпель — Ленинград 27.10.37).
2 Полицеймако В. П. (1906 – 1967) — актер театра и кино.
3 Копелян Е. З. (1912 – 1975) — актер.
4 Вероятно, имеется в виду В. Кузнецов.
5 Имеется в виду А. Г. Паппе. После совместной работы в ГосТИМе Гарин неоднократно привлекал его к сотрудничеству.
1940
<23/II 1940>
Дорогая Фырса!
<…> От «Тени»1 как будто тихонько отхожу, ибо Акимову, видимо, не нравится, как я скептически смотрю на его беспомощность. <…> Фырса, ужасно хочется кончить жизнь в Ленинграде и податься к Москве. Целую.
Эр.
1 Спектакль по пьесе Е. Шварца в постановке Н. Акимова, в котором Гарин играл заглавную роль.
231 ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АРТИСТЕ
233 Яков Варшавский
С МЕЙЕРХОЛЬДОМ И МАЯКОВСКИМ
Декабрь 1982 года. Телевидение показывает к юбилею Эраста Павловича Гарина «Свадьбу», а перед фильмом — большую фотопанораму жизни и творчества замечательного актера и режиссера. Я смотрю передачу в одной московской редакции и с интересом слушаю, что говорят о Гарине молодые и немолодые журналисты. На экране появляются десятки фотографий разных лет, и телезрители время от времени изумляются: «И это — Гарин?» Он сделал в своей жизни намного больше, чем представляют себе зрители разных поколений, и сделанное разнообразнее, чем думает любой из нас.
Те зрители, что постарше, восхищенно вспоминают Пашу Гулячкина в «Мандате», Хлестакова в «Ревизоре», они убеждены, что тут-то и проявился во всем блеске талант Гарина. Другие знают наизусть реплики Апломбова и Тараканова, но даже представить себе не могут, что Гарин — это и грибоедовский Чацкий. Кто-то утверждает, что радиопостановки, где Гарин был и автором литературного монтажа, и режиссером, и исполнителем — например, «Я сам» по Маяковскому, — это и есть самое оригинальное, чисто гаринское явление в искусстве.
Будто о разных людях говорят журналисты, собравшиеся у редакционного телевизора.
А ведь был Гарин художником редкой духовной цельности. Он жил и работал в нескольких десятилетиях, в различных обстоятельствах и все-таки никогда не уходил от своих коренных убеждений.
Я видел Эраста Павловича чуть ли не во всех его ролях, начиная с середины двадцатых годов, дружил с ним на правах младшего товарища, видел его издали — с галерки театра на Садово-Триумфальной площади и вблизи — у него на кухне, где так хорошо сиделось, слушалось, говорилось. И всегда поражало единство его устремлений, коренных принципов.
Об этом единстве я и хочу написать.
Придерживаться хронологии гаринских ролей при этом не берусь, классифицировать их по жанрам — тем более. Он всегда был немногословным в речах, не признавал деклараций, но точно знал и выполнял свою артистическую сверхзадачу. И все более полно раскрывался в искусстве. Таков сюжет всей его жизни.
Определенность гаринского стиля ничуть не мешала ему в каждой новой роли быть неожиданным. Он отделывался с годами от императивов «левого искусства» двадцатых годов, в ряды которого вступил убежденно и увлеченно, но остался в самом существенном верным школе, которая сформировала его.
Однажды на «Мандат» пришел Сергей Есенин — хотел посмотреть на Зинаиду Райх, в прошлом жену, в ее первой большой роли Варвары Гулячкиной и на Гарина в главной роли: о нем говорила вся Москва. С интересом ждал отзыва Есенина Всеволод Эмильевич, он тогда убеждал Есенина написать пьесу о Григории Отрепьеве. И Гарин волновался — Есенин был одним из его любимейших поэтов, с его «кабацкими» стихами Гарин держал экзамен в мейерхольдовском училище. Театр волновался: что скажет Есенин? А он спектакль резко не принял. Он говорил с упреком, что надо бы театру пожалеть маленьких людей, а не смеяться над ними.
Вот уж в чем убедить Гарина было невозможно! С точки зрения радикально настроенной «левой молодежи», из «маленького человека», традиционного героя русской литературы, достойного человека не получится — его путь, скорее, в насильники, а в случае большого успеха — в тираны. Так мыслила молодежь, верившая в Маяковского, в «левый фронт искусств».
Карьера Гитлера и гитлероподобных, другие чрезвычайные события XX века убедили его, как и всех нас, в том, что мечта о сверхчеловеке возникает именно у недочеловека.
Когда в сознании Гарина сложилась эта вера? Может быть, уже в самом начале артистического пути, когда он играл (в 1922 году) роль Ванечки в пьесе «Смерть Тарелкина», где Расплюев — бедолага, в недавнем прошлом несостоявшийся шулер, тоже «маленький человек», — став полицейским чином, пусть небольшим, сам пытает, терзает людей, сам тиранствует. Недаром образ Расплюева занимал Гарина многие годы, а «Смерть Тарелкина» («Веселые расплюевские дни») он сам поставил дважды — в театре и в кино, это было его последнее актерское и режиссерское произведение.
Любые сантименты поколением Гарина отвергались решительно. «Мой рай для всех, кроме нищих духом», — провозглашал в «Мистерии-буфф», в новой Нагорной Проповеди, Маяковский. Это был вызов завету Христа, обещавшему блаженство именно оскорбленным и униженным. Не будем сегодня укорять ни Маяковского, ни Мейерхольда, ни Гарина в ревизии бессмертных заповедей, — наверно, сегодня они судили бы обо всем этом иначе. Надо понять их тогдашние умонастроения. Когда прошла по земле катастрофическая Первая мировая война и христианство ее не остановило, когда Россия испытала мучения войны гражданской, молодежь бунтовала против привычной с детства веры, предпочитала нехоженые пути в неведомое будущее. Естественно было ее увлечение тем романтическим футуризмом, который так талантливо воплощал Маяковский — первый послереволюционный автор Мейерхольда, художник кризисной эпохи. Ильинский, Гарин, Яхонтов, да и все мейерхольдовцы видели в нем свою совесть. А сам Владимир Владимирович, прирожденный «агитатор, горлан, главарь», еще в 1926 году называвший себя футуристом, отрицал не только старую эстетику, но и старую мораль.
… А началом всех начал была красноармейская теплушка, в которой молодые ребята, участники самодеятельного театра, прибыли из Рязани в Москву в октябре 1919 года. На теплушке висел кумачовый транспарант с блоковскими строками из 234 «Двенадцати», напоминавшими и частушку, и митинговый лозунг: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем».
Приехали тогда в Москву в этом вагоне кузнец, пастух, сельский учитель, гимназисты и гимназистки, продавщица, крестьяне, коммивояжер, переплетчик, гравер, истопник. Были здесь и отпрыски дворянских семей — среди них Эраст Герасимов, по сцене Гарин. В театральном училище, куда через два года будет принят Гарин, его товарищами станут и сын священника, и дочь именитого замоскворецкого купца — никто из них комплексом социальной неполноценности не страдал. Счастьем этой молодежи стало то, что у нее был свой громогласный поэт. Его «Мистерия-буфф» начинала историю человечества с азов — новым всемирным потопом. Весь род людской был поделен Маяковским на тех, кто имеет право спастись в ковчеге, и на тех, кто должен остаться за порогом счастливой эры. И никаких нюансов, как в сказке или в букваре. Как на плакате. Или в мистериальном представлении на площади, или в карнавале. Злоба или святость. Ненависть или любовь. Азбука революции.
Гротеск стал языком и первых революционных спектаклей, и агитационных «Окон РОСТА», и праздничных костюмированных шествий. Для Гарина это имело чрезвычайное значение.
Вот исходное положение его размышлений: «Огромный размах общественной жизни, разбуженной двумя революциями, требовал гиперболических выражений в искусстве — отсюда тяга к плакатности, к агитационности, наполненной беспредельным внутренним волнением». Абсолютная искренность убеждений была его органическим свойством, и если им написано: «беспредельное внутреннее волнение», то можете быть уверены — речь идет о настоящем волнении.
Сохранилось его фото 1917 года: юноша в сдвинутой на затылок кепке; прямой, чистый взгляд. Если бы нужно было подобрать иконографию для роли Павки Корчагина или Максима, я без колебаний предложил бы этот снимок: пожалуйста, вот один из парней, которые сражались в Первой Конной и строили железнодорожную ветку близ Киева, — лучшего прототипа не найдете. В жизни Гарина ничего случайного не было, и он последовательно шел к образу Павла Корчагина, был у Островского в Сочи и, конечно, сыграл бы Корчагина в последней постановке Вс. Мейерхольда, но не дали сыграть.
Дебютировал скоморошеством. Играл клоунские антре в театрике «Петрушка» на Арбате, и дебютные его роли в «Земле дыбом» в Театре РСФСР 1-м — тоже, в сущности, клоунские. В театре, ставшем школой Гарина, тогда утверждалась открытая условность, эксцентрика.
Гарин впоследствии пытливо исследовал происхождение тех художественных форм, которым отдал столько творческих сил. Он находил, например, объяснение влечению театра к эксцентрике во впечатлениях реального бытия. Тогда на каждом шагу молодых актеров, его товарищей, ожидало что-нибудь необычное. Вот городской пейзаж той поры, когда рязанский юноша прибыл в Москву: «Февральским метелицам предоставлялась полная свобода действий. Сугробы с подветренной стороны поднимали пешеходов до уровня второго этажа, так что точка зрения на открывающийся нашему глазу мир приарбатских переулков была оригинальна и свойственна только этому времени»1. Или такая подробность быта студенческого общежития: «Топчаны были прикреплены ближе к потолку, подвешенная среди комнаты трапеция служила средством доставки человека ко сну и средством немедленного тренажа после пробуждения»2. Необычное в быту настраивало на эксцентрический лад на сцене. «Жизнь, выходящая из ряда вон привычного, обыденного, была необычайной не только в нашем повседневном быту. Движение истории рождало необыкновенное, своеобразное»3. У Никитских ворот Гарин видит дом, разбитый артиллерийским снарядом: шелковый абажур болтается на шнурке, голубые обои какой-то спаленки обнажены упавшей стеной, «обнародованы», как пишет Гарин. Руины дореволюционного быта… Молодые актеры были склонны видеть в них не драматический, а эксцентрический образ рухнувшего жизненного уклада.
Звонкое комедиантство было для юного Гарина и его товарищей естественно, как нормальное дыхание. Так же, как сатирические и лубочные «Окна РОСТА» для Маяковского. Плакат совершенно условно изображал безусловно жестокие испытания народа в войнах, эпидемиях, голоде, бессонном напряжении. Лубочность, наивность рисунка рождали, вопреки всем бедствиям, победное самочувствие рядовых Революции.
Красноармейцы, несущие службу вместе с Эрастом Гариным в самодеятельном театре, участвуют в массовках в Театре РСФСР 1-м в «Мистерии-буфф».
Для Гарина и его «одноклассников» это была начальная школа высокого искусства. Обнаженная, демонстративная условность костюмов, грима, мизансцен придавала пьесам Маяковского, Верхарна значение глобальных обобщений о судьбах народных. Характернейшая черта лучших спектаклей молодых театров тех лет — мировой и даже космический масштаб действия. Художественный театр репетирует «Каина», Вахтангов мечтает поставить «Библию». Настало время нового сотворения мира.
Для характеристики школы, воспитавшей Гарина, замечу: фильмы другого питомца этой школы, Сергея Эйзенштейна, — «Стачка», «Броненосец “Потемкин”» — вбирали в себя больше, чем рассказ об одном восстании или одной забастовке: эти фильмы-эпопеи вырастали из хроники, из рассказов о реальном историческом событии, но их образный строй, монтажные метафоры, стремительные ритмы передавали трагедийно-оптимистическую драматургию века обобщенно. В «Потемкине» зрители узнавали и трагедию Ленского расстрела, и недолгое торжество Парижской коммуны. Гарин без колебаний воспринял планетарный масштаб образного мышления — так определил любимый живописец Мейерхольда К. Петров-Водкин своеобразие левого искусства, авангардизма тех лет.
Местом действия в «Мистерии-буфф» была Вселенная. И в «Зорях» масштаб событий был всесветный. Место действия «Леса» у А. Н. Островского — захолустная помещичья усадьба госпожи Гурмыжской. В постановке Вс. Мейерхольда (она во 235 многом сформировала актерский и режиссерский вкус Гарина) действие происходило, разумеется, в помещичьей усадьбе, но конкретные приметы места и времени режиссеру не требовались. Он придал сценическим образам масштаб векового противоборства деспотизма и вольнолюбия; тихая, робкая у Островского воспитанница Аксюша стала в спектакле мажорным олицетворением народного начала — такой ее играла Зинаида Райх. А скандал в имении «Пеньки», учиненный трагиком Геннадием Несчастливцевым, вырастал в образ грозного суда над миром власть имущих. Сам трагик в своем длинном плаще напоминал библейского пророка; в финальном эпизоде он вместе с комиком Аркашкой разносил, расшвыривал помещичий дом, «вздыбливал» его.
Глобальный масштаб образов утверждался молодым Шостаковичем в симфонической музыке, Довженко — в игровом кино, Дзигой Вертовым — в документальном, Петровым-Водкиным — в живописи. Это была музыка времени, начинавшего заново счет грехам и подвигам человеческим. С большими, надо сказать, промахами…
Главнейшей особенностью «левого искусства» было то, что художник ставил своей целью, как тогда говорили, жизнестроение — активную «инженерию» человеческих отношений. Актер должен был, по мысли учителей Гарина, стать как бы эталоном человека нового века — физически и духовно здорового, мажорно настроенного, интеллигентного, аналитически мыслящего, социально деятельного.
От «инженерии» в широком, образном смысле слова идет понятие монтажа, сыгравшего первостепенную роль и в театре, и в кинематографии. Самый термин «монтаж» как принцип режиссерского строения спектакля возник в Театре Пролеткульта, где Гарин некоторое время работал под руководством С. Эйзенштейна. Эйзенштейновский «монтаж аттракционов», нашедший затем широкое применение в кинематографии, сблизил до известной степени театральную и кинематографическую поэтику. Гарину была близка и театральная, и кинематографическая трактовка монтажа.
Так складывался язык искусства, рассчитанный на громадные зрительские массы, — и не только в театре, но и на площади, на стадионе, на Воробьевых горах.
Спектакль «Земля дыбом», где Гарин сыграл роль повара в духе клоунской интермедии, был разыгран на конструкции, напоминающей «козловый кран»; эта конструкция занимала всю сцену в театре на Садово-Триумфальной площади и выносилась как большая трибуна под открытое небо на стадионы, на городские площади в гастрольных спектаклях. Здесь броская сатирическая, буффонная однозначность образа была особенно уместна, как и открытый темперамент массового митинга.
Желание полного обновления общества для Гарина и его единомышленников — источник новаторства искусства. Отсюда категоричность отрицательных оценок всего «старого» только потому, что оно — старое. Теперь легко обнаружить во всем этом очевидные крайности. Но и разобраться в этих крайностях — полезно.
Чтобы понять настроения этих молодых людей, носивших примятые кепочки, выгоревшие на солнце майки, вздувшиеся на коленях бумажные брюки и, однако же, спортивно-молодцеватых, полных юмора, бегавших неутомимо по читальням, музеям, диспутам, — не всегда они были сыты, но неизменно оставались веселыми, счастливыми, — надо иметь в виду, что путь от настоящего в будущее представлялся им совсем недолгим, коренное изменение человеческих отношений — совсем нетрудным. Их любимый поэт видел счастливое завтра совсем близким:
«Пусть во что хотите жданья удлинятся —
вижу ясно,
ясно до галлюцинаций,
до того,
что кажется —
вот только с этой рифмой развяжись,
и вбежишь
по строчке
в изумительную жизнь».
236 Героиня «Бани» Маяковского Фосфорическая женщина (З. Райх), представительница Будущего, появлялась на сцене из машины времени, похожей силуэтом на стартовую установку для космических ракет, и говорила о переменах в людях просто, ясно, кратко: «Будущее примет всех, у кого найдется хотя бы одна черта, роднящая с коллективом коммуны, — радость работать, жажда жертвовать, неутомимость изобретать, выгода отдавать, гордость человечностью». Вот он, утопический кодекс Маяковского, Мейерхольда, их младших товарищей.
Для Гарина, его учителей и товарищей это программа дня. В самом деле, радость работать? Она была у каждого в крови, в нервных клетках, об этом и говорить нечего. Неутомимость изобретать? Иначе и жить в Театре Мейерхольда было неинтересно и невозможно.
Прекрасную книгу, в которой выражены его творческие принципы, и отношение к современности, и главные впечатления жизни артиста и режиссера, вообще все самое для него дорогое, Эраст Павлович назвал своего рода лозунгом: «С Мейерхольдом». Он мог бы поставить рядом с фамилией любимого учителя и фамилию поэта, драматурга, ставшего для коренных мейерхольдовцев олицетворением совести, неизменным ориентиром в катаклизмах века. С Мейерхольдом и Маяковским прошла вся его жизнь, хоть утратить их довелось трагически рано.
На следующий день после премьеры «Мандата» словечки Паши Гулячкина можно было услышать где угодно, как несколько лет спустя цитаты из Ильфа и Петрова. Шел нэп, Пашина мама держала гастрономическую торговлю, и Паша не бедствовал. Но червь зависти к людям другой судьбы точил его душу. Он не желал оставаться «бывшим».
Не так уж смешон был в самой действительности общественный тип, взбудораживший фантазию Эрдмана и Гарина. Если пьеса юмористическая имеет своим предметом смешное в самой жизни, то сатирическая открывает то, что в действительности может быть и печально, и горько, и угнетающе. Сатирик заставляет тебя посмеяться над тем, что враждебно тебе, и не тогда, когда твой противник повержен, — тогда смеяться над ним поздно. Доблесть сатирика в том, чтобы вызывать смех над злом живучим, опасным, вовсе не собирающимся капитулировать. Высокая комедия — это преодоленная в твоем сознании жизненная трагедия, победа над нею. В комедии о «бывших» — в репертуаре тех лет они существовали как персонажи бытовых, житейских, смешных анекдотов, они обитали в Театре сатиры, как раз напротив мейерхольдовского — на этот раз автор, режиссер и актер ввели мотив иного масштаба и значения. Получив долгожданный «мандат», Гулячкин первым делом требует, чтоб об этом было доложено самому товарищу Сталину. Теперь Гулячкин может «переарестовать всю Россию». Смешно? Между тем в театре эта реплика вызывала хохот. Режиссер выстраивал для актера мизансцену, представлявшую Пашу как бы на желанной трибуне, и руки его, как у пламенных ораторов тех лет, устремлялись вперед, простирались над толпой — это была толпа напуганных величием Паши жителей московской окраины, возмечтавших устремиться вслед за Пашей к могуществу и власти. В пьесе Эрдмана действие происходит в окраинном домишке, но в спектакле Мейерхольда огромную сцену заполняла вся труппа. Сюда рвались претенденты на руку Варвары Гулячкиной в количестве фантасмагорическом: и официанты в старорежимных торжественных ресторанных костюмах, и просто соседи, и музыканты, приглашенные на помолвку, — житейское действие переходило в планетарное действо. В финале, приносившем Паше горькое разочарование, на сцене царил гротеск. Недочеловек, тщившийся дорасти до сверхчеловека, снова становился человечком. Между тем зрительный зал веселился. Какое уж тут сочувствие, сострадание!..
Действие развивалось, как говорят литературоведы, по параболе — оно начиналось бытовой сценкой украшений Пашиной комнаты старомодным пейзажем «Вечер в Копенгагене», а переходило в фантасмагорию, заставлявшую вспомнить взлет гоголевской драматургии. Уже не житейское правдоподобие определяло действие с середины спектакля, а лихорадочная страсть человечка, возжелавшего всеобщего подчинения 237 и преклонения. Этот мотив и впоследствии не раз вызывал у Гарина обострение особого артистического чувства — его можно, наверное, назвать сатирическим чувством.
При этом сцена блистала желтизной лакированных щитов, они легко держались на тросах, легко поворачивались по воле режиссера вокруг своей оси. На сцене не было привычных массивных неподвижных атрибутов мещанского обихода — мебель «въезжала» на сцену на больших концентрических кругах. В неожиданной, небывало динамичной сценографии Ильи Шлепянова было нечто спортивно-стадионное, создающее радостное настроение изящной простотой, сходством со спортивными снарядами. По такой сцене нельзя ходить вразвалку тяжеловесной «купеческой» походкой. Молодые актеры каждым движением давали зрителям почувствовать, что они сами получают удовольствие от биомеханической тренированности, от великолепного соответствия этому движущемуся, спружиненному, залитому светом игровому пространству… Вращаясь, большие круги доставляли на первый план из глубины сцены то сундук, то граммофон с большой трубой, то иконостас с горящими свечами. На кругах выезжали к нам, в театральное «сегодня», персонажи упраздненного «вчера» — дореволюционные банкиры и генералы, купцы и земские деятели и даже «претендентка на российский престол» Анастасия (Е. Тяпкина), обнаруженная в старом запыленном сундуке…
Вступал в действие закон гротеска.
Напомню, гротеском называли во времена Средневековья изображения, написанные на кривизне свода и потому причудливо деформированные, удлинявшиеся, словно тень. Гарин необыкновенно убедительно играл именно зловещую тень Гулячкина. Его охватывает азарт начинающейся, как ему померещилось, политической карьеры. Если Присыпкину в «Клопе» будет сулить торжество билет профсоюзный, то у Гулячкина претензии крупнее: «Внимание, я человек партийный!» — грозно объявляет Паша тонким своим голоском, сам пугаясь этих слов. Он себя покажет, черт возьми, он выползет из Благуши на свет божий — и тогда держись Москва! Так раскручивалась туго заведенная пружина фантазии-сатиры.
Если говорить о стиле игры Гарина, то отозвались в нем «петрушечность» его актерства, и обаятельная детская убежденность в возможности невозможного, и гипнотизирующая серьезность, устрашающая сосредоточенность, которые позже проявят себя и в Хлестакове, и в Апломбове, и в дьячке из «Ведьмы», и удивительное умение стать почти нематериальным, тенью человека, как в сказке Шварца. Никто, кроме Гарина, такими виртуозными умениями в такой степени не обладал, и, может быть, поэтому больше никому достойно сыграть в «Мандате» не удалось.
Все писавшие о «Мандате» пробовали охарактеризовать интонации Гарина-Гулячкина, поражавшие юмором и напряженностью одновременно. Пытались разгадать их секрет, а это так же трудно, как передать словами стиль его пластики. Режиссер Алексей Грипич писал, что роль Гулячкина «представлялась в героическом плане». Нет, конечно. Не было такого плана, прилагательное выбрано А. Грипичем неточно. Была вовсе 238 не героика, а своего рода патетика, заимствованная Гулячкиным у завзятых нахрапистых ораторов.
И вот ему внимают благушинцы — послушно, даже подобострастно. Паша на трибуне, пусть воображаемой. В эти минуты ярко освещенные щиты Шлепянова поворачивались так, что сцена как бы распахивалась, тесные границы гулячкинского житья-бытья исчезали, действие обретало иной, «планетарный» масштаб в пространстве гротеска. Едва заметно в интонации спектакля проникали нотки уже не только сатирические, но и лирические. Бродячие музыканты, приглашенные на торжество помолвки Варвары Гулячкиной и лучшего из женихов — молодого Валериана Сметанича (С. Мартинсон), расположившись между сценой и первым рядом партера, запевали «Средь можайских снегов затерялося…». Грустная, задумчивая песня. Возникала, как потом писал, воскрешая в памяти «Мандат», Гарин, «лирическая атмосфера невыясненности, неизвестности, неблагополучия, беспокойства». Кто знает, что ждет маленького кандидата в диктаторы!
Такие контрмотивы делали искусство актера все более многозвучным, первоначальная шутовская однозначность уступала место сложному контрапункту. Гротеск обогащался сердечностью…
Гарин быстро становился из талантливого дебютанта неповторимо тонким мастером, постигшим свое особенное назначение в искусстве.
В 1926 году, в постановке «Ревизора», снова широко раздвинутся стены дома провинциального правителя и на весь православный мир закатят пир городничий и городничиха. Мейерхольдовские спектакли требовали такой меры обобщения, и она была доступна его ученикам. Земная сущность сыгранной ими вселенской фантасмагории была вот в чем: и Хлестаков, и Гулячкин все больше наглели, возвышались над быдлом потому, что перед ними трепетали рабы по натуре. Они жаждут повиноваться, стать на колени перед «сильной личностью». Они умеют и желают прислуживать, возносить гимны властителю и этим распаляют его страсти. Страшная тема века — готовность к рабству!
Мейерхольд поставил «Мандат» в 1925 году. Через 30 лет Гарин повторил, «реставрировал», как он говорил, постановку в Театре киноактера. И снова в его сознании — он писал об этом — возникали ассоциации с разного рода фюрерами, конечно, не только заграничными — он был человеком несравненной интуиции.
Он желал сыграть на сцене «Клопа», видя в Присыпкине ближайшего родственника Гулячкина. Он мечтал — не удивляйтесь парадоксальности перехода — о роли Ричарда III. Его занимало происхождение зла из ущемленной уродством души… В самом деле, роль Ричарда, мстящего людям за свое уродство, была, я думаю, в поле возможностей Гарина.
Режиссер и актер предваряли в «Мандате» образный строй их общего шедевра — «Ревизора». Широко известна сцена, в которой к Хлестакову-Гарину протягиваются руки со взятками одновременно из тринадцати дверей — со всех сторон. У Гоголя чиновники, робея, являются к Хлестакову с даяниями один за другим. Режиссер собрал их всех — как в сновидении — в один букет. Это была, как мы можем сегодня сказать, многократная экспозиция — прием кинематографа, взятый тогда на вооружение театром. Гротеск, сатирически деформирующий предметы, лица, отношения, уравнивает в правах реальное и фантастическое, позволяет то сжимать, то растягивать время и пространство, гиперболизировать эмоции, шаржировать жест.
Подобных зримых гипербол в «Ревизоре» было много, и Гарин исполнял их виртуозно, как истинный мим. Особенно в сцене «Шествие». Такого эпизода в пьесе нет вовсе. Городничий в долгой пантомиме показывал Хлестакову благоденствующий под его управлением город. Хлестаков-Гарин, напялив на себя гвардейскую шинель и кивер, перебирая тонкими ослабевшими ногами, с трудом плелся вдоль невысокой балюстрады. А по другую ее сторону, не смея приблизиться к Хлестакову вплотную, двигалась толпа чиновников — «в благоговейном согбении», по определению Гарина. Хлестаков был в роли солиста, чиновники представляли собой своего рода пантомимический ансамбль. Хлестаков делал неуверенно шаг вперед — ансамбль повторял его движение. Хлестаков отшатывался, еле держась на ногах, — и ансамбль, пятясь, семенил подобострастно.
Мейерхольд говорил, что биомеханика обогащает актера «дансантностью», танцевальностью. Пластичность Гарина и его партнеров в сновидческом «Шествии» была самым, пожалуй, блестящим образцом такой танцевальности.
Андрей Белый на дискуссии о спектакле говорил, что режиссер поставил, а актер сыграл в нем «всего Гоголя»; в самом деле, и «Игроки», и «Нос», и «Мертвые души» присутствовали в «Ревизоре», в его образном строе.
Все в Хлестакове-Гарине было удивительно. Озадачивала замедленность его движений, напоминавшая кинематографическую «лупу времени». Впервые увидев Гарина-Хлестакова на лесенке гостиничного номера, зрительный зал замирал в безмолвии… Я свидетель — именно так бывало на каждом спектакле, я видел их немало. Шум или шумок в зале прекращался совершенно, когда зрители изумленно разглядывали Хлестакова. А ведь это был старый, со школьных лет знакомый персонаж — молодой чиновник, поиздержавшийся в пути… Найденная режиссером и актером ритмика и пластика побуждали искать в давно знакомом нечто неведомое.
Театр исходил из слов Гоголя: «Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе! Все до единого согласны, что этакого города нет во всей России… Ну а что если это наш же душевный город, и сидит он у каждого из нас…» Эти строки театр вынес на премьерную афишу. Вот оно — объяснение «многократным экспозициям» в спектакле. Гениальный драматург желал оградить пьесу от бытовой, развлекательно-водевильной трактовки. Гоголь приглашал зрителя обратить взор в свой же духовный мир, потому он был и остался сатириком 241 на все времена. Сатира жива до тех пор, пока задевает за живое людей других поколений.
Гарин играл в «Ревизоре» планетарную, космическую трагикомедию о суетном существовании небокоптителя, не обозначая точно ни время, ни место действия. Осуществляя формулу Петрова-Водкина.
И это снова была мистерия-буффонада. Распахивались ворота в высоком полукружии, обрамлявшем сцену, и на зрителя медленно двигалась из полутьмы фурка с героями спектакля, как бы являлась из тьмы прошлого в сегодняшнее.
Это был грозный спектакль. Набатно гремели в финале колокола, объявляя о приближении неподкупного суда. Страшным было потрясение городничего и городничихи, узнавших о своем позоре на виду у хохочущих, издевающихся подхалимов, свидетелей их недолгого величия и постыдного падения. Конец спектакля можно было бы назвать — в духе популярной ныне терминологии — эсхатологическим. Актеры окружали пляшущей цепью группу «немой сцены», в которой застыли навсегда их герои.
В этом фантасмагорическом представлении в Хлестакове-Гарине фокусировалась суетность обреченного на исчезновение мира, мизерность его страстей. Гарин играл призрачность совершеннейшую, мнимость, пустоту, но пустоту высшего порядка, как желал Гоголь; играл Фитюльку — но с большой буквы. Была сыграна метафора мелкости души, но с потаенными амбициями: «Меня завтра же произведут… в фельдмаршалы…»
В самом начале своего пути, еще до «Мандата», после писарька в «Смерти Тарелкина», Гарин сыграл в спектакле «Д. Е.» (или, в другом варианте, «Даешь Европу» — это была композиция М. Подгаецкого по произведениям И. Эренбурга и Б. Келлермана) семерых изобретателей, являвшихся один за другим с предложениями, как дешевле опустошить конкурентку-Европу. Это были мгновенные виртуозные перевоплощения. Режиссер позаботился о том, чтобы зрители оценили мастерство актера, и для этого прорезал в одном из щитов, передвигавшихся по сцене, большое окно, позволявшее разглядеть молниеносные переодевания Гарина. Это был аттракцион, демонстрация актерского умения.
В «Ревизоре» тоже были трансформации, но другого рода. У Гоголя Хлестаков говорит в минуту самоупоения: «Я везде, везде…» И эта реплика была «материализована»: в мгновенных преображениях Хлестаков-Гарин представал то странствующим шулером, как бы выскочившим из «Игроков», то легкомысленным искателем приключений из «Невского проспекта», подхваченным вереницей приятных неожиданностей амурного характера, то орлом-гвардейцем, кутающимся в роскошную шинель, придающую ему монументальность, то снисходительным к женскому полу салонным сердцеедом, поощряющим к роману и несмелую барышню (М. Бабанова), и ее решительную, красивую, аппетитную маменьку (З. Райх). Везде, везде возникает Хлестаков, то в одном, то в другом облике — всюду, как чума, проникает хлестаковщина! Хлестаков первого эпизода — невесомый, 244 как тень, — становится наглым, жадным хапугой, вымогателем, Бог знает что вообразившим о себе паркетным шаркуном.
В Бахрушинском музее хранится уникальная короткая кинолента, запечатлевшая гаринский стиль исполнения в «Ревизоре». Ее история такова: будучи в гастрольной поездке в Берлине, артист А. Темерин, занимавшийся в театре фотографированием для прессы, для друзей и просто для души, купил маленькую любительскую кинокамеру и очень хорошую пленку. Он и снял для предпремьерной рекламы сцену хлестаковского вранья, где Иван Александрович безудержно хвастает и размахивает саблей, словно вскочивший на коня фельдмаршал. Реальное и сновидческое непостижимо сплавлены актером в одно целое — это хорошо видно в нескольких кадрах старого ролика.
К сожалению, Темерин не снял кульминацию сцены, а она переводила спектакль в иной план. Это был один из истинно гаринских моментов. Иван Александрович Хлестаков, сильно перегрузившийся на приеме и совсем уже завравшийся насчет тридцати тысяч курьеров, вдруг забывался в некотором помрачении разума или, наоборот, пробуждался на минутку и молодым, чистым голосом по-простецки признавался: «… как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж — скажешь только кухарке: “На, Маврушка, шинель…”» И тогда становился вдруг на несколько мгновений прозрачно-понятным этот паренек, Ванюша Хлестаков, скорее из Рязани, чем из Петербурга, чиновная мелюзга…
Храню в памяти драгоценное мгновение «Вани Хлестакова», вдруг обнажавшее в трех простецких словцах, оброненных посреди адской фанфаронады, незагримированную личность затоптанного столицей, завистливого петербургского чиновника.
Эраст Павлович называл самый дорогой ему в искусстве мотив олириченной сатиричностью. Слова о Маврушке есть в тексте комедии, и ничего тут актер от себя не прибавил, но ведь почему-то у других исполнителей они почти незаметны. В игре Гарина они осветили мгновенно душу Хлестакова, как маленькая свечка может осветить огромное пустое помещение.
Когда Гарин поставил вместе с Х. А. Локшиной «Женитьбу», то здесь снова был экранизирован весь мир Гоголя, а не только одна его пьеса, вся гоголевская провинция и столица тоже, но окраинная, мелкочиновная, что-то вроде питерской Коломны. И самый ритм провинциальной жизни, ее сонная одурь, и миргородская идиллическая лужа, и неподвижный воздух, которым дышат Иван Иванович и Иван Никифорович, вошли в состав фильма. В нем была сыграна высшая пустота — образный лейтмотив, подсказанный самим Гоголем.
Обращала на себя внимание тонкая художественная культура вещи в кадре, ее отобранность, характерность, можно сказать — активность. Здесь вещи тоже лицедействовали — как в «Ревизоре». Там лицедействовала величественная шинель заезжего офицера, «сыгравшая» на тонких, костистых плечах Гарина сановитость Петербурга. Лицедействовал винно-фруктовый натюрморт на роскошном «павловском» столе городничего — 246 это был не просто реквизит, а овеществленное чувство хозяина жизни, по-барски наслаждающегося ее плодами. Гарин-Хлестаков испытывал головокружение не только от «толстобрюшки», но и от ласкавшей его взор роскошной дыни, от блеска хрусталя, от схватившего его в свои объятия дивана, способного соблазнить, расслабить, совратить. Надо заметить, что диван-соблазнитель был сделан специально для Хлестакова-Гарина, утопавшего в нем. Человек, обнимаемый, ласкаемый таким диваном-искушением, непременно возомнит о себе черт знает что. И реквизит в «Женитьбе», в высшей степени тщательно отобранный режиссерами, лицедействовал вместе с Гариным-Подколесиным, выражал его мечты о барстве и неге.
Наконец, «играла» громадная лужа перед домом невесты, в которой отражалось остановившееся время; «играл» бесхарактерность Подколесина его костюм, франтоватый, но бесформенный, бесхребетный, как его хозяин. «Женитьба» Гоголя в кинопостановке Гарина, подобно «Ревизору» в ГосТИМе, завершалась мотивом катастрофического потрясения: неподвижное зеркало огромной лужи вдруг раскалывалось, когда бежали прямо на зрителя в погоне за исчезнувшим женихом гости Агафьи Тихоновны. Это была патетическая вершина фильма: неподвижный, оцепеневший мир вдруг вздыбливался, как Благуша в «Мандате»; гости с перекошенными лицами, выпученными глазами, размахивая руками, высоко вскидывая ноги — все это в опрокинутом виде повторялось в луже, — бежали из глубины кадра на нас, и мы все более ясно видели становящиеся жутковатыми лица бегущих, катастрофический конец тишины, провинциальной неподвижности, оцепенения. Вздыбленный финал кинопостановки был нафантазирован Гариным и Локшиной, у Гоголя действие завершается другой нотой.
Две значительные роли, доставшиеся в разные годы Гарину и отвечающие его дарованию, остались незавершенными, несыгранными, все же упомяну о них, потому что и они позволяют понять, что ценил в Гарине его Мастер. И в той, и в другой роли мизерный, ущербный человечек в реальности или в мечтаниях обретает желанную власть над людьми. В «Лесе», одной из самых удавшихся Мастеру постановок, он поручил Гарину роль гимназиста Алексиса Буланова — этот юнец собирается, женившись на богатой тетке-помещице, стать большим господином, показать себя вовсю. Перед премьерой Эраст Павлович, поддавшись минутному настроению, ушел в Театр Пролеткульта, к Эйзенштейну, и Алексиса сыграл Иван Пырьев. Вернувшись в ГосТИМ, Гарин репетирует роль штабиста Оконного в трагедии Ильи Сельвинского «Командарм-2». Снова — исступленные мечты о власти, толкающие Оконного в предательскую авантюру. Крах, постыдная развязка… и снова Гарин уходит от любимого 248 Мастера — почему? Этот вопрос задал ему в письме А. Гладков. Ответ тоже был эпистолярным: «Что касается моего ухода в период “Командарма”, то это объясняется глупостью (моею), заносчивостью и отсутствием выдержки. Господи! Если бы кто-нибудь подсмотрел в зеркало будущее!!!»4
Он мечтал сыграть Присыпкина в «Клопе». Опять-таки недочеловек, рвущийся в хозяева жизни. Режиссер поручил эту роль Ильинскому. (Возможно, опасался самоповторения Гарина, но мы теперь знаем — Гарин не копировал себя никогда.) Роль Присыпкина он все-таки сыграл, и даже дважды — в радиопостановках, ставших в его жизни очень интересным, новаторским видом актерского и режиссерского творчества.
Наконец, обиднейшая потеря — роль Григория Отрепьева. Начиная постановку, Всеволод Эмильевич сразу же назвал Гарина исполнителем этой роли. Можно себе представить, как соединились бы в азартном, смертельно опасном отрепьевском лицедействе авантюризм с лирикой одинокого человека, решившегося променять тишь монастыря на неверную долю самозванца… Головокружительные перипетии, сумасшедшая любовь к гордой полячке, отчаянный вызов судьбе… Как близко все это гаринскому таланту!
Работа Мейерхольда над тираноборческой пьесой Пушкина была прервана. (В театре вполголоса говорили, что Сталину была неугодна постановка о правителе с нечистой совестью — и в самом деле, трудно представить себе постановку «Бориса Годунова» в 1937 – 1938 годах.) Так актер, которого к роли Отрепьева вела вся его творческая биография, не сыграл и эту роль, словно предназначенную ему.
А мотив торжествующего подонка пробивался в других ролях — больших и маленьких, театральных и кинематографических, сыгранных много лет спустя. В 1963 году С. Самсонов поставил на «Мосфильме» «Оптимистическую трагедию» Вс. Вишневского. На редкость проницательным был выбор Гарина на небольшую роль Вожачка, предводителя анархистского сброда. Шпана, прохиндей, дождавшийся в штормах трагического времени своего часа, праздника на своей улице, — можно, наконец, грабить, насильничать, куражиться над людьми, не желавшими прежде даже замечать его, — таков этот колоритный персонаж взбаламученного времени. Вожачок отводит душу за многие годы зависти к сильным мира сего… Вот он появляется перед Комиссаром во главе сбившейся вокруг него бражки. Странной походкой шествует этот тип. Он идет медленно и важно, как бы танцуя, еле касаясь ногами земли. Дансантно идет, как говорил Мейерхольд. Почему Гарин, неожиданно для режиссера Самсонова, дал Вожачку такую причудливую походку? Самсонов рассказывал, что он сам спрашивал об этом на съемочной площадке Гарина. Эраст Павлович, всегда искавший рациональный ответ на любой вопрос о понимании роли — таков был один из его коренных принципов, — объяснил: именно хам желает выглядеть этаким деликатнейшим, неземным существом, любит иной раз блеснуть галантерейным, как сказал бы гоголевский Осип, обхождением.
249 В судьбах художников того направления в искусстве, которое называло себя левым фронтом, большую и часто драматичную роль сыграли поиски современной художественной формы. Было нечто явное или неявное общее в исканиях и открытиях таких даровитейших первопроходцев, как Петров-Водкин, Малевич, Лисицкий, Родченко, Попова, Татлин — все они или почти все испытывали тяготение к Мейерхольду и мейерхольдовцам. Петров-Водкин охотно помогал Мейерхольду в поисках пластического решения спектакля «Командарм-2», даже не числясь его участником. Лисицкий увлеченно искал архитектуру спектакля «Хочу ребенка» (пьеса С. Третьякова).
Гарин находил общее в творческих исканиях этих и других «авангардистов» в том, как стремились они выразить всесветный размах событий современности, отвергая житейски-бытовую конкретность. Лаконизм, ритмичность художественной формы, решительный разрыв с любыми стереотипами обнаруживались в творчестве необыкновенно талантливого авангарда, оказавшего исключительное влияние на мировое искусство. Было нечто родственное в том, что давала актеру биомеханика, и в новаторских произведениях всего Лефа. «Не надуманную “голую” технику, а железную правду природы человека приносили актеру занятия биомеханикой», — писал Гарин. Это была правда скорее поэтическая, чем прозаическая; сценическое поведение Гарина отличалось от поведения житейского, как поэзия от прозы. Но это и осложняло жизнь, вызывало нескончаемую критику со стороны руководящих товарищей, и не было конца упрекам в «формализме». Сколько их выслушали Мейерхольд и его ученики! Их судьбы были бесконечно драматичны, и судьбы их произведений — тоже. Только малую часть замыслов удалось осуществить Гарину, а лучший его фильм — «Женитьба» — был уничтожен физически.
Он слышал упреки в «формализме», в «голой технике» не только тогда, когда сгущал до гиперболы образы сатирические, — в ролях противоположного плана он также искал обострения характерности. И в «положительных», как мы говорим, ролях, как и в сатирических, торжествовало лицедейство. Он был влюблен в своего Чацкого в спектакле «Горе уму» («Горе от ума»), В постановке Мейерхольда царила Игра, Лицедейство. Возникал обобщенный образ свободолюбивой юности пушкинских времен. Актер видел Чацкого романтиком, отвергнутым не только Софьей, но и всем ее миром. Чацкий декламировал стихи поэтов-декабристов в кругу молодых офицеров, и было в этих эпизодах предчувствие роковой обреченности. И был Чацкий-Гарин по-гамлетовски ранен изменой Софьи. Вообще, было в нем что-то гамлетовское — в юношеской обиде на фамусовскую, равнодушную к нему Москву, в горькой насмешливости… Изъяснялся Чацкий-Гарин стихами великолепно-музыкально, ведь с поэзией была связана вся жизнь Гарина. Мейерхольд не допускал искажения стихотворной формы ради «жизненности» речи, как это часто случается с актерами драматических театров. Не позволял разрушать ритм стиха психологизированием — душу героя надо выражать стихом, учил он, а не разрушением стиха. В театре, где прошла молодость Гарина, регулярно, по заведенному Мастером обычаю, выступали перед актерами лучшие поэты страны — Есенин, Сельвинский, Кирсанов, Асеев, Багрицкий, не говоря уж о Маяковском. Поэты, как известно, читают свои стихи не так, как актеры, то есть не приносят в жертву «переживанию» ритм, структуру, музыку стиха. Мейерхольд предпочитал авторскую читку и своих учеников учил такому же стилю исполнения.
Лирика и сатира — то врозь, то слитые воедино — составляли артистическую притягательную силу Гарина. Едкий, язвительный, озорной Гарин всегда — и в творчестве, и в жизни — был полон восхищенно-нежных чувств к людям, прежде всего к Мастеру, но и к товарищам тоже. Редчайший случай: чуть ли не половину книги автобиографической он посвятил творчеству других актеров — часто ли бывает среди актеров такое? Он знал себе цену, но и другим художникам — тоже. Он постоянно был влюблен в людей высокоталантливых. И потому в ролях людей даровитых, влюбленных в жизнь, он был и убедителен, и обаятелен. Исполнение роли доктора Калюжного в ленинградском спектакле восхитило автора пьесы Юрия Германа — на сцене жил человек, свято преданный своему благородному призванию, чего и требовал авторский замысел. Герман написал тогда брошюру о Гарине, в которой утверждал, что Гарин прежде всего поэтичен и образы, созданные им, поэтичны.
Юрий Герман много говорит о сатирическом лейтмотиве в творчестве Гарина, но и влечение к прекрасным человеческим характерам никогда не покидало Эраста Павловича. Ни в жизни, ни в творчестве. И потому он делал все от него зависящее, чтобы сыграть на сцене или в кино Сирано де Бержерака, Дон Кихота — эти образы отвечали его представлению о своем актерском призвании. С необыкновенным постоянством чиновники ему отказывали, и доктора Калюжного ему не дали сыграть в кино, ввиду несоответствия, как ему объяснили, образу положительного советского человека его внешнего облика — монументальности не хватало! Это не анекдот.
В годы учения во Вхутемасе, у Фаворского, талантливый студент Сергей Урусевский увлеченно посещал спектакль Мейерхольда «Ревизор». Урусевский еще не знал тогда, что в конце концов станет кинооператором и кинорежиссером, а первым его постановщиком будет Гарин. Такие контакты могут показаться случайными, а ведь в них всегда логика: Урусевскому, как и Гарину, было присуще ощущение поэтической художественной формы. И потому они оказались сотоварищами, людьми одной творческой веры, никогда и ни в чем не изменяя ей.
Между тем в нашей театральной и кинематографической жизни из года в год все более основательно, директивно утверждался некий бесполый род пьесы, фильма — не драма, не комедия, тем более не трагедия. А Гарину всегда нужно было найти особый язык роли, особую образную логику. Если чувством 250 формы очередной режиссер не обладал и не будил этого чувства в актере, Гарин скучал, увядал. А пьеса без неповторимой художественной формы — в конечном счете без искусства — все больше господствовала в репертуаре, становилась нормой. Гарину нечего было делать в таких паллиативах. И потому так радовали его встречи с драматургией Евгения Шварца. Сказки Шварца — умные, многозначные, дающие простор фантазии и живым чувствам зрителя — сыграли во второй половине жизни Гарина роль не менее значительную, чем Эрдман — в первой. Гарин играл в «Тени» в ленинградском Театре комедии заглавную роль, в «Обыкновенном чуде» — Короля, в «Золушке» — еще одного монарха, в «Каине XVIII» — заглавную роль, в «Царе-водокруте» — на радио — снова самодержца. В сказках Шварца он находит кровно близкий ему язык искусства — всесветный масштаб действия, ведь и сказка берет действительность в том же масштабе, что и пьесы Маяковского. Гарин оказался одним из лучших интерпретаторов драматургии Шварца. Сказочный лад определил характер снятой им «Синегории» (по повести Л. Кассиля «Дорогие мои мальчишки») — здесь вступали в единоборство Добро и Зло. В роли Арсения Гая — бывалого человека, верящего в нетленные силы Добра, он снял мужественного Бориса Барнета. А Барнет на съемочных площадках разглядел в колючем сатирике Гарине трепетно-нежную натуру и, когда он ставил «Аленку» Сергея Антонова (1962), на роль необыкновенного, нежнейшего добряка учителя Витаминыча пригласил Гарина.
Было что-то от доброй сказки в Витаминыче, чудаковатом друге мальчишек и девчонок, и оказался Гарин, прирожденный сатирик, истинным сказочником в нашем театральном и кинематографическом искусстве. У недобрых людей сказка не складывается.
Гарин утверждал — и совершенно справедливо, — что сказка нужна искусству не для уклончивости, не для аллюзий. «Сказка рассказывается не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы сказать во всю силу, во весь голос то, что думаешь»5.
Умные строки. Никогда такие наши художники, как Гарин, не отказывались от исконного, вековечного права и долга художника сказать то, что думаешь, «во всю силу». Конформистами не становились. Не раболепствовали. Не мешает вспомнить об этом, когда мы однотонно скорбим о грехопадениях нашего искусства, — грехи были, и много их было, но и умение послужить горькой правде не исчезало.
251 … И вот наступил скорбный день прощания с Эрастом Павловичем. В одном из павильонов «Мосфильма» прозвучали надгробные речи актеров и режиссеров, испытывавших к Гарину чувство сыновней, братской, да просто товарищеской благодарности за все, что он сделал в искусстве вместе с ними. Кинорежиссеры, снимавшие Гарина в комедиях, трагедиях, сказках, говорили, что его артистизм — в прямом родстве с гением Гоголя, Чехова, Маяковского. Место Гарина на карте искусств там, где встречаются эти могучие силы. Понимание искусства как деятельного участия в противоборстве извечных антиподов было заложено в нем еще со времен рязанской теплушки.
И вот что примечательно: к каким бы пакостным людишкам, вроде дьячка в «Ведьме», ничтожным злодеям и властным повелителям ни обращал свой лирический, сатирический и поэтический дар художник, сам он оставался всегда воплощением абсолютного духовного здоровья, незамутненной чистоты души.
… Сентябрьский день, Ваганьково. Здесь он похоронен, в нескольких шагах от камня, на котором написано: «Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду. Зинаиде Николаевне Райх».
Простившись с Эрастом Павловичем, его друзья — Мария Алексеевна Валентей, внучка Мейерхольда, и Константин Сергеевич Есенин, сын Райх, прошли эти несколько шагов к камню. И мы с ними. Постояли несколько минут молча.
И вот о чем говорили, когда шли обратно. Какие широкие ветви раскинуло это «генеалогическое древо» в искусстве! Эйзенштейн, Юткевич, Охлопков, Экк, Ильинский, Зайчиков, Свердлин, Яхонтов, Пырьев, Бабанова, Тяпкина, Дмитрий Орлов, Штраух, Арнштам, Урусевский, Шостакович, Габрилович… Нет, всех командиров и рядовых «армии искусств», к которым обращался Маяковский, не назовешь, она распространилась повсюду, стала вместе с другими, ничуть не менее талантливыми и блестящими мастерами, выросшими в других театрах или на съемочных площадках других режиссеров, ярчайшим явлением мирового значения.
1 «Искусство кино», 1963, № 11. С. 73.
2 Там же.
3 Там же.
4 Гладков А. К. Театр. М., «Искусство», 1980. С. 119.
5 «Искусство кино», 1962, № 9. С. 91.
252 Евгений Габрилович
МИМИЧЕСКАЯ НОВЕЛЛА
В середине 20-х годов на репетициях, которые вел В. Э. Мейерхольд в своем театре, собиралась обычно вся труппа. Даже не занятые в репетиции актеры, даже люди со стороны. Мастер, не любивший пустого зала, охотно звал всех желающих, и очень трудно было понять, кто из этих утренних зрителей действительно приглашен, а кто пришел так, из преданности искусству, а может, и просто с улицы — почему не зайти, если не затруднен вход?
В числе этих неприглашенных, но постоянных был некий юноша, худой, не так чтобы длинный, однако не коротыш, слабый в сложении, молчаливый и робко красневший, когда к нему обращались с вопросом. Сперва полагали, что это гость Мастера, может быть, дальний родственник или поближе — племянник, внук. Но вскоре выяснилось, что Мейерхольд, польщенный этим восторженным постоянством, сам спрашивает всех, кто он. Никто не мог дать ответа. И со временем все привыкли к тому, что он тут, и сидит все на том же месте, и приходит к началу, и уходит только тогда, когда Мейерхольд после репетиции, еще воспаленный, но уже на ходу выкрикивает последние указания. Он стал своим, здешним, домашним, как бы вечным зрителем этого буйного, беспримерного театра, и все — и актеры, и костюмеры, и парикмахеры, и помрежи — уже звали его по имени: Гриша!
Да, именно так нарекли его при рождении папа и мама. Гриша Гаузнер — вот и все, что знали в театре о нем.
О репетициях Мейерхольда писалось так много, что я не стану здесь умножать восторгов, повторю только одно мое наблюдение: мне кажется, что не только все мы, но и сам Мастер любил свои репетиции. И часто после так называемого показа того или иного сценического узла, сбежав со сцены, отирая пот, спрашивал всех, кто попадался ему на пути:
— Ну, как? Ничего?
И чаще других он спрашивал именно Гаузнера, сперва потому, что в полутьме он резче других был заметен своей худобой, а потом, как ни странно, и потому, что оценки этого юноши с тонкой шеей и большими ушами были столь метки, что невольно задерживали стремительный мейерхольдовский шаг.
— Ну, как? Сойдет?
И Гаузнер, покраснев и путаясь, высказывал свое нелицеприятное мнение. И Мастер, вообще говоря, не очень любивший такую святую прямоту, слушал его.
— Ты полагаешь? — задумчиво говаривал он. И слушал.
Впоследствии Гаузнер стал писателем, большим другом Бабеля и Олеши, издал прекрасную книгу о странствиях по Японии1, несколько первоклассных рассказов и умер, не добравшись до тридцати.
Вот так, среди ураганных открытий Мастера (кстати, ныне расхищенных по клочкам), я познакомился с Гришей Гаузнером. И когда Мейерхольд стал редактором московского отделения одного из видных ленинградских театральных журналов, мы с Гаузнером получили возможность помещать на его страницах статьи.
Одна из этих статей перед вами. Она о некоторых особенностях БЕССЛОВНОЙ игры Э. Гарина, которого Гаузнер считал неповторимым актером и стиль, и манеру, и сущность игры которого боготворил.
В те давние дни все крупные роли Эраста Гарина были еще впереди, он был для всех в театре мальчиком из Рязани, со странной манерой жестов и интонаций, совсем непохожей на все актерское, картинно движущееся и сочно произносящееся. Все было в нем как-то зыбко и как бы невзначай, но на поверку удивительно точно, ударно, обдуманно. Не по Станиславскому, нет. А именно по Мейерхольду. И это особенно восхищало Гаузнера, который млел от восторга.
Эраст был вразрез с привычным. Совсем непохожий на всех. И такая-то выразительнейшая непохожесть, остро подхваченная Мейерхольдом, и создала ему раннюю славу.
Это была эксцентрика. Однако не американских, а подлинно русских национальных корней.
В те годы Мейерхольд увлекался в мечтах киноискусством, он намеревался даже снять фильм о железных дорогах, обозначавшийся во всех кинопланах под заголовком «Стальной Путь». Фильм этот он так и не снял, но во всех своих лекциях и обращениях к труппе неизменно восторженно отзывался о возможностях киноигры. Немой игры. Основанной только на жестах, мимике и движениях.
И первый, кому Мастер поручил в своем театре такую немую игру в рамках обширного эпизода, был Эраст Гарин. Произошло это в сцене трансатлантического парохода в спектакле «Даешь Европу!», или сокращенно «Д. Е.». Там Гарин сыграл семь персонажей, трансформируясь на глазах у зрителей. Все роли были бессловные. И появление персонажей на сцене шло одно за другим, без перерыва.
253 Все эти смыкавшиеся друг с другом роли, мелькавшие как бы единым потоком, одной зримой лентой, сыграл Гарин. То был образец актерского мастерства в мейерхольдовском понимании, мейерхольдовского использования актерской техники и сценического пространства. Сценки, как сказано, были бессловными, вот словами их и нелегко описать.
Все же мы с Гаузнером попытались это сделать. И об одном из персонажей такой трансформации написали совместно статью. То была горячая дань юной поре, когда мечталось о слиянии кино и театра.
И, как ни странно, хотя театр и кино до сих пор все еще разные (и даже нередко враждебные) державы, внутреннее слияние их уже давно произошло. Однако для полного симбиоза необходимы актеры, равные по силе, диковинности, необыкновенности и остроте движений, жестов и мимики. И первый, кто осуществил на советской сцене такое соединение, был Эраст Гарин.
С той поры я много раз видел Гарина в самых разных спектаклях. Видел, конечно, и в незабываемо сыгранном им Хлестакове. Но кого бы он ни играл, даже Чацкого, он оставался в ауре тех странностей жестов и интонаций, в сфере той мимики и движений, которые были присущи только ему. И в Хлестакове, и в Чацком неизменно и плотно жил тот самый паренек из Рязани, которого я впервые увидел как актера в «Д. Е.».
Оставляю нашу с Гаузнером статью почти без изменений, хотя мог бы кое-что и подправить по части стиля и языка.
Г. Гаузнер и Е. Габрилович
ГАРИН
Из
очерка «Портреты актеров нового театра» (опыт разбора игры)
Каждая пьеса имеет сюжет, имеет экспозицию, разработку, развязку. Повышения и снижения темпа, движения этого сюжета определяют ритм спектакля. До сих пор никем не замечалось, что обычно такой же сюжет со всеми его компонентами имеет игра актера, причем сюжет этот развивается независимо от сюжета пьесы. Игра Гарина дает наиболее яркий пример этого.
Посмотрим, как строит Гарин сценическую новеллу. Сюжет рассматриваемой новеллы — приключения ноги одного хромого человека (Изобретатель № 5 в «Д. Е.»). Текст не имеет тут значения: все прочие детали актерской игры становятся всего лишь аккомпанементом игры ноги. Итак, приключения ноги хромого человека — таков сюжет. Новелла начинается выходом несчастного хромого на сцену. Сразу же нога, которую он как бы несет перед собой, уродливая нога хромого, непроизвольно брыкает миллиардера, к которому бедняк пришел предложить свое изобретение. Миллиардер возмущен. Такова завязка. Мы введены в действие. Следует разговор изобретателя с капиталистом Джебсом. Хриплый рев урода не дает возможности различить слова, и внимание зрителя концентрируется на игре ноги. Хромой держит ее на весу, перед собой, и когда он подходит к Джебсу вплотную, нога ложится на грудь миллиардера. Там она конвульсивно дергается, приводя в неистовство Джебса. Мы понимаем уже, что изобретение не будет принято. В самом деле — взбешенный Джебс приказывает секретарю выгнать хромого. Казалось бы, что действие закончено, что другой развязки не может быть. Нет! Неожиданная развязка следует немедленно — хромой отходит, нога его так же непроизвольно, как и вначале, выпрямляется и бьет в живот миллиардера, опрокидывая его на пол. Хромой отомщен. Секретарь записывает на грифельной доске: «№ 5. Дерется». Эта надпись — как бы название новеллы о ноге хромого человека, которая сначала лишила его заработка, а потом отомстила за него.
Также построены и новеллы об остальных шести изобретателях, сыгранных Э. Гариным. Текст не имеет значения, зато главенствующее значение приобретает мимическая игра. Сценическая новелла строится не на тексте, а на помимотекстовой игре актера.
В «Мандате» Гарин показал другой сюжетный прием, известный под названием «лейтмотив». Лейтмотивом здесь можно назвать некий сценический штрих, повторяющийся несколько раз. Приемы, какими Гарин вводит помимотекстовый лейтмотив в действие «Мандата», — приемы новеллы. Таким образом, мы имеем вводную новеллу, которая и образует лейтмотив. Тема новеллы — ужас Павла в момент, когда он выдает себя за коммуниста. Действие развивается так. Экспозиция — фраза 254 Павла в начале первого действия: «Я — человек партийный!» Сказав это, Павел ужасается. Он приседает, согнув туловище, рот его раскрыт, зрачки расширены, волосы вздыблены. Эту позу и выражение лица он пускает в ход при всех последующих испугах, когда выдает себя за коммуниста. Поза и выражение лица, которыми он пользуется только в моменты испуга, служат как бы курсивом, выделяющим лейтмотив страха и позволяющим отличить этот сценически повторяющийся штрих от остального действия. Он пронизывает спектакль. Второй момент — разговор Павла со Сметаничем. Поскольку испуг мотивирован тут текстом, помимотекстовый ужас здесь ослаблен. Третий момент и кульминация новеллы о страхе, ее наибольшее напряжение — конец второго действия. Павел размахивает мандатом, «копия которого послана товарищу Сталину». Поза ужаса здесь выделена тем, что Павел стоит на столе (как бы на пьедестале) и обособлен, таким образом, от остальных действующих лиц. Развязка — в конце третьего действия. Сказав, как в экспозиции (кольцевое построение): «Я человек партийный», Павел, в курсивной позе, отходит к матери. Около нее он падает в обморок, сложив на груди крестообразно руки. Этот обморок, сценически равный смерти, и заканчивает мимическую новеллу о молодом человеке, который выдавал себя за коммуниста, но очень боялся этого и даже умер от страха.
Таковы сценические, помимотекстовые, сюжетные построения Гарина.
1 «Путешествие по Японии» было первой работой Э. Гарина на радио.
Александр Мацкин
ПЕРВЫЕ РОЛИ
Не всех актеров, начинавших у Мейерхольда и потом работавших с ним долгие годы, он считал своими учениками. От многих он открещивался; от одних — потому, что они тяготели к символистскому театру, от других — потому, что находил у них свои идеи в обезображенном до неузнаваемости виде, от третьих — в силу своего крутого характера и возникавших оттого конфликтов и т. д. Но были у него привязанности, со временем не терявшие своей устойчивости. Гарин с первых лет сотрудничества с Мейерхольдом принадлежал к числу любимых его учеников. Ему нравился талант Гарина, его осердеченная эксцентрика, изящество его игры даже в грубых физиологических сценах, его прирожденная певучая пластичность, отпечаток его личности в каждой роли. Гарин в глазах Мейерхольда представлял ту новую, пришедшую из глубин России, только формирующуюся революционную интеллигенцию, при ее неистово жадной восприимчивости к знаниям и искусству не утратившую на столичной почве непосредственности и независимости взглядов. У Мейерхольда в то время было много фанатичных приверженцев, они слепо шли за ним, разделяя его догму. Преданность Гарина своему учителю была зрячей, он знал, в чем его покоряющая сила и в чем его уязвимость; это была любовь без идеализации, в этом и заключалось ее преимущество. И ее надежность. Аналитически трезвый ум молодого актера располагал к доверию — Мейерхольд с отеческим чувством говорил о его министерской голове и прислушивался к его мнениям. Хорошо помню впечатление от игры Гарина в спектакле «Д. Е.» в 1924 году. Материалом для этого политического памфлета, построенного в форме буффонады с трагическим аккомпанементом, послужили романы Эренбурга «Трест Д. Е.» и Келлермана «Туннель». Инсценировка была сумбурная, откровенно плакатная, театр показывал апокалипсическую картину столкновения двух социальных миров на Европейском континенте в 1940 году. Мейерхольд определял жанр «Д. Е.» несколько экстравагантно, как утопию-скетч, объясняя, что не может взять на себя «непосильную задачу серьезного прогноза, как разовьются политические события» много лет спустя. Более того, один из близких сотрудников Мейерхольда предложил трактовать события в «Д. Е.» так, как будто они происходят во сне, на грани яви, еще не поддающейся сознательному контролю. И похоже, что театр сочувственно отнесся к этой идее. Какой же это был странный сон, заполненный вихрем движения, громом музыки, мгновенными перемещениями места действия, стремительными погонями, ослепительной игрой световых контрастов, что и дало повод А. Гвоздеву назвать постановку «Д. Е.» высшим достижением в «области современной динамики театра».
255 Особое значение в этой композиции, отразившей ритмы современного города-спрута, «каменных джунглей», Мейерхольд придавал трансформациям актеров, то есть технике смены масок, включая костюм, грим, парик и т. д. В дореволюционном провинциальном театре одному актеру иногда поручали несколько ролей в спектакле из-за бедности состава труппы, это была мера вынужденная. Для Мейерхольда 1924 года трансформация — прием постановки, он открыто о ней объявляет, и для того, чтобы не оставалось сомнений насчет подлинности этих чудо-превращений, они происходили на глазах у публики; Мейерхольд любил показывать сцену с изнанки, кулисы, лабораторию спектакля, напоминая таким образом, что у искусства театра нет никаких тайн, кроме степени умения и тренировки актера. Трансформации нужны были еще и как иронически-зрелищный комментарий к картине беснующейся и разлагающейся Европы, идущей к гибели под звуки джазовой музыки. Так, по ходу острого антибуржуазного гротеска возникали и чисто игровые моменты, как бы иллюстрирующие зыбкость, неустойчивость, непостоянство, лихорадку перемен, охвативших старую, дошедшую до конечного предела цивилизацию. Сатира не глубокая — лубок в современной урбанистической манере, но чрезвычайно эффектная.
Спектакль имел большой успех, в том числе у делегатов заседавшего тогда в Москве V конгресса Коминтерна, и в ряду эксцентрической хроники заговоров, афер, кризисов, катастроф (вот названия эпизодов: «Довольно мира», «Лакеи французского капитала», «Фокстротирующая Европа» и т. д.) не остались незамеченными несколько минут, отданных пантомиме Гарина. В Киеве на гастрольной афише она была для загадочности и обострения интереса обозначена так: «Сеанс трансформаций по системе Франкарди». Кто такой Франкарди? Фамилия вызывала ассоциацию с цирком, с именами его «звезд», с их итальянской звучностью. И действительно, номер Гарина по своей виртуозно отработанной технике был близок требованиям цирка. Счет времени шел в микроединицах, скорость требовала осмотрительности: зритель видел «кухню трансформации», и, чтобы выдержать взятый темп, Гарин работал с ловкостью не меньшей, чем жонглер, манипулирующий несколькими предметами. Уроки биомеханики пошли ему на пользу.
Сцена называлась «Прием изобретателей»; актер появлялся попеременно в семи образах, последняя его роль была женская, что неизменно вызывало веселое оживление в зале. И, самое главное, трансформации Гарина не казались трюком, парадом масок, демонстрацией манекенов из витрин. У его портретов был обязательный мотив пародии, мгновенно сочиненная карикатурность, относящаяся к данному лицу. Например, поэт с «бабочкой» и тростью, чья намеренная артистичность и соответствующая тому претензия заметно отразились в его смешно стилизованной внешности. Гротеск с чертами психологии! Добавьте к этому, что при твердо установленном сценарии Гарин иногда позволял себе вольность и менял рисунок своих портретов. Менял чуть-чуть, но этого было достаточно, чтобы почувствовать живую жизнь роли, судьбы промелькнувших людей и их характеры, как они запечатлелись в импровизациях актера. Гаринский «цирк» породил много толков у московских театралов. Несколько месяцев спустя Мейерхольд поручил Гарину роль Гулячкина в «Мандате».
Это была первая большая роль двадцатитрехлетнего Гарина, сразу выдвинувшая его в ряд ведущих актеров труппы. Поначалу он отнесся к Гулячкину с некоторой опаской — по силам ли ему такая задача, но озорной юмор Эрдмана, к исходу пьесы окрашенный в сильно драматические тона, и репетиции Мейерхольда, убежденного, что его театру предстоит играть нового Гоголя, рассеяли все сомнения. Роль пошла легко. И, как вся пьеса, заслужила единодушное признание. И. А. Аксенов — первый историк Театра Мейерхольда — подсчитал, что в среднем каждые четыре минуты действия в зале раздавались бурные вспышки смеха («Жизнь искусства», 1925, № 18). «Мандат» — заметная веха в истории советской комедии.
Старым театралам известно, что Станиславский в начале сезона 1925/26 года смотрел этот спектакль и, по свидетельству П. А. Маркова, высоко оценил «решение пьесы в целом, предложенное Мейерхольдом». В четырехтомной «Летописи» И. Виноградской, посвященной жизни и творчеству Станиславского, приводятся интересные подробности этого посещения. До того Мейерхольд дважды побывал в МХАТ — на «Горе от ума» 256 и «Пугачевщине», много говорил о влиянии, которое оказал на него Константин Сергеевич («Все театральные жизненные пути исходят от Станиславского»), и очень звал его и других видных мхатовцев к себе в театр. Они приняли приглашение, и вскоре Станиславский, Книппер-Чехова и Качалов пришли на «Мандат». В отрывке из письма Е. Н. Коншиной к Ф. Н. Михальскому, опубликованном в «Летописи», говорится: «О[льга] Л[еонардовна] смеется, что у зрителей в тот вечер было два спектакля — один на сцене, другой — смотреть, какое впечатление произвело на Станиславского. А впечатление было хорошее. Всем понравилось».
Эрдман и Гарин — два имени, которые хочется поставить рядом. Их сближают помимо родственности юмора и таланта эксцентрики и даты биографии (они ровесники, однолетки, родившиеся в одном году и в одном месяце — ноябре 1902 года)1. Можно указать на их многие общие черты: например, трактовка быта, где в искусстве драматурга и актера сходилось самое обыденное и самое невероятное, острое чувство сюжета, связывавшее разнородные элементы действия в один крепко затянутый узел, вкус к жаргонной речи и другое. Была похожей и манера их читки. Станиславский считал, что читка Эрдмана и совершенно оригинальна и очень поучительна для режиссера, который берется за постановку его пьесы2. А в одной из самых содержательных рецензий о «Мандате» В. Масс писал, что «в Гарине автор и режиссер нашли превосходного исполнителя Гулячкина. В нем было все хорошо — и внешность, и движения, и своеобразная манера подачи текста»3. В чем же, по нашему мнению, было сходство их читки? В той невозмутимости и серьезности, которые совершенно не соответствовали содержанию произносимых слов.
Я помню, например, диалог Гарина с Тяпкиной, игравшей роль кухарки Насти, по интриге пьесы будущей претендентки на русский престол. Шла примерка платья «бывшей императрицы», и Гулячкин командовал: «Настька! Вытягивайся до отказа и не шевелись». Настя лениво и недоумеваючи спрашивала: «Чегой-то?» Гулячкин настойчиво повторял: «Вытягивайся, говорю, до отказа. Обратите внимание, мамаша. Настька будет как раз по мерке». В разговор вмешивалась мамаша: «Зачем это нужно, Павлуша?» И Павлуша с сознанием исключительной важности минуты, торжественно и несколько нараспев отвечал: «Для иллюзии императорской жизни, мамаша». Зал содрогался от хохота, но на лице актера не было улыбки, он как ни в чем не бывало продолжал игру. Безусловный абсурд, «сапоги всмятку», эксцентрика, смешавшая все карты, — и быт мещанской окраины, несмотря на все мировые потрясения в его изначальной варварской неподвижности. На таком сближении строился гротеск Эрдмана и Гарина.
Драматург взял резко деформированную натуру, ее уродство и дикость били в глаза, тем не менее это была невыдуманная натура. Оглушенное революцией и снова ожившее на волне нэпа московское мещанство разных званий — торговое, служивое, интеллигентных профессий и прочее, и прочее — 257 всполошилось, зашевелилось, засуетилось и вызвало у нас, зрителей 1925 года, странное чувство — это был сегодняшний день и день позавчерашний. Какие-то мужчины и женщины в костюмах современного покроя, с современной жаргонной речью, жители окраинной Благуши, которых можно было в дневные часы встретить в толпе на сияющей витринами Петровке, и они же — невесть откуда взявшиеся монстры, выходцы из глухой замшелой старины, из прошлого века. Не зря Мейерхольд, прочитав «Мандат», поразился быстроте, с которой шло время в то первое послереволюционное десятилетие; один пласт истории обрушивался на другой, происходило великое смешение эпох, и самая очевидная реальность на глазах превращалась в сплошную мнимость.
Эксперимент Мейерхольда заключался в том, что он построил «Мандат» на гоголевском ритме. Помните, как в авторском монологе в «Мертвых душах» в сцене прощания с Коробочкой говорится, что веселое мигом обращается в печальное, если «долго застоишься перед ним, и тогда бог знает что взбредет в голову». На смене ритма, его взрывах и особенно торможениях и происходила комическая катастрофа в пьесе Эрдмана; и ее герой, вздорный и оголтело-нелепый Павел Гулячкин, еще недавно грозивший переарестовать всю Россию, получеловек, похожий на заводную куклу, придя в себя после оцепенения, длившегося три акта (несмотря на резкие, механические, чисто рефлекторные переключения от возбуждения к упадку и потом опять к возбуждению и т. д.), растерянно, недоумевая, с ужасной тоской в голосе, совсем по-человечески спрашивал у своей мамаши Надежды Петровны: «Если нас даже арестовать не хотят, то чем же нам жить, мамаша. Чем же жить…»
У Гарина в «Мандате», по терминологии Мейерхольда, было две темы. Сначала террариум, то есть царство земноводных и пресмыкающихся, к числу которых принадлежал Гулячкин и все его окружение. Эту аналогию следует развить. Как известно, под влиянием геологических катастроф в мире живой природы некоторые виды, и среди них рептилии, были обречены на вымирание. Точно так же у монстров Благуши, после социального обновления в России, не было шансов для выживания и тем более для преуспеяния. И все попытки обитателей эрдмановского террариума примениться, подделаться, примазаться, присоединиться к новой действительности и новой власти кончаются провалом. Это неизбежность историческая.
Замечательно остроумная пьеса Эрдмана замкнута в раме своего времени и точно обозначенной среды, теперь уже реликтовой, и, может быть, потому не удалось ее возобновление в конце пятидесятых годов в Театре киноактера. Но образ хамелеонства Гулячкина, при всей его мелкотравчатости, у Гарина в год премьеры «Мандата» приобрел силу бичующей сатиры.
Вторая тема Гарина — Страшный суд. Мейерхольд строил финал «Мандата» на стыке фарса и трагедии. В этой сцене театр и актер заговорили на языке Гоголя: «Здесь уже не шутка, а положение многих лиц трагическое». И развязку «Мандата» Гарин играл как развязку «Ревизора»: конец света, все летит в тартарары, и, хоть нет всеобщего окаменения, люди застывают от испуга, не понимая, что же такое происходит. Ленинградский критик А. Пиотровский так и написал, что, вспоминая «Мандат», он не мог отделаться от впечатления, что перед ним куски будущего «Ревизора». Такое чувство испытывали и многие другие зрители «Мандата», когда в третьем действии из пустяков и мусора жизни возникла «жестокая и презрительная» трагикомедия.
И многое, многое предвещало в «Мандате» близкую встречу с Гоголем. И приемы композиции действия с выездными площадками. И музыкальная структура спектакля, построенного по законам симфонизма. И тончайшая шлифовка слова, и особо бережное отношение к нему. Да и само открытие еще юного Гарина, в котором Мейерхольд проницательно угадал актера истинно гоголевских стихий.
Вот почему назначение Гарина на роль Хлестакова ни у кого в труппе не вызвало удивления.
В работе актера на этот раз не было привычной для него легкости. Как трудно изучать родственные языки, близкие по звучанию и разные по смыслу слов и синтаксису, так трудно играть похожие роли. Игра в «Мандате» могла служить и служила хорошим тренажем для «Ревизора», а не моделью для повторения. 258 Гоголь требовал другой, еще неведомой ему эксцентрики. И Гарин «ужасно мучился, проклиная все теории актерской игры». Не облегчил его задачу и гениально сыгранный за несколько лет до того и живой в памяти современников Хлестаков Михаила Чехова. А была ли лучшая модель в истории русского театра? Гарин восхищался ею, но повторять Чехова не хотел, потому что был человеком другого века и другой художественной школы и по призванию принадлежал к числу актеров-изобретателей, а не продолжателей. Так определились точки отсчета: нельзя повторять себя, нельзя повторять других!
Уроки Мейерхольда тоже строились по отрицательному признаку. Он просил не играть Хлестакова:
— фатом («не годится молодой человек с тросточкой»),
— героем водевиля («держать курс на серьезность»),
— гимназистом-подростком («надо играть взрослого человека… Должна быть очень мужская тональность»),
— неврастеником со склонностью к истерии («волевые черты очень в его характере. Он живуч страшно; он шесть суток не будет есть и энергии не будет терять») и т. д.
Так, по образцу библейских заповедей устанавливалась система запретов — что не годится, чем надо пренебречь как в интересах зрителя, так и самого Гоголя. Из этой эстетики отрицания вырос и общий принцип — Хлестаков, при всем его ничтожестве, заключает в себе разнородные качества, которые «водятся и не за ничтожными людьми», — принцип, обозначивший поворот в мейерхольдовском «Ревизоре» от анекдота к биографии.
Нам много известно о Хлестакове из самой пьесы и последующих замечаний автора. Даже в сцене вранья сквозь феерию с участием министров и послов проскальзывают невыдуманные подробности его неприютного петербургского быта. На этом можно было бы остановиться, но Мейерхольд пошел дальше; в портрете Хлестакова ему, полемисту и экспериментатору, не хватало какой-то еще не угаданной конкретности, и он предложил сыграть его если не профессиональным, то дилетантствующим шулером («немножко жуликоват, может в карты передернуть»), тем более что по пьесе он тоже игрок, из-за проигрыша в Пензе надолго застрявший в пути… Карты нужны Хлестакову потому, что у игры есть свои законы и даже у шулера-новичка, делающего первые шаги на своем поприще, вырабатываются определенные навыки — быстрота реакций и ловкость рук.
Из всех фантазий Мейерхольда на тему о воплощении Хлестакова (их было много, и они были разные: от плюгавого чиновника, лысого, без возраста, в замызганном сюртучишке, до элегантного обольстителя офицерского звания, наглеца с амбицией) в конце концов он остановился на его авантюризме в ореоле некоторой загадочности4. Страх чиновников вознес Хлестакова на фельдмаршальскую высоту, он щедро пользуется выгодой своего положения и живет как в счастливом сне. Никаких усилий от него не требуется, галушки сами летят ему в рот, все само по себе приплывает к его берегу. У Гоголя в «Предуведомлении» так и сказано: «Темы для разговора ему дают выведывающие. Они сами как бы кладут ему все в рот и создают разговор». Они ведущие, он ведомый — и в эту как будто незыблемую схему Гарин, не без участия Мейерхольда, внес существенную поправку. Его Хлестаков не только применяется к обстоятельствам, но в некотором роде создает их. Утробные инстинкты остаются при нем, но по условиям действия он еще игрок, не только карточный, а вообще игрок, любитель риска и азарта, и в острых обстоятельствах, в хождении по проволоке и дает себя знать его авантюризм. Мейерхольд в конце репетиций, в октябре 1926 года, сказал про Хлестакова — театрального зрителя: «Он видел, очевидно, Каратыгина в Александринском театре, и вопит, и вопит». Можно эту метафору продлить, предположив, что он научился в Александринке не только крику, у него появился какой-то артистический нерв, он получает удовольствие от самого процесса игры, особенно если это игра на крутых поворотах сюжета.
Хлестаков многолик, в его образе нет устойчивости, в сцене вранья у Гарина была даже тонкость, пока он не свалился с ног; в сцене взяток он распоясывается и ведет себя беззастенчиво нагло. Но, независимо оттого, задает ли тон Иван Александрович или обороняется, он играет напоказ, в расчете на тех, кто находится с ним рядом. Совершенно свободным он себя чувствует только в окружении дам. В общении с мужской половиной человечества он придерживается каких-то правил логики, в комплиментах дамам допускает любые несуразности, вроде 259 страстного признания Анне Андреевне, что он хотел бы быть ее комнатой. Насколько я помню, говорилось это шепотом, но с такой отвагой, что опытная в таких делах городничиха смущалась, понимая глубину намека. В потоке любезностей Хлестакова прорывалась даже явная заумь, как, например, трудно поддающееся расшифровке сравнение комедии с артиллерией, веско прозвучавшее у Гарина.
В книге «С Мейерхольдом» Гарин хорошо описал насыщенный музыкой эпизод «Лобзай меня», с пьянящим романсом Глинки, с фигурами кадрили, с любовной интригой, с ансамблем, в котором помимо Бабановой, Райх и Гарина участвовали еще Кельберер, эффектно игравший почти бессловесную роль заезжего офицера, и Маслацов, блеснувший в роли голубого гусара. Но очень мало что сказал о самом себе. А это была одна из вершин его роли. У него были надежные партнеры, но все бремя игры лежало на нем. Не уверен только, годится ли для такой свободной, не знающей препятствий импровизации слово «бремя». Эпизод «Лобзай меня», который, в сущности, можно назвать «Строю курбеты им обеим» (эти слова Хлестакова из ранних редакций «Ревизора» служили паролем для головоломно-комедийной сцены), с первых минут захватывал смелостью игры: менялись фигуры кадрили, менялись дамы, и только ловкость жуира и пройдохи Хлестакова оставалась неизменной, он порхал «с цветка на цветок», и было заметно, какое удовольствие получает от игры. По стремительной легкости слов и движений гаринские курбеты я могу сравнить с любовным объяснением приезжавшего к нам в Москву знаменитого Жана Вилара в мольеровском «Дон Жуане», хотя фактура и манера игры у них были разные. В стихии игры, где ситуация менялась катастрофически внезапно и где нужны были находчивость и мгновенность реакций, расцветал талант Гарина.
Хлестаков у Гарина остается игроком и в эпизоде «Взятки». К этому моменту он уже вошел во вкус своего нечаянного ревизорства и к церемонии приема местных властей относится как к чему-то само собой разумеющемуся. При всем хищничестве у него нет разработанной тактики действия, хотя Мейерхольд сравнивал его не только с Расплюевым, но и с Кречинским. Что получится из его встречи с чиновниками, он пока не знает. Сам по себе парад лиц на этой аудиенции вызывает его любопытство, он вообще любопытен. Теперь перед ним кунсткамера — глаза разбегаются; его удивление вызывают и пресмыкательство Земляники, и бутафорски-окостенелая старость Растаковского, и конфузы Хлопова, и бормотание Гибнера — в общем, вся эта пестрая компания «страшных оригиналов», которых надо поместить в литературу, как потом он напишет в письме к Тряпичкину. И, только приглядевшись к ним, он приступает к делу; внешним толчком станет фраза о выгоде должности судьи. Раз заходит речь о выгоде, направление мысли Хлестакова меняется и приобретает соответствующую окраску. Меняется и его походка — теперь она крепкая, уверенная, начальственная. Удобно или неудобно ему первому просить денег — об этом он не задумывается, он просит.
В быстром темпе, без долгих пауз происходит обряд взятки. Хлестаков чертовски деловит, инициатива всецело принадлежит 260 ему, он шутит, посмеивается, рассуждает и стрижет своих овечек. Деньги плывут к нему рекой, он сует конверты куда попало и даже не знает, какой собрал куш, да это и не важно, — важно, что судьба ему поворожила и он затеял такую беспроигрышную игру.
В приобретательстве Хлестакова есть спортивный размах: он не упустит ни одного шанса, не погнушается мелочишкой, хотя деньги ему нужны не для наживы в чичиковском варианте, его капиталы пойдут не в рост, он потратит их на очередную игру, в этом тоже признак его авантюризма. Мейерхольд говорил, что сцену взяток надо строить по примеру сеанса одновременной игры в шахматы на нескольких досках — Ласкер и его соперники, Хлестаков и чиновники — аналогия рискованная, но она проясняет ситуацию и расстановку сил: один против многих и азарт борьбы, притом что разбогатевший Хлестаков не добирается даже до уровня Ихарева в «Игроках», тот по крайней мере мечтает пообедать в Москве у Яра и одеться франтом на столичный манер. А о чем мечтает Хлестаков-победитель, когда остается один в финале сцены? Снова встретиться с пехотным капитаном из Пензы и взять реванш за свой унизительный проигрыш. «Посмотрим, кто кого», — говорит он, готовясь к новым схваткам. И колода карт, брошенная ловкой рукой кверху, разлетается фейерверком по сцене…
У Гоголя тоже, оставшись наедине с собой, Хлестаков тускнеет и теряет форс: сравните силу его воображения в пятом явлении второго акта, где мечта изголодавшегося человека не поднимается выше кареты от Иохима, ливреи для Осипа и знакомства с хорошенькой дочкой какого-нибудь местного помещика-пентюха, с оглушающими гиперболами сцены вранья.
Здесь фантазия Хлестакова обгоняет все допустимые возможности, и, не будь этого потока ослепляющей лжи, этого разрастания его личности до какой-то неуловимой химеры («Я везде, везде»), мы бы не знали, что такое хлестаковщина как социально-психологический феномен. Заметьте, что Гоголь был скуп на монологи Хлестакова, не адресованные слушателю, театр их еще поубавил, потому что вне общения бессмертный Иван Александрович способен только жаловаться на то, что в лавках ничего не дают в долг. Когда Хлестаков отключается от среды и обращается к самому себе, он, по убеждению Мейерхольда, кажется человеком безнадежно серым и скучным. Чтобы разбудить его воображение, нужна аудитория, нужен диалог, он должен к кому-то адресоваться, если не устно, то письменно, недаром Гоголь заставил его делиться своими впечатлениями с Тряпичкиным. Иными словами, пустая светская ветреность нуждается в публичности, в атмосфере восхищения, смешанного с испугом, что хорошо доказывает игра Гарина в эпизоде «За бутылкой толстобрюшки».
Толстобрюшка сперва развязывает Хлестакову язык, а потом валит с ног. Но еще до этого мотив опьянения появится в эпизоде «Шествие». Там, правда, Хлестаков больше расспрашивает и рассуждает, чем исповедуется. В его разговоре с чиновниками после завтрака у Земляники излагается, так сказать, теоретическая сторона хлестаковщины, кредо петербургского чиновника, его философия наслаждения, основанная 261 на животных проявлениях человеческой натуры. Эта ранняя сцена опьянения откровенно грубая, в ней смешались риторика и физиология. Хлестаков рассуждающий дается театром на фоне неприглядного его естества, без всяких оттенков. Он напевает, растягивая на слогах свою программную реплику о «цветах удовольствия», и от пресыщения икает, плюет и ведет себя непотребным образом. Тенденция у Мейерхольда обличительная до крайнего предела. Тем интересней, что в сцене вранья с ее кульминацией обжорства и пьянства мы увидели Хлестакова и в других его качествах, вполне человеческих. Чем объяснить эту перемену? Может быть, присутствием дам? Или радушием и изысканностью приема в доме у городничего? Или, напротив, неясным предчувствием, что этот фестиваль добром для него не кончится? Или, может быть, вовсе тем, что играть Хлестакова хамоватым жуликом, и только, Гарину было неинтересно?
В своих мемуарах он проводит резкую грань между двумя трактовками Хлестакова — у Станиславского и у Мейерхольда: в постановке Художественного театра 1921 года Иван Александрович — простодушный, растерянный, с чертами детскости человек, запутавшийся в хитростях гоголевской интриги; у Мейерхольда — жадный и алчный авантюрист, знающий, чего хочет; в первом случае отношение к герою амнистирующее, во втором — беспощадное. Трудно усомниться в словах Гарина — ведь он пишет о своей роли — о том, как он ее играл, тем более что Мейерхольд ставил «Ревизора» как политический спектакль и в его обличительстве была жесткость, несвойственная природе Художественного театра в начале двадцатых годов. И все-таки, по праву зрителя-современника, я позволю себе предложить некоторые уточнения.
Начну с замечаний Мейерхольда. Он придавал большое значение первому появлению Хлестакова: каким его представить, чтобы сразу стала ясной внутренняя серьезность роли? Видимо, самое правильное — обратиться к его биографии, к его прошлому, к тому, каким он пришел на сцену: исходите из того, говорил режиссер актеру, что позади у Хлестакова «какая-то большая внутренняя драма — неудача в любви, неудача в картах и его заставили подписать подсудный фальшивый вексель. Занялся краплением карт. Серьезно, крепко встал у стола. Стойка игрока. Но я не хотел бы “мелодраматического злодея”, просто очень серьезный человек» (11 апреля 1926 г.).
Внутренняя драма — это уже некоторый проблеск духа, некоторое смятение на фоне беспардонного самодовольства и полной атрофии чувств. Следовательно, к комбинаторству Хлестакова надо еще добавить горечь его неудач, хотя и немудреный, но чувствительный отрицательный опыт, который придаст ему мужскую серьезность. И далее в сцене в трактире он жалуется на объедки, которые ему достались со стола хозяина: «Думаю, еще ни один человек в мире не едал такого супа». В его жалобе Мейерхольд услышал не только голос иронии, но и усталость человека, при всем его кураже деморализованного, выбитого из колеи, и так прокомментировал эту сцену: «Хлестаков поворачивается к публике, у него грустное, грустное лицо» (8 апреля 1926 г.). Я напомню о теме странного человека, о которой 262 Мейерхольд говорил еще в начале репетиций, требуя, чтобы Хлестаков был живым, естественным и очень странным (19 ноября 1925 г.). Странность эта была не только внешняя, не только в гофмановской стилизации его костюма, она была и в его поведении, в комбинации его наивности и цинизма, в неожиданно мальчишеских, детских реакциях и особенно — в его пластике непривычно парадоксального рисунка.
Да и без ссылок на Мейерхольда разве мы не помним, как в сцене вранья, вдруг сорвавшись с заоблачных высот, Хлестаков у Гарина выдавал свою тайну про кухарку Маврушку и лестницу, по которой он взбирается на четвертый этаж5. Это его оплошность, цена, которую он платит за толстобрюшку, но это и его выигрыш, потому что в момент случайно вырвавшегося признания очеловечивается изощренная эксцентрика актера. Во лжи его Хлестакова было вдохновение, и этот хаос неуправляемого сознания, этот вихрь в пустоте захватывал наше воображение потоком гоголевских гипербол, идущих от очевидных реальностей и бесконечно далеких от них. Но едва только правда прикасалась к этой сказке о петербургских балах, государственной карьере и супе в кастрюльке, доставленном прямо из Парижа, как наступало тяжелое похмелье — рассеивались миражи и оставался жалкий человек с виноватой улыбкой; глаза у Гарина были недоумевающие, полные сомнения и испуга. По времени это возвращение к Маврушке на четвертый этаж длилось очень недолго, один миг, потом опять начиналась несусветная кутерьма, авантажность, петербургский миф…
Что же, проникновение крупиц лирики в сатиру Гарина отразилось на силе его сарказмов и обличения? Напротив, то, что Хлестакову у Мейерхольда не были чужды обыкновенные человеческие чувства, придало его хищничеству, фанфаронству и злокозненному паразитизму, «пустяку его заботы», более глубокий социальный смысл, далеко выходящий за границы взятой в комедии натуры. Как быстро шло время, как все менялось, если зимой 1926 года в Театре Мейерхольда разыгралось такое психологическое действие.
1 На самом деле Н. Р. Эрдман родился в 1900 году. Об этом см. в книге: Николай Эрдман. М., «Искусство», 1990. С. 277.
2 Вот как Станиславский пишет о своем впечатлении от читки Эрдманом своей пьесы: «Его чтение — совершенно исключительно хорошо и очень поучительно для режиссера. В его манере говорить скрыт какой-то новый принцип, который я не мог разгадать. Я так хохотал, что должен был сделать длительный перерыв, так как сердце не выдерживало».
3 «Новый зритель», 1925, № 17.
4 Михаил Чехов в американских лекциях среди многих странностей Хлестакова у Мейерхольда особо выделяет сцену вранья, где в какой-то момент режиссер заставил актера «поднять ногу кверху и держать ее так довольно долго, как огромный палец». Вряд ли такая мизансцена входила в намерения Гоголя, замечает М. Чехов, но на зрителей, в том числе и на него самого, она произвела «очень сильное впечатление».
5 Любопытно. что эти приметы столичного быта взяты с натуры. В первых петербургских письмах Гоголя к матери говорится, например: «Я живу на четвертом этаже, но чувствую, что и здесь мне не очень выгодно. Очень ощутительно для кармана». Примерно в то же время (весна 1829 г.) он сообщает матери свой петербургский адрес: «Большая Мещанская, в доме карет[ного] мастера Иохима». Это тот самый Иохим, который не дал Хлестакову напрокат карету.
Ольга Гарина
ГАРИН-ХЛЕСТАКОВ В РИСУНКАХ ИВАНА БЕЗИНА
Художник Иван Безин из монументальной мастерской Владимира Фаворского и Льва Бруни, погибший на фронте в дни Великой Отечественной войны, в 1936 – 1937 гг. выполнил примечательную работу, связанную со спектаклем «Ревизор». К моменту, когда Безин пришел в театр, он, в сущности, был уже сложившимся профессиональным художником. Он интересовался спектаклями Мейерхольда, но особое пристрастие питал к постановке «Ревизор» и игре артиста Эраста Гарина, исполнявшего роль Хлестакова.
Во время этого спектакля Иван Безин делал наброски. Серия карандашных рисунков к «Ревизору» (сохранилось пятнадцать листов) осталась его единственной и притом «неофициальной» работой, связанной с театром.
Он, автор портретов, композиций и пейзажей, занялся для себя работой новой и непривычной. Законы сцены, сложные перипетии действий, движущийся на сценической площадке актер, образные мизансцены едва ли имели что-либо общее с его станковой графикой и живописью.
Сохранилось 198 набросков Безина. Они напоминают «кадры», помогая представить рисунок роли Хлестакова, как он был задуман Мейерхольдом и воплощен Гариным. Пьеса была разбита на эпизоды. Графическая целостность их, острый динамизм, с особой силой выявленный в актерской игре, был воспринят художником, кинематографичность этой динамики и продиктовала возникновение именно такой покадровой серии рисунков Безина. Число их на листах было от двух-пяти до десяти-пятнадцати. Вместе они порой создают образ всего эпизода. Художник выполнил наброски преимущественно к эпизодам «Шествие», «Вранье», «Взятки», запечатлев также отдельные моменты начала и финала «Ревизора».
Каков же был принцип работы художника? Так как непрерывно менялись ракурсы фигуры Хлестакова, художник несколькими линиями передавал самое существенное для данного момента пребывания актера на сцене: жест, поворот фигуры, движение плеч, головы, ног… В лучших рисунках Безин сумел передать особый характер каждого движения, тончайшие его нюансы. Иной раз художник тут же себя корректировал: рядом или поверх неудавшегося наброска он исполнял новый.
Выполнить такую необычную работу Безину помогла не только любовь к театру и артисту, но и к автору «Ревизора». Иван Безин любил Гоголя и знал его так, что мог целые страницы его произведений читать наизусть. Сам дух гоголевской пьесы настолько захватывал Безина, что он с неподдельным увлечением 266 фиксировал увиденное на сцене, обращая внимание не только на типаж и на архитектонику мизансцены, но и на то, как режиссер при минимуме аксессуаров (цилиндр, трость, перчатки, кивер и др.), которыми пользовался Хлестаков-Гарин, подчеркивал значимость эпизодов, смысл происходящего. Однако зарисовки художник делал иной раз в обратной последовательности, не всегда успевая фиксировать увиденное синхронно игре актера. В таких случаях Безин пропускал какой-то момент и рисовал последующее, а на другом спектакле воспроизводил пропущенное. Под большинством рисунков художник успевал подписать и реплики Хлестакова.
Рисунки Безина своего рода кардиограмма самочувствия персонажа: от подавленности, растерянности Хлестакова до беспардонной развязности, нашедшей свое выражение в красноречивом ерническом жесте, прощальном поклоне до земли в конце спектакля…
Причудливость перемен облика и костюма Хлестакова (от первого его появления в цилиндре, с бубликом в петлице на лацкане сюртука до шествия в шинели, с кивером на голове вдоль балюстрады и т. п.) не исчезает в рисунках и к заключительным эпизодам спектакля. Образ получает развитие, разрастаясь в вариациях: художник вслед за режиссером стремится показать, что Хлестаков не просто фанфарон, кривляка, враль, взяточник, но «принципиальный мистификатор и авантюрист».
Анализируя работу Ивана Безина, следует обратить также внимание и на то, что не художник подчинял модель себе на длительное время, а сам как бы подчинялся ей. Это требовало дополнительных усилий, концентрированного внимания. Ведь перед ним был непрерывно изменчивый в своем движении и пластике артист. Причем темп и своеобразие движения актера на сцене влияли и на характер исполнения динамичной скорописи. В целом же графический рисунок роли Хлестакова настолько выразителен, что смотрящему на него сегодня зрителю ясно, что с главным героем и другими персонажами «Ревизора» происходит нечто чрезвычайное. Так, например, рассматривая зарисовки эпизода «Кадриль», обращаешь внимание на многообразие вариантов сидящего Хлестакова. Вот мы видим вопросительно-настороженную интонацию — она в повороте головы Хлестакова, в жесте, достаточно собранном, но уже в следующем рисунке — будто пританцовывающая нога Хлестакова отставлена в грациозном жесте несколько назад. Правда, в этой грациозности замечаешь нечто такое, что делает ее подчеркнуто пародийной. Но это еще не сам танец, а подготовка к нему. А вот когда Хлестаков-Гарин стоит в паре с городничихой — Райх, обращает на себя внимание плавная певучая линия протянутых к партнерше рук Хлестакова, передающая лирическое настроение этих двух персонажей. Но уже в следующем «кадре» Хлестаков возвышается над городничихой, поза его на этот раз покровительственно-галантная. Он стоит, опираясь на козетку коленом, правая же рука Хлестакова залихватски упирается в бок. Как можно смыслово оценить эти зарисовки? Привнесена нотка иронии и авторами спектакля, а вслед за ними и Безиным акцентируется то, как Хлестаков-Гарин имитирует искренность чувства.
Рассматривая серию рисунков Безина, замечаешь, что некоторые эпизоды спектакля захватили художника больше, чем другие. Рисунки к ним выполнены линией более живой и вдохновенной, а не просто фиксирующей. В них художник успевал передать не только позы, жест, но и лицо главного персонажа комедии, как мы это видим в трех кадрах эпизода «Вранья», не лишенных портретного сходства с исполнителем роли.
Мимический рисунок роли, так ярко выраженный в графике Безина, костюм, обстановка каждого эпизода оттеняли основные акценты спектакля. А характер движения актера, ритмическая связь одного ракурса с другим давали масштаб изображенному. Необычайность облика рождалась из множества разнообразнейших поз, движений, сменявшихся с той непринужденной естественностью, которая вдруг оборачивалась фантасмагоричностью хлестаковщины.
Нет сомнений, что Безин был далек от мысли относиться к своим наброскам как к чему-то самостоятельному, тем более завершенному. Но его работа, хотя и оставшаяся в черновом состоянии, представляет художественный интерес, а 198 «кадров» остаются своеобразным документом спектакля. И тут уместно вспомнить мысль Мейерхольда: «Внутреннее и внешнее в человеке всегда связано. Характеристика определяется всегда внешним выражением». Это очевидно в рисунках художника. Без понимания этой связи нельзя оценить работу Ивана Безина, которую не дублируют ни сохранившиеся описания игры артиста, ни фотографии.
267 Александр Гладков
В СПОРАХ О ЧАЦКОМ1
Очень трудно описывать работу Эраста Павловича Гарина над ролью Чацкого: трудно хотя бы потому, что он сам превосходно вспоминает и пишет о себе. Но настойчивое желание Гарина увидеть эту работу как бы со стороны, как бы чужими глазами заставило меня попытаться это сделать.
… 12 марта 1928 года ГосТИМ показал премьеру «Горе уму».
Чацкого играл Гарин.
Премьера ожидалась с нетерпением. После «Доходного места» и «Леса» Островского и гоголевского «Ревизора» — еще один шедевр классической русской драматургии…
Спектакль вызвал обычный шум и столкновение мнений в печати, на диспутах, в коридорах и курилках театра в антрактах… Отзывы отрицательные на этот раз преобладали. Но и среди них не было единства.
Так, например, один авторитетный критик писал о сцене первого появления Чацкого:
«С него снимают тридцать одежек — тулупчиков и теплых кофточек, из которых вылезает узкогрудый мальчик в цветной какой-то косоворотке, в длинных с раструбом брюках, словно школяр, приехавший домой на побывку. Приятно потягивается с дороги, расправляет члены, пробует рояль… подвижен, как мальчик, да он и есть мальчик, поиграл чуточку, взял два-три аккорда и сейчас же бегом к ширмам, за которыми почему-то нашла нужным переодеваться мейерхольдовская Софья… В этой мизансцене перекрещивания между Софьей за ширмами и Чацким и проведены все первые разговоры Чацкого…» (Д. Тальников)2.
… Один и тот же эпизод вызывал самые противоположные (и притом — крайние!) оценки. Это не случайно и характерно для всей критической прессы о спектаклях Мейерхольда… Наиболее яростный, непримиримый и последовательный отрицатель Мейерхольда критик Д. Тальников в статье об одном из позднейших спектаклей мейерхольдовского театра пишет: «Обычно так бывает, что сначала борешься с Мейерхольдом, целиком не принимаешь его — видишь огромнейшие провалы и несуразности, ощущаешь некоторую формалистическую и эстетическую пряность — вторую его неотъемлемую природу, — потом начинаешь в чем-то уступать и уходишь под некоторой большей или меньшей властью того целого, что им сделано, того особого мира, который им создан…»3.
Не станем разбираться и в многочисленных попреках… Как обычно, от Мейерхольда все хотели именно того, что он делал вчера (и что вчера тоже подвергалось сомнению), и ждали, что в «Горе уму» он будет работать приемами «Леса» и «Ревизора». Но в том-то и дело, что во всей замечательной сюите русской классики, сценически осуществленной Мейерхольдом, каждый следующий спектакль делался по новым законам. Виртуозно владеющий всеми приемами театральности Мейерхольд искал внутренний закон своей очередной большой работы внутри произведения, внутри мировосприятия и стиля автора и никогда не дорожил своей вчерашней удачей.
Наибольшие возражения в критике встретили четыре элемента нового спектакля: разделение текста четырехтактной комедии на семнадцать эпизодов; введение в канонический текст вставок из первоначальных редакций пьесы (главным образом из так называемой «музейной редакции») и произвольные купюры; активная и небывало значительная роль в нем музыки, не только иллюстративно-фоновой, но и звучащей, так сказать, соло, как новое действующее лицо; и, конечно, распределение ролей, то есть главным образом то, что роль Чацкого была поручена Э. П. Гарину…
Название «Горе уму», как известно, было написано самим Грибоедовым на первом листе ранней редакции пьесы и потом им же зачеркнуто. Мейерхольд его восстановил, найдя его более энергичным и имеющим более широкий смысл. Под этим названием мейерхольдовский спектакль шел много лет, пока в середине 30-х годов ему не было возвращено обычное название.
Первый вариант спектакля был посвящен другу Мейерхольда тех лет, тогда еще очень молодому пианисту Льву Оборину. Посвящение это значилось на всех программах. И, конечно, не могло быть случайным то, что именно этот спектакль посвящался музыканту.
Чрезмерное обилие музыки? Это одна из величайших находок Мейерхольда… Замечательные фортепианные произведения Баха, Бетховена, Фильда, Моцарта… Музыка нигде не иллюстрировала переживаний Чацкого — она вела свою партию, и эта партия была его душа, его внутренний мир, бесконечно богатый и глубокий. Сама звуковая фактура фортепиано удивительно шла к угадываемым интерьерам старого московского дома.
Находка эта была тем более оправданна, что она подкреплялась «автобиографичностью» этой черты Чацкого. Критики смеялись над тем, что он, едва приехав и еще потирая озябшие руки, сразу подходит к фортепиано и потом присаживается к нему и играет при каждом удобном случае. Но вот что пишет мемуарист о самом Грибоедове: «Он жил музыкой. Заброшенный в Грузию, он вздыхал о фортепиано: заехав по дороге в один дом, он бросается к клавишам и играет в течение девяти часов. Во время войны 1812 года, попав со своим полком в иезуитский монастырь, Грибоедов сразу кинулся в костел, взбежал на хоры, и на органе зазвучала музыка священных месс…»
Мне, впрочем, кажется, что вопрос об автобиографичности в спектакле «Горе уму» еще сложнее. Многое, очень многое в Гарине-Чацком ассоциируется не только с Грибоедовым, но и с самим Мейерхольдом. Самые чуткие зрители это отлично 268 понимали. Одна из рецензий на спектакль называлась «Одинокий». Ее написал писатель Сергей Мстиславский4. Да, Чацкий в спектакле показан одиноким. Но одинокими были и Грибоедов, и Кюхельбекер, и Чаадаев.
… Является ли тема одиночества Чацкого сокровенным замыслом автора комедии или ее привнес Мейерхольд, как это утверждают некоторые? Известно, что, когда писалось «Горе от ума», Грибоедов жил вместе с Кюхельбекером и читал ему все сочиненное, сцену за сценой… В 1833 году, находясь в сибирской ссылке, Кюхельбекер прочитал «некоторые современные критики» на произведение Грибоедова и записал в своем дневнике: «В “Горе от ума” точно вся завязка состоит в противоположности Чацкого прочим лицам… Это очень просто, но в сей-то именно простоте — новость, смелость, величие того поэтического соображения, которого не поняли ни противники Грибоедова, ни его неловкие защитники…»5. Таков комментарий близкого друга автора комедии, комментарий, вероятно, аутентичный авторскому. «Дневник» Кюхельбекера был впервые издан через год после премьеры мейерхольдовского спектакля, и ни Мейерхольд, ни Гарин тогда не были с ним знакомы. Но ведь сам Мейерхольд однажды сказал: «В искусстве важнее догадываться, чем знать».
Рецензенты хором твердили о ненужности такого количества музыки, а некоторые даже о ненужности такой музыки, но вот прошли годы, и когда я слышу какие-то куски Моцарта или Глюка, у меня неизменно в памяти возникает образ высокого, худощавого юноши в блузе, с длинными волосами, присевшего за фортепиано, и мне кажется, что я хорошо знал его лично, хотя я видел Гарина в Чацком всего два раза. И послушно, неизбежно звучат в памяти строки грибоедовских стихов, словно они уже навсегда слиты с музыкой властной прихотью великого художника.
Юрий Тынянов очень ярко и точно назвал то время, когда писалось «Горе от ума» и когда происходит действие пьесы, «мертвой паузой русского общества и государства в 1812 – 1825 годах»6. Но пауза — это тоже явление музыкальное. Там, где нет звуков, нет и пауз. И когда я вспоминаю Чацкого-Гарина, я вспоминаю эти удивительные паузы между двумя аккордами, после музыкального куска перед какой-нибудь фразой; паузы, полные горькой и острой мыслью — мыслью Чацкого.
Вот как, например, входила музыка в сцену первой встречи Чацкого с Софьей. Вначале Софья переодевается за стеной (ее обозначала ширма) и отвечает на его пылкие фразы через дверь. Это сразу дает физическое ощущение холодка и задуманного отдаления. Разговаривая с ней, бродя по комнате, Чацкий уже увидел знакомое фортепиано. Может быть, за ним сам Фильд давал ему когда-то уроки музыки. (Фильд несколько лет служил в Москве учителем музыки.) Отсутствие Софьи начинает казаться странным. Чацкий садится за инструмент и берет, словно пробуя звук, как это делают музыканты, два-три аккорда и вдруг, словно истомившись и по музыке и по любви, необыкновенно энергично начинает играть кусок из Органной прелюдии Баха — Дальберга, продолжая говорить на музыке:
«Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря,
Верст больше семисот пронесся, ветер, буря,
И растерялся весь, и падал сколько раз —
И вот за подвиги награда!»
Голос Софьи за дверью:
«Ах, Чацкий, я вам очень рада!»
Чацкий с недоумением смотрит на дверь. Как отзвук этого недоумения возникает после паузы новый аккорд:
«Вы рады? В добрый час!»
Тут уже слышится легкая ирония. И еще один аккорд — как разрядка вспыхнувшего раздражения:
«Однако искренно кто ж радуется эдак?»
Пауза ожидания. За дверью молчание. Аккорд, наполненный сдержанным негодованием.
Чацкий встает и говорит очень тихо:
«Мне кажется, так напоследок
Людей и лошадей знобя,
Я только тешил сам себя».
Он снова бродит по комнате. Продолжается вялый разговор через дверь. После слов:
«Блажен, кто верует, тепло ему на свете!» —
Чацкий снова за фортепиано. И снова светлое, оптимистическое адажио Баха. Текст и музыка сочетаются в сложном контрапункте, за которым смешение чувств: любовь, надежда, недоумение, вопрос.
Чацкий вскочил, молодость берет свое:
«Ах, боже мой! Ужли я здесь опять…»
Но его восторженные воспоминания снова прерываются беспощадной репликой Софьи:
«Ребячество!»
Но воспоминания уже овладели Чацким. И он, как бы вообразив себя прежним подростком, забавно вскакивает на стул, который стоит у ширмы, и по-мальчишески забрасывает Софью вопросами.
И снова следует осуждающая фраза:
«Не человек, змея!»
Чацкий опять за фортепиано.
Выходит Софья и идет к фортепиано.
«Хочу у вас спросить:
Случалось ли, чтоб вы, смеясь или в печали,
Ошибкою, добро о ком-нибудь сказали?»
И она отходит к окну. Чацкий взволнован. Он подходит к ней сзади и целует ее в плечо. Следует пылкий монолог:
«Звонками только что гремя…»
После новой злой фразы Софьи появляется Фамусов. Софья уходит, успев сказать непонятную фразу:
«Ах, батюшка, сон в руку!»
Фамусов донимает Чацкого вопросами. Чацкий, не отвечая ему, мечтательно смотрит на дверь, за которой скрылась Софья. И неожиданно для самого себя говорит вовсе невпопад:
269 «Как Софья Павловна у вас похорошела!»
И, задумавшись, пошел к фортепиано. Сел.
Фамусов продолжает суетиться:
«Сказала что-то вскользь, а ты,
Я чай, надеждами занесся, заколдован?»
Чацкий, негромко:
«Ах, нет: надеждами я мало избалован».
И снова начал играть.
После слов Фамусова:
«Не верь ей. Все пустое»… —
Чацкий встает уже решительно и как бы ставя точку. Не отвечая на новые вопросы Фамусова, он говорит:
«Теперь мне до того ли!
Хотел объехать целый свет,
И не объехал сотой доли!»
И уходит не раскланиваясь, как это делают обычно все Чацкие в других спектаклях. Ведь он же остановился здесь, и все церемонии излишни.
Музыка вплетена в драматургию сцены: она усложнила ее и обогатила. Кроме того, она блестяще дает эмоциональную экспозицию Чацкого…
И, наконец, самое главное: почему Мейерхольд поручил роль Чацкого Эрасту Гарину, молодому актеру, до этого игравшему только комедийные роли?
Да, надо признаться, Чацкий-Гарин был бесконечно далек от привычных и «традиционных» Чацких, тех Чацких, которые ловко носят фрак и на звучном, поставленном голосе с наигранной пылкостью изрекают цитатные афоризмы.
Непривычность, неожиданность такого Чацкого смутила даже видавших виды критиков.
Впрочем, по традиционной раскладке амплуа Гарин, конечно, не комик, а простак. Чацкий — простак? Было от чего пожимать плечами.
Только очень немногие поняли, что как раз именно это было главной находкой Мейерхольда в спектакле, той выдумкой номер один, которая не трюк, а поэтическое открытие, стоящее рядом по своему значению с определенной Мейерхольдом ролью музыки в спектакле и даже важнее.
Гарин-Чацкий! Тут уж было не до шуток!
Издавна известно, что в прежнее время директора провинциальных театров составляли труппу по распределению ролей в «Горе от ума». Расходится «Горе» по ролям — значит, в труппе есть необходимые амплуа. В труппе ГосТИМа тоже были все амплуа, и «Горе от ума» при правильной раскладке расходилось недурно, но Мейерхольд всегда мешал колоду. Он признавал амплуа, но пользовался ими необычно. В традиционном, лжеакадемическом прочтении пьесы Чацкого играл бы, вероятно, красивый, обладающий видной фигурой и мощным голосом 270 и умевший носить фрак актер М. Г. Мухин. У Мейерхольда он играл Молчалина. Были и другие кандидаты.
Вообще, Мейерхольд в процессе создания спектакля первенствующее значение придавал распределению ролей. Преувеличивая по обыкновению, он говорил полушутя, что, распределив роли, он сделал половину режиссерской работы… При первоначальном распределении ролей имени Гарина в будущей афише спектакля не было. На роль Чацкого был назначен Владимир Яхонтов, сыгравший перед этим эффектную роль салонного фата барона Фейервари в «Учителе Бубусе». У Яхонтова была прекрасная внешность, золотистые волосы, отличные манеры, звучный, красивый голос тенорового регистра и блестящее умение читать стихи. Пьеса-то ведь в стихах.
Выбор Мейерхольда казался понятным и оправданным. Но вот что произошло дальше…
В начале декабря 1927 года начались первые читки-репетиции. Мейерхольд сидел в очках, в красной феске, уткнувшись в экземпляр пьесы, что-то отмечал карандашом на полях, иногда задавал шепотом вопрос М. М. Кореневу7, и казалось, что он слушает репетицию не очень внимательно и занят только композицией текста.
Но вот однажды он отодвинул книгу, написал на клочке бумаги несколько строк со своими характерными подчеркиваниями, сложил листок пополам, написал сверху: «Хесе. Совершенно секретно», передал его режиссеру-лаборанту Хесе Александровне Локшиной и снова уткнулся в книгу. Репетиция продолжалась.
Записка Мейерхольда сохранилась. Вот что в ней было:
«Хесе. Совершенно секретно.
Я знаю: меня будут упрекать в пристрастии, но, мне кажется, только Гарин будет нашим Чацким: задорный мальчишка, а не “трибун”. В Яхонтове я боюсь “тенора” в оперном смысле и “красавчика”, могущего конкурировать с Завадским. Ах, тенора, чтобы их черт побрал!»
Этот маленький кусочек бумаги перевернул всю работу над спектаклем.
У Стефана Цвейга есть теория о «звездных часах человечества». Так, пожалуй чересчур красиво, он называет минуты неожиданных озарений художников, поэтов, полководцев, музыкантов; те мгновения вдруг приходящих в голову решений, открытий, находок, которые открывают новые пути, поворачивают сделанное до этого, опровергают только что утверждавшееся. Такой «звездной» минутой знаменитый эссеист мог бы назвать короткое время, когда Мейерхольд писал записку…
Х. А. Локшина показала в перерыве репетиции записку Гарину. Примечание «совершенно секретно» к нему явно не относилось, и молодой актер от волнения и счастья не чуял под собой ног.
Но Мейерхольд еще что-то взвешивал и обдумывал. И вот на одной репетиции, когда Яхонтова почему-то не было, он сказал, чтобы Чацкого читал Гарин.
Актерские индивидуальности Яхонтова и Гарина настолько различны, что всем было ясно: речь шла о принципиально новом решении образа Чацкого. Будучи умным человеком, понял это и Яхонтов и подал заявление об уходе из театра. Мейерхольд, против своего обыкновения, его не удерживал.
271 Но и оставшись единственным исполнителем главной роли, Гарин тоже был неспокоен. Мейерхольд на репетициях говорил о прототипе Чацкого — Чаадаеве, а на Чаадаева Гарин был похож еще меньше, чем Яхонтов.
Незадолго до этого вышел роман Ю. Тынянова «Кюхля». В молодой и увлекающейся всем новым и талантливым труппе Театра Мейерхольда его многие читали. Прочитал его и Гарин. Он слышал, что и Мейерхольду роман очень понравился.
Понимая, что декламация, изысканные манеры — это не его конек и не затем выбрал его Мейерхольд, и, озабоченный своим несходством с Чаадаевым, он однажды обратился к постановщику с предложением использовать для образа Чацкого характерность Кюхельбекера: высокий рост, нелепость манер, рассеянность, близорукость. Но Мейерхольд этот путь отверг. Он все же не желал совершенно выводить Чацкого из границ амплуа и не намеревался отходить от традиции так далеко. Предложенная им «характерность» Чацкого была иной и совершенно необычной. Он сделал Чацкого музыкантом, как Грибоедов. Чаадаев вошел в образ, как соль, — растворившись…
В это время Гарину случайно попался том «Ежегодника императорских театров» со статьей П. П. Гнедича о «Горе от ума». Он прочитал ее и пришел в восторг. То, что писал Гнедич, было близко к тому, что намечал Мейерхольд и что искал молодой актер. Он поспешил к Мастеру со своей новой добычей. Мейерхольд довольно улыбнулся. Он прекрасно знал и ценил статью Гнедича, но ему было приятно, что Гарин нашел ее сам, без его подсказки…
Вот что, например, пишет П. П. Гнедич о первом появлении Чацкого в доме Фамусова:
«Первый его выход должен быть одна страсть, одно увлечение, один неописуемый восторг. Он как был, в дорожном платье, проскакал 700 верст — из Петербурга “в сорок пять часов”, не заезжая домой, кинулся прямо к Фамусовым, узнал, что барышня уже встала, и бегом бросился вверх по лестнице. Чурбан 272 Филька, швейцар, знавший барчука с детства, все лакеи — все это с радостными восклицаниями освободило его от шуб и калош…»
Это все очень близко к знаменитой сцене приезда Чацкого, так удивившей критиков в спектакле «Горе уму». Разумеется, Мейерхольд это развил, осложнил, доделал. По Мейерхольду, Чацкий вообще останавливается по приезде в доме у Фамусовых: догадка благодарнейшая. Он их близкий родственник, воспитывался и жил подростком в этом доме, и все это вполне достоверно и естественно. Московский дом Чацкого, где его не ждали, мог быть нетоплен и вообще не готов для жилья. Житейские и бытовые реалии у Мейерхольда всегда очень крепки и основательны, хотя он часто их только подразумевает… Усиливая все бытовые мотивировки, Мейерхольд использует их в интересах достоверности и одновременно — поэтические. Если Чацкий в доме не гость, а «свой человек», то насколько крупнее и драматичнее становится его разрыв и отъезд.
Иногда на репетициях возникали дискуссии. Мейерхольд не всегда вмешивался в них, но всегда внимательно вслушивался. Актеры предлагали Мейерхольду собственные выдумки и изобретения. Однажды Гарин, начитавшись книг о пушкинской эпохе и раннем декабризме, внес предложение, чтобы Чацкий во время бала в одной из уединенных комнат читал друзьям из числа гостей «Гаврилиаду». Мейерхольд ничего не ответил, но потом в спектакле появилась сцена с «зеленой лампой», где молодые офицеры за овальным столом читали друг другу вольнолюбивые стихи… Вместо «Гаврилиады» Мейерхольд принес Гарину-Чацкому стихотворение Лермонтова из его юношеской драмы «Странный человек». — «Когда я унесу в чужбину»… Чацкий сидел в центре на столе, остальные разместились вокруг него. Это стихотворение заканчивало сцену. В рабочем экземпляре «Горя от ума» Гарина до сих пор лежит листок со стихотворением, переписанным рукой Мейерхольда. Кстати, такой явный анахронизм почему-то ничуть не смутил критиков: никто не обратил внимание на лермонтовские стихи в «Горе от ума». Формула из записки Мейерхольда: «Задорный мальчишка, а не “трибун”» — была первоначальным вариантом режиссерского видения образа нового Чацкого. От нее шли, но на ней не остановились. «Задорный мальчишка» остался в быстром движении, когда Чацкий вдруг впрыгивает на стул во время первого разговора с Софьей, находившейся за ширмой, и еще в некоторых положениях и жестах. Этого все-таки было слишком мало для спектакля большого стиля и большой мысли. И «задорный мальчишка» превратился в одержимого музыканта, углубленного в себя мечтателя, одного из тех первых русских интеллигентов артистической складки, которых так много было вокруг декабризма.
Незадолго до начала генеральных репетиций Мейерхольд принес в театр образец для костюма первого появления Чацкого. Это была репродукция портрета князя Шишмарева художника Кипренского. Но когда Гарин облачился в сшитую для него голубую рубаху, подобную той, что на портрете, оказалось, что шея актера слишком тонка для ворота рубашки. Что же делать? Не ходить же к Мейерхольду с таким пустяком? Костюмерша отказалась перешивать рубашку. Но Мейерхольд все замечал и неожиданно сказал: — Гарин, иди со мной!
Он оделся и пошел к выходу из театра. Гарин следовал за ним. Мейерхольд взял на углу Тверской извозчика и велел ехать в универмаг Мосторга на Петровке. Мейерхольда все знали в Москве, и появление его в магазине вызвало сенсацию. Он попросил продавца показать ему все, что было из оттенков кремового и желтого шелка. Долго выбирал, примерял куски на шее Гарина и наконец попросил отрезать… четверть метра шелка телесного цвета. Гарин стоял красный от смущения, что с ним приходится так возиться самому Мейерхольду. Но во всем, что было связано с работой над спектаклем, для Мейерхольда не было мелочей и пустяков. Вернувшись в театр, он попросил костюмеров сшить Гарину шарфик под воротник рубахи, чтобы шея не выглядела слишком тощей.
Вот уже поставлены все сцены, кроме самой трудной, кульминационной — монолога Чацкого «Не образумлюсь… виноват». Как только доходило до этого места, Мейерхольд под каким-нибудь предлогом прерывал репетицию, оставлял работу над монологом напоследок. Наконец, уже совсем незадолго до премьеры, назначена репетиция монолога.
Мейерхольд долго сидит молча, потом встает и говорит: — Нет, не знаю, как это надо играть… — Повернулся, пошел. Потом, сделав несколько шагов, поглядел на огорченного Гарина: — Играй как захочется…
274 Таким образом этот режиссер, прослывший деспотом и диктатором, сознательно оставил важнейшую, кульминационную сцену на свободу актерской импровизации… И это не случайность. Подобный прием Мейерхольд не раз применял в своей работе.
Лучшие актеры Мейерхольда (и особенно любимые им) всегда должны были быть способными к самостоятельным решениям, самостоятельной импровизации. Точного повторения своих показов режиссер требовал только от актеров, неспособных к инициативе и импровизации в работе.
Сделав с Гариным две большие роли (Гулячкин и Хлестаков), Мейерхольд, с его острой и точной оценкой всех возможностей актерской индивидуальности, казалось, лучше знал молодого актера, чем он сам себя. Эраст Павлович рассказывает, что в работе над Чацким были моменты, когда он приходил в отчаяние от своих личных данных и безуспешно пытался подтягиваться к воображаемому идеалу Чацкого-Аполлона, и Мейерхольд всегда останавливал его. Это были в Гарине остаточные явления неизжитого провинциализма, слабые рецидивы прежнего вкуса юного рязанского театрала. Но Мейерхольд последовательно вел актера в избранном им направлении, и Чацкий для Гарина стал серьезной пробой сил на новой земле, еще не изведанной и заманчивой, хотя и не принес явного и немедленного триумфа, как Гулячкин и Хлестаков. Мейерхольд открыл в Гарине лирического актера, и в ретроспективной оценке роль Чацкого для Гарина — одна из главных вех на его творческом пути. Можно только пожалеть, что в приоткрытую Чацким дверь актер в дальнейшем входил так редко. Но актерская судьба всегда сложна, и чаще всего это зависело не от него самого…
Спектакль начинался строгими, медленными звуками фуги Баха. Темнота. Неожиданно фуга сменяется легкомысленной французской песенкой. Вспыхивает свет, и мы видим ночной московский кабачок. Поет шансонетка. Захмелевший гусар старается поймать и поцеловать ее ножку. В такт песенке качается пьяный Репетилов. Его цилиндр съехал набок, в руке бокал. В уголке вдвоем Софья и Молчалин. Эта режиссерская фантазия реализует и известную пушкинскую характеристику Софьи, и то, что говорит о дочери Фамусов. Собственно, пьеса еще не началась: это только род пролога. Как мы видим, отношения Софьи и Молчалина характеризуются как зашедшие дальше, чем это играется обычно, что усиливает весь дальнейший конфликт…
Кульминационной сценой спектакля режиссер сделал сцену создания клеветнической сплетни о Чацком. Он перенес действие в столовую и показал нам фронт сплетников и клеветников за длинным столом вдоль всей сцены. В разных уголках стола звучат одни и те же кусочки текста, сплетня повторяется и варьируется, плывет и захватывает все новых гостей, и ее развитием как бы дирижирует сидящий в центре стола Фамусов. Грибоедовские стихи здесь звучат зловещей музыкой. Эта замечательная сцена вся построена по законам музыкального нарастания темы. Задумавшись, входит Чацкий. К лицам гостей испуганно поднимаются салфетки по мере того, как он идет, весь в своих мыслях, ничего не замечая, вдоль этого стола…
Действие последней картины, по замыслу режиссера, происходит на большой лестнице, ведущей из вестибюля наверх. Во всех старых особняках есть такие. Здесь действие поднималось до тонуса трагедии. Так, в стиле высокой трагедии, решалась сцена «узнания» Софьи. Разрядка — почти комическое появление Фамусова с пистолетами в руках и стрельбой в воздух, чтобы напугать воров, и снова высота трагедии — последний монолог Чацкого.
И вот его опять одевают в тот же самый дорожный костюм, в котором он был вначале, и он тихо просит:
— Карету мне. Карету!
Снова фуга Баха. Кода. Конец.
Кстати, простая, «житейская» интонация, с которой Чацкий вызывал карету, тоже была поставлена в вину режиссеру и исполнителю. По традиции эту фразу следовало произносить с вызовом и мажорно, как будто дело было вовсе не в карете, а в призыве умереть или победить.
С Гариным-Чацким случилось странное. Он раздражал и был непонятен в дни премьеры, но в ретроспективной оценке вырастал в большой и законченный, оригинальный образ нового и неповторимого Чацкого. Это часто происходило с работами самого Мейерхольда: общее признание как бы догоняло его. Так бывает с поэтами, которые сами создают и воспитывают своих читателей.
Спустя десять лет после премьеры замечательный актер Б. В. Щукин так вспоминал о Гарине-Чацком:
«Это был Чацкий, лишенный внешне эффектных “геройских” черт, это был глубоко страдающий и чувствующий человек, внутренний мир которого был раскрыт с предельной чуткостью, остротой и новизной»8.
А. И. Герцен в работе «Развитие революционных идей в России» называл Чацкого «фигурой меланхолической, ушедшей в свою иронию, трепещущей от негодования и полной мечтательных идеалов». Вот эта характеристика ничуть не противоречит мейерхольдовскому раскрытию образа Чацкого и только обогащена великим и возвышенным миром музыки, в котором жил автор комедии.
После полуудачных премьерных спектаклей роль Чацкого в исполнении Гарина от спектакля к спектаклю крепла, становилась звонче, четче и цельнее. Я смотрел «Горе уму» впервые уже не на премьере, а примерно после десятого спектакля и навсегда был покорен именно таким Чацким и впоследствии с неистребимым недоверием относился к Чацким «здоровым и приятным» (подобно Молчалину, по рецепту критика «Известий»), которые в дальнейшем по-прежнему появлялись в новых постановках «Горя от ума». Мне думается (это только догадка), что внутреннему росту Гарина в роли парадоксально помогла ситуация, в которую он был поставлен критикой: он, как и его герой, тоже был не понят, отвергнут. Пути органического творчества 275 неисповедимы: отрицательные рецензии положительно питали актера.
В том далеком сейчас от нас 1928 году я был еще только влюбленным в театр подростком (но первые юношеские впечатления всегда особенно сильны!), и для меня гаринский Чацкий был живым, прекрасным и трогательным человеком, за которого мне было больно, который восхищал и увлекал не привычной щеголеватой импозантностью, а сердечностью и глубиной. И потом, в гораздо более отделанной второй режиссерской редакции «Горе уму» 1935 года… — в этом более компромиссном и доступном спектакле мне всегда не хватало длинной, худой, угловатой фигуры меланхолического острослова и страстного музыканта, гаринского Чацкого.
Для меня Чацкий-Гарин такое же значительное явление русского искусства в угадке и постижении духа нашей истории (в чьих уроках мы по-прежнему нуждаемся), как умная и терпкая историческая проза Юрия Тынянова, как графическая сюита Бенуа к «Медному всаднику», как главы блоковского «Возмездия».
1 Статья печатается с сокращениями. Полный текст см. в кн.: Гарин Э. С Мейерхольдом. Воспоминания. М., 1974.
2 «Красная новь», 1928, № 3. С. 252.
3 «Театр и драматургия», 1934, № 4. С. 37.
4 «Жизнь искусства», 1928, № 16.
5 Кюхельбекер В. Дневник. Л., 1929. С. 91 – 92.
6 «Лит. наследство». Т. 47 – 48. 1946. С. 185.
7 Коренев М. М. — режиссер-лаборант.
8 «Сов. искусство», 1937, 23 дек.
Игорь Ильинский
НЕПОВТОРИМЫЙ ГАРИН
Житейские пути-дороги очень давно — в начале 20-х годов — свели меня с этим интереснейшим человеком и замечательным художником. Вспоминая далекое прошлое, я прихожу к выводу, что Эраст Гарин был одним из любимых учеников Всеволода Эмильевича, даже, пожалуй, самым любимым. Конечно, возникали, видимо, и у Гарина сомнения, он спорил, порой остро, с иными положениями мейерхольдовской теории и творческой практики. Но он взял у учителя только лучшее, ценное, подлинно творческое. А ведь другие, на первых порах особенно, заимствовали и дурное — ставку на ошарашивание зрителя необычным в оформлении спектакля, мизансценах, костюмах, во всех слагаемых театрального зрелища.
И я, как Гарин, уходил из Театра Мейерхольда дважды, но, как это ясно мне теперь, все же по другой причине: я не понимал тогда всей, так сказать, комплексной значимости мейерхольдовских исканий и преувеличенно остро реагировал на те негативные стороны его режиссерской практики, о которых упомянул выше. Э. П. Гарин глубже и серьезнее воспринял и оценил широту взглядов В. Э. Мейерхольда как художника, и именно это, а не внешнее оригинальничанье взял за основу своего творчества.
Гулячкина («Мандат») — тупоумного обывателя, мещанина, страшного безапелляционностью сентенций, убежденностью в непреложности своих диких взглядов, беспрекословностью нелепых действий, — Гарин сыграл так ярко и своеобразно, с такой силой разоблачения всей пустопорожней и вредной сущности своего героя, что предопределил и точность и накал зрительского восприятия в полном соответствии с замыслами автора и режиссера. Я утверждаю, что в образе Гулячкина явственно просматривались как черты многих других персонажей, созданных Гариным впоследствии, так и основные элементы неповторимой, типично гаринской игры: манера двигаться, говорить, жестикулировать, мимика лица, своеобразие жеста — словом, все то, что в сумме своей можно назвать гаринским стилем актерского искусства…
Следом за Гулячкиным — новые творческие успехи: Хлестаков в «Ревизоре», Чацкий в «Горе уму».
… Неповторимая интонация то ли слегка удивленного, то ли чем-то обиженного человека, какая-то не то наивность, не то растерянность, словно извечное недоумение, застыли на лице. Глаза беспокойно-испуганные и пугающие, то полные пытливой мысли, то словно опустошенные, остановившиеся или устремленные в невидимую нам точку неведомого нам мира. Меланхолическая отрешенность от окружающей действительности, углубленность в себя вдруг сменяются предельно откровенным 276 выражением чувств, переживаемых в данный момент его героем. Характерная манера произносить слова всегда в нос и так, что даже фраза, утверждающая что-либо, звучит вопросительно…
Все это элементы той постоянной актерской маски, которую Гарин создал для себя и которая, при бесчисленном множестве вариаций, позволяла ему создавать образы, непохожие один на другой, неповторимые, одаренные всем богатством человеческой индивидуальности.
Вот почему и Хлестаков, и Чацкий получились у него особенными, гаринскими, со своей походкой, манерой речи, а главное, как бы высвеченными изнутри. Артист обнажил перед зрителем их душу, осуществил анатомию, а затем синтезировал их внутренний мир, и стало ясно, что это за люди, чем они живут и дышат, какова их глубинная сущность.
Актерская маска Гарина универсальна, как маска Чаплина, она пригодна для исполнения ролей, наполненных самым различным содержанием, для изображения людей, относящихся к самым различным типам человеческого общества. И все его актерские успехи лежат в плоскости разработки и углубления, все большего совершенствования и разнообразного использования этой маски. А когда он, как и Чаплин, выбивался из своей маски или применял ее недостаточно точно, что-то терялось, возникали срывы или полуудачи.
Вот как сам Эраст Павлович говорит по этому поводу в своей книге «С Мейерхольдом», в которой обнажает «мейерхольдовские» истоки своего творчества:
«Маска — это не примитивное изображение лежащих на поверхности черт в однажды подмеченном, застывшем состоянии. Маска вбирает в себя не только уже всем известные свойства определенного социального типа, так сказать, “общественной данности”, но и те глубоко скрытые черты, которые существуют пока лишь в зачаточном состоянии.
… Особенностью моей киномаски (возможно, это мое индивидуальное свойство) я считаю олириченность той исключительности, той эксцентрики, которая в ней обязательно присутствует. Не лиризм, не лирическое начало, как его понимают, имея в виду жанр, а то, чем обогащается образ, пропущенный через актерское “я”, через субъективный внутренний мир актера…»
Я выделил тему «маски» специально, потому что ведь именно открытие, отработка для себя этой маски определили творческие успехи Гарина как в театре, так и в киноискусстве.
Мне не довелось поработать с Гариным вместе в какой-либо его постановке, но я знаю — и многие общие знакомые из актерской братии не раз мне говорили об этом, — что он пользовался среди соратников глубоким уважением как справедливый и добрый человек, хороший товарищ, терпеливый и умный воспитатель и педагог. Как режиссер Гарин стремился и умел разбудить творческую фантазию, подсказать нужный ход, выявить скрытые, потенциальные возможности исполнителя. А ведь в режиссерской работе все это, особенно терпение, — главное, знаю по собственному опыту и как актер сам требую от режиссера терпеливого и внимательного, чуткого к себе отношения.
У меня такое ощущение, что во второй половине зрелой творческой жизни Гарину не удалось встретиться (и, видимо, ему не помогли в этом) с масштабной ролью, которая дала бы материал для всестороннего раскрытия его необычных и огромных творческих возможностей. Быть может, следовало попытаться создать сценарий, герой которого предназначался бы специально для исполнения Гариным и предоставлял бы возможность свободного и раскованного выявления его многогранного таланта. Кто знает, быть может, в этом случае мы увидели бы и такие новые его грани, о существовании которых не подозревал и сам Гарин. Ведь известно, что в свое время Г. Козинцев и Л. Трауберг прочили Эраста Павловича на исполнение роли Максима в своей знаменитой трилогии.
Подтверждение этой своей мысли я нахожу и в том, что в конечном счете, несмотря на эксцентризм, гротесковость, гиперболическое заострение образов многих его персонажей, в первооснове своей творчество Гарина было глубоко реалистично. Предельно обнажая мерзкую сущность отрицательных героев, он выставлял их на всеобщее осмеяние, но он умел и высветить, сделать ощутимым и зримым доброе в человеке.
Ожидания, связанные с творчеством Гарина, всегда были большими. Приходится еще раз думать о том, что смерть талантливого человека всегда преждевременна…
277 Николай Оттен
ПРИСТРАСТНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Был 1924 год. О Мейерхольде, его новых исканиях, его московской школе, труппе его театра по Ленинграду ходили легенды. Среди увлекавшейся театром ленинградской молодежи, к которой принадлежал и я, только двое до этого видели спектакли Театра Мейерхольда: Л. Арнштам — все, я — только «Землю дыбом» и «Великодушного рогоносца». Но, очевидно, наши рассказы лишь разжигали любопытство, потому что ничего, кроме потрясающего впечатления, мы передать не могли.
В Ленинграде молодые «левые» театры возникали как грибы и так же быстро кончали свое существование, оставляя в памяти смелые, хоть и не всегда умелые, поиски театральной формы, новые открытия забытой классики и новинки прогрессивной драматургии Запада. Ходить в театры безденежной молодежи было в ту пору легко, надо было только запастись терпением: сперва администратор предлагал взять дешевые билеты и сесть на любые места, затем совал платные контрамарки по двугривенному, а после третьего звонка пускал всех желающих в зал, чтобы зияющая пустота партера не угнетала актеров.
Ожидание гастролей Театра Мейерхольда волновало нас, молодежь, пылко влюбленную в театр (хотя и неспособную купить на спектакль билеты). Мы не хотели полагаться на судьбу, опасаясь, что наш обычный метод посещения театров в этом случае не сработает…
К тому времени в помещении Тенишевского училища существовал уже год «Кружок по изучению современного Театра Мейерхольда», где старшие школьники и студенты обсуждали новые спектакли. От имени этого кружка мы и написали В. Э. Мейерхольду письмо с просьбой дать нам возможность посмотреть гастрольные спектакли его театра, без какой бы то ни было надежды на ответ. Но ответ очень быстро пришел по почте. Он был адресован Симону Дрейдену — впоследствии известному театральному критику и тончайшему историку нашей сцены — и мне. Мейерхольд распорядился предоставить нам на все спектакли ложу. И хотя в ложе было всего семь мест, мы по этой записке Мейерхольда проводили на каждое представление тридцать-сорок юношей и девушек, которые быстро становились энтузиастами ГосТИМа (как тогда сокращенно называли Театр Мейерхольда), готовыми выстоять весь спектакль, лишь бы хоть что-то было видно…
Когда ГосТИМ приехал, мы отправились благодарить Мейерхольда за этот подарок, но он вел репетицию, и в тот день нам до него добраться не удалось. Принял нас лаборант Мейерхольда (как в ГосТИМе именовался ассистент постановщика) Шура Нестеров, с которым мы мгновенно нашли общий язык и крепко подружились. Был он талантливым учеником Мейерхольда, одаренным режиссером, фанатическим приверженцем революционного искусства и многолетним руководителем рабочей самодеятельности в Москве. Он же познакомил нас с Э. Гариным, Л. Свердлиным, А. Москалевой, Х. Локшиной, Е. Тяпкиной, М. Лишиным, Н. Охлопковым, П. Цетнеровичем, тоже ставшими с той поры моими друзьями.
У нашего поколения дружба возникала не на практической или бытовой основе. До той поры, пока нам вместе было интересно, пока мы чем-то питали друг друга, наши встречи бывали чуть не ежедневными. Когда интерес иссякал и тем самым истощалось то, что нас сплачивало, тогда неприметно, само собой, возникала разлука на месяцы, а иногда и на годы. А затем с какой-то новой точки возвращалась тесная дружба с прежней духовной заинтересованностью друг в друге, будто никакого перерыва в ней и не было! Разговор возникал стой полуфразы, на которой прервался какое-то время назад, и ничего не тормозило нашего открытого духовного общения. Вот так складывались и мои отношения с Эрастом Гариным…
В то лето 1924 года были ежедневные встречи, горячие споры, многочасовые бдения в маленькой комнате с большим роялем на Старо-Невском у моего соученика по Тенишевскому училищу и по консерватории, ставшего потом пианистом, звукорежиссером, 278 сценаристом и широко известным кинорежиссером, — Льва Арнштама. Были бесконечные хождения по Северной Пальмире, которую мы с законной гордостью показывали гостям и днем, когда они были свободны от репетиций, и белыми ночами. Уставая, отдыхали где-нибудь, сидя на ограде или на ступеньках, рядом с бесчисленными питерскими львами, отрывали куски от огромного рулета ситного с изюмом, заменявшего нам подчас и завтрак, и обед, и ужин.
Были свойства у молодых мейерхольдовцев, которые вызывали у нас острое любопытство. Ленинградские актеры еще сохраняли в ту пору многие черты старого театрального быта. У них замечалось стремление и вне театра если не выделяться, то выглядеть «как подобает артисту». В противовес этому молодая часть труппы Театра Мейерхольда и по одежде, и по поведению ничем не отличалась от студенческой и рабочей молодежи того времени: толстовки, косоворотки и заношенные гимнастерки были обычным их одеянием; казалось, что они стремились ничем не выделяться, быть такими, как все.
Когда кончилась гражданская война, Арнштаму еще не было шестнадцати, а все молодые мейерхольдовцы уже успели в той или иной форме стать ее участниками. Молодые мейерхольдовцы были живыми свидетелями настоящих битв, законно считали себя бойцами «Театрального Октября», революционерами на переднем крае художественной идеологической борьбы.
Эраст Гарин медленно взрослел, по крайней мере внешне. Глядя на его фотографии семнадцатого года, хочется сказать, что именно таким он был и в двадцать четвертом, хотя, может быть, это аберрация памяти. Впрочем, удивительное сочетание незамутненной детскости восприятия с растущей зрелостью оценок происходящего в нем самом и вокруг него Эраст Гарин сохранил до последнего дня своей жизни. Забегая вперед, скажу, что в этом выразилось одному ему присущее своеобразие жизненного и сценического таланта.
Вторая половина 20-х годов была для Эраста Гарина временем, когда он шел от успеха к успеху. В этот период среди театральной молодежи, богатой выдающимися дарованиями, Гарин сразу стал одним из самых заметных актеров.
… Чацкий-Гарин выходил на сцену почти мальчиком, таким юным, что это казалось некоторым критикам того времени просто неприличным. Но, глядя на него из зрительного зала, вы, не успев привыкнуть к этой едва сформировавшейся юности, начинали открывать в Чацком такие глубины, такое многослойное духовное содержание, такой сложный, уже во многом отстоявшийся и чувственно освоенный жизненный опыт, какого никогда не видели на русской сцене в этой роли до Гарина, не побоюсь сказать — и после… Вот с Чацкого швейцар снял шубу, в которой он прибыл из дальних странствий в студеную Москву. Перебрасываясь первыми словами с еще не вышедшей из-за ширм Софьей, он садится за рояль и берет первые аккорды. Так возникает, сперва подспудно, а потом звучит, с каждой сценой все сильнее и сильнее, генеральная тема Чацкого-Гарина-Мейерхольда. Возникал могучий поток чувств, которые живут в Чацком, — не время и некому их отдать, но и прятать в себе уже невозможно. Вот и вырываются искры пережитого и передуманного, возникают не к месту, отчего самому немножко стыдно, но удержать себя нет сил. Чацкий лихорадочно ищет понимания, в Софье он хотел бы найти хотя бы сочувствие, если не сопереживание…
И все более и более сгущается горькое одиночество, невысказанное страдание, сознание своей затерянности в громаде мироздания («Хотел объехать целый свет, и не объехал сотой доли»). Этот Чацкий не всем открыт, не весь на виду, не герой, сошедший с пьедестала, как его обычно играли.
Чацкий в исполнении Гарина — классический русский интеллигент начала XIX века, так часто одинокий в ту эпоху и так горько понимающий свое одиночество.
И еще одно решительное отличие Гарина-Чацкого от традиционного исполнения этой роли. Чацкий обычно легко и естественно идет от обличения к обличению, от одной декларации своего несогласия с фамусовским обществом к другой. Гарин-Чацкий словно вовлекается в споры, которых он хотел бы избежать. Столкновения с окружающими возникают словно против его воли…
Нужно упомянуть еще об одной драгоценной особенности таланта Гарина, ярко проявившейся в роли Чацкого, его даре импровизатора.
В 1929 году Эраст Гарин ушел из Театра имени Мейерхольда и уехал из Москвы. Последняя роль, сыгранная им на генеральной репетиции, была роль Оконного в трагедии Сельвинского «Командарм-2». На этой генеральной я не был, обстоятельства отказа Гарина от роли и ухода из ГосТИМа я знаю только с чужих слов, и потому не мне об этом рассказывать. Но спектакль «Командарм-2» с другими исполнителями роли Оконного я видел, притом неоднократно, и могу утверждать, что сама актерская природа Гарина должна была вступить в конфликт с шаткой идейной основой спектакля. Характерный для этого артиста пафос мыслящего, критически оценивающего интеллигента, его глубокая нравственная чистота вступили бы в непреодолимое противоречие с утверждением торжества прямолинейной силы и жестокости, которые должны были стать идейной сутью спектакля. Нет, Гарин не мог играть Оконного в таком спектакле, и не мог такой спектакль состояться с Гариным в этой роли.
Мы в тот год с Гариным разминулись: он уехал в Ленинград, я — в Москву, на преддипломную инженерную практику, и остался здесь на всю жизнь. Через полтора или два года Гарин вернулся в ГосТИМ и на несколько лет обосновался в Москве. Вот тут мы начали часто встречаться, а какое-то время видеться чуть не ежедневно.
Мне быстро удалось отделаться от своих инженерных обязанностей, но, увы… и от жилплощади. Начались мои скитания по Москве из одной снятой на короткий срок комнаты в другую, с ночевками в промежутках у друзей и знакомых. Во время этих скитаний меня на несколько месяцев приютил Гарин в своей 279 комнате на Патриарших прудах. А потом, когда я более или менее прочно обосновался в одном из переулков Остоженки, а мы с Гариным что-то вместе сочиняли для самодеятельности, он какое-то время жил у меня. Дни у меня уходили на выполнение репортерских заданий, вечерами мы непременно бывали в каком-нибудь театре, а ближе к ночи сидели в «Кружке», в Старо-Пименовском переулке, ведя бесконечные споры об искусстве. С нами обычно делили компанию художники П. Вильямс и Я. Штоффер, вчерашний актер, начинавший писать пьесы, А. Арбузов, совсем юный А. Гладков, студенты мейерхольдовской школы В. Плучек и А. Шорин… да, впрочем, всех и не припомнишь.
Я тогда выполнял репортерские задания, где только их мог получить. Однажды мы с Гариным, взяв лыжи, съездили в Дубровицы, в десяти километрах от Подольска, чтобы ознакомиться с тогдашней новинкой — электродойкой, которую Гарин подверг самому пристальному осмотру. Ездили мы с ним на завод «Серп и молот» описывать работу горячего цеха; брали интервью у Лихачева по поводу перестройки старого АМО в современный автомобильный завод, и Гарин радовался и меткой фразе Лихачева — «к пуговице пришиваем пальто», и громаде пустырей, где вырастут мощные цеха. Ездили мы смотреть и первый конвейер по производству обуви на «Парижскую коммуну». Я ездил по необходимости, а Гарин — из неистребимого любопытства.
С такой же жадностью мы читали все толстые журналы, не пропускали ни одной художественной выставки, не говоря уж о спектаклях. Одно время Гарин зачастил в Большой театр и брал меня с собой. После пяти-шести опер, которые мы с ним прослушали, кажется, на «Сказке о царе Салтане» я взбунтовался, а Гарин мне сказал: «Да что вы! Какая силища! Оркестр, певцы, зрелище. Если бы певцы стали еще и актерами, вот тогда…»
Гарин мог по нескольку раз смотреть спектакль, в котором он обнаруживал хоть что-то талантливое. Он готов был стерпеть любое убожество вокруг, лишь бы не пропустить игру Михаила Климова, Степана Кузнецова или Блюменталь-Тамариной. Он любил спорить о театре, был неизменным посетителем бесчисленных в ту пору диспутов и обсуждений спектаклей, зачастую принимавших довольно скандальный характер. Сам он в этих словопрениях никогда не участвовал и даже реплик не подавал и обычно выражал свое презрение к пустой болтовне, из которой ничего путного почерпнуть было нельзя, любимым выражением: «Пшено-трава!» Но потом оказывалось, что он немало усваивал из слышанного.
… В эти заметки не вместишь десятилетия, мне хочется рассказать еще два эпизода. Уже после войны Гарин пришел ко мне, озабоченный поисками пьесы для постановки. Как раз перед этим Евгений Львович Шварц прислал мне свою комедию «Медведь», от которой уже успели отказаться несколько театров, и просил посоветовать, что с ней делать. Гарин зажегся, «Медведь» стал «Обыкновенным чудом». И дело не в том, что в руки Гарина попала пьеса, которой он дал дорогу в жизнь, что эта пьеса принесла ему и Х. Локшиной режиссерский, а ему еще и актерский успех, — главное то, что эта постановка стала началом его тесной душевной связи с прекрасным человеком и замечательным драматургом-сказочником Евгением Шварцем.
А в творческом содружестве Гарин был человеком прочным и верным.
Уже в 60-х годах, когда я жил в Тарусе, там у нас не то одно, не то два лета отдыхали Локшина и Гарин. Эраст много бродил, искал, как он выражался, точек обзора, любил открытые пространства Заочья и приволье калужских лесов. В один из жарких летних дней Гарин у нас на террасе, где всегда собиралось много литературного и театрального люда, вслух прочел «Самоубийцу» Эрдмана. Это было для всех нас незаурядным событием. Мне пришлось слышать, как читал эту комедию сам автор, — делал это он превосходно. Гарин кое-что взял от манеры чтения Эрдмана, но как он преобразил и по-новому окрасил это произведение! Читка длилась очень долго, потому что почти после каждой реплики террасу оглашал хохот слушателей и Гарин вынужден был выжидать, пока не наступит тишина.
Прошли годы, а с ними приблизились старость и сопутствующие ей болезни, усугубившиеся у Гарина несчастным случаем с потерей глаза. Но жажда работать у него была неутолимой. Я настойчиво и многократно советовал ему поставить «Горе от ума», главным образом для того, чтобы он сыграл Фамусова. Я был убежден, что эта работа принесет большое открытие, мы 280 увидим принципиально новое осмысление образа. Но, увы, условия работы в Театре киноактера были таковы, что постановка эта растянулась на многие годы. И когда она наконец состоялась, Гарин уже физически не мог играть Фамусова.
Мне хотелось в этих заметках дать почувствовать, что было самым дорогим для меня в личности и таланте Эраста Гарина, который для меня всегда оставался олицетворением театра, и именно Театра Мейерхольда. Гарин знаменит и любим народом как артист кино. Он и Х. Локшина — авторы многих хороших спектаклей и фильмов. Но для меня он был и остался таким, каким он сам хотел себя видеть, озаглавив книгу своих воспоминаний «С Мейерхольдом», хотя большая часть его творческой жизни, отображенная в этих мемуарах и продолжавшаяся после их публикации, прошла уже без Мастера.
О смерти Эраста Гарина я узнал с большим опозданием из некролога в газете «Советская культура». Увидел я этот некролог, будучи больным, сам тогда не очень надеялся встать на ноги и ничего не смог прочесть, кроме траурного заголовка. Тогда я подумал: «Вот и Эраст умер…» А потом спросил себя: «А почему, собственно, “и”?» С кем я соединил его даже посмертно?
У каждого поколения были и есть свои великие актеры. Земля русская никогда не оскудевала и не оскудеет талантами, и недостатка в великих на сцене и сегодня нет. Каждое поколение называло созвездия своих корифеев: Савина — Варламов — Давыдов — Стрельская; Ермолова — Федотова — Ленский — Южин; Комиссаржевская была одна, но она стала образом эпохи.
Мое поколение помнит не меньше, если не больше, великих актеров и также соединяет их в созвездия. Но были три актера, которые для меня ни в какие созвездия не умещались. Это были три планеты на театральном небосклоне середины XX века, сиявшие среди ярких созвездий: М. Чехов, Н. Хмелев, Э. Гарин. Их имена никогда не произносили вместе. Да они и несоединимы в своей особости. Но есть у них и общее. Это были актеры, которые воплощали трагически мечущуюся, рвущуюся к правде интеллигенцию России. Все трое не сделали всего, что обещал их талант. М. Чехову было тридцать семь лет, когда он эмигрировал и прервалась его творческая жизнь. Хмелев прожил сорок четыре года и умер на генеральной репетиции, так и не сыграв свою главную роль — Ивана Грозного, которая должна была стать его триумфом. Э. Гарин тридцати семи лет потерял Мастера, который сформировал его и навсегда определил его творческую жизнь.
И все же М. Чехов, и Н. Хмелев, и Э. Гарин создали бесконечно много и для культуры театра, и для духовного обогащения своих современников. Будем же им благодарны за это.
Валентин Плучек
ОН БЫЛ МОИМ КУМИРОМ
Мне посчастливилось: будучи студентом первого курса Государственных экспериментальных театральных мастерских, я стал участником знаменитого спектакля Мейерхольда «Ревизор». Меня, как самого худенького и маленького, выбрали для участия в сцене грез Анны Андреевны. Офицеры окружали Анну Андреевну и пели ей романс, на последних тактах музыки раздавался выстрел, и я с букетом цветов выскакивал из маленькой тумбочки, вихрем проносился по сцене и падал у ног городничихи. Так благодаря своим внешним данным я попал на репетиции Мейерхольда и ближе познакомился с его артистами.
В трактовке Мейерхольда для гаринского Хлестакова, вероятно, решающей была фраза Н. Гоголя о том, что Хлестаков «фантасмагорическое лицо, которое, как лживый олицетворенный обман, унеслось вместе с тройкой Бог знает куда». В его строгой, сдержанной и странной фигуре, в необычном для представлений о Хлестакове внешнем облике — маленький, черный, сужающийся кверху цилиндр, квадратные очки, накинутый на плечи плед, трость — было что-то неожиданное, напоминающее романтических героев гофмановских сказок. И в то же время в нем словно олицетворялась тема миражей «северной столицы», «Петербургских повестей» Гоголя.
Гарин был и поразительным мастером трансформации. Этот дар его особенно проявился в спектакле-ревю «Д. Е.», где он играл семерых изобретателей. Но еще прекраснее, приемами эксцентрики, в этом же спектакле он играл Поэта. Мы, студенты, занятые в массовых сценах, каждый раз из всех щелей кулис восхищенно смотрели на своего кумира.
Однажды, когда я учился уже на третьем курсе, Мейерхольд привел к нам на занятие Гарина и сказал, что назначает своего любимого артиста нашим преподавателем сценического мастерства. Это известие мы встретили бурными аплодисментами. Эраст Гарин с первых же дней нашел с курсом естественный и дружеский тон. Прежде всего он был нашим товарищем. Во-первых, сказывался возраст: учитель был старше своих учеников всего на пять-семь лет. Во-вторых, мальчишеский, озорной характер Гарина, его склонность и любовь к эпатажу. На первом занятии он сел перед нами, снял ботинок и, весь по-гарински скрючившись, начал усиленно нащупывать тот гвоздь, который ему якобы натирал ногу. При этом он сразу нас предупредил, что он никакой не педагог. Такое оригинальное начало нам всем понравилось.
Для курсовой работы Гарин выбрал водевиль «Калиф на час». И тут мне опять необычайно повезло. Дело в том, что до поступления в театральные мастерские я учился два года в изотехникуме и хорошо рисовал. Поэтому Гарин и предложил 281 мне быть художником спектакля. Он же подсказал направление поисков в решении оформления этого «восточного» водевиля: древние персидские миниатюры. Мы вместе с ним ходили в Музей восточных культур, где рассматривали десятки миниатюр, любуясь их необыкновенной выразительностью, необычайной конструктивностью и планировкой, дававшей возможность возникновению интересного решения. Макет получился, и наш преподаватель изограмоты оценил его высшим баллом. Теперь мне кажется, что, может быть, эта совместная работа с Гариным и положила начало моему увлечению режиссурой.
Как актер в водевиле я был занят в небольшой характерной роли Судьи. Вероятно, играл его скверно, ибо во всем подражал эксцентрическому рисунку гаринских ролей. Сейчас, когда прошло более пятидесяти лет, я задаю себе вопрос: был ли Гарин хорошим педагогом? В узком понимании значения этого слова, конечно, нет. Молодой учитель еще не умел раскрывать наши индивидуальности, его яркие, самобытные показы подминали нас. Но Гарин увлекал нас своей одержимостью.
В пору, когда я заканчивал театральное училище, Мейерхольд неожиданно поссорился с Гариным, и тот ушел из театра. На одном из собраний Всеволод Эмильевич резко отозвался о Гарине. Я не выдержал, вскочил и крикнул, что я не знаю, какому Мейерхольду мне верить, тому, который у нас на занятиях назвал Гарина своим любимым артистом, или тому, который говорит сейчас. Кроме того, негодуя на «несправедливого» Мейерхольда, я разломал и макет, сделанный под руководством Гарина и приготовленный для просмотра Всеволодом Эмильевичем. Я понимал, что после такого «бунта» против самого Мастера меня уже в труппу театра не возьмут. Поначалу так и оказалось: в списке принятых моей фамилии не было. Огорченный, я пошел к Гарину домой. Но он и его жена, режиссер Х. А. Локшина, ободрили сообщением, что они в Ленинграде организовывают свой театр и меня берут туда.
Прошло время. Я уже вернулся из летней поездки в Оренбург. Стою у чистильщика около телеграфа и вдруг ощущаю на себе чей-то взгляд, оборачиваюсь — Мейерхольд. Продолжая пристально на меня смотреть, он спрашивает, почему я не был в этот день на сборе труппы. Я мямлю, что я же не в труппе. Тогда он говорит: «Бегите скорее к Нестерову (это был начальник режиссерского управления. — В. П.) и передайте, что я вас беру, а то иначе не попадете в афишу». Я первым делом бегу к Гарину: «Как быть? и что делать?» И тут «обиженные» Мейерхольдом Гарин и Локшина мне растолковывают, как много им дал Мастер, и сколькому он их научил, и что мне, начинающему актеру, непременно надо идти к нему, чтобы пройти эту высшую школу мастерства. Я помню их слова: «Идите к Мейерхольду», и за них я им благодарен всю жизнь.
Через некоторое время, приехав из Ленинграда, Гарин вернулся в Театр Мейерхольда, и моя дружба с ним возобновилась. В те годы вокруг него образовалась целая молодежная группа. В нее входили ставшие потом известными художницы Вера Ара-лова и Ирина Вилковир, литератор, переводчик и театральный критик Николай Оттен, драматург Алексей Арбузов, журналист и драматург Александр Гладков, критик Яков Варшавский и я. Мы все встречались почти ежевечерне. Сколько у нас было ночных прогулок по Москве, длинных разговоров и споров на личные темы и темы искусства, сколько мы сочинили шуток, розыгрышей! Нас всех объединяла прежде всего огромная любовь каждого к Мейерхольду. Помню, мы вместе с Гариным сидели на репетиции «Вступления» и видели, как родилась знаменитая сцена в ресторане с танцем Нунбаха-Свердлина. После репетиции мы стали думать: каким одним словом можно охарактеризовать Мастера? И Гарин сказал: «Волшебник».
Маяковский был нашей второй большой любовью. Мы знали наизусть его стихи и поэмы, выступали с чтением их на эстраде, Гарин читал поэзию Маяковского своеобразно, но всегда с верным пониманием сути. На выставках «Общества станковистов» мы восхищались А. Тышлером, П. Вильямсом, Ю. Пименовым, А. Дейнекой. Мы восторгались и непревзойденным мастерством японского театра Кабуки, и поразительным искусством Мэй Ланьфаня. Мы ходили слушать симфонические концерты молодого Д. Шостаковича и С. Прокофьева. Мы были страстными поклонниками Чарли Чаплина и Бастера Китона, который, несомненно, оказал на Гарина большое влияние.
Эраст Павлович Гарин никогда не был похож на артиста, живущего в узком кругу только профессионально-технических интересов. Его всегда отличало умение восхищаться и вбирать в себя все смелое, новое и неожиданное в искусстве. Несомненно, что в годы нашей дружбы сложились те эстетические критерии, которые определили всю последующую жизнь.
После длительного перерыва мы снова встретились в 1957 году: меня назначили главным режиссером Московского театра сатиры, и я пригласил Эраста Павловича и Хесю Александровну в наш театр на постановку. Так появились их интересные режиссерские работы по пьесе Евг. Шварца «Тень» и по роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев».
Как многие талантливые люди, Эраст Павлович Гарин был человеком субъективным в оценках. В чем-либо понравиться Гарину было трудно. Так, собственно говоря, я никогда и не знал его отношения к моим спектаклям. Но он был необычайно обаятелен, и нас связывали горячие дружеские чувства.
Современное среднее и молодое поколение зрителей знает и любит Гарина по его кинематографическим ролям. Начинал же Гарин как большой и самобытный актер театра. И мне кажется, несмотря на огромную популярность, творческая судьба Гарина сложилась драматически. После Мейерхольда и его театра Гарину так и не удалось найти ни театральный коллектив, ни тем более режиссера, рядом с которым органично бы развивалось его дарование.
282 Соломон Гершов
ПОРТРЕТ
В 1930 году Эраст Павлович Гарин позировал мне для портрета. Не помню, как долго я его писал. Если в силу задачи своей я проявлял старание, то он обнаруживал завидное терпение. Портрет этот пропал в блокадном Ленинграде, и представление о нем едва ли можно воскресить набором слов1.
Главным атрибутом в этом портрете была плоскодонная шляпа на манер Бастера Китона. Может быть, предмет сей не столь уж украшал Эраста Гарина, но для мейерхольдовского актера с его чувством формы шляпа эта была весьма кстати и придавала своеобразное выражение его облику.
Мы часто виделись в Ленинграде. Останавливался он на Старо-Невском у Арнштамов, предпочитая кушетку в кабинете их отца (известного ленинградского врача) койке, оплаченной из командировочных. В этом доме, где часто бывал и я, мы с ним встречались. С Эрастом Гариным у Арнштама близкая дружба началась еще в Театре Мейерхольда, где они вместе работали.
Лев Арнштам был в молодости пианистом и заведующим музыкальной частью этого театра.
Когда я бывал наездом в Москве, то останавливался в квартире Гариных. В небольшой комнате коммунальной квартиры на Патриарших прудах всегда находилось для меня место, ибо никто тогда не думал о комфорте.
Из наших встреч одна запомнилась мне особенно.
В клубе мастеров искусств в Старо-Пименовском переулке после одиннадцати часов вечера собирались актеры, музыканты, режиссеры… Мы с Эрастом всегда занимали в ресторане один и тот же столик, но обычно подсаживался еще кто-нибудь. Чаще всего это был начинающий драматург Арбузов. Расходились по домам после закрытия ресторана в три часа ночи. Домой шли по ночной Москве пешком.
Как-то однажды на звонок в его квартиру после одного такого вечера никто не откликнулся. Видимо, дома спали крепко. Оставалось остаток ночи провести в сквере либо приспособиться на площадке лестницы. И вот в такой «экстремальной» ситуации Эраст Павлович говорит мне: «Хотите, я вам покажу, как некоторые любители стоят в очереди за водкой?» Эраст вытянулся во весь рост по стойке «смирно» и «налево равняйсь». Сделано это было с большой наблюдательностью. После этой сценки были предложены другие: как транзитные пассажиры маются 283 на станции, ожидая посадки в вагоны проходящего поезда. Кто притулился на корточки, кто использовал свой мешок в качестве сиденья, а кто залез под скамейку, а свой сундучок привязал к ноге. Наблюдения Эраста были удивительно точными. Вот он, подумал я, настоящий урок актерского мастерства.
… Любил Эраст Павлович сниматься. Но где и как? Представьте себе фотографа, который пристроился в одной из подворотен на Лиговке, недалеко от Московского вокзала. Его «ателье» называлось «Моментальная съемка». Надо сказать, что работа у него шла без обмана: через три минуты получай готовый снимок, который после промывки в ведре вручался вам в виде свертка. Склонность Гарина к такого рода запечатлению себя на фото отнюдь не объяснялась дешевизной уличной съемки. Ему нравилось, что можно представиться миру бравым донским казаком с большим чубом под солдатской фуражкой. Для этого надо было только просунуть голову в круглое отверстие. Были и другие снимки: джентльмен в канотье с тросточкой в руках на фоне кавказских достопримечательностей. Не раз фотографировались мы по очереди, а очередь эта состояла из Гарина, Шостаковича, Соллертинского, Арнштама и меня. Один из таких снимков сохранился у меня и был опубликован в сборнике «Из истории кино» (вып. 7) и в «Воспоминаниях о Шостаковиче».
… Последние письма Гарина ко мне и моей жене В. С. Костровицкой были написаны им, когда он уже почти ничего не видел. Я послал ему несколько своих работ, и он, хотя с трудом, сумел их разглядеть и прислал мне свой отзыв.
В этом выразилось его всегдашнее внимание к друзьям и память о далекой юности.
1 Сохранилась фотография этого портрета, которая воспроизводится в настоящем сборнике.
Леонид Трауберг
И НЕ СЫГРАЛ ГАРИН — ГАРИНА
В «Сказках матушки Гусыни», обработанных Шарлем Перро, в самой популярной из них, в «Золушке», не слишком много места уделено отцу влюбленного Принца — Королю. Он значит для фабулы меньше, чем мачеха замарашки, чем ее сестры, даже меньше, чем ее туфелька.
Сказка положена в основу сценария советского драматурга Евгения Шварца. Известность писателя не подлежит сомнению. И все-таки: только известность. А законной была бы слава. Ведь написаны им и «Тень», и «Дракон», и «Дон Кихот».
И «Золушка». Именно в этом сценарии одним из главных героев стал Король.
До чего же идейно неверно! Ну, Сандрильона, дитя золы и пыли, так сказать, трудовая величина… Но Король!
И то, что Король говорит о добре. Уж не ему бы! Поручить бы токарю, в крайнем случае — шуту. А другой хороший драматург, тоже на «Ш», поручил это вздорному, тираническому, потом и вовсе рехнувшемуся правителю, Лиру.
Но создать образ, снабдить его огненным диалогом — только полдела. Ну, пятьдесят пять процентов.
Немало было прекрасных актеров в ролях других королей.
Но Король из «Золушки» непревзойден, не может быть превзойден.
… Вспоминаю солнечный день в Мариуполе много лет назад. Снимается фильм (так и не законченный) по сценарию Н. Ф. Погодина «Путешествие в СССР». Один из героев, некий Васюта Барашкин, так сказать, отрицательный персонаж, возлежит на приморском песке, в соломенной шляпе, в задранной кверху, обнажающей пузо рубашке, в руках — кусок арбуза.
«Отрицательности» нет в помине, налицо — пастораль, даже цыплята рядом, а на лице у Барашкина полное блаженство.
Кадр был немой, а полагались слова, кредо персонажа: «Главное, не суетиться, лежать так на бережку, греть пуп, лопать кавун и — плевать на окружающих!»
И мы поверили бы в то, что только так и надо жить. Таким магнетически убедительным был тембр голоса, нюансы, ритм речи, улыбка. Как поверили, слушая монологи шварцевского Короля, в другое — в то, что жить надо не прячась за слова, титулы и обман, а любя и делая добрые дела.
Повторяю: поверили бы и в декларации Васюты, так убедителен был Барашкин-Гарин. Хотя всей своей жизнью актер Эраст Гарин доказал, что нет для него более ненавистного и позорного, чем безделье, эгоизм, отсутствие стремлений.
Вся жизнь этого актера — в новых и новых замыслах, в их воплощении, в борьбе с помехами, в яростном желании работать, работать.
284 Если подсчитать, сколько образов было создано артистом в театре и в кино, диву даешься. Конечно, любой дореволюционный премьер играл ролей в десять раз больше, но в памяти оставались (если он был талантлив) — две-три.
Гарин — это прежде всего Хлестаков, Чацкий, но и дьячок Савелий Гыкин в экранизации «Ведьмы» Чехова. Доктор Калюжный. Жан Вальжан — матросик в «Последнем решительном». Король в «Обыкновенном чуде». Подколесин. Адъютант в «Поручике Киже». Немецкий солдат в «Боевом киносборнике». Каин XVIII. Тараканов. И многие другие.
Васюта Барашкин произносил монологи о сути бытия (с его точки зрения). Король из «Золушки» разговаривал со зрителями о самом для него важном. В неосуществленной постановке пьесы Николая Эрдмана «Самоубийца» герой Подсекальников был что твой Гамлет: монологи, афоризмы.
Так и вспоминаю я Эраста Гарина. Он глядит на тебя с пугающей проницательностью, потом начинает говорить. И речь его сама по себе явление искусства. В самых житейских условиях. Со своей неповторимой окраской, особыми интонациями, с никому другому не присущей напевностью при будничности тона.
Был в этом актере некий заряд, всегда захватывающий собеседника. И зрителей.
Такой силы заряд, что воздействие его было, не побоюсь сказать, магическим.
Так были потрясены мы с Козинцевым, начав репетировать с Гариным роль Барашкина. Ничего подобного мы не предвидели, хотя восхищались его спектаклями.
Не было у Барашкина протяжной распевности Гулячкина из «Мандата». Не было прямо положенной на ноты речи героев архиклассических пьес Гоголя и Грибоедова.
Барашкин-Гарин словно и слыхом не слыхивал о театре, где закономерна была речитативность. Он разговаривал 285 по-своему, но — по-киношному. Просто и с любовью к тому, что называется человеческой речью. Примечательно, что в том же ключе разговаривали — на репетициях «Путешествия в СССР» — другие участники фильма, тоже пришедшие из близких Мейерхольду театров, — Чирков, Каюков.
И так поразило нас, уже не новичков в кино, мастерство Гарина в сравнительно новом для него виде искусства, что сразу стал решенным вопрос — как будет называться герой задуманной нами в то время серии картин о молодом подпольщике. Герой будущей трилогии должен был называться Гарин. Имени у него поначалу не было, это уж потом не стало фамилии, а осталось только имя — Максим.
В биографиях актеров (как и других мастеров искусства) много неосуществленных замыслов, часто значительных. Так и не сыграл Гарин Подсекальникова в «Самоубийце». Не дали ему сыграть и Калюжного в фильме — роль, уже прекрасно сыгранную в театре.
И не сыграл Гарин — Гарина.
Фильм, в котором он должен был стать главным героем, позже на экраны вышел с другим актером, но это — другая тема.
Герой нашего фильма в исполнении Гарина был бы не менее реалистической (позволю себе так полагать) фигурой, чем герой «Юности Максима».
Мы с Козинцевым, трудясь над сценарием, прочли много книг — биографии, автобиографии большевиков. Из всех подпольщиков особенное впечатление произвел на нас Иван Васильевич Бабушкин.
Хоть и рассказал он сам о себе, хоть и совсем простым кажется этот типичный питерский пролетарий (не из числа рослых вожаков), но так и остался неразгаданным в искусстве. Как будто не было в нем ничего особенного, и блеска вожака не было, а написал-то Ленин именно о нем — «народный герой». И вправду — герой был, и погиб геройски, расстрелянный палачами на захолустном сибирском полустанке, и жил — героем, мотаясь из тюрьмы в тюрьму, оторванный от любимой жены, от родины.
Странно, что именно Козинцеву и мне, в свое время искавшим в искусстве необычайное, эксцентрическое, больше всех по душе из революционеров пришелся именно Бабушкин — этот, казалось бы, категорически чуждый исключительности профессиональный революционер. Но тогда уж придется считать «обычным» невероятный побег из тюрьмы, не имеющее себе равных путешествие без куска хлеба, без знания языка, почти пешком — из России, через всю Европу, в Лондон.
Конечно, не именно о нем шла речь в задуманном фильме. Все было в сценарии по-другому, да и время иное: не конец XIX века, а 1910 год. Но чем-то они совпадали, даже внешне — Иван Бабушкин и Гарин.
Уже начали мы снимать картину, и вот это самое бабушкинское, — и простое, и сложное, — сыграл Эраст Павлович Гарин на первых же съемках.
Не довелось Гарину сыграть большевика-подпольщика. Помешала внезапная — из-за вмешательства какой-то комиссии — остановка съемок.
Гарин не пел бы в фильме песенок, не представлял бы простачка. Но наверняка было бы другое, о чем мечталось нам: мысль и работа деятеля революции в сочетании с подлинной (из мемуаров взятой) увлекательностью перипетий.
И обращался бы Гарин с экрана к зрителям с большими, серьезными и, как хлеб, простыми словами.
Только не сводить бы амплуа актера к трансформированному резонерству. Ох как горько сделалось, когда стали замечательные наши актеры, воплощая исторические личности, попросту вещать с экрана (к счастью, этой опасности великолепно избежали Борис Щукин и Максим Штраух).
Такие похожие слова: амплуа и амплитуда.
Амплитуда гаринских образов поистине невероятна. Вот только что я упомянул состоявшегося Короля и несостоявшегося Барашкина. А проснулся Гарин знаменитым задолго до того — утром после премьеры «Мандата» в Театре Мейерхольда. Сразу стало ясно, что в стране, щедро одаренной такими актерами, как Чехов, Ильинский, Бабанова, Михоэлс, Бучма, Анджапаридзе, 286 Хмелев, Баталов, Яхонтов, появился новый удивительный протагонист.
Уж на что отличный коллектив подобрался в экранной «Свадьбе»: и Абдулов, и Раневская, и Грибов, и Яншин, и Федорова, и Мартинсон, и Плотников, и Коновалов, и Пуговкин. И — отдельно поставим — Марецкая. А все-таки Гарин в этом фильме незабываем. Конечно, это чеховский герой. Он оттого Чехова, что и герой и героиня в экранизации «Медведя» — превосходные Андровская и Жаров. А тон другой.
Так оно и бывает. Вершиной реализма не раз оказывался гротеск.
Гарин-Апломбов — образ попросту невероятный, гротесковый. Снимался фильм в военное время, в ночи тревог, а сняли нечто неистово смешное. И Гарин, пожалуй, смешнее всех, смешнее не придумаешь (один подпирающий щеки воротник чего стоит!).
И страшнее — не придумаешь.
Не только личными достижениями вписываются большие художники в десятилетия, в века. Еще действеннее входят той жизнью, тем идейным, как несколько неуклюже выражаются, звучанием, которое дали, открыли, подняли для современников и потомков.
Входят и методом творчества, обогатившим искусство, обогатившим жизнь. После Чаплина нельзя было играть, как играли Линдер и Мозжухин. Мочаловское, мартыновское находили в последующих десятилетиях русского театра. Михаил Чехов растаял, потеряв родину, по существу, не так уж много сыграв в Москве, но мы мерили и, пожалуй, меряем сегодня актерское искусство и Чеховым.
Продолжение искусства больших художников хотелось бы видеть сегодня во многих исполнителях. Но трудно сказать, в ком прослеживается то золотое, что дали Москвин, Коонен, Фогель, Черкасов.
Гарин продолжался больше, чем полвека, — как ни обделяли его ролями. Смутно, но где-то, как чеховская струна (другого Чехова, «Вишневого сада»), звучала гаринская нотка, как десятилетиями звучало и звучит бабочкинское «наплевать и забыть».
Не оттого длился Гарин, что его облик был разителен, грация потрясающей (от этого тоже).
Но оттого, что родился его высокий талант в годы, начальные для нашего искусства, для нашей страны, родился с приметами рязанского россиянина, с буйной копной волос, часто голодавшего и всегда мажорного молодого человека нашего столетия.
Любовь Руднева
В ЛАБОРАТОРИИ АРТИСТА
Идет 1936 год… Уже минуло постановке «Ревизора» десять лет от роду, а зрительный зал в не больно казистом театре на Тверской — улице Горького — неизменно полон. Нельзя сказать, чтобы и баталии вокруг этой постановки смолкли… Я работаю в театре второй год, Мейерхольд пригласил меня вести Мастерскую современного слова в училище, а в Научно-исследовательской лаборатории ГосТИМа по его просьбе готовлю монографию о «Ревизоре». Пока же на чистых листах, подклеенных к дублю режиссерской партитуры, описываю каждый проход Гарина-Хлестакова, его жест, мимику — все, что делает Хлестаков на сцене. А мой друг и коллега японский режиссер Секи Сано вычерчивает мизансцены по той самой системе, которую он разработал вместе с Леонидом Варпаховским, режиссером-исследователем, недавно возглавившим нашу маленькую лабораторию.
Перед началом спектакля мы взбирались по лесенке, вроде пожарной, в так называемую ложу, позади зрительного зала, на высоту бельэтажа. Подшучивая, Эраст Гарин спрашивал меня: «Ну, как там обживаете скворешник?» Но это было наше рабочее место, по многу часов мы корпели за нелепым подобием стола и тщились найти средства, чтобы по-своему отразить жизнь спектакля, игру Гарина, реакцию зрителей.
Образ Хлестакова, все его метаморфозы, ощущение внутренней широты начал импровизационных приковывали внимание самых разных зрителей. У Гарина была даже интонация какая-то пантомимическая, а не только жест. Притягивал особенный его — от природы — голос, несколько странный, растягивающиеся гласные звучали то полуудивленно, то вычерчивали неожиданные звуковые ряды. Притом артист обладал прекрасной дикцией и никогда не пытался «преподносить» текст. Сама тональность мгновенно менялась, возникал будто и видимый звуковой образ. Позже в этом убеждались и его слушатели, когда Гарин создал интереснейшие радиоспектакли. О том же подробно говорил мне и артист нашего театра, незаурядной музыкальности негр Вейланд Родд. Гарин передавал впечатления Пола Робсона, взбудораженного Хлестаковым, его «инструментовкой», — он удивлялся такому «музыкальному реализму». Мне запомнился и тонкий анализ особенностей артиста во время бесед с композитором Виссарионом Шебалиным. А Секи Сано все пытался обозначить феномен той непосредственности, какая ощущалась в виртуозной игре Гарина. Он как-то сказал мне:
«Эрасту свойственна, может и неосознанно, идея самоусовершенствования через исполнительское искусство. Ну, ты можешь назвать это иными словами, будет только длиннее 287 и менее точно. В театре Кабуки это обозначено понятием “гэйдо” — “путь искусства”. Знаешь, тут есть начало народной мудрости и уважения к искусству и зрителю, оно включает нравственное мерило как само собою разумеющееся. Здесь и тренинг, и вдохновение, и верность. Да, и верность автору, который буквально взывал, чтобы роль досталась лучшему актеру, потому что она всех трудней…»
Мы улавливали: суть была в том, что, получая удовольствие от мастерства актеров, всего ансамбля, от постановки, от игры Гарина-Хлестакова, мы не только заглядывали в гоголевские невероятия и бывальщину николаевской России, но и соприкасались с явлением той косности, густопсовой пошлости, невежества и бюрократизма, которые порождали и питали хлестаковщину. Однако фат, мот и мелкая сошка, прохиндей обретал в этом спектакле контуры парадоксальные. Гоголь писал о чудовищной силе всеобщего страха, почувствовав которую Хлестаков вдруг развернулся неожиданно для самого себя. В Гарине, в его голосе, во всех его модификациях, в узкой тонкой фигуре, в жесте, в разнообразных его воплощениях, стремительно чередовавшихся, получала сценическую реальность история молодого ничтожного человека, на короткий срок взнесенного наверх бюрократической пирамиды, где он еще умудрялся лихо балансировать. И разрастался на глазах у зрителей страшноватый анекдот жестокого времени, где все выстраивалось реально, стойкой инструментовкой, убеждая, что сама искаженная жизнь способна порождать фантасмагории.
Привожу отрывок из моих рабочих записей 1936 года о первом появлении Хлестакова-Гарина.
«Занавеса, как обычно, в этом театре нет. Слева — лестница, в глубине, под ней, упираясь в угол, — лежанка, на ней смятая постель.
Из коричневой густой тени доносится свист. Вверху лестницы появляется худощавый, гибкий, в темном сюртуке, сиреневом жилете, с пледом через плечо, в цилиндре, слегка надвинутом на лоб, в крупных квадратных очках, в перчатках, с тростью в руке молодой человек. У него бледное лицо, чуть пухлые капризные губы. В петлице сюртука висит на мочалке бублик. Сходит медленно, немного задерживаясь при каждом шаге. Он направляется, сойдя с лестницы, к лежанке. Повернувшись на три четверти к зрителю, внезапно останавливается, увидев смятую постель. С недоуменным возмущением рассматривает ее. Стоя теперь спиной к зрительному залу, едва наклоняясь, он спиной выражает свое возмущение. Растягивая слова, выговаривает их почти нараспев, а то выпаливает, но какая-то растяжка остается, она свойственна Гарину-Хлестакову. Начинает он фразы с верхних нот, и постепенно голос звучит будто б пониже. Меж тем, слегка отставив левую ногу, он протягивает слуге — Осипу болтающийся на мочалке бублик и произносит слова важно и лаконично.
Гарин-Хлестаков садится на постель, легким движением правой ноги, согнутой в колене, как-то углом касается левой — возникает ощущение необычайной легкости его существа. И тут он замахивается на Осипа тростью и потом как ни в чем не бывало продолжает говорить, упираясь левой рукой в бок, а в правой небрежно и изящно держа перчатки и тросточку. Тень его, ложась на стену за лежанкой, то негодующе повторяет движение тонкой вытянутой фигуры Хлестакова, то грустно сгибается, опустив голову — голодная тощая тень».
Спектакль-открытие продолжал свою жизнь, хотя кое-кто все еще бросал увесистые каменья, якобы спасая классику, обвиняя режиссера и артиста в формализме. Но о поразительной верности спектакля замыслу Гоголя писал и говорил Андрей Белый, и уже в наши дни, десятилетия спустя, я слышала от Дмитрия Дмитриевича Шостаковича об огромном влиянии, которое на него оказала эта постановка. Он уподоблял ее исполнению сложного музыкального произведения. А ведь такова была мысль самого автора «Ревизора». Справедливо толкуют о значении этого спектакля в середине двадцатых годов, но в формировании духовного мира совсем нового поколения середины тридцатых годов сыграл он особую роль.
В конце 1982 года известнейший ученый-океанолог Андрей Аксенов, вновь посмотрев по телевидению фильм «Свадьба» (1944) по Чехову, сказал: «Даже среди замечательных артистов Гарин своей игрой ошеломляет. Глядя на него, и смешно и страшно делается. И припомнился мне, как будто я совсем недавно видел, его Хлестаков. Четыре с половиной десятка лет вроде б не в счет! Особенно вспомнились эпизоды “Вранье” и “Шествие”. Вдоль низенькой балюстрадки, как-то слегка балансируя, видимо в подпитии, но и поспешая, двигался Хлестаков, вроде б окрупненный офицерской николаевской шинелью, да еще с кивером на голове. А по другую сторону балюстрады двигался хоровод из подобострастных чиновников. У меня перед глазами все эволюции Хлестакова и, как колода валящихся карт, чиновничий хвост. Выразительна была каждая реплика, виртуозна игра, и впервые для меня, совсем тогда еще молодого зрителя, распахнулся Гоголь — въяве и вживе!»
Возвращаюсь к своим рабочим записям 1936 – начала 1937 года.
288 «“Вранье” — Хлестаков посреди дивана, слева маленький стол, уставленный цветами, фруктами, бутылками вина. Свечи. На диване рядом с фитюлькой Хлестаковым красавица, статная городничиха».
Ее играет Зинаида Райх с блеском и мастерством, с большим тактом, как бы аккомпанируя своему партнеру.
«На самом краю полукруглого дивана с объемистой спинкой Марья Антоновна — Е. Логинова. Разглагольствуя, упиваясь непривычным вниманием, изобилием, Хлестаков будто “вскипает”, он весь в движении».
Да, если Секи Сано сравнивал игру артиста с мастерством актеров Кабуки, мне думалось — это был высший пилотаж российского гаерства, который обострял суть Хлестакова. Его движения — рисунок в пространстве, зритель словно видит очерченное им, как бы ввинчивается в вихрь видений Ивана Александровича. Движения — продолжение его реплики или партнера. Он слегка вроде бы и дирижирует, приподнимается, витийствуя. Делая словно б и нелепые движения, актер остается неожиданным и изящным. Вот он почти падает на диван, пытается опереться на вытянутую правую руку, левой держась за лацкан своего сюртука. Мгновение — и, будто Мюнхгаузен, сам себя за лацкан вроде и вытягивает.
… Он манипулирует чашечкой и умудряется в какой-то момент ложечкой легко и быстро подцепить палец городничихи и поцеловать ее красивую ручку, приведя обольстительницу в приятное волнение. Ногой водит по полу и ставит чашку на стол, наклоняется к городничихе. Плавно отводит руку, поднимается для комплимента, как будто «служит» ей руками… Произнеся французское слово, вытянув руки перед собой, паузой словно подбрасывает то словцо вверх. Руки на коленях, мгновенно будто и задумывается, но тут же, рванувшись, живописует «пригорки», потом, каким-то извивом руки, «ручейки». Размахивая руками, веером рассыпает «зефиры». Он все более входит в раж. Блистая красотою шеи, плеч, лебединым движением рук городничиха преподносит избраннику большущий ломоть дыни, небрежно сунув дочке самый маленький. А Хлестаков уже живописует жизнь в Петербурге, ловко взмахивая ломтем дыни, насаженным на вилку.
Вранье в разгаре, теперь оно о сердцееде Иване Александровиче. Хлестаков испытывает вдохновение, но то дотрагивается мимолетным жестом до очков, то откидывается на подушки воображаемой петербургской кареты, то наклоняется вперед, то вскакивает — и все на фоне музыки, — каково наслаждение! Сложив руки на груди, уже мчится на прием, и зритель ощущает — лошади перешли на рысцу, а Хлестаков подскакивает на диване все сильнее и сильнее. И вот уже зрители видят: Хлестаков будто поднимается по ступеням лестницы петербургского особняка. Выслушивая комплимент, он странно, под углом соединяет правую ногу с левой, слегка наклонясь. Да он и почти верит в то, что выдумывает, — мнимый сочинитель, сейчас Хлестаков прочерчивает в воздухе крупными буквами словеса.
289 Он в неистовом кураже, наврав про сонмище курьеров, быстро ощупывает себя и, смахнув это видение, опять молниеносно пробегает пальцами по своей жилетке. «Трудно предусмотреть превращения его даже на миг вперед». То он как гусак налетает на городничего, сидящего в кресле, хватая помертвевшего от ужаса городничего за отвороты мундира. То к нему, чтобы поддержать пошатнувшегося гостя, подскакивает полицейский, но Хлестаков мгновенно выхватывает шпагу Свистунова и, вскочив на кресло, принимает воинственные позы, угрожая и престранно изогнувшись притом. Ритм вранья многообразен, фантасмагоричны сломы его, ибо перед нами мелькают самые неожиданные воплощения, выражены они Гариным пантомимически точно. И среди всех этих химерических видений возникает танец. Удивителен контраст двух фигур — хрупкого, тоненького Хлестакова и плавно-прекрасного движения статной, завороженной его враньем, обольстительной городничихи. И лишь в конце этого взвинчивания всех страстишек героя врывается пронзительная нота, когда, опьянев и почти упав на кресло, Хлестаков проговаривается в полусонной тоске о нищенской жизни своей. И тем острее проявлены актером качества Хлестакова, которые водятся, как писал Гоголь, и «за ничтожными людьми».
И я наблюдала, как серьезно, собранно входили в каждый спектакль такие разные актеры, как Зинаида Райх и Эраст Гарин. Они оба, кстати, дорожили своим партнерством, и каждый раз гармонично сочеталась их контрастная палитра: плавно-живописная — Райх, острографичная — Гарина.
И в тридцатые годы спектакль оставался событием. Об этом мы узнаем и из исповедальных строк Ярослава Смелякова, одного из самых популярных поэтов той поры. Об игре Эраста Гарина говорил мне и он, и поэт Леонид Мартынов, и совсем юный поэт Борис Смоленский. Частыми посетителями спектаклей оказались и одареннейшие молодые художники, ученики В. Фаворского и Л. Бруни. Среди них и мои друзья. Рисовал Хлестакова-Гарина и отличный график Виктор Вакидин; во время спектакля и заранее заручившись согласием Мастера, я предложила талантливому живописцу Ивану Безину попробовать сделать серию набросков Гарина-Хлестакова. Он не однажды взбирался вместе с нами на «верхотуру», напряженно работал бок о бок с Секи Сано. Его уникальные листы у меня сохранились.
О той поре вновь возник у меня подробный разговор уже в конце шестидесятых годов и с В. Горяевым, и с Сергеем Урусевским.
«Странная штука, — сказал мне Сергей, — я, кажется, мог бы точно воспроизвести все мизансцены “Ревизора”…» И тут же «воспроизвел» первую картину: дуэт Осипа и ядреной бабищи в нищем гостиничном номере, которая и подготовляла по контрасту появление Хлестакова-Гарина.
«Будто сталкивался реальный, пошлый мир с мифом, — говорил Урусевский. — То есть от одного, первого появления 290 главного гоголевского персонажа быт сгущался в миф. Еще не произнес Гарин ни одного слова, но фантасмагоричность Хлестакова уже была воспринята зрителем. Мысль огромная, предельно остро выраженная сценически, пронизывала весь спектакль, вызывая то противление злу, какое и требовалось современному зрителю. И вызывалось оно именно гоголевским творением».
У Урусевского было счастливое свойство, еще с юности, говорить о памятном без суесловия, отчетливо видя все до малейших подробностей.
«Я смотрел “Ревизора” шесть раз, — продолжал Урусевский, — по-моему, Вакидин не меньше. Сцена “Вранья” со всеми своими хитросплетениями лжи, а в какой-то единственный момент и лиричности, была шедевром. Вдруг Гарин, который играл не просто Хлестакова, но и всю всесветную хлестаковщину одновременно, упившись, развалясь в кресле, вскидывал свои тонкие длинные ноги и по непонятным своим же возможностям, данным ему, видимо, биомеханикой и врожденной гибкостью, перекручивал ноги штопором. А потом опять их вскидывал в другую сторону. И во всем этом, и в перекрученных его ногах не было трюка, а был характер Хлестакова».
В ту же пору Всеволод Эмильевич поручил мне начать работу над Словарем театральных терминов. Среди разделов его в разных аспектах возникали работы Гарина: Гулячкин, Чацкий, Хлестаков… И среди актерских персонажей одним из первых было названо его имя.
Меж тем в театре репетировались не только новые пьесы, Мастер возвращался и к «Ревизору», и вновь на сцене «отрабатывались» первое появление и последняя реплика Хлестакова перед его исчезновением. И рядом готовились упорхнуть как бы два Ивана Александровича — это режиссер снова показывал Гарину магию ухода… Он говорил: «В искусстве надо все время ставить себе препятствия — иначе будет водевиль. Необходима секундная точность партитуры, как у композитора. Подводные течения и мотивация должны быть разработаны вами — актерами, общая мотивация — режиссером». Показывая, Мастер настаивал «находить свои непосредственные краски. Тут работает все — цилиндр в руках и ремарка!» И тут же он говорит о появлении Хлестакова: «Два образа, две грани Хлестакова. Свист — шантрапа! И… — первый любовник».
В связи с этими репетициями «Ревизора» Секи Сано вновь вернулся к мысли о сродстве игры Гарина с театром Кабуки. Да и незадолго перед тем сам Эраст Павлович вспомнил, как японские артисты, попав на наш спектакль, говорили ему: «Вы актер театра Кабуки!» «А я-то рязанско-мейерхольдовский», — добавил он. И рассказал мне, какое огромное впечатление от их игры осталось у Гарина, когда в 1928 году он впервые увидел этот театр, приехавший к нам на гастроли. Меж тем Секи Сано крайне занимало такое «сродство».
«Ты не удивляйся, но мастерство Гарина — естественная виртуозность, его точные паузы сродни игре актеров Кабуки — но там же это отрабатывается исстари! А у нас (он имел в виду в этот момент японских мастеров. — Л. Р.) — пауза так много значит. Она и зрителю дает возможность раствориться в искусстве актера. Как Гарин впервые появляется на сцене? А все его уходы? И последний, когда, сделав глубокий поклон и взмахнув цилиндром, он упархивает со сцены?! Великие японцы знали, каково значение первого появления на сцене и ухода с нее».
Потом он сказал: «Нет, ты не думай, я ж понимаю, что Эраст весь выхлестывается из Гоголя, это ж “наука” и вдохновение, в его действиях и остроте игры — и намек, так роднящий его именно с актерами Кабуки».
Монтаж жизни иногда превосходит все фантастические вымыслы. Кто мог тогда предположить, что наш друг Секи Сано станет впоследствии одним из ведущих режиссеров Мексики, той самой Мексики, в которой перед тем творил свои кинооткрытия другой ученик Мастера, Сергей Эйзенштейн. «Понимаешь, во вздорности Хлестакова, в его фантастическом вранье, где незримое реально пролетает перед нашим взглядом, есть и та музыкальная ненаигранность, которую так ценят актеры и зрители Кабуки. Все совершенство деталировок, переходов, весь монтаж сцен, неизменно точно воплощаемых Гариным, наводят на мысль о каком-то смыкании наших народных театральных традиций…»
Видимо, именно потому на репетициях мы слышали от Мейерхольда о приемах народного традиционного театра Кабуки. 291 Передо мной и сейчас лежат карточки, на которых рукой Секи Сано нанесены чертежики мизансцен, проходы Гарина по сцене. Они сделаны с точностью и тщательностью каллиграфа — знак приязни, братства.
Часто уже на улице, выходя из театра, Гарин спрашивал, как «гляделся» спектакль. И удивлялся, почему это я и Секи не заметили, что то-то и то-то мог бы сыграть лучше. Эраст Павлович «придирался» к себе. И ни разу я не слышала, чтобы он высказал недовольство партнером, наоборот. «Я сегодня удивился, откуда у Зинки (Зинаида Райх была соученицей Гарина по ГВЫРМу — Высшим режиссерским мастерским. — Л. Р.) берется такой пыл, она ж все лучше “отрывает” свою городничиху». Помню, как иногда после спектаклей, по настоянию зрителей, Гарин как-то стеснительно, чуть поеживаясь, выходил в наше не очень уж комфортабельное фойе и как бы застревал у входа за кулисы. Возникало ощущение: вот-вот он готов скрыться за спасительной дверью. И по лицам тех, кто видел перед собой разгримированного, одетого в весьма скромный костюм артиста, явно робевшего и непривычного к подобному «солированию», пробегала тень недоумения. Некоторые переглядывались. Уж больно неожиданным был контраст между самоупоением Хлестакова и смущенным, краснеющим исполнителем этой роли. Вопросы задавались вразнобой. Зрители помоложе порой хотели услышать, что быть актером не только интересно, но и легко или что однажды «давшаяся» роль якобы потом играется сама собою, не требуя всего актера.
Гарин не разуверял. Но говорил о том, как Гоголь «тревожился очень, настаивал, чтобы актер весь “издержал” себя, а зритель до детальки, до штришка ощутил замысел и образ!». Из ответов его, негромких, не броских, становилось ясным: работа в театре — труд! И тяжелый. И непрестанная требовательность к себе. И еще становилось понятным: «Вздор разделять глубокое проникновение артиста в психологию персонажа и совершенство пластики его движения на сцене».
Сложным было положение театра в ту пору. И в силу разных обстоятельств, да и недоразумений, Гарин решил уйти из театра.
Зал в день последнего его спектакля был набит до отказа. Нарушая правила, в проходах, вдоль стен стояли зрители, среди них множество артистов, студентов нашего училища. Когда раздался свист и на лестнице появился Хлестаков — Гарин, он пошатнулся, может, и неприметно для стороннего взгляда, но приметно для нас. И я знала: он безмерно печалился, в последний раз играя «своего» Хлестакова… На протяжении десятилетий я убеждалась: спектакль, игра Гарина-Хлестакова запомнились множеству зрителей. И самых разных…
В том же самом 1937 году, когда Гарин простился с Хлестаковым, на экраны страны вышел фильм «Женитьба». Гарин сыграл в нем Подколесина и сам, в соавторстве с Х. Локшиной, создавал сценарий и режиссировал. У него была постоянная приверженность к Гоголю. Он не переставал находиться в общении с ним! Когда не был занят в театре, на съемках, брал томик Гоголя, и вновь оказывались мы то на Невском проспекте, то вовлекались в страшноватую игру «Портрета», «Вия». И я видела на лице Эраста Павловича острую заинтересованность, и обозначалась музыка каждой вещи, интонаций, будто наново он находил ключи к ним. Кстати, что бы ни читал Гарин, был ли это Эдгар По, или «Митина любовь» И. Бунина, или Гоголь, он никогда не бытовил, не разыгрывал в лицах, а как бы обретал ту авторскую интонацию, нюансировку, притом естественную, какая и отличает подлинного чтеца от исполнителя роли в спектакле.
О репетициях «Женитьбы» рассказывал он увлеченно, крайне дорожил тем, что готовил фильм, не отказываясь от репетиционного опыта, какой дал ему театр, который, как говорил Гарин, был «начинен самыми кинематографическими возможностями». А с образом Подколесина у него происходил своего рода роман: нечто щемящее открывалось ему в судьбе «населения “Женитьбы”», в самом Подколесине. За его догадками я улавливала мысль не только сатирическую, но и лиричную. Быть может, тут проступало и развитие той единственной лирически-исповедальной нотки, что вырывалась у упившегося Хлестакова в сцене «Вранья». Порой Гарин рассказывал мне 292 о Подколесине с полуудивлением, И ему чудилось, что «тоскующая нерешительность» персонажа завершалась, быть может, самым решительным поступком в его жизни, прыжком из окна дома невесты: «Из трусости такое оторвал!» А в другой раз говорил: «Все промчались мимо. Испарился жених, самый обаятельный из претендентов, она одна у огромной лужи. И ее опрокинутое отражение… Пронзительная нота, а?» — грустно-иронически добавил он. И тут же почти с мальчишеской гордостью сообщил: «А знаешь, я выпрыгнул из окна, высоконько расположенного… Грозились мне за амортизацию заплатить, не то мою, не то костюма».
Разбег в десять лет от первого воплощения Хлестакова до персонажа, во многом контрастного ему, но тоже гоголевского, до крайности обострял отношение Гарина к «Женитьбе», о чем не раз говорил он сам, вспоминая о мейерхольдовской школе, что была за плечами Эйзенштейна, Юткевича. Пожалуй, он по-своему радовался, находя у Подколесина непосредственность, порой и наивную. И еще я поняла из толкований Гарина — в фильме прозвучит нота сочувственной печали по поводу незадавшихся жизней его персонажей. В одном из писем из Ленинграда он прислал мне две статьи о «Женитьбе»: в одной фильм хвалили за цельность, новое прочтение Гоголя, актерское и режиссерское мастерство, в другой шла жесточайшая «проработка». Гарин просил этот опус никому не показывать. В ту пору нередко его обвиняли в формализме, и хотя он называл эти вымыслы «дурацкими», признавался, что они мешают работать и иной раз он от них сильно «мрачнеет»…
Но тут был устроен показ фильма в редакции «Правды», картина понравилась Михаилу Кольцову, стали известны суждения примечательных артистов, литературоведа Б. Эйхенбаума, наконец, она пользовалась большим успехом у зрителей. Он писал мне из Ленинграда: «Вчера я развлекал свою сестру и водил ее на “Женитьбу”. Лично я остался очень доволен картинкой и артистическим исполнением. Публика много смеялась и хлопала, но при выходе слышны были ноты ропота на то, что вещь чрезвычайно пуста». И к этому добавил: «На этот раз критика шла в адрес Гоголя, кому-то и он не угодил! Но ему-то не привыкать!..»
Еще в 1935 году Гарин по самым разным поводам говорил о своем пристрастии к искусству кино и, часто, о картинах Дэвида Гриффита, о перевороте, который тот совершил в кинематографии, об импровизационном даре режиссера, глубокой работе с актерами.
Много лет спустя увидела я на экране те фильмы Гриффита, которые на свой лад «демонстрировал» мне Гарин. И поразилась, как точным, графически острым жестом воскрешал он зрительные образы, которые его волновали. Не подражая актерам, помогал ощутить как атмосферу, так и их действия, находя всему неповторимый эквивалент.
Так я впервые узнала о Гриффите, актерах Лилиан Гиш и Бартельмесе в «Сломанных побегах». И передо мной, как ни странно, на московских улицах промелькнул китаец Чен — Гарин на свой лад, пантомимически предуведомил своего единственного зрителя о тонко сыгранном Ричардом Бартельмесом герое картины. Впрочем, во власти Гарина оказалось представить и девочку Люси — Лилиан Гиш. Фильм вышел на экраны в 1919 году, но почти два десятилетия спустя артиста привлекали открытия Гриффита, психологические, «киношные», как говорил он.
В моей записной книжке — запись гаринского рассказа о фильме «Путь на Восток». Я еще не видела фильма, но запомнила многое; и странную ночь, когда Анну Мур — ее играла Лилиан Гиш, — выгнанную хозяином фермы, валил с ног буран. Она брела по глубокому снегу и, потеряв сознание, падала уже на реке на льдину, и ее уносило сильное течение. Молодой Бартельмес бросился догонять опозоренную Анну. «Снег. Буран… Он пробегает, а за ним долго треплется на ветру заснеженная ветка… Треплется», — с беспокойством, протяжно, как-то тоскливо повторял Эраст Павлович, пригибая голову — ведь для него и впрямь задувал ледяной ветер. Помню жест его, наклон головы, поворот плеч бегущего навстречу ветру и интонацию не то свидетеля, не то соучастника событий той ночи… И тогда, вслух раздумывая о том, как «перелопатил» Гриффит «банальное в необыкновенное, мелодраму — в наидраматичное», Гарин заметил: «Ну, такое сотворил наш Мастер в “Даме с камелиями”. Мелодраму побоку, некоторые картины обратим в трагедию»…
Гарину было свойственно поражаться находкам своих предшественников, учителей, вне зависимости оттого, какая погода стояла на дворе и какой хор хулителей или сторонников брал верх… А в 1937 году Гарина захватила работа над экранизацией «Поединка» Куприна. И хотя впоследствии отснятый материал погиб, для самого Гарина главное было найдено и имело значение для будущих работ. К роли поручика Ромашова даже нельзя сказать, что Гарин «готовился», он, вопреки самым разным жизненным обстоятельствам, входил в нее изнутри, находя ромашовский внутренний ритм, обретая облик этого чистого, цельного, несмотря на жестокое время, верного себе человека. Пожалуй, в какие-то моменты он чувствовал себя ромашовским двойником. Тревожная мысль о судьбе Ромашова на протяжении долгих месяцев не покидала Гарина. Он уезжал в Ленинград, приезжал в Москву и среди всяких дел и суеты внезапно он заговаривал о том, в какой же переплет попал Юрий Алексеевич, Ромочка, подпоручик, неумеха, совсем еще неискушенный, душевно искренний!
Неожиданно для окружающих менялся облик Гарина, он, по его выражению, «посытел», насколько допускала «готическая» его природа, — а был он, как известно, гибкий, тонкий, с удлиненным овалом худощавого лица. Он отпустил усы, отчего глаза вроде бы даже увеличились. Глаза у Эраста Павловича были удлиненные, то ярко-голубые, то, когда он ярился, внутренне кипел, находился в напряженном состоянии, внезапно зеленели. В походке, в жестах появилась плавность существа мягкого, уступчивого, внезапно задумывающегося.
293 Гарин, несомненно, находил в себе какие-то черты своего героя и удивленно как бы выдвигал их на первый план. И хотя Ромашову только предстояло обрести жизнь в кинематографе, но я видела — он уже начал жить в Гарине, воплощаться, обретать свою плоть, интонационные ходы. Кстати, слово «ход» было привычно для Гарина, как слово шаг, как «ход» для шахматиста, который и не за шахматной доской поглощен обдумыванием своеобычного хода. Иной раз Эраст Гарин неожиданно для собеседника мог на память, следуя за купринской строкой, вернуть и состояние природы на тот момент, когда Ромашов всей душой устремился к самому дорогому для него существу — Александре Петровне, Шурочке. Артист, в отличие от своего подпоручика, понимал, несмотря на всю ее пленительность, суть этой хищной натуры. Но был безотчетно верен, как он говорил, «тихой» влюбленности героя. И видно было по выражению глаз Гарина-Ромочки, по тому, как грустновато-растерянно улыбался он, внезапно вслух заговаривая по-ромашовски, произнося его реплики или уходя в его рассеянную паузу, как поглощен артист этой судьбой, — вроде б лица и не примечательного, но резко отличавшегося, стягивающего вокруг него свой обруч.
В отношении к Ромашову как бы напрочь была отменена присущая Гарину ироничность. Впрочем, он примечал за Ромашовым и его рассеянность, нелепость, воображаемые, как говорил Гарин, «закидоны» мечтателя. Но и сам Ромашов ловил себя на своих же промахах, и Гарин с сочувственной улыбкой произносил вслух, голосом Ромашова, вернее своим голосом, но с особой интонацией, слова, которые тот привык как бы в третьем лице адресовать себе же: «Но тотчас же, слабо и виновато улыбнувшись в темноте, он съежился и продолжал путь». Ведь и самому Гарину свойственно было, хоть и был он намного старше Ромашова, пропускать через свое воображение сбыточное и несбыточное, а потом грустновато опомниться. И Гарин рассказывал, как воображение Ромашова обретало даже наивно-эпический размах: «А вот опамятуется он и еще отчетливее видит, как же скупо отмеряет ему жизнь радости. И тут, — с опаской произносил Эраст Павлович, — рождалась пустота. Оттого что рядом-то “лежало что-то большое, темное и равнодушное”».
Обдумывая фильм в целом, он как режиссер уже видел «мистериально-страшные сцены солдафонски-мещанского бытия персонажей “Поединка”». Сам Гарин еще до этой «завороженности», как он говорил, купринским «Поединком» с приметливой ненавистью вспоминал времена, которые, по его выражению, «ухватил» еще в детстве и подростком.
Неисчерпаемым, порой жестоким кладезем впечатлений была для него родимая Рязанщина. И хотя Гарин испытывал глубокую и непрестанную нежность к своей стороне, к ее природе, к памятным ему местам, даже подшучивал над собой: «Я почти на манер трех сестер, правда, в другой редакции, все твержу — “В Рязань, в Рязань, в Рязань!”» — он именно там же, в Рязанщине, возненавидел все матеро-мещанское. И, пожалуй, когда для него выстраивался весь образный ряд фильма, ожило многое, о чем узнал он так рано и так раняще жестоко.
Как-то он сказал: «Ты заметила, Мейерхольд в самых разных постановках на репетициях вытягивает все то, чем обзавелся чуть ли не от рождения в своей Пензе и ее деревенской округе. За ним ничего не пропадает». Этим же свойством обладал его достойный ученик.
Это было «действо» все о той же России, где Гоголь уловил и вывел уже сыгранного Гариным Хлестакова и где погибал, падая под страшные ноги истукана — военизированного фантома, в ином столетии беззащитный, умный, тонко чувствующий подпоручик Ромашов.
Фильм обещал быть, по выражению Гарина, «изрядным», но работа над ним то обрывалась по не зависящим от него обстоятельствам, то снова, к его радости, возобновлялась, хотя не суждено было ей завершиться.
Как-то, устав от препятствий, чинимых будущему фильму, Гарин, думая о Ромашове, признался: «А трудновато сыграть такого хрупкого, — как-то даже отстраненно произнес Гарин, — всей сутью, что ли, и совестливостью противостоял он корысти, расчету, жестокости самых-самых вроде б и близких. Почти накануне дуэли, на которой его и порешили, сказал же ему почти свихнувшийся ото всего этого Назанский: “В вас что-то есть, какой-то внутренний свет… я не знаю, как это назвать. Но в нашей берлоге его погасят…”»
Рассказывая о фильме, он то бродил по гарнизонному аду вместе с Ромашовым, то вырывался с ним в лес, на реку, где легче было подумать о сокровенном и заговорить о нем вслух. Он искал, как впустить свежие ветерки в жизнь, где чередовались сцены, напоминавшие кунсткамеру, с картинами жестокой муштры и фантазиями Ромашова.
С особым удовольствием обращался Гарин к слову Куприна — он ценил его интонационную свободу, новизну звучаний, которую Куприн обрел в этой замечательной своей вещи, — к его диалогам и тем внутренним монологам, «на которые так горазд Ромашов», и к откровениям его и Назанского. Чтение Куприна напоминало своеобразное музицирование: «Да, — промолвил он с улыбкой в голосе, — мой дорогой мальчик, дело в том, что нет ничего практичнее, чем те фантазии, о которых теперь мечтают лишь немногие. Они, эти фантазии, — вернейшая и надежнейшая спайка людей…»
Эраст Павлович вдруг обрывал свое чтение и, сердясь на оппонентов, — тогда несть числа им было, — с ожесточением бросал: «А мне наплевать на всякое иное, что усматривают в разглагольствованиях погибающего Назанского, ты послушай, как он разговаривает с Ромочкой, и еще способен думать о спайке людей! И это среди такого оглупления, отупления, погашенных красок!»
И несколько раз я не просто слышала, а невольно видела сцену, которую Гарин, с глазами, полными недоумения и печали, не то чтоб читал или проговаривал, а выстраивал. Он испытывал при этом потрясение, какое испытал Ромашов, случайно 294 попав в так называемую «мертвецкую», обычно пустующую комнату Офицерского собрания. Там даже не сразу он увидел в неверном свете то ли от уличного фонаря, то ли зимней луны двух офицеров, давно уже погрязших в разных пороках.
Усаживаясь за стол и положив свои сухощавые длинные руки на него, Гарин будто с опаской к чему-то примеривался. Потом скупым, но выразительным жестом обозначал жутковатый натюрморт на голом столе: четвертную бутыль водки, пустую тарелку и два полных стакана. Было зловеще молчание полубезумных алкоголиков, их ухмылки, их попытка насильственно опоить Ромашова.
«Боже мой, что вы тут делаете?» — спросил Ромашов испуганно. Гарин произносил с недоуменной растяжкой реплику своего персонажа и как бы ремарку автора, но тем разительнее было впечатление от нее. «Тссс!» — коротким шепотом сказал Клодт. Вдруг где-то вдалеке загрохотала телега. Тогда оба торопливо подняли стаканы, стукнулись ими и одновременно выпили. «А это, родной мой, — многозначительным шепотом ответил Клодт, — у нас такая закуска. Под стук телеги… ну а теперь подо что выпьем? Хочешь, под свет луны?» «Пили уже… Подождем. Вот, может быть, собака залает. Помолчим».
За столом сидел один Гарин, комнатенку освещала стоявшая в углу настольная лампа. Он не менял голоса, но интонации Ромашова и двух живых мертвецов, обезумевших от тупой гарнизонной жизни, были резко контрастными. Их сомнамбулически медленно движущиеся профили представлялись такой безумной мерешью, что, вместе с Ромашовым, я не чаяла вырваться из этого морока. И еще Гарин сказал тогда, что вся эта сцена происходит на фоне поминального хора — в столовой Офицерского собрания вдрызг пьяные офицеры чувствительно исполняли в это же время похоронный напев…
«Вот уж поистине — мертвые хватают живого!» — проговорил Гарин.
Я так и не видела отснятого материала, но знаю, что Гарин крайне тяжело переносил все перипетии с «Поединком». И было такое ощущение: для него все-таки многое состоялось, и даже дуэль, почти анахронизм. Что нам, пережившим в юности, в зрелости, и каждый раз с неменьшим трагизмом, отчаянием, дуэли — пушкинскую, лермонтовскую, что нам, казалось бы, в дуэли Ромашова?! Но она поразила не только современников рождения купринского романа. Но и для Гарина, артиста и режиссера, дуэль Ромашова оказалась личным событием.
Тогда Эраст Павлович привез из Ленинграда и подарил мне большую фотографию подпоручика Ромашова. С фотографии Ромашов-Гарин смотрел прямо в глаза, умно-печальный взгляд его беспокоил невысказанным вопросом. Работе этой не суждено было завершиться. Тем более важно восстановить все связанное с нею в замыслах и находках самого артиста.
Как это ни парадоксально звучит, я убеждена, углубленная жизнь в образе Ромашова накопила тот внутренний опыт, который и помог ему вылепить удивительный образ нашего современника — доктора Калюжного — в пьесе Юрия Германа «Сын народа». Уже в конце пятидесятых годов говорил мне Юрий Герман: «Эту пьесу я тогда писал специально для Эраста, о лучшем Калюжном и мечтать не мог. У какого актера, скажите мне, такое сочетание свойств ума и таланта, надобного для нашего доктора-подвижника!»
С каким же упрямством в те годы, будто и позабыв сыгранного им в ГосТИМе Чацкого и иные его воплощения, многие упорно хотели видеть лишь одну сторону дарования артиста. Помню разнотолки перед тем, как на гастроли в Москву театр Н. Акимова привез спектакль Ю. Германа «Сын народа». «Как? — недоуменно спрашивали даже вроде б и ценившие дарование Гарина, — разве возможно, чтобы он всерьез сыграл положительную роль, да еще, так сказать, героя нашего времени?!» Толки эти были уж не такие невинные, они помешали артисту сыграть многие роли, о которых он мечтал. Но игра Гарина-Калюжного взяла зрителей за живое… Те, кто готовились к встрече с персонажем сатирическим, с первых же сцен прониклись тревогой, ожиданием, которые пронизывали весь спектакль, и носителем их был искренний, интеллигентный молодой врач. И зритель понимал: за каждый свой далеко не стереотипный шаг Калюжный расплачивается сполна.
Гарин играл — и было это трудно, ибо далеко не все воплотило драматическое слово, — думающего, одухотворенного действователя, и когда его настигало одиночество, он все равно оставался самим собой. Артисту близок был Калюжный и тем, что шел тот не проторенными дорогами. А в жесте Гарина — особенно в том, как выразительны были руки, его глаза врачевателя, как ощутимо добр, терпелив, искренен и во всем самобытен оказывался его герой, — завоевывала поистине тонкая достоверность. Спектакль, к тому же и поставленный Гариным, был очень хорошо принят в Ленинграде, но Эраст Павлович волновался перед московскими гастролями. «Не смейся, но черт его знает как, почему робею», — говорил он по телефону из Ленинграда.
Однажды — это было перед московскими гастролями — Эраст Павлович сам заговорил со мной о причудливой родословной своего Калюжного. Случилось это после того, как ему, в который раз, отказали грубо и, как принято тогда было говорить, «нелицеприятно» в праве играть «положительные» роли. Вот он и попытался разобраться, что уже сыграно, а что хотелось бы еще сыграть. Нет, он был тогда далек от чистого теоретизирования, но вернулся к своему Чацкому. К тому «трепетному», что ощутил в нем еще десять лет назад. Не случайно много-много позже он обронил: «О Чацком сам писать не могу. Это слишком лично…» Впрочем, в этом уже есть признание: Гарин почувствовал в Чацком, в свойствах его натуры существо родственное. И в труднейшем для него разговоре, размышляя о своем праве сыграть умного, «тревожного», талантливого человека — таким он видел Калюжного, способного пойти против течения, — и тут не случайно он вернулся к своему Чацкому. «Он был впечатлителен до крайности, донельзя». Его Чацкий был памятлив в чувствах, напрочь лишен позы, рисовки и вовсе 295 не дидактичен. И Эраст Павлович припомнил: «Чуть что он же не случайно обращался к музицированию, от внутренней потребности, что ли». Как раз тогда он особенно обрадовался появившемуся в прессе суждению Бориса Щукина о гаринском Чацком, раскрытом с предельной чуткостью и новизной1. Ведь жизнь в Чацком была такой полной, такой памятной для артиста. И сокровенной. От Эраста Павловича я знала, что, сыграв его раз семьдесят (!), ощущал он все большую полноту той натуры, которую многие почитали до того сильно риторической. Да, в ту пору, когда в Ленинграде репертком буквально резал по живому, внезапно отстранив Гарина от роли доктора Калюжного «как нетипичного представителя советской интеллигенции», оставив его лишь постановщиком, ошеломленный артист сам заново вглядывался в образы, которым дал он неповторимую жизнь. И с наивной доверительностью произнес: «И по-моему, они никуда не испарились!»
Мы долго сидели в тот вечер в закусочной у Никитских ворот, это было его излюбленное место «посиделок». Самая пестрая публика, то утихающий, то усиливающийся галдеж. Полузасохший цветок в горшочке на столе, рядом с кружкой росла гора окурков. Тут ему хорошо говорилось. И о Ромашове: «И столько зазря пропало, казнено было в Ромочке». И вновь о Калюжном и его «реперткомовской» судьбе — он вел сумбурный, нелегкий разговор, с истовой болью говорил, что мещаньё нынче явлено в неожиданных обличьях. «Куда мне до таких трансформаций! Я был рад, если мог на сцене в “Д. Е.”, в один присест, ну, семь персонажей представить, и то все шутки и театра ради. А они? Раньше как-то вроде б и попроще, поприметнее были ихние приемчики. А теперь, гляди, они наперед, да так авторитетно кумекают: и какой профиль должен быть у врача Калюжного, почему такое он не самоуверенный тип, как они?! И отчего мой доктор часто невезучий, рассеянный. Как ни верти — не соответствует их эталону». И припомнилось ему, какой страх на него наводило «репейное» мещаньё рязанское еще в зеленую его пору. Рассказывал он о нем с приметливой, холодной неприязнью, а потом, круто оборвав себя, заговорил о другом, тоже рязанском, но заветном: «Теперь-то наверняка, как будет просвет, вырвемся туда. Побродим. И обязательно по лесу. Да и в городе знаю такие места, увидишь!» И, будто прислушиваясь к чему-то давнему, не гаснущему, продолжал: «Молча по лесу хорошо идти. Как-то с отцом возвращался из лесничества домой. Вечерело. Кругом последний свет с деревьями хороводится. Деревья потом вроде б сдвинулись. Лес и обступил. А издалека вдруг донеслось — “Вечная память”. Пели». И опять, словно оборвав, но уже свою «высокую» ноту, совсем другим тоном добавил: «Космический мотивчик. Знали, что подобрать. Вдали — “Вам, бам!”, и сумерки уже на исходе. Лес…» И, как бы боясь такой вот исповедальности, добавил: «Глупо, но торжественно. И со слезой. Но, знаешь, лес там… Ты такого не видела никогда!»
А мне не впервые тогда подумалось: отчего некоторые люди, даже будто и хорошо относившиеся к Гарину, зачем-то вольно или невольно обуживали самое представление о нем, его внутреннем мире. Его это часто ранило. Впрочем, его право играть в театре Калюжного тогда удалось отстоять.
И вспомнились будто и незначительные эпизоды, но тоже оставившие в памяти свой след. Расскажу о двух, потому что именно они неожиданно связались с его работой над пьесой «Сын народа» и фильмом «Доктор Калюжный». Когда Гарин еще играл в ГосТИМе, едва оказывался свободный вечер, вырывались мы в другой театр или консерваторию. Однажды мы слушали Вагнера. Гарин как-то потрясенно притих, остался сидеть в зале после того, как отзвучала музыка — «Вступление» и «Смерть Изольды». Тут к нам подошел заведующий нашего скромного гостимовского театрального музея Степанов, убеленный сединами. И недоуменно спросил меня: «А зачем вы притащили сюда нашего рязанца? Да еще на Вагнера?» Оторопев, я взглянула на Гарина, он густо покраснел и промолчал. Нечто подобное повторилось уже с другим персонажем, вполне уважаемым, на концерте Скрябина, тут Гарин выслушал подобие снобистской шутки. Эраст Павлович мог быть резким, сердитым и, когда необходимо было, несмотря на природную застенчивость, за словом в карман не лез, но и тогда он промолчал. И возможно, потому, что в ту пору привык выслушивать напраслины в свой адрес более серьезные.
Однако вскоре фрагмент из вагнеровского «Тристана и Изольды» зазвучал в кульминационной сцене прозрения, в спектакле, поставленном Гариным. Хрупкая Оля, небольшого росточка и вовсе не броской внешности, худощавый доктор Калюжный, с всклокоченными волосами, с вытянутыми вперед руками, страхующими каждый неверный шаг прозревающей после операции героини. Внешне ничего патетического, эффектного, но зритель ощущал: оба выходили на какой-то перекрест 296 жизни и тьмы. И тут оказывалась нужной, даже необходимой трагедийная музыка. А перед глазами у нас меж тем была всего-навсего наискось поставленная больничная койка, и в длинной ночной рубашке, словно в белом балахончике, с раскинутыми по-птичьи руками, едва-едва балансирующая при каждом шажке почти девочка, казалось, заваливающаяся от трепетного страха на спину, и длинные руки Гарина-Калюжного, — они и на расстоянии продолжали свое спасительное действие.
Можно было б, верно, написать работу о руках артиста: о руках ошибающихся, рассеянных, сосредоточенных, умелых, дружеских. Их малейшее движение выражало то, что реплики не в силах были передать. Та сцена и в игре артистов обрела трагическое звучание. «Я и сейчас вижу до деталей, я б сказал — и слышу, что и как тогда происходило на сцене. Я же знал Гарина, но таким видел впервые. Поражали драматизм его игры, при крайней лаконичности ее, и такое сценическое прочтение “Смерти Изольды” Вагнера, да еще в пьесе современной!» — так совсем недавно рассказывал мне талантливый композитор Александр Локшин.
А известный театровед Александр Вильямович Февральский, наш общий друг, припомнил, как в 1939 году — незадолго перед своей безвременной кончиной — Зинаида Райх пригласила его в Ленинград посмотреть постановку Эраста Гарина и его игру. Их обоих взволновало увиденное, и они прошли за кулисы. С присущим ей темпераментом Райх высказала Гарину все, что ее так сильно затронуло в спектакле и его игре.
Но, возвращаясь к музыкальному «видению» Гарина, надо заметить, что в фильме «Доктор Калюжный» сильно и драматично прозвучала введенная им скрябинская тема — этюд ре-диез минор, который в памятном нам скрябинском концерте так взволновал артиста, позднее так глубоко передавал внутреннее состояние героя фильма. Однако, несмотря на большой успех Гарина в спектакле «Сын народа», играть роль Калюжного в кинофильме Гарину не разрешили. И хотя его увлекла и режиссерская работа, он крайне тяжело перенес этот нелепейший запрет. «Обрати внимание, — говорил он в те дни по телефону, — как положительный персонаж, а тем более лицо одухотворенное, я окончательно забракован!» Вскоре он с большим успехом сыграл в двух кинофильмах, как он шутливо пояснял мне, своих «антиподов» — Волкова в фильме «На границе» и Тараканова в «Музыкальной истории».
Летом 1939 года состоялся давно ожидаемый Гариным разговор с Мейерхольдом. О нем я вскоре узнала подробно от самого Эраста Павловича. Всеволод Эмильевич приехал в Ленинград ставить физкультурный парад. Уже более года минуло, как ГосТИМ перестал существовать, а Мастер по приглашению К. С. Станиславского стал режиссером музыкального театра его имени. И об этом он рассказал Гарину. Недавно выпустил он спектакль «Риголетто» и работал над постановкой оперы своего давнего друга — Сергея Прокофьева — «Семен Котко».
Всеволод Эмильевич пришел к Гарину после напряженного дня и встречи с художником А. Тышлером, которого очень ценил. Тышлер должен был оформлять эту оперу, для чего Мейерхольд и «завлек» его, по выражению Гарина, в Ленинград. И хотя Всеволод Эмильевич делился с Гариным и своими тревогами, был он полон новыми замыслами и рассказывал, как выстраивалось решение оперы. Эрасту Павловичу запомнились некоторые эпизоды будущей постановки «совершенно зримо».
Увидав набросок Тышлера к одной из сцен — дорога, идущая мимо церкви, а близ той дороги телеграфный столб, Мастер, как сказал он Гарину, «сразу увидел сцену со святым Себастьяном», поистине трагическую. Враги революции прикручивают полуобнаженного Семена Котко к телеграфному столбу, чтобы учинить над ним расправу.
Это была последняя встреча учителя и «блудного сына», как называл себя Гарин. Вскоре Мейерхольда не стало.
Гарин работал с жестокой требовательностью к себе. В его письмах ощущается напряженный ритм жизни: «Сейчас занят почти круглые сутки. Утром в театре. И вечер. А ночь — часов до четырех, а сегодня до пяти — сценарий». В другом письме: «Сегодня первая ночь, когда я спал, но так как пристрастился к “наоборот”, то спать не мог. Сейчас бегу на репетицию, потом на фабрику… Ночью сниматься не буду. К тому же все снятое за все ночи нужно выбросить, ибо технический брак… Теперь чуть-по-чуть начинаю как будто собирать спектакль… Вот, собственно, вся жизнь… Ну, вот уже скоро десять часов. Рассвет здесь поздний, на улице лилово, и в окнах напротив горит свет — нужно смываться на репете…»
И опять: «Работаю сейчас до зарезу. Но ближайшие дней десять — пятнадцать будут уже сверх всякой меры, ибо ночи снимаюсь. Очень боюсь за пьесу, ибо за ночи обескровлюсь и обалдею…» И лишь тревога, чтобы перенапряжение не сказалось на игре и порой желание «вырваться на просторы»… По телефону спрашивал о друзьях, подробно о Владимире Евграфовиче Татлине, которого особенно почитал.
После ГосТИМа я участвовала в создании Музея-квартиры Маяковского в бывшем Гендриковом, работала в нем. Гарин часто бывал в той квартире, вовсе не по-музейному к ней относясь. Когда уходили посетители, Гарин просил разрешения посидеть в маленькой комнатенке поэта, иногда сосредоточенно рассматривал его записные книжки, на что заранее я получала согласие в отделе хранения. Сюда он приехал и в тот день, когда ему вручили орден «Знак почета», тогда награду редкую. Он приехал, слегка будто и сконфуженный и смятенный необычным таким для него событием. Награду он получил за игру в фильме «На границе». Как-то совсем по-детски, будто и проверяя, не заподозрен ли в некой нескромности, он терпеливо ожидал, пока я и мои коллеги завершим свои встречи с посетителями. 297 Потом он из Ленинграда привез в дар музею коробки с записями радиоспектакля «Клоп», который сам и поставил и сыграл в нем Баяна.
В 1939 году с большой экспозицией уехала я в Сочи, где еще и консультировала реэкспозицию в Доме-музее Н. Островского и сблизилась с его матерью, умным и даровитым человеком, и сестрой. Вместе с Гариным — он приехал на юг — мы побывали у них. Он только не сказал им, «почему-то постеснялся, боялся их разбередить», как работал над сценарием по книге Николая Островского. Мне он рассказывал о перебивке эпизодов сценария, остродраматических — казнь друзей Павки — с «тихолирическими», по выражению Гарина: Павка на дереве, достает из птичьего гнезда револьвер, вытирает его о свою рубаху и отдает другу… Тогда же он навестил Островского в Москве, — в пору подготовки сценария, — пробыл у него недолго, мучался оттого, что «пришел здоровый, со всеми руками и ногами». Тот принял его душевно, с интересом слушал, что говорил Эраст Павлович о сценарии и даже конкретных мизансценах. Но быстро устал… И тут Гарин прибегнул к определениям, которых обычно избегал: «Безумно трогательное впечатление — верхняя часть лица его детская, беспомощная…»
В тот раз Эраст Павлович очень подробно говорил о встрече с Мастером, а я впервые рассказала ему о том, что раньше как-то трудно было затрагивать. Репетируя «Бориса Годунова» и «Одну жизнь» Евгения Габриловича по роману Островского, некоторые мизансцены Мастер выстраивал как бы предполагая участие Гарина. Ведь первоначально его имя значилось среди нескольких исполнителей ролей Самозванца и Павки («Одна жизнь»), потом уже артист ушел из театра. И в одной из сильнейших сцен спектакля «Одна жизнь» невольно виделась его — Эраста Гарина — игра. Шло объяснение ослепшего Павла со своей любимой — Ритой Устинович. Он сидел у стола, а девушка стояла поодаль. Сидя к ней в профиль, он устремил неподвижный взгляд в зрительный зал и в волнении обрывал лепесток за лепестком с цветка, стоявшего на столе… Вот об этом и о своем разговоре с Мейерхольдом на эту тему я и рассказала Эрасту Павловичу. То, что когда-то его ранило бы, теперь обретало другое значение…
Тогда же, в Сочи, заглянули мы на импровизированный базарчик. Гарин был охоч до уличной пестроты, тем более подсвеченной южными красками, рыночной. Он же сам, сразу и безоговорочно, вызывал симпатии среди самого разного люда.
Когда возвращались, Эраст Павлович с грустью сказал: «Белесый мальчишка, ему жрать охота. Его ж посылали на самую задрипанную рязанскую улочку за пирогами с печенкой». Он говорил, как-то скосив глаза в сторону, явственно видя что-то свое, щемяще подступившее, быть может, от сытости базарной. И внезапно остановившись под тополем, вдруг произнес, как мне почудилось, каким-то голодным голосом: «В пирогах была печенка и пупок, а в пупке — топленое масло…»
Тогда же я получила письмо от названого брата, восемнадцатилетнего поэта Бориса Смоленского, он писал о том, что все мы пережили очень глубоко: о положении республиканской Испании и о своих переводах «Цыганских романсеро» Лорки. Гарин по-своему привязался к юноше, попросил письмо прочесть вслух. В ноябре 1941 года Борис Смоленский погиб на фронте.
Я видела: без малейшего заигрывания Эраст Павлович был внимателен к молодым одаренным людям, часто помогал им. Так, занял он в «Поединке» по Куприну талантливого Женю Мюльберга, родом из династии цирковых артистов. Кстати, Гарин, как и Мейерхольд, особо ценил цирк и многие свойства его тренажа. В самом начале Отечественной Мюльберг защищал Одессу и вскоре погиб. Обратив внимание на дарование Чеслава Сушкевича, Гарин позднее, после закрытия ГосТИМа, свел его с Н. Акимовым. Сушкевич оказался свидетелем репетиций необычайных, о чем позднее рассказал мне.
В театре Н. Акимова предстояло Гарину сыграть Тень в спектакле по пьесе Евгения Шварца. Эраст Павлович попросил разрешения, не нарушая всего хода сценического действия, в связи с его вводом несколько поменять те мизансцены, где действовал его персонаж.
«Я видел, — рассказывал Ч. Сушкевич, — как Гарин сосредоточенно репетировал свою роль. Искал варианты мизансцены, и игра артистов в партнерстве с ним приобретала более острый смысл. Во время спектакля я часто не мог уследить, как Гарину удавалось выглядеть в какие-то моменты вовсе бесплотным, двигаться необыкновенно легко, будто скользя по воздуху. И не для ради какого-то эффекта, а поражая злокозненностью, почти вездесущестью Тени. Вы-то знаете, он не был ни фокусником, ни иллюзионистом, но это была виртуозно разыгранная им страшноватая история, может быть, по-своему и беспощадная к своему персонажу и ко всем тем, кто помогал злодеяниям Тени».
С «Тени» начинались многие сказочные превращения Гарина. Его воплощения андерсеново-шварцевских подлинно театральных правд. Они будили у зрителей и партнеров по спектаклям и фильмам не только фантазию, вызывали ощущение соучастия в удивительных играх, в шутках, свойственных театру, народному действу.
Кроме эстетических радостей те фильмы и спектакли, где играл он, вызывали интереснейшие ассоциации и затрагивали нравственные начала. Но тогда, в сороковом году, Гарин еще не догадывался, какие тайники сумеет обнаружить, вступая все-таки на новую для себя стезю. И впервые он, актер, в совершенстве владевший всем арсеналом выразительных средств театра условно, мог дать реальную жизнь персонажу, в сущности, химерическому. В «Тени» все было практически внове…
Я знала от Гарина, как осложняло для него решение образа то, что спектакль был уже выстроен Акимовым. И хотя одаренный, крупный режиссер поставил пьесу эффектно, броско, Гарину многое оказалось чужеродным. Это его тревожило, и потому он попросил у Акимова разрешения «перередактировать» по-своему некоторые мизансцены, которые касались Тени. 298 В его редакции бесплотная Тень зловеще контрастировала на фоне яркого спектакля-зрелища с персонажами другого рода.
Московские гастроли акимовской Комедии проходили в помещении Малого театра. Приглашая на спектакль, Эраст Павлович с несвойственной ему обстоятельностью отчего-то просил «набраться терпения и сразу ни о чем не судить, но потом уж обязательно все высказать начистоту». После узнала: он опасался, что слишком сильно бросится в глаза разнобой меж нарядным, стилизованным спектаклем и остро, графично жестко врезанным в него «ходом» Тени.
Однако парадоксальное отличие Тени обогатило спектакль, и многим зрителям, как я поняла из их толков, показалось, что так и было задумано режиссером изначально. Мне было жаль, что Гарин не мог из зрительного зала взглянуть на все, что учинила Тень на сцене уважаемого Малого театра. Это было невероятно, неожиданно для меня — зрителя, хотя я не только знала, но очень любила сказку Андерсена. Пьесы Шварца я раньше не читала. Но что мог досказать, довыразить артист, как он сгущал злокачественность персонажа до знака чудовищной скверны, как был он убедителен, обволакивая своим обаянием, интонациями нежности Принцессу, внушая доверие Ученому, тенью которого был, как был изобретателен, делая карьеру, предавая и палачествуя, — до этого спектакля я и вообразить не могла.
Потом Гарин видел свои «сказочные» работы в кино: «Золушку», «Обыкновенное чудо», «Каина XVIII» — совсем разные и по-своему необыкновенные. Но «Тень», театральный спектакль, естественно, увидеть не смог. А именно она распахнула перед ним вход в ту будущую галерею удивительных перевоплощений. Думаю, он так до конца сам и не догадался, что это была одна из поразительнейших его удач.
И хотя я могла б узнать ни с кем не схожий гаринский голос и понимала, что так невероятно легко двигаться, всем своим телом выражать, не только жестом, но и шагом, поворотом плеч, головы, наконец, спиной — согнутой, вытянутой, расслабленной, чуть скособоченной — состояния самые разные мог только Гарин, я, страшась Тени, забывала о его авторстве… Нет, это не было просто, как говорил он, «штучка макиавеллевского толка».
На мировом дворе множились злодеяния нацистов. Мы стали свидетелями таких преступлений, ужасов, перед которыми бледнели злодеяния инквизиторов. И хотя перед нами шел вовсе не политический спектакль, психологическая укрупненность Тени, ее быстрая зловещая карьера, вседозволенность ее предательств вызывали ассоциации не только житейские, но и глубоко социальные. И как раз это важнейшее начало привносила в спектакль игра Гарина — возникали неожиданные промеры. Я знаю, с какой страстностью на дух не переносил Гарин любую фальшь, двуличие, карьеризм и многое иное, что в Тени он выразил так сгущенно.
И опять парадокс художника: сама-то игра обрела необычайную легкость. «Скольжение высшего пилотажа», — как заметил один из моих спутников, кстати, акробат, глаз у него был профессиональный.
Глядя на Тень, мы безоговорочно верили: она действительно может проникнуть сквозь стены. Персонаж казался куда как выше актера ростом, словно удлинились его руки, ноги. У Тени был свой особый ритм, ощущалась скрытая, пружинящая сила, а вокруг ее силуэта возникало свое «преисподнее пространство». Черный ее силуэт меня, зрителя, держал в непрерывном напряжении. Гарин-Тень ни разу не был громогласен, даже когда торжествовал полную победу, сделавшись мужем Принцессы — Королем. Но его интонации, часто менявшиеся в зависимости оттого, в каком качестве он выступал в разных эпизодах, принадлежали именно Тени. И они несли ощущение ночи… И тут припоминалось, как во время постановки «Бориса Годунова» Мейерхольд вдруг воскликнул: «Он ощущение ночи дал!»
Однако этот образ имел на протяжении спектакля свое развитие. Впервые он появлялся во втором действии и не сразу был опознан нами. Он сперва входил на сцену будто и незаметно, как второстепенный персонаж, всего-навсего помощник Мажордома. Не привлекали внимания и его реплики. Но едва интрига завязывается в узел зловещего заговора против доброго, чистосердечного Ученого, влюбленного в Принцессу, как начинает проступать подлинный, зловещий облик Тени. Уже вскорости он действует как чиновник особо важных дел. И потом он поднимается все выше и выше.
И зритель чувствовал — мир мнимых людей страшноват. Именно им так цинично Тень могла сказать: «Я как раз тот, кто вам нужен». Впрочем, в конце представления Тень изничтожена.
В Тени, думалось мне тогда, был соркестрован целый жутковатый ансамбль оборотней. И невольно припомнилось, как читал мне Гарин Гофмана, Эдгара По, «Вия» Гоголя, и где-то в глубине мелькало кружение Хлестакова. Кто может во всех подробностях проследить тонкий ход художника к сложному образу…
Игра была лаконичной и разящей. Эпиграф, который Евгений Шварц выбрал из признаний Андерсена, мог бы выразить то, что произошло с артистом: «Чужой сюжет как бы вошел в мою плоть и кровь, я пересоздал его и тогда только выпустил в свет»…
А мы в ту пору приближались к порогу событий, круто повернувших жизнь всего народа и каждого из нас. Миновал лишь год, и началась Великая Отечественная…
1 «Сов. искусство», 1937, 23 дек.
299 Борис Тенин
С ГАРИНЫМ НА СЦЕНЕ
Как-то по телевидению показывали довоенный фильм «Доктор Калюжный». Картина и сейчас смотрится с интересом. Помимо добротных актерских работ: молодого Бориса Толмазова в заглавной роли, Юрия Толубеева, Янины Жеймо и других — в ней четкая и ясная режиссура Эраста Гарина. Может быть, ей недостает каких-то кинематографических тонкостей, оригинальных ракурсов, «смелого» монтажа и она кажется несколько театральной своим пристальным вниманием к внутреннему миру персонажей, бесхитростным желанием подсмотреть их жизнь на экране. Но, может быть, именно поэтому картина и смотрится с интересом. Фильм этот сейчас знают немногие, но еще менее известно, что ему предшествовал спектакль Театра комедии «Сын народа». Поставил его и сыграл в нем заглавную роль все тот же Эраст Гарин.
У пьесы Юрия Германа была непростая судьба. Сначала он написал киносценарий «Доктор Калюжный». Его должен был ставить на «Ленфильме» Гарин. Но какая-то инстанция сценарий отклонила. Вопрос о постановке фильма отпал. Н. П. Акимов, возглавлявший в то время Театр комедии, пригласил Гарина в качестве актера и режиссера. Ю. Герман по просьбе Гарина переделал сценарий в пьесу. Переделки были небольшие. Этой пьесой Гарин дебютировал в Театре комедии как режиссер и актер.
Я получил роль старого учителя географии Пархоменко, которому его бывший ученик Калюжный возвращает зрение. Пархоменко — роль драматическая, как, впрочем, и вся пьеса. Учитель Пархоменко совсем ослеп, но он скрывает от окружающих, что ничего не видит. Он ходит в свою сельскую школу, зная наизусть путь от дома до школы. В глобус он натыкал булавок и по ним определяет, где какая страна.
Молодой врач Калюжный приезжает на работу в родное село Гречишки. Первый визит — своему старому учителю. Калюжный рассчитывал на радостную встречу. Он ничего не знал о беде учителя. Встреча вышла совсем иной.
— Кто пришел? — спрашивает Пархоменко, услышав звук шагов.
— Не узнаете меня, Григорий Иванович?
— Но… не помню.
И дальше Гарин до предела обострял встречу, принимавшую драматический оборот.
Калюжный быстро догадывался в чем дело. Но Пархоменко упорно скрывал слепоту.
Гарин придумал такую мизансцену. На столе между Пархоменко и Калюжным он поставил зажженную настольную лампу. Пархоменко говорил в направлении Калюжного. Но вот Калюжный забирал лампу и бесшумно переходил с ней за спиной Пархоменко на противоположную сторону комнаты. Пархоменко обращался к Калюжному в прежнем направлении. Со сжавшимся сердцем доктор убеждался в полной слепоте учителя.
В период работы над ролью я наткнулся на книгу Карла Бюрклена «Психология слепых», изданную в 1934 году. Сейчас эта книга — библиографическая редкость. Благополучно уцелев среди моих утраченных в годы войны книг, она и сейчас сберегается мною. Правда, в ней идет речь о слепорожденных. Там описано много любопытнейших наблюдений над поведением слепых.
За несколько метров они ощущают приближение к человеку, дереву, колонне, углу дома. Но мой персонаж был не слепорожденный, а ослепший. Он еще только осваивал свою слепоту, учился жить слепым. Слепорожденный бы «заметил» перемещение партнера. А в случае с моим Пархоменко отсутствие его реакции было достоверно. Книга помогла мне лучше понять роль…
Гарин владел высокой режиссерской культурой, полученной от Мейерхольда. Он был выдающимся актером с яркой индивидуальностью, также сформировавшейся в Театре Мейерхольда.
Но, оставаясь верным учеником Мастера, в спектакле «Сын народа» он показал себя как режиссер и актер с новой стороны. На сцене все происходило очень натурально: где-то вдали пели частушки, играла гармонь. За окном шел дождь. Тут, что называется, пахло МХАТом. От Мейерхольда же было стремление к четкой, законченной форме каждой сцены и каждого образа.
Что же касается исполнения роли Калюжного, то Гарин решил ее средствами психологического театра и доказал, что он превосходно этим владеет. А ведь за ним в то время утвердилась репутация актера эксцентрического, комедийного, да еще левого толка.
Гарин убирал из своей роли все смешное, эффектное, все, что позволило бы публике увидеть привычного Гарина. А привычный Гарин был комический, иногда трагикомический. Сейчас он был поэтический. Он играл роль с большой искренностью, бесхитростно. По авторской ремарке, например, Калюжный, входя в свой кабинет, вешал шапку на череп скелета. Конечно, 300 это вызвало бы веселое оживление в зале. Гарин отказался от этой ремарки.
В середине тридцатых годов стал складываться стереотип положительного героя. Ему надлежало быть внешне обаятельным, широкоплечим, с ослепительной улыбкой, с уверенным и напористым характером. Узкоплечий, долговязый Гарин с его носом уточкой и, что называется, постным лицом своим внешним видом не соответствовал этому стереотипу. И играл он своего Калюжного вразрез с ним. Он наделил героя неудобным характером. Порой Калюжный резок с людьми и сам сознает это. Он весь сосредоточен на своей работе. Гарин в этой роли был прост, естествен. Зрители верили, что перед ними врач и незаурядная личность. Наряду с верой в себя у Калюжного были и критические минуты внутренних сомнений. Артист не боялся показать его усталым, издерганным.
Самой напряженной в спектакле была наша с ним сцена, когда Калюжному предстояло снять с глаз прооперированного Пархоменко повязку. Будет Пархоменко видеть или нет? Мы оба должны были тут сыграть сильнейшее волнение. При этом Пархоменко и Калюжный бодрились и изо всех сил старались скрыть друг от друга свое волнение. Гарин мучительно долго расхаживал передо мной, останавливаясь, словно уже решившись снять повязку, и снова ходил, нагнетая напряжение в зрительном зале. Калюжный пробовал шутить:
— Ну… были у тебя глаза серые и будут серые. Не умею я цвет менять. Научусь, поставлю тебе голубые. Тебе какие больше нравятся? Синие, серые или голубые?
— Зрячие, — отвечал я глухо.
— Будешь зрячим.
А дальше шел эпизод, который мы с Гариным постепенно наимпровизировали. Его нет в каноническом тексте пьесы.
После слов «Будешь зрячим» Гарин говорил: «А не будешь… держись, в случае чего. Понял? Вот ты учишься ходить один с палкой, без поводыря. Это правильно. Следишь за собой. Не обособляйся от зрячих. Читать тебе будут вслух жена или твои ученики. Понял? Со слуха ты можешь многое изучить. Ну… что я тебе еще могу сказать?..»
Перебрасываясь репликами, мы хотели успокоить один другого, но волнение от этого только возрастало и передавалось зрителям. Во время этой сцены в зрительном зале не слышно было ни скрипа, ни движения, никто никогда не кашлянул… Потом Гарин садился передо мной, спиной к зрителям, и разматывал бинты. Наступала пауза.
— Теперь открой глаза. Ну?..
Наступала томительная пауза, прежде чем Пархоменко решался открыть глаза. Гарин продолжал недвижно сидеть спиной к зрительному залу. Но напряжением спины (это отмечали и критики, и зрители) он передавал высшую степень своего волнения. И в этой выразительной пластике, конечно же, была ощутима школа Мейерхольда.
Пархоменко открывал глаза и издавал хриплый возглас:
— А!..
— Что, что, Григорий?! — сколько оттенков чувств вкладывал Гарин в эти слова!..
— Больно режет…
— Стой! — кричал Калюжный. — Прокоп Прокопыч! Завесь скорей окно! Так! Теперь открывай, Григорий, не бойся. Открой, тебе говорят!!
В затемненной комнате Пархоменко снова открывает глаза:
— Кузьма!..
— Что?..
— Я… вижу!..
Калюжному изменяют силы, чуть не валясь с ног, он опускается на табурет… Сзади меня стояла трехстворчатая ширма. Непроизвольным движением руки я ее опрокидывал, она с шумом грохалась на пол, открывая простор большой комнаты.
— И тебя вижу… Как ты изменился, Кузьма, как постарел… Что с тобой, Кузьма?..
Занавес после этой картины шел под долго несмолкаемые аплодисменты, люди смеялись и плакали…
Спектакль был хорошо принят и зрителями, и критикой. Хвалили Гарина, отмечали Киселева, Зарубину, Гошеву, меня. А ведь накануне выпуска спектакля репертком — или, не помню, как уж называлась тогда инстанция, дававшая разрешение играть спектакль, — не принял трактовку Гариным образа Калюжного, потребовал снять его с роли как «нетипичного представителя советской интеллигенции». Театру рекомендовали отложить премьеру. Спектакль был показан без официальной премьеры, в виде замены. Директор театра получил за это строгий выговор, опубликованный в газете «Советское искусство». Но спектакль уже состоялся.
Только после успеха нашего спектакля «Ленфильм» вновь вернулся к рассмотрению сценария. Теперь Ю. Герман снова переделывал пьесу в сценарий. А вот сыграть в кино Калюжного Гарину так и не разрешили. Тогда и был приглашен на эту роль Борис Толмазов.
Литературная запись Е. Захарова
301 Борис Толмазов
ОТДАТЬ СВОЮ РОЛЬ…
Было это давно, до войны…
Был он в ту пору молод, весел и как-то по-особенному радостен ко всему: к людям, к работе.
Бывают, наверное, в жизни каждого художника необъяснимо счастливые периоды, когда все легко и весело ладится, когда много любви, когда видится в окружающих людях только самое хорошее, доброе, щедрое…
Мне посчастливилось познакомиться с Эрастом Павловичем именно в такой период его жизни. И хотя встреча наша была сравнительно недолгой, память о ней, душевный шлейф ее растянулся на всю мою жизнь.
В течение почти четырех месяцев каждый день мне довелось репетировать роль под руководством режиссера-постановщика Гарина, известного артиста Гарина, многие годы удивлявшего мое юное артистическое поколение не только своей талантливостью и мастерством, но и каким-то острым, неожиданным проявлением личных качеств, индивидуальным мировидением.
Образы, созданные им на сцене Театра Мейерхольда, всегда поражавшие узнаваемостью, реальностью, в то же время жили на какой-то головокружительной грани допустимого; персонажи-гиперболы действовали в разреженной атмосфере гротеска.
Встреча со столь интересным и немного загадочным человеком для молодого артиста представлялась интригующе невозможной… В 1939 году Эраст Павлович сыграл с успехом в Ленинградском театре комедии роль молодого врача-окулиста Кузьмы Калюжного в пьесе Ю. Германа «Сын народа». Спектакль был весьма удачным, интересно поставленным, с хорошим актерским ансамблем, а роль, сыгранная Гариным, признавалась прекрасным артистическим созданием… Но необъяснимая неудовлетворенность, что ли, или какие-либо другие побуждения принудили Эраста Павловича снова еще раз обратиться к замечательному произведению писателя Ю. Германа.
Он искал новых исполнителей для некоторых ролей, и прежде всего для роли самого Кузьмы Калюжного.
Передать роль, удавшуюся роль, другому актеру — шутка ли? Передать удачу, любовь, счастье — нелегко подыскать сравнение. Многие ли люди искусства способны на такую самоотверженность? Гарин был способен.
И тогда, да и сейчас мне не удалось найти ясное, определенное объяснение этому удивительному поступку артиста Гарина…
Поначалу мне казалось, что такая ситуация сделает для меня, неопытного молодого артиста, трудной работу с режиссером Гариным.
Однако все мои тревоги развеялись в первые же минуты встречи с Эрастом Павловичем, с его доброжелательностью, обезоруживающим обаянием, которым прямо-таки светился этот удивительный, совсем простой и милый человек с тонким, длинным носом и веселыми глазами…
… И все же не так-то все было просто. Его профессиональная зоркость подмечала все незрелое, легковесное. Он был беспощаден к любой актерской имитации правды, любым потугам выдать «реальность живого существования», которую так поощряют иные режиссеры, за истинный реализм.
«Липа!» — любимое его в ту пору словечко немедленно настигало актера как предупреждение, как укол, как хлыст, едва лишь тот актер удовлетворялся внешней правдоподобностью жизни в кадре.
С первых же шагов Калюжный проявляет себя не сентиментальным юношей, повсюду «сеющим добро», а человеком строгим к себе и другим. Его патриотизм выражается не в пылких речах, а в повседневном упорном труде. Он хочет возвращать ослепшим зрение. Ночи просиживает доктор над опытами с собаками. Опыты не удаются. Но энергичный и устремленный Кузьма Калюжный не сдается…
Я добросовестно пытался «влезть в душу» Кузьмы Калюжного, сразу и без остатка постичь воображением суть его характера. Но снова и снова слышал ехидное словечко бдительного режиссера: «Липа!»
Новые отчаянные потуги изобразить высокие душевные порывы Кузьмы — и снова слышу:
— Опять липа, голубчик! Напрасно вы пыжитесь, словно та крыловская лягушонка, — ласково говорит Эраст Павлович, — так ведь можно и… Не старайтесь показать мне, что чувствует Кузьма, покажите-ка лучше, что он делает в каждый отдельный момент, как умеет внимательно слушать, смотреть, добиваться своего… Если нам удастся овладеть его поступками, действиями, его поведением, вот тогда, может быть, нам удастся проникнуть и в образ его мыслей, в логику чувств, в самую жизнь Кузьмы… В нашем деле, по-моему, самый верный путь — от простого к сложному. А иначе липа получается… — Гарин уже улыбается.
И боль смягчается, приходят ясность и надежда.
В ту пору я и не предполагал, что гаринскую строгую доброту, или добрую строгость, эти неожиданные подсказки режиссера-друга, режиссера-наставника мне придется часто-часто вспоминать с глубочайшей признательностью в своей долгой актерской судьбе. Гарин работал со мной над своей, «гаринской» ролью, блестяще ему удавшейся, и это приоткрывало мне способ его постижения образа, его секреты мастерства.
А словцо «липа», бывавшее и ироничным, и жестоким, и колким, и резким, останется в моей памяти словом товарищеским и даже веселым — оно было словом веселого мудреца.
302 Янина Жеймо
РЕЖИССЕР — ТОЖЕ ПАРТНЕР
Я бегу домой и возле лифта встречаю Михаила Жарова.
— Здравствуйте. Я — Жаров.
— А я — Жеймо.
Мы очень церемонно пожимаем друг другу руки, и оба начинаем весело смеяться.
Жаров открывает дверь лифта, говорит: «Прошу».
— Нет-нет. Мне лифт совсем не нужен. Я живу на первом этаже. До свидания. Мне было очень приятно познакомиться с вами.
— Яня, — неожиданно обращается ко мне Жаров, — пойдемте к Гарину и Локшиной.
— Ой! Что вы! Мы ведь почти не знакомы, и вдруг — я… Непрошеный гость.
— Вот-вот! И отлично, — торопится Жаров. — Когда я приезжаю из Москвы в Ленинград, я целыми днями торчу у них. Давайте-ка их разыграем.
— А как? — удивляюсь я.
— Вы притворитесь слепой.
И тут же мы входим в лифт. Поднимаемся на шестой этаж. И Жаров, держа меня за руку, звонит в дверь.
— Вы уже слепая, — шепчет он мне.
— А какая? От рождения? Или я когда-то была зрячей?
Спрашиваю просто так. Я даже не знаю, в чем разница.
— От рождения, — снова шепчет Жаров.
Говорит он почему-то шепотом, хотя на лестнице никого нет.
— Тогда я оставлю глаза открытыми. Хорошо?
— Очень хорошо, — отвечает он и вторично нажимает кнопку звонка.
Дверь нам отворила Хеся Локшина. Стройная очаровательная женщина.
— Здравствуйте. Вот я привел к вам гостя. Познакомьтесь. Оля.
Я улыбнулась и подумала: «Почему Жаров представил меня как Олю?»
Жаров сразу же повел меня из передней в комнату, где сидел Гарин.
— Осторожно, Оленька. Здесь стол и стул. Вот это мои друзья: Эраст Гарин… (в это время за нами показалась Хеся) и Хеся Локшина, его жена.
Гарин встал, подошел ко мне, внимательно посмотрел и, не найдя моего взгляда, поймал мою руку и пожал ее. Затем отодвинул стул, приглашая сесть.
— Вот мы и познакомились, друг мой Оленька, — сказал Жаров и удобно уселся, придвинувшись к столу. — А что, чаю нам дадут?
— Обязательно, — сказала Хеся.
И тут все засмеялись.
На следующий день, возвращаясь домой со студии «Ленфильм», я встречаю Гарина.
— Вы «Доктора Калюжного» видели? — не здороваясь спросил меня Гарин. — Пьесу написал Юрий Герман, а я поставил по ней спектакль в театре Акимова. Главную роль играю тоже я.
— В последнее время я так занята, что почти нигде не бываю.
— Посмотрите этот спектакль обязательно, — посоветовал мне Гарин.
В первый же свободный вечер я пошла в театр.
— Спектакль мне понравился, — при встрече сообщила я Гарину, — и вы, Эраст, тоже.
— Пшено, — пробурчал он. — Я буду снимать картину «Доктор Калюжный» и предлагаю вам роль слепой Оли.
— Мне? — удивилась я.
— Вам, вам!
— Ну какая же я Оля? Маленькая, блондинка и, в довершение всего, слепая. По-моему, это масляное масло.
— Пшено!
Опять я услышала слово «пшено» и, не зная, что это любимое ругательство Гарина, механически повторила: «Пшено. Вот именно».
— Завтра у вас проба. Приходите на киностудию. Вам — к двенадцати часам, но приходите пораньше, чтобы успеть загримироваться. Проба — в розовом павильоне.
И не успела я спросить: «А что мне надеть?» — как Гарин скрылся за дверью студии. Итак, если проба будет хорошей и меня утвердят, мне предстоит работать с Гариным. Какой же он человек, Эраст Гарин?
Как актера я его уже знала, и он поражал меня своей неповторимостью.
Несколько лет назад в Ленинград приехал Театр Мейерхольда, и Гарин играл роль Хлестакова в «Ревизоре». Одна сцена меня особенно поразила.
Хлестаков произносит монолог о его жизни в Петербурге. Гарин удивил меня тем, что текст он говорил всем своим телом. То он нагибался вперед почти до самого пола. То так же низко отгибался назад. То вдруг все его тело, как по часовой стрелке, начинало ходить по кругу, и у вас создавалось впечатление, что его ноги прибиты к полу. Как Гарин добился такого эффекта, ума не приложу. А вот в «Докторе Калюжном» он был абсолютно реальным, сегодняшним.
Какой же Гарин вообще? И почему он говорит «пшено»? И что это «пшено» значит?
На следующий день я пришла, загримировалась и спустилась в розовый павильон. Проба была без единого слова. Я вхожу в кадр, подхожу к стулу, ловлю его спинку, очень неуверенно держусь за нее и потом долго смотрю прямо в аппарат невидящими глазами!
— Все! Стоп!
Проба кончена.
303 Меня утвердили на роль Оли, и я начала готовиться к съемкам. У нас почти не было репетиций. Мы лишь оговорили роль в общих чертах. Как репетирует Гарин с актерами, я еще не знала. Может быть, только у меня не было репетиций, а у остальных были?
И вот съемки. Гарин работает со всеми артистами, и работает очень интересно. Но стоит мне войти в кадр, как он подходит к аппарату, садится на стул, закладывает ногу на ногу, складывает руки крест-накрест и смотрит на меня как зритель.
Меня это, конечно, удивляло, и наконец, не выдержав, я спросила Хесю: «Почему Гарин не хочет со мной работать? Может быть, он жалеет, что пригласил меня на эту роль?»
— Успокойтесь, Яня. Он просто приглядывается к вам, вот и все.
— Пока Гарин будет приглядываться ко мне, роль кончится.
— Впереди еще сцена прозрения, — проговорила Хеся.
Сижу дома, готовлюсь к очередной съемке. Вдруг входит Гарин.
— Яня, у меня нет рояля, а мне нужно кое-что проверить. Вы позволите?
— Конечно, Эраст. Прошу. Садитесь к роялю и работайте.
Гарин начал играть какую-то вещь, не закончив, бросил.
Начал другую. Так повторялось несколько раз. Наконец он нашел то, что нужно. Пока он играл, я многое поняла. Эраст — лирик, романтик, но безумно боится, что кто-то узнает эту тайну, покрывается, как плащом, презрительным словом «пшено». Мне сразу стало легко на душе. Сцена прозрения Оли очень сложная, но если Эраст такой, каким я его сейчас узнала, все будет в порядке!
Съемка. Снимаем сначала конец сцены-прозрение. Поле. Оля, шатаясь, идет к сестре, не зная, что это ее сестра. Подойдя, садится на траву и… на крупном плане говорит; «Я вижу! Весь мир вижу!» После этих слов у Оли от счастья медленно наворачиваются слезы (так я задумала, готовясь к роли). Эраст внимательно смотрит на меня, и я чувствую, как он мысленно поет именно ту музыку, которую играл у меня на рояле. «Стоп!» Можно ехать домой.
На следующий день просмотр материала. Моя сцена. Крупный план. Я смотрю и… никаких слез! Я в панике.
— А где мои слезы? — спрашиваю у оператора.
— А разве вы плакали? — удивился он.
— Эраст Павлович! Вы же стояли возле аппарата. У меня наворачивались слезы?
— Да.
— Так где же они?! — уже злясь, восклицаю я.
— Очевидно, на нашей пленке их нельзя снять, — немного иронически говорит Гарин.
— Как — нельзя? Нужно было просто использовать подсветку.
— Вот и сказали бы оператору, — спокойно возразил Гарин.
И, немного подумав, добавил:
— А вам обязательно нужны слезы?
— Да.
304 — Тогда даю вам слово, что после всех съемок мы непременно снимем ваш крупный план с наворачивающимися слезами.
Эраст сдержал слово.
Сегодня — начало сцены прозрения. Я немногое волнуюсь. Это — моя главная сцена в маленькой роли. Эраст, как всегда, сидит у аппарата. Репетицию ведет Хеся. Я делаю сцену буквально так, как написано у Германа: все, что близко, кажется мне далеким, и наоборот.
Мне разбинтовали глаза. Я впервые вижу человека. Моего хирурга. Удивленно смотрю на него, спускаю ноги с постели, стою в нерешительности и вдруг бегу прямо на стену. Больно ударившись, поворачиваюсь и спиной прижимаюсь к стене, медленно опускаюсь, сажусь на пол, а в глазах ужас и удивление.
— Стоп! — слышу я голос Гарина.
Эраст вскакивает со стула и кричит: «Ложись, Оля!» Я иду к кровати, ложусь.
— Повязка уже снята, — возбужденно кричит Гарин. — Садись, Оля! Теперь спускай ноги с постели. Иди пьяной походкой к окну! Трогай штору, говори свой текст! Медленно поворачивайся к нам! Толмазов! Хватай Олю за руку! Тащи к двери!
А ты, Оля, скачи, как воробей! Скачи! — кричит, как в трансе. Гарин. — Стоп!
Съемка. Мне быстро бинтуют глаза.
— Приготовились! Начали!
Сцена снята. Все удивленно смотрят на Гарина. Эраст подходит к своему стулу. Нога на ногу, руки крест-накрест. Спокойным голосом произносит: «Теперь снимаем вариант Жеймо».
— Нет-нет! Я отказываюсь от своего варианта.
— Почему?
— Мой слишком реалистичен и потому страшен. А ваш тактичнее и потому интереснее. Если бы я всегда снималась у таких режиссеров, как вы, мне не нужны были бы варианты.
После выхода картины на экран писали, что эта сцена мне особенно удалась. Но это не моя заслуга, а Гарина.
В 1946 году я встретилась с Эрастом Павловичем на съемках «Золушки». Только теперь он был уже не режиссером, а моим партнером.
Гарин-Король, а я — Золушка.
В одной из сцен на балу я стою на ступеньках дворцовой лестницы. Входит Король и при виде незнакомки подбегает, чтобы приветствовать ее.
Когда устанавливали кадр, режиссеры попросили Гарина подходить к Золушке с левой стороны. Он категорически отказался. Только справа! Никто не мог понять упорства Гарина. Одна я сразу все поняла и в душе была ему безумно благодарна. Еще в 1939 году во время съемок «Доктора Калюжного» я всегда на крупных планах старалась оказаться левым профилем к аппарату. Гарин это заметил и, хотя прошло семь лет, не забыл. В этом благородном поступке — весь Гарин.
Георгий Мунблит
ДУРАКОВ ИГРАТЬ ТРУДНО
Наша первая встреча с Эрастом Павловичем Гариным произошла в очень давние времена, и, несмотря на то, что она состоялась при посредничестве некоего Гулячкина — героя эрдмановской пьесы «Мандат», человека пренеприятного, о котором даже и сам автор не мог сообщить ничего хорошего, у меня были все основания считать, что мы познакомились при счастливейших обстоятельствах. Они были счастливыми хотя бы уже потому, что оба мы совершенно одинаково относились к обезумевшему от мнимого своего могущества герою комедии. Кроме того, Эраст Павлович не мог не быть счастлив в тот вечер, вечер блистательного его успеха, а главное — оба мы были тогда очень молоды, а этому обстоятельству, как известно, неизменно сопутствует оптимизм.
С удивительной отчетливостью сохранился у меня в памяти голый холодный зал самого популярного у молодежи тех лет Театра Мейерхольда, гибкая юношеская фигура Гарина и его голос, особенный гаринский голос, которому все мы, влюбленные в театр студенты, пытались подражать, забывая о том, что подражали при этом не Гарину, а Гулячкину.
Уже много времени спустя «тема Гарина» возникла в моем обиходе в восторженных рассказах о нем Юрия Павловича Германа. В его пьесе «Доктор Калюжный», в Ленинградском театре комедии, Гарин играл главную роль. Помню, как сердился на меня Юрий Павлович за то, что, вторя его увлеченным рассказам о Гарине, я беспрестанно возвращался к Гулячкину.
— Послушать тебя — так может показаться, что он вроде бы актер одной роли! — негодовал Герман. — А он — разный! Понимаешь? Разный! Он может любую роль сыграть. Он в «Ревизоре» мог бы не только Хлестакова, он Городничего мог бы сыграть! Можешь ты это понять?
Надо сказать, что в самом деле Гарин никогда не упрощал роль, кого бы он ни играл. В каждой проглядывал, просвечивал его собственный облик. Понял я это окончательно, когда увидел его Тараканова в «Музыкальной истории» — бесхитростной музыкальной комедии, сценарий которой мы написали с Евгением Петровым, даже и не помышляя о том, что Тараканову будет суждено стать в ней одним из главных персонажей. И именно Гарин помог нам понять, что глупые люди бывают до крайности разными и что, сочиняя и играя этих представителей рода человеческого, их никоим образом не следует упрощать.
Восторженная мания величия Гулячкина, возомнившего себя всемогущим, простодушная болтовня бессмертного в своей пустоте Хлестакова, перехитрившего, однако, целую компанию хитроумных проходимцев, надутая важность Тараканова в исполнении Гарина только внешне были чуть похожими. 305 По существу же это все было совершенно разным, характеризовало несоизмеримо разных людей.
И сейчас, через много лет, вспоминая об этом, я могу засвидетельствовать, что без Гарина мы бы не справились со своим персонажем.
Сначала мы решили, что примечательность Тараканова должна состоять всего лишь в том, что он будет говорить несообразности, вкладывая в них свой, ему одному ведомый смысл. Мы еще не понимали тогда, что главная краска его характера в том, что он непоколебимо уверен в своем уме, превосходстве и неотразимой значительности. Что его суждения — не экспромты, неожиданные для него самого, а плоды долгих раздумий, тонко рассчитанные на то, чтобы произвести неизгладимое впечатление на даму, сердце которой он намерен покорить.
Додумывая Тараканова, мы с Петровым очень быстро поняли, как трудно сочинять дураков. Поняли это, когда уже поглядели на Гарина на репетициях фильма, и «перестроились на ходу». И результаты этой нашей с Гариным совместной деятельности, как говорится, не замедлили сказаться. Когда «Музыкальная история» вышла на экран, Гарин-Тараканов стал «властителем дум» любивших посмеяться зрителей, словечки, выражения Тараканова вошли в обиход и были «взяты на вооружение» присяжными остряками именно потому, что гаринский Тараканов был во много раз интереснее нашего и словно впечатывал в сознание и память зрителей свои изречения.
Увы, наше так счастливо начавшееся и так успешно продолжавшееся знакомство с Эрастом Павловичем не привело к частым встречам. Мы виделись только тогда, когда нас сводила судьба, и не делали никаких усилий, чтобы помочь ей нас подружить. И теперь, когда уже ничего не исправишь, я не могу себе этого простить.
Помню, как мы с Германом однажды побывали у Гариных в их квартирке в районе Зубовской площади, квартирке, чем-то похожей на студенческую. Помню, каким рассеянно-радушным хозяином оказался Эраст Павлович, как воодушевленные теперь уже не актерскими, а режиссерскими планами Гарин и Локшина рассказывали что-то фантастическое и явно неосуществимое о задуманной ими постановке какого-то сценария. Это была жажда работать — эта цель так часто оставалась недостигнутой.
Прошло много времени перед следующей нашей встречей с Эрастом Павловичем. И опять она произошла при посредничестве Гулячкина, на этот раз появившегося на сцене Театра киноактера в возобновленной постановке «Мандата».
Мне тогда показалось, что воскресить в первоначальном виде давнюю театральную постановку попросту невозможно: вероятно, для меня двадцатилетнего и шестидесятилетнего «розы пахли по-разному». Да и всякая копия оказывается слабее оригинала… Новый «Мандат», на мой взгляд, выглядел словно неясное, затуманенное временем воспоминание… И только Гулячкин, Гарин-Гулячкин, остался почти таким, каким я помнил его все эти годы.
Гарин вспомнил себя тогдашнего, юношу-актера 20-х годов, кумира рабфаковцев и студентов. Он воскресил себя — тогдашнего — каждой клеточкой своего тела, каждой модуляцией голоса, каждым еле заметным жестом.
Мне посчастливилось это увидеть. И даже в какой-то степени ощутить в себе самом гаринскую неувядаемость.
306 Яков Сегель
ПАРАДОКС ГАРИНА
С Эрастом Павловичем я сначала познакомился заочно, посмотрев «Музыкальную историю». Я поразился тому, что увидел на экране жизнь. Не, так сказать, исполнение, не актерство, а — нечто живое, естественное. В свое время этим же меня покорил Петр Алейников в «Семеро смелых», мне он тоже казался неартистом. Удивительно, что тем же самым поразил и Гарин, актер гротескового плана. Он мне представлялся тогда — да и сейчас — абсолютно живым человеком на экране. В этом, видимо, заключается «парадокс Гарина»: он делал все ярко театрально, но оставался в то же время необычайно естественным.
Рассказывают, что во время войны Эраста Павловича несколько раз задерживали на улице и отводили в отделение милиции. Объяснялось это тем, что в картине «На границе» он играл шпиона, был, как всегда, органичен и, конечно, остался в памяти. Встретив его на улице, люди «узнавали» в нем врага, хотя и не могли никак припомнить, откуда им знакомо его лицо. Никакие протесты Гарина не помогали, только в милиции все разъяснялось.
При внешней кажущейся простоте и наивности Эраст Павлович был мудрым человеком, обширнейше образованным. В большой комнате у Гариных целую стену занимала библиотека. Эраст Павлович никогда не затруднялся, вспоминая, где какая книга стоит, — он знал это совершенно точно. Во время разговора он протягивал руку, брал, даже как бы не глядя, книгу, почти сразу открывал ее на нужной странице. Гарин любил читать стихи, охотно читал Пушкина, Пастернака, Заболоцкого… Несколько раз, приходя к нему домой, я заставал его у патефона. Он поднимал палец, требуя молчания, ставил пластинку с начала и приглашал послушать. В первые послевоенные годы Эраст Павлович знакомил меня с музыкой, которая еще не была у нас широко известна. Так, благодаря Гарину я услышал тогда «Петрушку» Стравинского…
Эрасту Павловичу и Хесе Александровне было свойственно давать приют всем, кому в какой-то момент было не очень-то хорошо. В конце сороковых и начале пятидесятых годов я встречал в их доме Леонида Трауберга, Янину Жеймо с дочерью, Михаила Блеймана, Николая Эрдмана, Михаила Вольпина и других.
В разговоре Эраст Павлович никогда не притормаживал себя, высказывая даже крайнюю точку зрения. Он говорил ясно, четко формулируя мысль, независимо оттого, сходилась она или расходилась с общепринятой. Так, он оказался прав, возражая против оценок конца сороковых годов, касавшихся творчества Ахматовой, Зощенко, Мандельштама.
Эраст Павлович был достаточно темпераментным человеком. Артист Геннадий Дудник (кстати, именно он совершенно точно «показывает» Гарина) как-то рассказывал, что однажды Гарин, на озвучивании не согласившись в чем-то с Хесей Александровной, закричал:
— К черту, Хеська! Позови Дудника — он все тебе прекрасно сделает вместо меня!
Про одного известного актера рассказывают, что его невозможно было снять со спины, даже если это и требовалось по роли. Долго репетировали, выстраивали кадр, артиста поворачивали спиной к камере, он произносил свою реплику — и все же на экране он оказывался лицом к камере. У него были тщательно разработанные для таких случаев приемы. Гарин был не таков. Он всегда помогал партнеру. Мне кажется, он прекрасно понимал, что каждый актер — как музыкант, играющий в оркестре…
Записал Г. Цитриняк
307 Сергей Урусевский
«ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЯ
РЕЖИССЕРОМ»
У Эраста Павловича Гарина была способность пробуждать в людях творческое начало… Быть может, он и меня подтолкнул к режиссуре, во всяком случае, заронил в мое подсознание мысль о ней. Вот как это произошло. Он и Х. А. Локшина в 1945 году пригласили меня — тогда никому не ведомого оператора — снимать «Синегорию», фильм по повести Льва Кассиля «Дорогие мои мальчишки». Это было, в сущности, первое приглашение в игровую кинематографию — в военные годы я снимал хронику. Я был обрадован, но как снимать «Синегорию», не представлял себе. Замысел был невероятно сложный для оператора — наполовину сказка, наполовину повесть о реальном происшествии, о мальчишках, играющих в «командос», и их наставнике, бывалом моряке, умеющем понимать мальчишек и играть вместе с ними в мужественную игру.
Как соединить средствами оператора сказочное с реальным?
Я и спросил об этом Гарина. Он не упростил (как часто бывает) задачу (что, мол, рассуждать — снимем как-нибудь!), а усложнил ее, уважая собеседника, — это было ему органически свойственно. Он задал мне неожиданный вопрос: «А как бы вы эту вещь поставили?» — «То есть как — поставил? — удивился я. — Я ведь оператор!» — «А вы представьте себя режиссером. Вам ставить эту вещь. Как вы будете режиссировать?» И я невольно поставил себя благодаря мудрому педагогическому приему Гарина на место режиссера-постановщика. И впервые стал мыслить по-режиссерски…
А ведь я не был тогда еще и оператором настоящим, не умел снимать игровой фильм. Вопрос Гарина, заставший меня врасплох, был дальновидным вот почему: настоящий оператор должен в какой-то мере быть и режиссером, уметь мыслить по-режиссерски. Должен отдавать себе отчет, что он делает, как и зачем снимает. Это не значит, что он имеет право подменять режиссера, но работать они должны совместно, как один художник. Для этого и режиссер должен профессионально знать и понимать возможности киноизображения.
С Гариным в этом отношении очень хорошо работалось. «Синегорию» мы снимали с увлечением, любимые Гариным сказочные мотивы соединились с реальностью суровых лет, мне кажется, естественно.
А я с тех пор не только стал мыслить по-режиссерски — с легкой руки Эраста Павловича, но и постепенно становился режиссером-постановщиком профессионально.
Записал А. Липков
Михаил Блейман
ПРАВДА АРТИСТИЗМА
В Ленинградском театре комедии шла премьера водевиля «Вас вызывает Таймыр». Спектакль был забавен. Публика охотно хлопала, вызывая участников. На сцену вышли актеры, азартные и веселые. Неловко раскланивались драматурги. Режиссер долго не появлялся. Наконец мы увидели немного сутулого, но казавшегося устремленным вперед человека в небрежном сером костюме. Актеры расступились, но он остановился. И только тогда, когда все внимание публики сосредоточилось на нем, он проделал несложный ритуал благодарственного поклона с предельным и покоряющим изяществом.
Я давно знал Эраста Гарина — по спектаклям, по фильмам. На этот раз он покорил меня тем, как сыграл кланяющегося публике режиссера.
Я не ошибся в слове — он действительно это «сыграл». Казалось, он был удивлен и растроган успехом и вместе с тем был им удовлетворен, уверенный, что иначе и не могло быть. В короткий поклон он вложил многоплановое содержание.
308 Через много лет после премьеры «Таймыра» Гарин рассказал, как Станиславский вышел на сцену после премьеры «Горячего сердца». Он описал до мельчайших деталей и поведение великого режиссера, и мизансцену, которую нашел Станиславский, чтобы «выжать» максимум аплодисментов. Удивительное знание законов сценического движения он использовал для того, чтобы подчинить себе зрительный зал, заставить его реагировать так, как ему было нужно.
Гарин не копировал Станиславского, он вел себя по-другому. Но он был на сцене, и это обязывало его к сценическому поведению. Он выполнял обычный ритуал, но делал это артистично.
Самое интересное в Гарине то, что он не столько актер, сколько артист. Мы смотрим Гарина в фильмах и на театре и никогда не забываем, что перед нами именно он — Эраст Гарин. Его нельзя не узнать, как бы он ни был загримирован. Нельзя не различить его интонации, хотя они всегда разнообразны. Это не свойство внешних и голосовых данных Гарина, а существо его исполнительской манеры, его индивидуальность.
Станиславский заставил актеров отказаться от напластованных десятилетиями традиций исполнения, от втискивания роли в тесные рамки актерского амплуа. Он требовал правды изображения чувств и научил актера не только изображать на сцене судьбу персонажа, но и переживать ее, причем каждый раз заново… Но знание азбуки — это не вершина науки, хотя без умения читать ее не достичь. Правдивость — основа всякого искусства, но нужно еще уметь выразить эту правду, преобразовать правду жизни в правду искусства.
Вот почему так называемая естественность сценического поведения, то есть подражание поведению человека в быту, оказывается на сцене или на экране не правдой, а всего только правдоподобием, а зачастую и просто ложью…
Гарин — удивительно правдивый артист. Но это вовсе не значит, что он играет внешнее правдоподобие. Чаще всего он сознательно отказывается от него, потому что задачи, которые он перед собой ставит, безмерно сложны и серьезны. Я не буду рассказывать обо всех ролях Гарина… Мне хочется постичь своеобразие актерской манеры Гарина, понять его индивидуальность.
Маленький служащий решил жениться. Он не только нашел невесту, но даже заказал к свадьбе новый костюм. Он сумел опередить других претендентов на руку и сердце полюбившейся ему девицы. Но в решительный, момент, когда уже нужно было идти под венец, он сбежал со своей собственной свадьбы.
Нетрудно припомнить, что это сюжет «Женитьбы» Гоголя. Ее много играли на русском театре, пожалуй, чаще, чем «Ревизора». Комедию Гоголя играли безыскусно, весело, так, как и нужно играть водевиль.
Но ведь Гоголь не был веселым и легкомысленным драмоделом, и его не мог прельстить веселый анекдот сам по себе. У него был сатирический замысел, и это легко обнаружить в тех случаях, когда речь идет о большинстве персонажей «Женитьбы». Но один из героев комедии загадочен, и этот герой — Подколесин. Конечно, можно и не пытаться его характеризовать, можно сказать, что, мол, Гоголь написал комедию масок и нет смысла углубляться в психологию ее персонажей и утверждать, что Подколесина можно и нужно играть просто как робкого, трусливого человека. Так и играли.
Но для Гарина — и в этом он был глубоко прав — комедия Гоголя нисколько не сродни водевилям Каратыгина или Кони. Комедия написана Гоголем, и, следовательно, за внешней ее бесхитростностью не мог не скрываться глубокий замысел, может быть, не менее глубокий, чем в истории о глупом чиновнике, которого приняли за ревизора, или в драматическом рассказе о другом чиновнике, у которого украли только что «построенную» шинель. Гарин, уже игравший на театре Хлестакова, не мог играть только Подколесина, он должен был играть Гоголя, насытить с виду бесхитростные перипетии комедии своим пониманием замысла Гоголя, не только понять этот замысел, но и выразить его.
Фильм Э. Гарина и Х. Локшиной «Женитьба» упрекали в формализме, хотя именно формализма в нем не было вовсе…
В фильме было много других существенных недостатков. Это было неровное произведение, но я не берусь сейчас анализировать его по существу, ибо предметом моей статьи является Гарин.
Гарин, играя Гоголя, не мог позабыть великую сложность драматурга и прозаика, сквозь «натуральный» стиль которого прорывались и фантастика, и точный психологизм. Гарин не мог не психологизировать, не мог не разобраться во внутренних мотивах поведения Подколесина. Играть Гоголя иначе — значит, сделать его грубым и пошлым.
И вот Гарин совершает актерский подвиг. Его Подколесин совсем не похож на водевильный персонаж. Он медлителен, задумчив, иногда драматичен в своей оцепенелости. В сюжете о трусе, сбежавшем от невесты, Гарин играет трагикомедию безволия. Его Подколесин — человек с парализованной волей, привыкший только к регламентированным действиям. Чиновничья оцепенелость не позволяет ему сделать ни одного поступка, который выходил бы за пределы регламентированной чиновничьей жизни. Так страх Подколесина из черты его характера вырастает в социально-психологический признак и, более того, в объект сатиры. Из водевильного персонажа Подколесин становится персонажем сатирическим, причем вполне в духе Гоголя, который открыл, что сатира может быть не только смешной, но и драматической.
В интерпретации Гарина сатирический персонаж Гоголя не теряет ни грана комизма, но вместе с тем он сродни в чем-то и Акакию Акакиевичу Башмачкину, и герою полузабытого раннего рассказа Достоевского «Слабое сердце», написанного под несомненным влиянием Гоголя.
Гарин играл своего Подколесина с удивительной психологической полнотой, стилистической точностью и, я бы сказал, социальной прозорливостью.
Я подробно говорил о «Женитьбе» не случайно. В этом фильме Гарин полностью раскрыл одну из самых сильных сторон 313 своего дарования, родственного, кстати, стилистике Гоголя, — умение переключать комическое в трагическое, и наоборот.
Существует заблуждение, что это переключение свойственно только Чаплину и что это изобретение Чаплина в искусстве, Это верно, если внести поправку: никто не пользуется этим умением совершенней, чем Чаплин, и никто не сделал это умение переключать драму в комедию основным признаком стиля.
Годы, проведенные в Театре Мейерхольда, позволили Гарину опочить «чаплиновскую» сторону своего дарования. Но как бы то ни было, органическое или благоприобретенное, это умение играть на пересечении трагического и комического стало одним из существенных признаков его артистической индивидуальности.
Гарин расширил контрастный принцип исполнения. Он начал искать в поведении изображаемого персонажа неожиданные детали, взаимоисключающие краски, которые, однако, всегда служат изображению характера. Это позволило Гарину создать образ почти гоголевской сатирической силы в фильме, который на такую силу сатирического обобщения и не претендовал.
Если прочитать сценарий «Музыкальная история» Е. Петрова и Г. Мунблита, если вспомнить фильм, станет ясно, что ни авторы сценария, ни режиссер А. Ивановский не претендовали на сатирическое изображение глубин человеческого характера. «Музыкальная история», в сущности, бытовая кинокомедия с музыкальными вставками. Образ шофера Тараканова, так, как он написан в сценарии, — традиционный комедийный «дурак». Но эту роль играл в фильме Гарин.
В сценарии Тараканов откровенно глуп, неуклюж, неловок. Гарин не жертвует ни единой черточкой этой комедийной характеристики. Но вместе с тем — и это самое удивительное — Гарин показывает, что эти комические черты только внешняя оболочка, а существо его страшновато. Тараканов Гарина не только дурак — он прежде всего законченный мещанин, ограниченный и осторожный, злобный и потому опасный.
И. Ильинский — превосходный, глубокий и своеобразный артист, к тому же обладающий редким даром комического.
Но вспомним, как он играет подобные роли — мещан, дураков-бюрократов. С великолепной наблюдательностью он подчеркивает смешное, но никогда — драматическое. Не то Гарин. Он всегда находит не только комедийное, но и драматическое «зерно» образа, он находит не только его глубину, но и его многозначность, его объемность. Наверное, поэтому образ его Тараканова стал нарицательным — ведь Гарин не только показал зрителю Тараканова, но и рассказал о природе этого социального типа.
Прошло несколько лет, и Эраст Гарин опять столкнулся с образом воинствующего мещанина и комического «дурака». Он сыграл Жениха в «Свадьбе» Чехова (в фильме И. Анненского). Жених в его исполнении — это настойчивый, злобный, подозрительный и напыщенный человечек. Даже в его речи преобладают настырные, злые, свистящие интонации. Но Гарин играет его так, что этот человечек не страшен, а жалок. Это целиком от Чехова: драматизм в том, что его персонаж глупо и подло, по-мещански жадно отстаивает свое достоинство, мелкое и ничтожное.
Гарин в манере стилистики Чехова играет драматическое существо комедийного образа. И это приковывает к нему внимание зрителя, хотя в водевиле его роль равноправна с другими. Но другие исполнители «Свадьбы», и, нужно сказать, превосходные, играют только комическое, щедро отпущенное 314 им Чеховым, а Гарин вскрывает драматическое существо образа в безукоризненной комической форме. Он играет главное — замысел Чехова, его глубину.
Вот почему Гарин выходит победителем еще в одной встрече с Чеховым — «Ведьме», где он играет дьячка. Он делает это удивительно смешно, не теряя ни крупицы комизма, заложенного в роли. Но вспомните, что Гарин в этой роли одновременно и драматичен. Именно так и написал Чехов — за обыденной скукой жизни, за привычной ее дикостью он вскрыл ее трагизм.
Здесь артист становится рядом с писателем, произведение которого он исполняет.
Обычно принято говорить об удачах артиста. Но мне нужно нарушить традицию и говорить о фильме неудавшемся и о том, как в нем играл Гарин. Речь пойдет о «Русском сувенире».
Об этом фильме написано много горьких и справедливых слов. И я не хочу полемизировать с его оценкой. Меня интересует другое. В фильме снимались превосходные актеры, и, я бы сказал, некоторые из них неплохо справились со своей задачей. Но их погубила общая сюжетная концепция фильма, неправдивая и дурно выдуманная.
И вот в этом неправдивом и даже неправдоподобном зрелище появляется Гарин и, несмотря на то, что он участвует в тех же ситуациях, что и его партнеры, вы верите каждому его жесту, каждому его слову.
Я не знаю, как этого добивается Гарин, но он выходит победителем из каждой нелепицы, в которую его погружает драматург. Каждая ситуация позволяет ему найти новую краску характера. Гарин играет эксцентрично, более эксцентрично, чем его партнеры, но как-то так получается, что неправдоподобие поведения в неправдоподобных обстоятельствах в конечном итоге создает правду характера. Мы видим британского пастора, невозмутимого, лукавого, простодушного, обаятельного, и мы верим, что этот человек так и должен себя вести. Гарин как-то находит логику в алогизме, смысл в бессмыслице, правду в лживой ситуации. Он совершенно серьезен там, где любой актер стал бы «фортелять». Он находит какие-то, как говорят на театре, «приспособления», которые позволяют сделать роль и убедительной, и правдивой.
Наверное, в этом и кроется высший артистизм. Он в том, что роль неправдивая становится правдой, когда ее играет большой артист.
Как-то, много лет назад, я шел днем по пустынной окраинной улице. Впереди шел человек в черном матросском бушлате. Он шел прямо, деловым, быстрым шагом. Вдруг он остановился, снял бушлат, аккуратно расстелил его на тротуаре и попытался сделать стойку. Акробатическая фигура не получилась. Он поднял бушлат, встряхнул его от пыли, надел и пошел дальше. Через десяток шагов он опять остановился, снял бушлат, расстелил и опять попытался сделать стойку. Он повторил эту игру несколько раз. Я шел за ним как зачарованный и думал: что заставляет этого человека так странно вести себя? То, что он, наверное, пьян, ничего не объясняло. Наконец я обогнал его. Он действительно был пьян. Но тайны его поведения я понять не мог.
Я рассказал об этом случае Гарину и спросил, можно ли сыграть такого человека. Он подумал и коротко сказал: можно. Он нашел оправдание, внутренний ход психологии. Он понял этого человека.
Так Гарин, наверное, понял и свою роль в «Русском сувенире». Он открыл для себя правду характера в эксцентрическом, кукольном персонаже, которого играл. Другие актеры не нашли — винить их за это нельзя. Задача была слишком головоломна.
Увидев Гарина в «Русском сувенире», я уверовал, что этот артист может сыграть все что угодно.
Из любого обстоятельства Гарин извлекает его естественную суть и находит правдивую реакцию, хотя и выражена она подчас неправдоподобно, эксцентрично, преувеличенно. Он никогда не забывает о высокой, конечной правде характера, хотя и выражает его в неправдоподобных формах.
Бывает ли правдив эксцентризм? Нужно ли это доказывать теперь, когда мир знает искусство Чаплина? Все дело в правдивости реакции, в ее психологической точности. Форма ее выражения может быть какой угодно. В этом, наверное, объяснение того, что Чаплин — единственный, кто уцелел из комических актеров десятых и двадцатых годов. Сколько их было?! Ну кто сейчас помнит Ллойда, Бэнкса, Конклина, Лэнгдона и десяток других? Каждый играл маску, каждый пользовался теми же «гэгами», что и Чаплин. Но была разница между ними. Они 315 измышляли смешное — Чаплин изыскивал естественную комическую реакцию, находил правду поведения.
Этим эксцентризмом правды владеет и Гарин.
В искусстве актерского исполнения нельзя путать правдивость с естественностью. Естественность — условие, правдивость — результат.
Впрочем, и естественность бывает различной — естественность бытового поведения и естественность поведения трагического героя вовсе не равнозначны. Массовидная, так сказать, «среднестатистическая» естественность еще не искусство.
… Есть старый театральный анекдот. Станиславский репетирует с Москвиным. Актеру нужно выйти на сцену, снять шляпу и повесить ее на вешалку. Что тут трудного? Однако сколько раз ни проделывал Москвин нехитрое задание, Станиславский прерывал его резким «не верю». У анекдота два конца: в одном случае Москвин приходил в отчаяние и заявлял, что из него не выйдет актера, в другом — он предлагал Станиславскому показать, как нужно играть, и в свою очередь говорил ему: «Не верю».
Анекдот этот не так прост, как кажется с первого взгляда.
Рожденный в МХАТе, он эксцентрически выражал сущность режиссуры Станиславского. Конечно, актер, подобный Москвину, умел правдоподобно повесить шляпу на вешалку, но Станиславский ему «не верил», потому что в движении, хотя оно и было естественным, не было открытия правды поведения персонажа, не было театральности.
Конечно, правда — в переживании образа. Но правда и в выражении этого переживания, в поведении предельно выразительном, иногда заостренном, но всегда совершенно индивидуальном. Мало играть страсть, эмоцию, мысль — их нужно выразить так, чтобы стала ясна сущность человека, переживающего эти страсти и мысли. А эта сущность всегда индивидуальна.
Правда состоит меньше всего в повторении известного, в фиксации общепринятого, в трюизме. Правда — в открытии новой, обоснованной точки зрения на мир, историю, человека.
Вот почему в искусстве возможны правдивый гротеск, правдивая эксцентриада, правда шаржа и карикатуры, правда фантастики, правда сказки.
К сожалению, «средний» кинорежиссер требует от актера только так называемой естественности, только обыденной реакции на обыденные обстоятельства. Он не ждет от актера ни фантазии, ни своеобразной мысли — словом, не считает актера способным на открытия. Актер из художника превращается в подвижную бутафорию.
Эраст Гарин напоминает, что актер — это художник, а не объект съемок.
Я много раз говорю слово «правда» в этой статье. Но есть одна роль Гарина, которую как будто трудно сочетать с этим понятием. Это роль Короля в фильме «Золушка» (сценарий Е. Шварца, режиссеры Н. Кошеверова и М. Шапиро).
Принято считать, что роль Короля — одна из больших удач Гарина в кино. Думаю, что каждый видевший фильм улыбается, когда вспоминает Гарина.
Сказочный Король любит устраивать веселые балы, обожает невероятные приключения и содействует браку Принца с Золушкой. Возможен ли такой король? В чем правда этого образа, каким он придуман драматургом? Как его правдиво играть?
Но вспомните фильм, и вы увидите, что Гарин играет правдиво. Может быть, естественно? Нет, повторяю, Гарин играет правдиво и, может быть, совсем неестественно. Он ведь играет короля, а в его интерпретации у этого персонажа нет ни важности, ни повелительных интонаций, ни королевских поступков, хотя он и остается королем.
Между тем Король Гарина и правдив, и реален. И это не только реальность сказки, но прежде всего реальность детского представления о сказочном персонаже. Гарин играет Короля таким, каким его порождает детское воображение. Мало того, он играет ребенка. В этой ребячливости, в наивном и радостном восприятии мира и мудрость созданного Гариным образа, и его поэтическая достоверность.
Путь к реализации роли и на этот раз оказывается непростым. Здесь, как и всегда, Гарин идет к созданию характера, сочетая свое понимание драматурга и его стиля со своей жизненной наблюдательностью, со своим пониманием природы человека.
Так в рамках драматургического стиля создается стиль актерского исполнения, так возникает индивидуальность актера, которая всегда разнообразна, всегда адекватна образу и всегда своеобразна.
Так возникает артистизм…
316 Борис Чирков
НИ С КЕМ НЕ СПУТАЕШЬ…
Если перебрать все кинокартины, созданные за годы существования советской кинематографии, разделить их по жанрам, то сразу бросится в глаза, какая малая доля их придется на комедийные фильмы. Если припомнить их участников, то увидишь, как мало актеров было постоянно связано с комедией.
А ведь фильмы эти пользовались огромным успехом у зрителей, и огромную популярность и любовь завоевали их исполнители.
А если еще и среди них отбирать наиболее яркие дарования, то в числе первых обязательно надо назвать Эраста Павловича Гарина.
Вот уж фигура необычная, которую ни с кем не спутаешь! Вот талант, который блистал особенным светом! И сам он ни на кого не был похож, и никто не мог подделаться под его индивидуальность, кроме разве эстрадников, которые охотно его копировали.
Как известно, слава его началась со спектакля по пьесе Николая Эрдмана «Мандат» в Театре имени Вс. Мейерхольда. Мне не довелось видеть это представление, я только позже прочел комедию Эрдмана и услышал дома у Эраста Павловича, как он читал отрывки из нее.
Долгое время я был под впечатлением и пьесы, и гаринского чтения — это было необыкновенное слияние актера с героем.
Удивительно смешная комедия сатирического склада, изложенная хлестким, почти грибоедовским языком, с превосходно выписанными характерами действующих лиц, с оригинальным развитием сюжета. Однако мне представлялось, что она может идти в театре только в том случае, если в ней участвует Гарин, настолько ярко и нераздельно от пьесы представлялся мне образ его героя…
А на сцене впервые я увидел его в спектакле «Ревизор» в Театре имени Вс. Мейерхольда.
В глазах театральной молодежи Всеволод Эмильевич был не только первым, самым выдающимся режиссером советского театра, но и вождем мирового театрального искусства.
Мастерство режиссера и в этом представлении покорило меня. Неожиданным было и то, что привычное, знакомое течение пьесы оказалось разбитым на отдельные, самостоятельные эпизоды, и то, что по-новому предстали многие известные персонажи. Удивительно интересные и выразительные мизансцены придавали спектаклю особенную, пластическую музыкальность. И опять-таки неразрывно со спектаклем существовал на сцене артист Гарин!
Нельзя было отделить Ивана Александровича от Эраста Павловича, потому что это было одно лицо, только с двойной фамилией. И «легкость в мыслях необыкновенная», и неудержимая и безусловная вера в те несообразности, которые он в пылу увлечения выдумывал.
Мейерхольд, видимо, и сам любил этот спектакль. Мне довелось несколько раз видеть его на выездных представлениях этой пьесы. В черном костюме, как на премьере, он стоял за кулисами, напряженно следил за действием, как бы сличая каждую сцену со своей партитурой. Но в сценах Хлестакова он отдыхал и просто как зритель наслаждался игрой артиста. Видимо, здесь он видел полное слияние исполнителя, персонажа и режиссерского замысла…
Вскоре, уже в Ленинграде, познакомился я лично с Эрастом Павловичем и оказался соучастником одного фильма — «Путешествие по СССР», который начали снимать режиссеры Козинцев и Трауберг, только, к сожалению, по разным обстоятельствам не довели эту работу до конца.
Едва прекратились съемки этой картины, как режиссеры принялись работать над фильмом «Юность большевика». И опять мы на какое-то время оказались вместе. Поначалу Гарин играл роль героя картины. И в новой ее редакции, теперь уже «Юность Максима», даже сохранился кадр, когда у могилы погибшего товарища стоял Эраст Павлович, а не я, его преемник.
317 За годы нашего знакомства я видел его и в «Музыкальной истории», знаменитой в свое время картине, и в «Золушке», и снимался рядом с ним в «Каине XVIII».
В «Золушке» и в «Каине XVIII», казалось бы, так легко повторить себя, так просто воспользоваться уже удачно найденной «королевской сущностью» своего персонажа. А оказалось, что эти два короля совершенно непохожие друг на друга личности. Один сумасброд и деспот, другой — чистый, наивный и доброжелательный человек. И тот и другой король наделен абсолютной властью, но как по-разному они ее используют и делают это не только по велению автора, а как показал их нам художник-артист. Тот и другой фильмы-сказки, то есть жанр очень определенный, а артист, нисколько не выходя из рамок сказочного представления, тонко, остро и ярко представил нам два совершенно противоположных варианта, по существу-то, одного и того же социального персонажа.
Роль Гарина в «Золушке» хоть и получила положительную оценку, но, конечно же, не была все-таки оценена по достоинству. Мне кажется, что она должна стоять в одном ряду с наиболее приметными актерскими работами в нашем кинематографе. Впрочем, и вся деятельность Эраста Павловича не была ни достаточно обстоятельно разобрана, ни описана так, как она этого заслуживает.
Элина Быстрицкая
ОН ОСТАЛСЯ С НАМИ
По коридорам киностудии Гарин ходил, сцепив руки за спиной и как бы уйдя в себя. Общаясь с Эрастом Павловичем, вы четко ощущали некий второй план — он всегда о чем-то размышлял, всегда был чем-то занят.
Он был парадоксален во всем и потому чрезвычайно интересен. Едва он начинал говорить — по обыкновению, как бы мимоходом роняя фразы, — как сразу воцарялась тишина. Гарин редко улыбался. Невероятно смешные вещи он говорил серьезным тоном, и люди смеялись его шуткам, а он — как настоящий комический артист даже не улыбался. Кстати, хотя Гарин по натуре был оптимистом, лицо у него оставалось, скорее, грустным, как у Чаплина…
В 1955 году я, тогда еще начинающая актриса, снималась в «Неоконченной повести». Я играла врача Елизавету Максимовну, Эраст Павлович — одного из моих пациентов. Дело было в Ленинграде во время белых ночей. Я жила тогда в гостинице. Однажды я проснулась от стука в дверь.
— Кто это?
— Это Гарин, — раздалось в ответ.
Даже если б он не назвал себя, я узнала бы его по голосу: у него был необыкновенный голос, ни с кем не спутаешь. Наскоро 318 оделась и открыла. Вошел Эраст Павлович с охапкой ландышей. Не могу сказать «букет» — это была именно охапка ландышей. Я приняла цветы, хотя и не могла понять; за что? И вообще не могла понять, почему он пришел, потому что разговор пошел о самых обыденных вещах. Гарин спросил, как я себя чувствую, Я ответила: хорошо. Потом Эраст Павлович заметил, что белые ночи все перепутали, а я сказала, что первый раз их вижу. Забылось, о каких еще мелочах шел разговор, но абсолютно четко помню, что была какая-то «вопросительная атмосфера»: я не понимала, почему Гарин пришел, и он, чувствовалось, тоже чего-то не знал.
Мы недолго проговорили, потом — у меня тогда не было часов — я спросила:
— Эраст Павлович, а который час?
Меня совершенно потряс спокойный ответ:
— Думаю, теперь уже шесть.
Шесть утра! Я включила гостиничный репродуктор: действительно, только-только начинались радиопередачи.
Вскоре Гарин пожелал мне успеха — предстояла утренняя съемка — и ушел. А я осталась со своим вопросом: зачем же приходил так рано этот странный человек?
Приехав вскоре на «Ленфильм», я сказала Люсе Карасевой, ассистенту Ф. Эрмлера по картине (она дружила с семьей Гариных):
— Эраст Павлович пришел ко мне очень рано, принес ландыши. Так странно…
— А он в любое время может прийти, — ответила Люся. — Иногда позвонит в три часа ночи: «Ставьте самовар — сейчас приеду». И мы ставим самовар, потому что обожаем его…
Но что я узнала в течение дня? Накануне вечером несколько отснятых эпизодов обсуждал худсовет, и кто-то предложил меня заменить, но выступил Эраст Павлович и сказал, что он уверен: Быстрицкая справится.
Только тогда я поняла, чем был вызван столь ранний визит: Гарин думал, что мне уже известно вчерашнее обсуждение, и хотел успокоить перед утренней съемкой…
Много лет спустя, встретив Эраста Павловича, я сказала:
— Спасибо за ландыши!
Не уверена, вспомнил ли он, за что я благодарю, потому что это было одно из его многих добрых дел. Он поступил так, мне кажется, вовсе не думая, что сеет. А посеял вот что: научил, как вести себя по отношению к другим — таким же молодым и неопытным, какой я была когда-то…
Мне хотелось бы сказать всем, кто знал и любил Гарина: я — с ними. У меня уже нет родителей, нет многих друзей детства, нет Эраста Павловича Гарина, но они есть! Они остались с нами!..
Записал Г. Цитриняк
Андрей
Хржановский
ГАРИН И ШВАРЦ
(«Обыкновенное чудо» на сцене Театра киноактера)
… Гарин и Шварц. Их творческое содружество — на сцене и на экране — явление особого рода. Я думаю, не только в биографии каждого из этих художников, но и в нашей культуре.
Тема эта, я уверен, дождется когда-нибудь своего исследователя. Мне же хочется поделиться своими воспоминаниями о гаринской постановке (совместно с Х. А. Локшиной) «Обыкновенного чуда» в Театре киноактера.
Образная природа искусства считается чем-то само собой разумеющимся, заранее обеспеченным (автоматически!) в каждом отдельном случае, каждому вступающему на это поприще. В этом печальном заблуждении видится мне причина того, что подлинно профессиональные произведения в нашем искусстве появляются не так уж часто. Да и сама образность, как известно, бывает разных уровней. Одной из высших форм образной выразительности является сказка. Продуктивно работать в этом жанре могут лишь художники, прекрасно чувствующие и знающие, с одной стороны, природу народного творчества, с другой — наделенные фантазией и мощным интеллектом.
Собрание этих черт не часто встретишь в одном художнике. Встреча же двух подобных художников — явление чрезвычайное. Впрочем, счастье такой встречи со свойственной ему скромностью сам Гарин оценил и блистательно описал.
… Итак, «Обыкновенное чудо».
Как начинался спектакль? Что видел зритель, когда раздвигался тяжелый золотисто-охристый занавес Театра-студии киноактера? Взору его открывалась большая комната, залитая ярким утренним светом. Свет этот струился сквозь тонкие переплеты высоких окон. Их отражение вафельным оттиском лежало на полу. Свет придавал теплоту потолку, темно-коричневым тонам мореного дерева. В его лучах сверкала медная посуда над очагом. Эта утварь, подсмотренная, как мне кажется, Шварцем у Ван Эйка, перешла в декорацию Бориса Робертовича Эрдмана из авторской ремарки. Во всем облике комнаты было нечто голландское. И это было очень точное решение: освещение, казалось, готово было к чудесным изменениям, отражающим тончайшие нюансы, все прихоти игры облаков. Дух фантазии, дух небольшой приморской андерсеновской страны (Гарин и Шварц не могли пройти мимо таких ассоциаций, текстуально выявленных уже в «Тени») делался особенно обворожительным в жарком свете жанра, представившего всю доскональность деталей с полотен живописцев. И когда на сцене в накрахмаленном переднике появлялась «шоколадница» Лиотара (так 319 был решен внешний облик Хозяйки), то вы понимали, что дело здесь не только в конкретных цитатах, но еще и в тонко угаданном и переданном зрителю обаянии человеческой культуры — вечного и, быть может, самого верного спутника добра.
В чем крылось обаяние гаринской игры? Мне хочется выделить две краски, две черты, при помощи которых Эраст Гарин строил свою роль: неприступность маньяка и интимная доверительность заурядности, спекулирующей на своей слабости, я даже сказал бы, на обаянии этой слабости. Король не совершал подготовленных поступков. Он рефлексировал у нас на глазах, разбойник. Это был наш современник, и мы с легкостью узнавали в нем своего соседа, своего учителя, своего (или чужого) начальника и просто встречного проходимца, а порой — самих себя.
Постоянное присутствие в исполнении Э. Гарина этих двух полюсов создавало напряженное поле восприятия. Между ними размещалась богатейшая партитура роли: наверху звучали грозные фантастические ноты и открывались горизонты гоголевских озарений (читатель позднейших времен мог бы тут вспомнить привлекательный в своей неправдоподобной правде мир «Мастера и Маргариты»), а внизу, в мирных долинах, щебетали добрые духи уюта и задушевности.
Уже в первом появлении Гарина-Короля угадывался этот скрытый, правда, до поры до времени, контраст. Опытный мастер знает, сколь многое зависит от первого появления актера на сцене. И вот режиссер и актер Эраст Гарин показывает нам микроспектакль: «приезд Короля».
Вначале перед зрителями появляется лишь голова благообразного старца с ришельевской бородкой: «Здравствуйте, любезные! Я король, дорогие мои!» — произносит голова. И зритель дорисовывает к голове величественную осанку фигуры, облаченной в королевскую мантию. Но тут происходит неожиданное: король переступает порог, и зритель видит… его голые ноги. Ибо, в дополнение к элегантному сюртуку со звездой, король одет в шотландскую юбку и гетры. Но дело не только в чисто внешнем контрасте, вызывавшем неизменный смех в зале. В этом костюме и в том, как Гарин его обыгрывает, — «зерно» образа. В самом деле, что еще, как не такой наряд, позволило бы показать Короля чужеродным, как всякий турист, наглым от одного сознания своего иноземства и в то же время смешным и беззащитным. И потому когда Гарин-Король, по-женски придержав полы юбки, усаживается на стуле и с детской верой в законность своей подлости заявляет: «Я страшный человек, я тиран», мы вспоминаем данную Шварцем характеристику «хилый тиран».
Известно, что современного зрителя зрелищем тирана не удивишь: многих тиранов он перевидал на сцене и в жизни. Скажем, тиранов шекспировских, нет-нет да и терпящих угрызения совести по поводу собственного деспотизма. Но когда «обыкновенный квартирный деспот» — и он туда же, в тираны, да еще кокетничает, боится, что ему не поверят, — согласитесь, это ли не смешно, это ли не грустно!
Еще одну черту открывает нам Гарин в характере своего героя. Его Король — самоуверенный эпигон. А самомнение вторичности комично и страшно одновременно. Может быть, ничто так не внушает самоуверенности Королю, как сознание безотказности (и безнаказанности) отработанного механизма его королевской практики: «министры спишутся, я выражу сожаление, а ты так и останешься в сырой земле на веки веков». Все гениальное, говорят, просто. Король слишком буквально понимает сентенцию, обратную этой. Отсюда его августейший цинизм.
Но что еще было необычайно точно найдено Гариным в этой роли, так это ностальгическая грусть по человеческой порядочности. Недаром Король пытается оправдать себя, спасти свое реноме: «Я по натуре добряк, умница, люблю музыку, рыбную ловлю, кошек». В этом Король видит свое спасение на случай судного дня!
Шварц необычайно искусно ткет сеть парадоксов, рисующих этот образ. Вернее, не автор плетет эту сеть — он заставляет делать это самого героя, а когда тот устает от столь изнурительного занятия, автор позволяет ему плюхнуться, как в гамак, в сеть собственных хитросплетений, отдохновенно расслабиться и уже полностью потерять все остатки логики. В таких случаях на все «почему» Король отвечает: «… самодур потому что!..»
Большой хитрец этот шварцевский король. Он рассчитывает на снисхождение окружающих к своим слабостям, таким, казалось 320 бы, человеческим… «Отвечать самому, не сваливая вину на ближних, за все свои подлости и глупости — выше человеческих сил! Я не гений какой-нибудь. Просто Король, какими пруд пруди». Так глупость и подлость гордятся своей заурядностью. Более того, Шварц беспощаден в своей последовательности: он делает глупость и подлость синонимами королевской власти. А порядочность отпугивает своей исключительностью, и уж во всяком случае, несовместимостью с королевской должностью. «Придешь в детскую — и вдруг, стыдно сказать, делаешься симпатичным… Прямо хоть от престола отказывайся…».
«Сказка рассказывается не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы открыть, сказать во всю силу, во весь голос то, что думаешь», — говорит Шварц во вступлении к «Чуду». Он понимает, что жизнь соткана из противоречий, ими она движется, и искусство начинается с понимания этой истины.
… Уже в первом действии, с детским простодушием рассказав о своем пристрастии к недетским подлостям, Король переходит к рассказу о Принцессе.
Понимая особую роль этого эпизода, Гарин нашел для него удивительное режиссерское решение. Перед началом рассказа освещение на сцене менялось. Оно становилось более интимным. В комнате воцарялась атмосфера задушевности, и это настраивало зрителя определенным образом на восприятие истории Принцессы, а впоследствии — ее самой. В конце рассказа освещение вновь менялось. Оно достигало постепенно прежней яркости. Это совпадало с заключительными словами Короля: «… и на рассвете мы уже мчались по дороге, милостиво отвечая на низкие поклоны наших любезных подданных». Эти слова Гарин произносил так, что вся история Принцессы — и прошлое, и будущее, которому предстояло развернуться у нас на глазах, — получала какую-то особую пластическую, я сказал бы, почти объемную выразительность. Весь рассказ — уже не только буквально — высвечивался особым светом. Ощущению этой артистической завершенности помогала также и музыка — вновь возникавшая тема дороги, — и восхитительная пластика гаринской игры: телу его передавался ритм дорожной езды, и на этот сквозной контрапунктный ритм нанизывались намеки на с большим достоинством отданные поклоны.
Пластический образ Гарин тонко рисовал и физическим, и речевым жестом (фразировкой). Освещение сцены разгоралось одновременно с наступлением «рассвета» в тексте. Это световое обрамление как нельзя лучше подчеркивало ту же роль заключительной фразы — роль золоченой барочной рамы, исполненного достоинства каданса, галантного прощального поклона (ответ на поклоны «любезных подданных»). Подчеркнутая завершенность эпизода прекрасно сочеталась с другим моментом, из нее вырастающим, — возвратом к движению фабулы. Это достигалось приближением музыки, возвратом 322 к прежнему освещению, наконец, оживлением в пластическом рисунке роли. Одним словом, появление Принцессы было подготовлено как нельзя лучше.
… Король у Е. Шварца и Э. Гарина даже в благодушном настроении не может отказаться от подлости: «Честное слово, мне здесь очень нравится. Весь дом устроен так славно, с такой любовью, что взял бы да отнял!..»
— Вот изверг-то!
— А вы как думали? Король — от темени до пят!
Эту фразу Гарин произносил с таким торжеством, с таким ликующим самоутверждением, бравируя логикой, в силу которой «изверг» и «король» становятся синонимами, так раскатывая «эр» в слове «король» и сопровождая высказывание таким величественным жестом, будто сдергивал покрывало с памятника себе — вот он я, с головы до ног — вуаля!
А как играл Гарин следующую сцену, где выяснялось, что Принцесса оставлена без присмотра! Здесь было все: и любовь к Принцессе, и гнев («как осмелились вы бросить крошку одну!»), и мнительность на почве всегда столь богатого родительского воображения, и забота: «в траве могут быть змеи, от ручья дует…»
И вот Король наблюдает в окно за дочерью. На его лице, как в зеркале, мы читаем смену состояний Принцессы. Причем Король как бы растворяется в этих состояниях. Его чувства и их проявления подчиняются чувствам Принцессы, как сухой лист дуновеньям ветра.
В одном общем порыве умиления и отцовской нежности («Вон, вон идет дочка моя единственная») мы различали порыв радости («Засмеялась…»), озабоченности («А теперь задумалась…»), и снова расцвет умиления («А теперь улыбнулась. Да как нежно, как ласково!»).
Эта тема — тема любви, тема «растворенья нас самих во всех других как бы им в даренье» — звучала в спектакле необыкновенно глубоко. Ею, как золотым световым снопом, высвечивался весь спектакль.
Особенно забавен и даже трогателен был наш «тиран», когда очередные приступы его капризов возникали на почве любви к дочери. И опять перед нами возникала целая гамма оттенков, где были и категоричность («Никаких “но”! Сто лет человек не видел свою дочь радостной, а ему говорят “но”!»); и взбалмошность, и видимое удовольствие от беглых воспоминаний из любимой области — семейных хроник («Я счастлив — и все тут! Буду сегодня кутить весело, добродушно, со всякими безобидными выходками, как мой двоюродный прадед, который утонул в аквариуме, пытаясь поймать зубами золотую рыбку»); и карикатура на августейшее величие, и очень смешное сочетание деловитости и безумства («Приготовьте тарелки — я их буду бить! Уберите хлеб из овина — я подожгу овин! И пошлите в город за стеклами и стекольщиком!»).
Заключительные слова проекта этого невинного и страшного веселья: «Мы счастливы, мы веселы, все пойдет теперь, как в хорошем сне!» — звучали у Гарина как самозаклинание впавшего в эйфорию наркомана. Казалось, Ангел Мечты, Иллюзии и Забвения, иронический ангел, осенял сцену в этот момент…
А вот как разворачивались события спектакля после побега Принцессы (пока — в свою комнату) и неудачной попытки Короля помешать.
У Е. Шварца это место в ремарке описано так: «Король возвращается. Он неузнаваем».
Как же играл эту перемену в Короле Гарин? Чем он ее подчеркивал? Чем он делал ее страшной и выделял среди прочих перемен, столь свойственных его герою? Самым фундаментальным средством: изменением ритма. С возвращением Короля на сцене воцарялась гнетущая пауза, и всем было понятно, что она — «предгрозовая».
Этому восприятию Короля как «громовержца» способствовала и мизансцена: Король — наверху, на лестничной площадке перед комнатой Принцессы, а все придворные — внизу, в виде группы, очень характерной для живописи времен Возрождения, трактующей какой-нибудь типичный сюжет, наподобие Вознесения.
И действительно, гром не замедлил грянуть.
Почти с той же интонацией, с которой он только что представлял себя, Король теперь призывает на сцену еще одного работника своего «аппарата». «Палач! — грозно взывает он. — Приготовься!» Далее, уже в тексте, обращенном к «любезным подданным», эта угроза конкретизируется. «Господа придворные, молитесь!» — произносит Король и делает шаг вниз на одну ступеньку. «Принцесса заперлась в комнате и не пускает меня к себе» — еще шаг. «Вы все будете казнены!» — еще ступенька. В этом ритме медленных шагов Король демонстрировал придворным поступь рока. Он сам принимал облик рока. А поскольку повод для такой постановки вопроса был все же не вполне адекватный, зритель не переставал видеть под маской рока шута, и это переводило спектакль в высокий план трагикомедии…
А теперь я хотел бы сделать одно небольшое отступление. Его тема: игра Гарина в паузах…
323 Все гаринские паузы были осмысленны и музыкальны. Он никогда не терял нити действия, не «отбывал» эти паузы формально. Гарин и мизансцены строил таким образом, что актер действовал в паузах. Он в них был необходим, как проводник электричества, и он был в них «слышен». А как тонко, как деликатно Гарин аккомпанировал, когда ему приходилось вступать с короткими репликами, как это было в рассказе Придворной дамы! Чувство ансамбля, говоря шире — чувство гармонии, было развито у Гарина необыкновенно. Он не только прекрасно вел свою партию, но помогал партнерам поддерживать нужный темп, взвинтить его, если он увядал, или загасить, если стихия темперамента становилась неуправляемой, если актер начинал «пробуксовывать» и игра рисковала сделаться пустой. Гарин помогал актерам почувствовать «нерв» сцены, играть не общие места, но живой, конкретный смысл происходящего. Режиссер и актер были слиты в нем воедино самым прочным, самым естественным образом… Поэтому эта связь и была столь плодотворна.
Музыкальным эпиграфом второго действия Э. Гарин сделал этюд-картину Рахманинова. Им же кончалось первое действие. «Метель, буря, лавины, обвалы» — все, что говорит в начале действия про погоду Трактирщик, все это слышалось в музыке. Буря в душе влюбленных заставляла окружающих срываться с места, вовлекала их в действие, требовала сопричастности.
Начало второго действия, его атмосфера, а также образ Трактирщика прямо контрастировали с началом первого действия, с образом Хозяина и одновременно были их продолжением.
«Каждый раз я надеюсь, что каким-то чудом она вдруг войдет сюда», — говорит Трактирщик о своей далекой возлюбленной, и на гребне новой волны все той же темы — темы Любви — в комнате появляется Король со своей свитой. Вернее сказать, в сопровождении свиты на сцене появляется Нечто явно одушевленное, в шубе-дубленке, скрывающей это «нечто» с головы до пят.
Покамест Трактирщик ухаживает за своими гостями, это Нечто сидит неподвижно. Но вот на вопрос Трактирщика: «С кем имею честь?..» — происходит какое-то слабое одушевление, оттаивание, и на зрителей поворачивается в раме стоячего воротника совершенно потерянное, по-детски подвязанное платком (узелок сзади), трогательное в своей потерянности, растерянно хлопающее глазами лицо Короля.
И опять как бы в рифму своему появлению в первом действии Король представляется хозяину дома. Только теперь нет в его голосе былого превосходства. Теперь он звучит слабо, жалобно, прерывисто, будто готовый угаснуть, сойти на нет, как пламя свечи: «Трактирщик, я король!.. Я очень несчастен, трактирщик!» «Это случается, ваше величество!» — отвечает Трактирщик.
И тут в Короле вновь оживает демон фанаберии. Все, что угодно, кроме сравнения с заурядностью: «Врешь, я бес-при-мер-но несчастен».
Но что это? «Во время этой проклятой бури мне было полегчало. А теперь вот я согрелся, ожил, и все мои тревоги и горести ожили вместе со мной…». Да это же Лир! Вернее, пародия на Лира. Так драматург и артист воочию воплощают великие слова о том, что история повторяется, и то, что является на исторической сцене первоначально в качестве трагедии, повторно возникает в форме фарса…
Поинтересовавшись у Трактирщика, не забредала ли случайно Принцесса к нему в трактир и получив отрицательный ответ, Король намерен немедленно продолжить поиски: «Эй, вы там, приговоренные к смерти! В путь!» — командует он. В своем желании найти дочь Король неистов. Как ни уговаривает его Трактирщик остаться, он все порывается уйти — туда, в бурю, «где лупят снегом по лицу и толкают в шею». Во время одного из таких порывов Король выдирается из шубы — она просто остается существовать отдельно, как брошенный дом, как раковина, покинутая улиткой. А Король, выпроставшись из нее, кажется вконец беззащитным и трогательным, как распеленатый младенец, — в платке и в валенках, из которых торчат тонкие, как у опят, ноги. Так Гарин делает пафос человечным, пропуская его через иронию.
Свое разрешение эта ирония получает на другом полюсе, когда Король выступает с угрозой в духе отпетого экстремиста: «Я сейчас проглочу мешок пороху, ударю себя по животу и разорвусь в клочья!» Надо было видеть, с каким отчаянием, с каким внутренним убеждением (видением предстоящего эффекта), действительно ударяя себя по животу и только что не разлетаясь «в клочья» на глазах у публики, Гарин-Король сообщал о столь изысканном способе не самоубийства, но расправы с миром, обреченным на жалкое прозябание без короля. На этих перепадах патетики и юмора, столь характерных для гаринской игры, построена пьеса Шварца. Вот еще пример. Король: «Я в ужасном горе. Она сидит там у огня, тихая, несчастная. Одна. Вы слышите? Одна! Где моя маленькая дочка? Страстная, оскорбленная девушка сидит у огня. Да-да, оскорбленная! Я вижу. Мало ли я их оскорблял на своем веку!..»
Дальше, по мере развития действия, амплитуда перепадов в реакциях Короля все увеличивается. «… То ли мне хочется музыки и цветов…» (это — расслабленным тоном, «в поисках утраченного времени» старофранцузских пасторалей, грезы наяву); «… то ли зарезать кого-нибудь…» — и убаюканный было зритель внутренне шарахался от резкого движения и от почти звериного рыка в слове «заррррррезать». Или — серия торжественных, полным голосом отдаваемых команд: «Распаковать багаж! Надеть праздничные наряды! Зажечь все свечи!» — кончалась совершенно неожиданным постскриптумом: «Потом разберемся!» При этом — жест полного изнеможения, вид — ошалелый, еще секунда — и Король рухнет без чувств.
Эти «сдвиги» логически должны были привести либо к все разрешающему взрыву (но вариант с подобным концом автор и актер исчерпали проектом величайшего из самоубийств), либо к полному вырождению, затишью. Таким и видим мы Короля в третьем действии.
Гарин-Король появляется на сцене в согбенном виде. Внешний рисунок точно соответствует внутреннему жесту, 324 а кроме того, он оправдан деталью, также «работающей» на образ впавшего в детство Короля: перед собой Король катит игрушку — бабочку, чьи крылья ритмично складываются и раскрываются. Игрушка эта скрипит всеми своими петлями и сочленениями, и этот звук также связывается у нас со зрительным образом Короля-развалины. Одет Король был в длинный халат с кистями на поясе и в четырехугольную шляпу (кажется, тоже с кисточкой, одним словом, ни дать ни взять — в детскую шапочку с помпоном). В таком наряде Король походил на китайского мандарина. Подобному восприятию способствовали еще и ракурсы, заимствованные из традиционной китайской пластики (подчеркнутые также традиционной для нее фигурой бабочки), — согнутая фигура, для которой особенно характерен вид сбоку, и повернутая в три четверти голова. От всего вида Короля так и веяло древностью и вырождением. И этот же внешний вид впавшего в детство Короля подчеркивал комичность, «игрушечность» бунта Первого министра, открыто заявляющего Королю, что он «вовсе не величайший из королей, а просто выдающийся, да и только».
Так, заткнув уши, чтобы не слышать очередных неприятностей, и обругав напоследок окружающих: «Свиньи вы, а не верноподданные», Король уходил со сцены, но и после его ухода еще долгое время сцена как бы была озарена тем свечением, какое стоит обыкновенно в небе в первые минуты после угаснувшего фейерверка.
В заключение еще один пример режиссерского решения сцены, пример того, как одна видимая и слышимая деталь может стать емким художественным образом происходящего на сцене. Третий акт. Все линии, кроме одной, главной — Принцессы и Медведя, — доведены до развязки. Все пружины докручены до предела. В атмосфере действия — какая-то тягучая напряженность и вместе с тем какая-то почти метафизическая, я сказал бы, возвышенная опустошенность…
У Шварца третьему действию предпослана ремарка: «Сад, уступами спускающийся к морю… Широкая терраса, на перилах которой сидит Трактирщик. Он одет по-летнему, в белом с головы до ног, посвежевший, помолодевший».
Когда открывался занавес, то прежде чем зритель видел очертания террасы, сада, он слышал звук журчащей воды. Это был небольшой фонтан, струившийся тут же, у парапета террасы. И этот звук сразу настраивал на какой-то особый, возвышенно-надмирный лад. В нем слышался голос вечности. Все три пушкинских ключа «прослушивались» в нем. «Ключ юности — ключ быстрый и мятежный» — это было связано с темой молодых героев, а также обретших вторую молодость Трактирщика и Эмилии. Тема «творчества и чудотворства», всех этих «удивительных превращений», творимых не без участия Хозяина, подсказывала нам ощущение, что это —
«Кастальский ключ волною вдохновенья
В степи мирской изгнанников поит…».
Наконец, с темой Принцессы, помышляющей о смерти (и здесь Шварц оставался высоким поэтом, вкладывая в ее уста такие слова: «Как человек вдруг понимает, что влюблен, так же сразу он угадывает, когда смерть приходит за ним»), с темой смерти была связана еще одна грань того же образа:
«Последний ключ — холодный ключ забвенья —
Он слаще всех жар сердца утолит».
В третьем действии в интонациях пьесы, в отношениях, к которым приходят ее герои, появляется что-то новое, до боли знакомое, близкое… Где же мы это встречали: преданнейшую, слегка ироничную дружбу умных, все понимающих людей? Ах да, ведь это из пушкинской переписки. И может быть, неспроста Е. Шварц вводит в текст слова, доводящие это сходство до безусловного узнавания («Грустно, брат. Прощай, брат»).
Та же струя, из того же источника — поэтического вдохновения — слышится и в других местах пьесы.
Вот, например, Хозяин говорит, обращаясь к Хозяйке: «А вдруг ты и не умрешь, а превратишься в плющ, да и обовьешься вокруг меня, дурака…» Что это? Переложение шекспировского сонета? Или предвосхищение сходного образа из стихотворения Пастернака:
«Я кончился, а ты жива,
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу,
Как парусников кузова…»?
Или этот вот монолог Эмилии: «Ах, как мне хотелось бы попасть в те удивительные страны, о которых рассказывают в романах! Небо там серое, часто идут дожди, ветер воет в трубах, и там вовсе нет этого окаянного слова “вдруг”… Сама смерть там выглядит понятной… Удивительный мир!.. Счастливый мир!..»
Не правда ли, когда среди сада, усаженного пальмами и кипарисами, думают о странах, где «небо… серое» и где «часто 325 идут дожди», то это напоминает нам образ из пушкинской трагедии, где привычный нам север оказывается далекой чужой страной:
«… Недвижим теплый воздух — ночь лимоном
И лавром пахнет, яркая луна
Блестит на синеве густой и темной —
И сторожа кричат протяжно: Ясно!..
А далеко на севере — в Париже —
Быть может, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идет, и ветер дует…»
И разве слова Эмилии не вызывают в памяти эпиграф из Петрарки к главе шестой «Евгения Онегина», он же — лучший, по-моему, эпиграф к жизни русского общества пушкинского времени и к пушкинской трагедии в частности:
«Там, где дни облачны и кратки,
Родится племя, которому умирать не больно».
В ответ на монолог Эмилии Хозяин произносит слова, полные мужества и веры: «Давайте принимать жизнь такой, как она есть. Дождики дождиками, но бывают и чудеса, и удивительные превращения, и утешительные сны…»
В этих словах выражена философия самого Е. Шварца, который, как добрый волшебник, «взял и собрал людей, и перетасовал их, и все они стали жить так, чтобы ты смеялась и плакала…». И не важно, к кому конкретно в данном случае обращены эти слова, потому что, в конечном счете, с ними обращается Автор — к Зрителю. Это Автор дарит нам «собранье действующих лиц», как поэт дарил когда-то другу «собранье пестрых глав».
Но в этих словах не только ключ к пониманию философии Шварца. В них также ключ к пониманию метода, каким сделана пьеса и поставлен спектакль. Ибо и Шварц, и Гарин убеждены, что «чудеса подчинены таким же законам, как и все другие явления природы». Они верят в конечное торжество добра. Более того, они верят, что именно добро и является ведущей силой: «Злые волшебники стараются изо всех сил, ведь они подчинены нам, добрым». Но такая позиция вовсе не означает ханжеского запрета на грусть («Все будет хорошо. Все кончится печально»). В этом умении соединить противоречивые движения души в единую картину мира и заключено то необыкновенное чудо творчества, которое так счастливо свело на сцене писателя Е. Шварца и артиста и режиссера Э. Гарина…
… Вскоре после премьеры «Чуда» в квартире Э. Гарина и Х. Локшиной появился новый житель — большой плюшевый медведь, одетый в светлую курточку с вязаным воротником (точно такую, в какой играл эту роль артист В. Тихонов). На шее у медведя висел ремешок, а на нем — металлическая табличка с надписью: «Меня превратил в Чудо Эраст Павлович Гарин, и сделал он это прекрасно: у него золотые руки». Так, на языке волшебников, словами, сказанными в пьесе про волшебника, один волшебник объяснился в любви другому…
Вячеслав Тихонов
ЗАСТЕНЧИВЫЙ ВОЛШЕБНИК
Гарин с детства был одним из моих любимых артистов. На каждом спектакле я наслаждался его игрой и каждый раз не мог разгадать «загадку Гарина». Чем же он манил? Тем, что был как бы из другого творческого мира: он нес мне и моим товарищам в ту пору недоступное искусство — школы, его воспитавшей. Тогда мы — актеры среднего поколения и тем более молодые — были в большинстве представителями традиционной школы.
Актеры, которые прошли школу Мейерхольда, прекрасно владеют своим телом, мимикой, голосом — и ярко, и правдиво. Позой или одним жестом, верно найденной интонацией они могут выразить характер. Короче говоря, владеют и мыслью, и формой.
Как раз этого нам, молодым актерам начала пятидесятых годов, и не хватало, поэтому я с наслаждением учился у Гарина.
Я могу с полным правом сказать, что он является моим учителем. Прямым учителем — я играл в «Обыкновенном чуде» в его постановке, мне выпало счастье быть с ним на сцене. Естественно, я не могу взять на вооружение ту острую форму, которой Эраст Павлович так блистательно владел. Однако, работая над ролью, я стараюсь постичь не только внутреннюю сущность персонажа, но и найти выразительный внешний рисунок роли. Когда то и другое удается соединить, я чувствую себя учеником Гарина.
Эраст Павлович относился к молодым как отец. Как будто он взял на себя обязательство воспитывать их дальше, после института. С первого появления молодого артиста в Театре киноактера он или она попадали в сферу пристального внимания Гарина и его жены и друга Хеси Александровны Локшиной. Они ненавязчиво наблюдали за нами, беседовали, смотрели наши работы и каждый раз в очередном спектакле предъявляли публике новую группу необстрелянной молодежи.
326 В Театре киноактера в начале пятидесятых годов мы репетировали «Обыкновенное чудо» Е. Шварца. Спектакль ставил Эраст Павлович, мне он доверил роль Медведя, юноши. Там была сцена встречи Медведя и Принцессы, вот она-то у меня никакие шла.
Гарин сидел за режиссерским столиком в темном проеме пустого зала и время от времени бросал:
— Еще раз!
Мы повторяли. Опять раздавалось: «Еще раз!» Мы снова повторяли. И опять следовало: «Еще раз!»
Сколько было таких «разов», я уже не помню, но вдруг Гарин сорвался с места, подбежал к рампе и закричал:
— Вячеслав, а ты пузо-то себе вспори! Печенку, селезенку, кишки — все ей, ей, ей!
Странное режиссерское указание, не правда ли?.. Но ведь и его Хлестаков был как бы бестелесным!.. Так я понял Эраста Павловича. И сыграл, как он подсказывал. И с наслаждением услышал возглас Гарина:
— Пошли дальше!
В режиссерском указании Эраста Павловича, выраженном так необычно, были и юмор, и информация, необходимая актеру: оно и сформулировано было по-гарински. И во многих других случаях Гарин выражался по-своему, и мы его прекрасно понимали.
Иногда подойдешь, спросишь:
— Эраст Павлович, когда же мы будем играть вот эту сцену? Давно пора…
Он взглянет в пьесу, скажет:
— Не знаю, не знаю. Пока не знаю. Погнием.
Почему он выражался так, не знаю — не спрашивал; но мы понимали, он оставлял время, чтобы прийти к сцене естественным путем.
Или Гарин бросал:
— Пшено!
Можно было задуматься: «пшено» — это в каком же смысле? В смысле кашки? Но опять-таки мы понимали: что-то не то, Гарину показанное не нравится. Наверное, мелко, мелочно…
В «Обыкновенном чуде» Гарин играл Короля. Помню, когда на сцене был Гарин, а я — Медведь — мог отдыхать, какая-то неведомая сила толкала меня еще раз посмотреть игру большого артиста. Потому что каждый раз он играл ту или иную сцену в определенной законченной форме, но — по-разному. И каждый раз зритель неизменно верил всему, что делал на сцене Гарин.
Гарин в театре и кинематографе и Гарин в жизни у меня никак не соединялись в одного человека. Великий артист, маг и волшебник, в жизни он вдруг оказывался простым, общительным, удивительно скромным, даже — застенчивым человеком.
В каждом, кто соприкасался с ним, есть частица Гарина. Он как бы растворился в нас, его учениках.
Записал Г. Цитриняк
Валентина Караваева
ЧИСТОЕ ЧУДО
Эраст Павлович Гарин для меня — чистое и прекрасное творческое и человеческое чудо, пример служения искусству. … И спектакль, на котором мы встретились, был… «Обыкновенным чудом» Е. Шварца (в сезоне 1954/55 г.). За это наше сценическое «Чудо» Эрасту Павловичу пришлось по-настоящему бороться, долго и самоотверженно. И он боролся самозабвенно, как Дон Кихот Ламанчский, на которого он так походил и легким своим обликом, и незащищенностью, и детски чистым взглядом, и упорством веры, и верностью мечте.
Уже первая читка пьесы стала тихим и глубоким чудом: читал сам Эраст Павлович Гарин. Читал он тихо, просто, ровно… Но вдруг стало казаться, что в серенький сумрак тесной служебной, казенной театральной комнатки (день был пасмурный) стал неведомо откуда вливаться поток струистого света.
Это было свечение и излучение живой красоты, нежной радости — они сверкали в тихом гаринском голосе.
Все, о чем он читал, было видимо, осязаемо, живо. Действующие лица дышали, в них бились сердца.
И репетиционный период стал чудесным: никаких режиссерских эффектов, ни речей, ни показов, ни мизансценных изысков и исканий. Мы просто читали, читали, читали. А Гарин слушал и изредка бросал смешные и милые замечания. Само присутствие его, какая-то отцовская нежность и бережность к актерам — все это приближало рождение спектакля.
Как мы были счастливы! И как потом были счастливы — со слезами на глазах — наши первые зрители, тоже актеры, когда мы показывали им в репетиционном зале первый набросок спектакля! Этот наш эскиз спектакля был утвержден наконец театральным начальством, и мы стали завершать свою работу уже на сцене.
Спектакль глубоко полюбили зрители. Смотрели по нескольку раз. А некоторые ходили к нам каждый раз, когда шло «Чудо».
Потом спектакль передавался по телевидению. Наконец «Чудо» превратилось в фильм, снятый на Киностудии имени Горького. Но, увы, был он снят с изменениями, в варианте сказки для детей. Глубинная философия авторского и режиссерского замысла, все, что было нажито актерами, — словом, все богатство нашего коллективного творения вместилось в черно-белую, урезанную и упрощенную детскую киноверсию.
Но все же, когда мы показывали фильм ученым города Дубны, зрители, мне кажется, почувствовали истинные масштабы замысла. Все остались на обсуждение фильма, все волновались, выступали страстно. Рядом со мной на сцене сидел администратор клуба, он удивленно говорил: «Вы подумайте, зал 327 битком набит, никто не ушел и, гляди ты, все остались на обсуждение, и все хотят выступать!»
Я забрела однажды посмотреть, как «рядовой зритель» принимает фильм на утреннем сеансе в захудалом окраинном кинотеатрике. К удивлению моему, зал был полон. Даже детишки сидели притихшие, не отрывая глаз от экрана. Смеялись негромко, никто не шуршал конфетами, не ел мороженое. Даже не переговаривались. И вот, уже к концу, когда Медведь пробился сквозь все препятствия к своей Принцессе и наступил момент счастья, какой-то паренек вдруг сорвался с места и пошел к выходу, громко и сердито говоря на ходу: «Отрава! Отрава души! Для чего они душу-то поджигают! Растревоживают только!» Какая-то заклокотавшая боль, затаенная, внезапно прорвавшаяся во вскрике этого парня, была, казалось, понятна всем в зале. Все молчали, кто-то вздохнул. Почему-то стало жалко этого парня, досматривавшего фильм из-за занавески. Казалось, всем стала понятна его вскрикнувшая мечта о том, чего всегда жаждет душа человеческая…
Вот какие чувства вызывал гаринский спектакль, ставший фильмом.
Светлое чудо личности Гарина — как много тепла, веселья, красоты дарило оно людям! А для меня — после «Машеньки» и чеховской «Чайки» — встреча с Гариным стала незабываемым счастьем.
Евгений Весник
ЧЕЛОВЕК РАЗМЫШЛЯЮЩИЙ
|
Вся разница между умным и глупым в одном: первый — всегда подумает и редко скажет; второй — всегда скажет и никогда не подумает. У первого язык — секретарь мысли, у второго — ее сплетник или доносчик. В. Ключевский |
Меня часто посещает какая-то внутренняя тревога, когда слышу безапелляционную болтовню актеров по любому поводу, по любой проблеме — политической, государственной. Человек должен, по моему разумению, заниматься в основном делом, но не болтать, не пополнять ряды дилетантов, которых так много развелось в наше время! Моему сердцу милее мастеровые, умельцы, актеры, художники, изобретатели, спортсмены, отдающие себя любимой профессии. Как правило, они из тех, кого называют добрыми чудаками, никакого отношения к болтунам не имеющими. Болтовня и дело — несовместимы.
Одним из самых талантливых чудаков был незаметный в жизни и быту, но только не на экране и сцене, производящий впечатление какого-то недотепы, умнейший Эраст Павлович Гарин. Трогательный, беззащитный фанатик театра и кино, загадочный для одних и очень понятный для других. Человек, по свидетельству хорошо знавших его, не произносивший лишних слов, напрочь лишенный риторичности. Все им произнесенное было всегда связано с конкретными проблемами, всегда относилось к сути режиссерской или актерской работы. Он не говорил лишнего и никогда не врал, следуя словам Монтеня: «Как только язык свернул на путь лжи, прямо удивительно, до чего трудно возвратить его к правде».
Он был великим профессионалом и не мог себе позволить отвлекаться на треп, лень. Эраст Павлович был человеком размышляющим, и это качество во многом объясняло его замкнутость и малословие. Невозможно представить Гарина, произносящего с трибуны пламенную речь по поводу работы и судьбы каких-нибудь партий. Это было бы гомерически смешно или… трагично!
Еще: он почти никогда не пользовался иностранными словами. Прекрасно обходился родным языком. Вместо «ромштекс» говорил — «кусок жареного мяса», вместо «бифштекс» — «кусочек мяса с кровью», вместо «коктейль» — «петушиный хвост», что соответствовало буквальному переводу этого английского слова. Не «плагиат» — а «похитил» или просто «спер», вместо «плюрализм» — «несколько мнений», «множество мнений»; не «трактовать» — а «толковать»; не «виртуоз», а «умелец», «мастер».
Я не хочу этими примерами спорить, стоит ли и хорошо или не очень так говорить. Я привожу их только для более конкретного восприятия сути человеческой.
328 У меня были неоднократные творческие контакты с Эрастом Павловичем Гариным. Я снимался в его картине «Обыкновенное чудо», играл в его спектаклях «Тень», «Двенадцать стульев», часто встречался с ним в его доме. Чаще всего он был сосредоточен, неразговорчив, и лишь внимательный взгляд на собеседника выдавал процесс энергичной душевной работы.
Был строг в работе. Помню, как Гарин снял с роли известного артиста, который и по годам, и по званию был старше его. Снял за два незначительных опоздания на репетицию и нетвердое знание текста. Артист извинялся, но Гарин своего решения не изменил. Сейчас могу твердо сказать, что это заметно укрепило творческую и производственную дисциплину в театре.
На репетиции сам Эраст Павлович приходил всегда первым, задолго до начала, с тетрадочкой в руках, перевязанной веревочкой крест-накрест. Бродил по сцене, проверял ранее изобретенные мизансцены. Графическое решение спектакля для него было если не главным, то одним из важных принципов в постановках. Порой жестом, мизансценой он выражал смысл происходящего на сцене гораздо ярче и доходчивее, нежели словами…
Рассказывать Гарину — комедийному актеру, человеку с очень развитым чувством юмора — анекдоты, смешные истории было занятием неблагодарным. Даже на «шлягерные», как мы говорили, анекдоты он реагировал слабо. А увидев, к примеру, на экране телевизора промахнувшегося или упавшего от неловкого движения футболиста, мог долго от души хохотать, как мальчишка!
Потерпев несколько раз фиаско как рассказчик смешных историй, я стал присматриваться к нему: в чем дело? И понял. Во время рассказа Гарин хоть и смотрел на тебя, но не слушал, оставаясь в плену своих мыслей. Позже я все-таки нашел способ, как заставить его улыбаться. Все оказалось просто: надо было рассказываемую историю сопровождать показом, подключая мимику и жест. Если история ему нравилась, он хитро улыбался и готов был тут же сам ее пересказать, но на свой лад и уж обязательно с неожиданным, другим концом.
Он нередко бывал рассеян. А ведь известно, что рассеянность — высшая степень сосредоточенности.
Спал на старой железной кровати, провисавшей, как гамак, и никому не позволял ее заменить. В той же комнате, где была эта кровать, находилась богатейшая библиотека, на полках которой можно было увидеть редчайшие книги по скульптуре. Он коллекционировал все издания, имевшие отношение к выразительности рук и кистей, недаром был большим мастером динамики тела, которой увлекся со времен совместной работы с Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом.
Он не гнушался застолья. Но мало ел, любил селедку и чай. При жене он не позволял себе и рюмочки водки. Без нее, бывало, позволял то, что иногда приводило к нежелательным результатам.
Его Хеся Александровна — чудо-человек, сказочной доброты и ума. Она часто занималась режиссурой на озвучании иностранных фильмов и была в этом деле ведущим мастером на Киностудии имени Горького, да и вообще в стране. А Эрасту Павловичу очень не нравилось заниматься дублированием какого-то актера, он не считал это творческой работой. Я думаю, что здесь он ошибался, так как дублирование большого актера означает — прочувствовать вместе с ним суть создаваемого им образа. Я испытал и сложность, и полезность этой работы, с восхищением вторя таким мастерам, как Марчелло Мастроянни, Альдо Фабрицци, Луи де Фюнес, Тото, Фернандель и многие другие.
Изредка, не без труда, Хесе Александровне удавалось уговорить мужа хотя бы попробоваться на чудесную роль в столь же чудесном исполнении большого иностранного актера. Он приходил, волновался, как школьник, мучился — не по нем была эта трудная и занудная работа. Сердился при всех: «Отпусти меня, не унижай! Больше не вызывай меня! Я тебя ненавижу!»
А сам без нее жить не мог. Бывали в их отношениях весьма экстравагантные сценки. Как-то Хеся Александровна долго что-то объясняла артисту на репетиции в театре — она всегда совместно с Гариным ставила и спектакли, и фильмы. Он ждал, ждал и наконец выпалил: «Хеська, припопь себя», что, по Гарину, означало: «Сядь!» И не было в этом никакой грубости, была какая-то ребячья удаль.
Анатолий Дмитриевич Папанов записывал за Гариным его немыслимые каламбуры.
— Эраст Павлович, что-то душно в помещении, трудно репетировать!
— Пра-а-а-авильно! Нужно открыть форточку и устроить проветрен в смысле кислородизма.
— Эраст Павлович, в этой сцене напрашивается лирический музыкальный фон.
— Пра-а-а-авильно! Душещипательность хиловата. Яша! — обращался Гарин к заведующему музыкальной частью театра. — В этой сцене должны нежно зачесать скрипки! Для слезорождения!
329 Жена Анатолия Дмитриевича Надежда Каратаева рассказывала, что часто в минуты отдыха, расположившись уютно в кресле под лампой, Папанов с наслаждением вслух перечитывал гаринские каламбуры, смеясь от всей души.
Ялта. Снимается фильм «Обыкновенное чудо». День рождения Гарина — постановщика фильма. В номере гостиницы накрыт богатый стол: невероятная хлебосольность жены Эраста Павловича общеизвестна. Мое непродуманное поведение за столом привело к тому, что сниматься на следующий день я не смог. Съемка была отменена.
Эраст Павлович сказал мне лишь одну фразу:
— Не умеешь ходить в гости — не ходи! Слаба-а-ак! Палочка Коха!
Кстати, о Хесе Александровне. Вместе с Гариным она ставила мою инсценировку «Двенадцать стульев» в Театре сатиры. Анатолий Папанов — Воробьянинов, я — Остап Бендер. На одной из репетиций Папанов говорит мне:
— Что-то я неважно себя чувствую. Подпростыл немного. Как бы не разболеться. Надо бы за водочкой послать — немного согреться.
У нас не хватило рубля до полного счастья. В перерыве одалживаю рубль у Хеси Александровны. Узнав, зачем он мне нужен, она сказала:
— Пожалуйста, возьмите меня в компанию, я тоже что-то продрогла немного!
— Пожалуйста, — соглашаюсь я.
После репетиции накрыли стол: бутылка водки, три стаканчика и три скромных бутербродика. Папанов командует:
— Приглашай!
Привожу Хесю Александровну, хрупкую, болезненную, перенесшую несколько инфарктов и множество воспалений легких. Предположить, что она может на равных разделить с нами зелье, было просто немыслимо.
— Пожалуйста, Хеся Александровна.
Стаканы наполняются.
— Какой мой?
— Любой, — улыбается Папанов и я тоже. Переглядываемся.
— Ваше здоровье, — говорит Хеся Александровна, чокается с нами и спокойно выпивает весь стакан. — Большое спасибо, — говорит нам она и, не притронувшись к бутерброду, покидает нас.
Переглядываемся снова. Папанов, не успевший, как и я, выпить свою порцию, говорит:
— Рубль не отдавай!
На другой репетиции «Двенадцати стульев» мы с Гариным заговорили о том, что в «Золотом теленке» прекрасно описано, как Бендер не мог с толком потратить свой миллион в такой стране, как наша.
— Ерунда-а-а-а! Это слабость романа! Что значит не мог потратить миллион?! Ерунда! Вы мне дайте миллион, я его за неделю найду куда пристроить. Только чтобы Хеся не участвовала в операции!
Опять ребячество. Он, как послушный сынок, все деньги отдавал мамочке Хесе, никогда не знал что почем, везде его обсчитывали, вечно он терял зарплату, а уж в миллионеры и в деловые люди ну никак не годился.
Гарин и Пырьев когда-то очень хорошо относились друг к другу. Может быть, даже дружили, но… Что-то между ними произошло, отношения стали натянутыми. И я невольно оказался первопричиной начала их примирения.
Снимался я одновременно у Гарина в «Обыкновенном чуде» и у Пырьева в «Свете далекой звезды». Договор с Пырьевым я подписал раньше, и съемки пырьевской картины начались раньше. Поэтому когда начал сниматься у Гарина, то предупредил, что могу быть на какое-то время отозван к Пырьеву под Москву, в Монино. Гарин дал согласие.
В Ялту, где я снимался у Гарина, приходит телеграмма: меня срочно вызывает на съемки Пырьев. Иду с телеграммой к Гарину. Тот, согласно договоренности, отпускает меня, но просит:
— Скажи Ивану, что я его прошу отснять тебя не за десять дней, как у тебя в договоре сказано, а за пять. Передай ему, что у меня горит картина. Что я надеюсь, что он еще хороший, что сохранил какие-то человеческие качества, несмотря на то, что мы в ссоре. Передай ему, чтоб он был человеком, а не дерьмом.
— Так и передать?
— Так и передай.
Прилетаю в Москву, еду в Монино. Приезжаю почти ночью, иду к Пырьеву, у того — посиделки. Увидев меня, обрадовался:
— Прилетел! Молодец! Завтра немного погуляй, оглядись, текст подучи. Послезавтра начнем снимать.
— Иван Александрович, вот какая история. Мне Эраст Павлович велел вам сказать…
И передаю дословно весь текст, который сказал Гарин. Пырьев замер, нахмурился, глаза стали недобрыми.
— Он прямо так и сказал: сохранилось во мне что-нибудь человеческое или не сохранилось?
330 — Да.
— Директор, расходимся! Давай тревогу! В семь утра съемка! Будем снимать Весника! Чтоб к семи часам на съемочной площадке все было готово! И никаких разговоров! Самолеты чтоб взлетали, приземлялись! Санвзвод, солдат, всех подготовить!
А был уже первый час ночи.
— Текст выучишь? — обращается ко мне.
— Да. Сейчас буду учить.
От такого напора я даже несколько растерялся.
— Давай. В семь часов — на съемочной площадке. Директор, устройте его поспать, дайте текст. Расходимся.
Мне дали комнату. Я, конечно, не спал: учил текст. Восемь страниц. Полтора часа поспал, в семь часов был на съемочной площадке.
А там уже все готово к съемке: рельсы для операторской тележки проложены, самолеты гудят, санвзвод на месте. И началось…
Взлетали и садились самолеты, бегали люди, ко мне подходили, что-то докладывали. Говорю громче, говорю тише, куда-то иду, смотрю в разные стороны, как велит оператор, санвзвод бегает, камера трещит… Съемка!
Вместо десяти запланированных дней все было сделано к четырем часам дня! Вместо пяти дней, которые просил Гарин, меня отсняли за девять часов!
Подошел Пырьев и почти сорванным от адской работы голосом прокричал:
— И передай ему, что дерьмо он, а не я! Я-то человек!
А вот в нем сохранилось ли что-нибудь? Сегодня же лети, пожалуйста, обратно. Директор! Отправить его немедленно из Москвы в Ялту. Срочно!
Меня сажают в машину, в аэропорту — сразу к начальнику перевозок, потом в самолет. В одиннадцать часов вечера я уже в Ялте. Появляюсь перед Гариным. Он не верит собственным глазам. Я подробно ему все рассказал.
— Ты врешь! Неужели за девять часов? Не может быть! Надо мириться!
После этого случая у Гарина и Пырьева началось новое сближение, возродилось их товарищество.
Эраст Гарин и Хеся Локшина — святая пара. Друг без друга они жить не могли. Детей у них не было. Она относилась к нему как к сыну, к брату, а Эраст ее заботы принимал с важной и гордой безропотностью, как само собой разумеющееся. Она часто болела, лежала в больницах, и в эти дни можно было ощутить, кем была Хеся для Эраста. Он сникал, худел, мрачнел, старел, обрастал бородой, делался мятым, неуютным и даже злюкой с глазами, полными тревоги, печали и растерянности.
Когда он ушел из жизни, Хеся Александровна сгорела очень быстро. Без Эраста Павловича она стала потерянной, вскоре ушла к нему. Такие пары не забываются. Голубки!
Вера Васильева
ВСТРЕЧА СО СКАЗОЧНИКОМ
В детстве мы все любим сказку. Потом она уходит вместе с детством, и все же в душе всегда теплится любовь к ней. Я уже была профессиональной актрисой, сыграла в Театре сатиры немало ролей, среди которых были и такие, как Ольга в «Свадьбе с приданым», принесшая мне и радость, и успех. И вот вдруг снова вошла в мою жизнь сказка, и принес ее чудесный артист, удивительный человек, прекрасный режиссер Эраст Павлович Гарин. Группа молодежи, к которой примкнула и я, решила поставить «внеплановый» спектакль «Тень» Евгения Шварца. И дирекция Театра сатиры пригласила для этого Гарина.
Мы, несколько энтузиастов, приходили за два часа до начала гаринских репетиций и с восторгом, душевным волнением встречались с режиссером.
Репетиции были полны удивительных показов. Мы восхищались неожиданными репликами режиссера, его находками в анализе любой роли.
Я и сегодня вспоминаю Гарина как некоего доброго волшебника.
Вы, наверное, помните Ученого — героя «Тени». Его репетировал молодой и очень обаятельный актер Юрий Хлопецкий. Это добрый, наивный, скромный, кристально чистый, удивительно искренний человек. Ученый говорит: «Конечно, мир устроен разумнее, чем кажется. Еще немножко — дня два-три работы, — и я пойму, как сделать всех людей счастливыми». Как все непрактичные люди, он беден. Когда Принцесса спрашивает его: «Вы нищий?» — он гордо отвечает: «Нет, я ученый!» — «У вас очень странное лицо», — говорит Принцесса. — «Чем же?» — «Когда вы говорите, то кажется, будто вы не лжете». — «Я и в самом деле не лгу». Всего несколько реплик характеризуют его, а если вспомнить всю пьесу, она пронизана добром и светом его души.
Я репетировала Аннунциату, простую девушку, преданную всем своим существом Ученому. И вот для меня Эраст Павлович и был тем самым Ученым из сказки.
Он пришел на репетицию в костюме стареньком, но выглядел удивительно элегантно. Его облик в этом костюме был аристократичен, движения — мягкими, затаенными и одухотворенными. Он был очень худ, строен, легок, с нежно-голубыми, широко открытыми глазами, как в «Золушке». В руках у него была книга Е. Шварца, перевязанная ленточкой. Как будто школьник пришел в первый раз в первый класс и взял свою любимую книжку на урок. И так всегда он приходил на репетиции, с этой книжечкой, перевязанной ленточкой, и клал ее рядом с собой.
Он был добр и тих, но ему и не надо было быть другим. Мы ловили каждое его слово и пытались сделать то, что он нам 331 показывал или рассказывал. Мне нравились все исполнители, все мне казались талантливыми, атмосфера была удивительной, а когда что-то не получалось, он говорил: «Давайте начнем еще». Его жена, режиссер Хеся Александровна Локшина, очень хорошо чувствовала сценическую речь, действие, атмосферу сцены. Оба вместе отдавали нам все силы, всю любовь свою к искусству и воспринимали нас всех как своих питомцев. Притом казалось, что об успехе спектакля Эраст Павлович не очень-то и думает. И наш спектакль получился «студенческим», как бы незаконченным, не отшлифованным до совершенства. Но его иногда эскизные сцены были сыграны актерами необычно и завораживали чистотой, озаренностью. До сих пор у меня осталось ощущение соприкосновения с прекрасным.
… Мы все расписались на премьерной афише спектакля. Мы не сговаривались, но у каждого нашлись слова из пьесы «Тень», которые относились к Ученому. Я написала слова Аннунциаты: «Никому не позволю тебя обидеть. Ни за что. Никогда».
Мы больше не встретились в работе. Наверное, жизнь наносила свои удары Сказочнику, как это часто бывает. Самым лучшим, самым добрым достается сильнее всего. И наверное, не в моих силах было уберечь этого прекрасного человека от боли, от обид. И все-таки мне больно, что Эраст Павлович так и не узнал, какую мощную волну нежности, чистоты, благодарности пробудил он своей творческой личностью во всех, кто хоть однажды встретился с ним в работе.
Анатолий Папанов
ГЕНИАЛЬНЫЙ РЕБЕНОК
Я познакомился с Эрастом Павловичем Гариным до войны, заочно. Я увидел картину «Музыкальная история». Мы, мальчишки, тогда в кино бегали — каждую картину раз по пять смотрели. «Музыкальную историю» я посмотрел семь раз или даже восемь.
Я в то время был уже некоторым образом причастен к искусству, поскольку ходил в драматический кружок клуба «Каучук». Кружком этим руководили вахтанговцы, и в частности Василий Васильевич Куза. И он, и другие актеры очень много говорили о Гарине. Вообще, о Гарине ходили легенды. Говорили о том, что он совершенно удивительный, уникальный актер, что подобного, пожалуй, и сыскать нельзя и что человек он незаурядный, ярчайшая творческая индивидуальность.
И легенды эти были всегда подтверждены тем, что мы потом видели в кино и театре.
Я работал в Московском театре сатиры, когда стало известно, что Эраст Павлович собирается ставить у нас спектакль. Это было событием. Во-первых, наш главный режиссер В. Н. Плучек говорил нам о Гарине, что артист потряс его своей игрой. Во-вторых, Плучек считал себя учеником Эраста Павловича и Хеси Александровны Локшиной — он учился у них в Гэктемасе.
И вот Гарин приходит в наш театр, чтобы поставить «Тень» Е. Шварца, а затем спектакль «12 стульев», в котором мне довелось участвовать. Эраст, перед тем как приступить к репетициям, просмотрел все наши спектакли и назначил меня на роль Кисы Воробьянинова. Счастью моему не было предела.
Начались репетиции, разговоры о роли.
Гарин никогда не занимался каким-то нудным «творческим» анализом, как это любят иные режиссеры. Он терпеть не мог абстрактных разговоров, всегда был конкретен, говорил мало, но замечания его были поразительно точные. На его репетиции приходил весь театр. Даже не занятые в спектакле актеры оставляли другие дела и приходили. Помню, Владимир Лепко — превосходный актер, он был постарше Эраста Павловича — тоже приходил… Он вообще как-то особенно относился к Гарину и говорил актерам: «Вы Эраста Павловича не волнуйте, не обижайте…» Какое там обижайте! В него все были буквально влюблены. Удивительный был человек — он сразу влюблял в себя!
И еще одно — он никогда не лгал. И совершенно был чужд каким-либо взаимовыяснениям, интригам — это в нем напрочь отсутствовало. Он совершенно твердо знал, что искусство — это отдача всего себя. И ничто другое его просто не интересовало. Искусство, если хотите, было его религией. А это всегда воздействует на окружающих, никого не оставляя равнодушным…
332 Потому-то его репетиции были настоящим праздником. Эраст Павлович приходил всегда раньше других. Он меньше всего заботился о своих удобствах, благополучии. Он был снисходителен, но в то же время и требователен. При этом его никто не боялся. Хотя нет, боялись в творческом плане: вдруг Эраст Павлович подумает, что ты не готов или текст читаешь небрежно, — не дай бог! У него была своя, неповторимая лексика, необычайно образная речь, оригинальный, самобытный юмор. Иногда одной репликой Эраст Павлович мог подсказать пластическое решение, атмосферу всей сцены. Например, так он охарактеризовал мебель — 12 стульев — в спектакле: «У них ведь мебель кусается: куда ни сядь — везде клопы…» Или Аросевой: «Ольга, ори во все глаза, когда происходит сбор этой публики!» То есть, по роли слов нету, но, когда публику обирают, «ори во все глаза». Это гаринское…
… Когда он репетировал с женщинами, то мы, мужчины, смеялись, а когда с мужчинами, то тут уж хохотали женщины. Он говорил: «Мы как-то недооцениваем присутствие женщин на наших репетициях. А ведь это что такое — вышла женщина на сцену? А вы все спиной к женщине, все норовите свой крупный план показывать… Женщина на сцене! Как перед ней стоять? Как сидеть? А это надо себе хорошо представлять — как, к примеру, Чацкий должен перед Софьей стоять? как он должен говорить? как держать ее за руку?..»
Иногда на репетиции он ничего не говорил, а просто смотрел на сцену. Глядеть на него в этот момент уже было наслаждением. Он проигрывал за каждого артиста, но как проигрывал! На его лице такая гамма чувств отображалась, что можно было понять всю историю, рассказанную Ильфом и Петровым.
Или сидит, смотрит… Потом обращается к артистам: «Ну, попробуем еще раз!» Или: «Не надо! Поскольку не зарубцевалось. Может, не надо рану-то тревожить? Давайте другую сцену…» Он чувствовал, что иногда будто что-то наболело… Такая интуиция! Этому не научишь — ни в каких институтах, ни в каких книгах не вычитаешь… Это от природы дано такое художественное чутье. Мне кажется, можно узнать, насколько человек воспитан, насколько заряжен творчеством, по тому, как он умеет молчать и слушать. Эраст Павлович выслушивал все доводы, был очень внимателен к замечаниям актеров. У нас, артистов, есть такой термин: актеру «жмет». В таких случаях Гарин сам проигрывал сцену. «Да, тут немножко неудобно, давай так». И покажет. После его показов мы частенько говорили: «Эраст Павлович, вы уж лучше нам не показывайте, после вас играть невозможно». «Ну, не хотите — не буду», — говорил он. Но, конечно, удержаться не мог, показывал, к нашей радости. Он никогда ничего не устанавливал категорически, говорил: «А почему… может, есть вариант еще лучше?»
Во всем, что делал Гарин, внешняя форма всегда была в полной гармонии с содержанием. Вот чему надо учиться!
И еще одно: Гарин был профессиональным человеком, производственником. Спектакль нужно выпустить в срок — и он это делал. И не было вокруг никакой суеты, паники. У нас сейчас существует специальный штаб по выпуску спектакля. А Эраст Павлович, бывало, скажет: «Почему не готова декорация? Позови сюда Якова Семеновича. Яков Семенович, когда будет декорация? Не обманешь?» — «Не обману». И не обманывал. Потому что Гарина нельзя было подвести.
Эраст Павлович прекрасно знал не только театр, но и кино, понимал все, что происходит в кадре, «чувствовал» группу, с которой работал. Мы встретились с ним на фильме «Веселые расплюевские дни», он утвердил меня на роль Варравина. Мне поначалу казалось, что это не моя роль. Но Эраст Павлович упорно тянул меня к намеченной цели. Он был предельно внимателен ко всему, вплоть до мелочей. Помню, с каким вниманием он наблюдал за тем, как я одеваюсь, проверял, подходит ли мне толщинка, настаивал, чтобы мне сшили именно ту шубу, которая подобала моему герою.
Своей игрой как партнер он способен был поставить тебя в такие предлагаемые обстоятельства, в которые никакой другой тебя не поставил бы. И ты чувствовал себя в этих обстоятельствах раскованно. Часто говорят: чем талантливее актер, тем труднее с ним играть. Да наоборот! Работать так легко, как будто тебе заранее написаны все ноты. Знаете, это как в футболе: он тебе себя как бы предлагает, заманивает. Причем все варианты технически сделаны безукоризненно.
Сам он зажигался, когда играл, забывал все — так входил в образ, в характер, — он был весь в эпохе, в материале, в мыслях героя.
Эраст Павлович очень волновался, когда приходил на площадку. Нервничал. Ночь не спал. Репетировал. Приходил раньше всех. Всегда. Я не помню случая, чтобы Эраст Павлович опоздал. Он не позволял себе этой роскоши, как некоторые… Всегда пунктуален, взыскателен к себе самому. Он любил, пользуясь словами Станиславского, искусство в себе, а не себя в искусстве.
333 Я вот с ним на радио записывался, озвучивал также с ним несколько мультфильмов. И здесь работа с Гариным была для нас, актеров, настоящей школой. «Первая рыбка — моя!» — произносил он. А я должен был за медведя говорить: «А вторая — моя». Но после него — все уже казалось так бледно!.. Запись идет без экрана, но я буквально вижу персонажа, которого он озвучивает, так ярко, так рельефно представляет он его.
Общение с такими актерами, как Эраст Павлович, Тарханов, как Хмелев, — я их в один ряд ставлю, они неповторимые индивидуальности — доставляло высшую творческую радость.
А как Гарина любили в Театре киноактера! Его никто никем не назначал, не делал ни худруком, ни главным режиссером. Никакой такой должности у него не было, чтобы перед ним шапку гнуть. Нет! Просто его уважали. От чистого сердца! Нам никто не говорил: вот этого человека надо любить, почитать. Но все именно это и делали.
Помню, Эраст Павлович пригласил меня как-то посмотреть поставленный им в Театре киноактера спектакль «Горе от ума». У себя в театре я играю Фамусова, и ему интересно было мое мнение. Это был чистый, романтический, удивительный спектакль. Великолепный. Когда я ему об этом сказал, он был очень доволен.
Помню, тогда же, за кулисами, я вновь поразился тому, как он с актерами разговаривал, какие меткие замечания делал. «Ты ей в глаза смотри. Ведь раньше люди в глаза друг другу смотрели и в альбомы стихи писали. Это не то что сейчас — телеграммы отбивают: “Я тебя люблю”, и вся почта об этом знает».
Ему могли подражать, его могли копировать, но делать так, как он, не мог никто.
Эраст Павлович был человек абсолютно бескорыстный. Его не интересовали материальные блага. Он работал только потому, что это было ему интересно. Доходило до курьеза. Нам говорили: «Позовите Гарина, ему надо подписать договор, а он не идет». Так он, кажется, и не подписал этот договор. Или подписал, когда спектакль уже вышел… Это был большой ребенок. Гениальный, я бы сказал, я не побоюсь этого слова. В его жизни были и слава, и падения, и взлеты… Но он всегда оставался человеком чистым в искусстве. И в жизни.
Говорят, театр размельчился, разболтался… нет индивидуальностей, все под микрофон, все под шепоток. А ведь выходил Эраст Павлович, и ты не оторвешься от его речи, от его самобытного говора, от его интонации, от его глаз, от его пластики.
Кому довелось хоть раз общаться с Эрастом Павловичем, не могут забыть этого удивительного художника.
Он у меня в памяти, в моем сердце. Потому что та частица, которую он вложил в меня, — она существует. Да и многие наши артисты живут его творчеством, его горячим сердцем.
Леонид Лиходеев
МОЛЧАЛИВЫЙ СОБЕСЕДНИК
Это было, кажется, в 1962 году. Меня позвали на «Мосфильм». Главный редактор одного из объединений сказал, что Э. П. Гарин «испытывает острое желание снять антирелигиозный фильм»… Мне предложили экранизировать Лео Таксиля. Лео Таксиль — известный пересмешник прошлого века — досаждал Ватикану своими пародиями на Священное писание. Во вкусе своей эпохи, когда щупанье Бога за бороду считалось модным и чрезвычайно смелым занятием, поскольку церковь господствовала повсеместно, а кружки воинственных безбожников еще не были организованы, Лео Таксиль доказывал, что Евангелие есть чушь собачья и верить в него могут одни ослы. Подобные трактовки никогда не вызывали моего энтузиазма, в чем я и признался Эрасту Павловичу.
— А зачем нам Таксиль? — сказал Гарин. — Давайте лучше подумаем, отчего эта дама, которой скоро стукнет две тысячи лет, дожила до наших дней, несмотря на то, что представляет собой, как говорят, опиум и чушь. Вот если бы вы написали для меня роль не на гротесковом вышучивании, не на кощунстве…
Но студия ждала именно гротеска и кощунства. Средства были отпущены именно на эти виды резвости. Тем более играть должен был Гарин (гротеск!), писать — фельетонист (тоже гротеск!), а кощунство прикладывалось автоматически, поскольку сама тема давно привыкла к мотиву: «Долой, долой монахов. Долой, долой попов. Мы на небо залезем, разгоним всех богов».
— Давайте сделаем так, — сказал Гарин. — В древней Галилее жил-был плотник по имени Иисус и — что из этого вышло. Будем исходить из того, что плотник был человек, которого сделали Богом.
В то время (имеется в виду время переговоров со студией) Булгаков еще не был напечатан, а Пазолини еще не доехал до нас. Тема висела в воздухе, как утренний туман над чистым лугом. Должно быть, темы посещают человеков общим заходом: заявляются, осеняют ряд голов и уходят. До следующего раза.
Я написал сценарий, в котором для Гарина предназначалась роль Левия Матфея, мытаря и апостола. Это, по замыслу моему, человек, чье смирение не было ханжеством. Оно было четко выверенным средством к достижению цели грандиозной. Он был добр, когда ему нужно было быть добрым, и беспощаден, когда требовалась беспощадность. Но самое главное, что составляло основу его характера, была органичность, лишенная какой бы то ни было рисовки или игры. Он был как природа, которой все равно, что о ней думают люди.
Я подробно пишу об этом для того, чтобы рассказать, чего хотел Гарин, какая роль ему виделась, что он мечтал тогда играть. Я приносил куски работы, и он на минуту, на две преображался, 334 проверяя «на зуб» сделанное. Две минуты я видел человека, именно человека, в котором добро было добром природы и зло злом ее — не предуготованным, не замышленным, как это бывает у людей, а именно природным. Я записывал за ним, как следует записывать за своим героем, не корректируя, не редактируя, если хочешь, чтобы была приличная книга.
— Здесь — пойдет, — говорил он вдруг, снова становясь Эрастом Павловичем, — а здесь — давит… Посмотрите… Не держите его, не держите… Пускай себе — как ему нужно…
И — показывал.
И я снова записывал.
Роли, которые он сыграл, остались в золотом фонде нашей памяти. Я вспоминаю историю еще одной роли, которой не суждено было стать сыгранной. Роли, в которой Гарин сверкнул для самого себя и для одного-двух зрителей еще одной гранью своего неохватного дара. Он делал эту роль при помощи великолепного инструмента, называемого Эраст Гарин. Просто инструмент этот был, как теперь говорят, запрограммирован на значительно большее количество мелодий, чем то, которое на нем прозвучало.
Гарин умел молчать в беседе, как молчит природа — красноречиво и независимо. Слова, приведенные в этих записках, произнесены были им за долгое время. Но молчание его было важнее, ценнее и глубже множества назиданий и поучений. Он был таким, каким был. Он не жаловался, не интриговал, не суетился, как не жалуется, не интригует, не суетится чистый луг, чего бы на нем ни городили.
Я пишу все это не только потому, что печаль посещает меня вместе с воспоминаниями о неудачливой моей причастности к труду великого артиста. Причастность эта не прошла бесследно. Гарин сформулировал отношение к герою:
— Не держите его, не держите… Пускай себе — как ему нужно…
Разумеется, это сказано было давным-давно и многими для многих. Но Гарин сказал это мне. Поэтому — печаль моя светла…
Юрий Хржановский
«И ДО СЕГО ДНЯ…»
Моему непосредственному знакомству с Эрастом Гариным предшествовало заочное. Ленинградский Дом печати имел свой театр, которым руководил молодой и очень талантливый режиссер Игорь Терентьев. В репертуаре этого театра были интересные спектакли: «Джон Рид» (по книге «10 дней, которые потрясли мир»), «Наталья Тарпова» и другие. Терентьев осуществил постановку «Ревизора». Спектакль, хотя и был во многом спорным, стал событием в театральной жизни Ленинграда. Мейерхольду этот спектакль очень нравился, нравился настолько, что он даже предложил Терентьеву помещение своего театра в Москве для его показа (что и было осуществлено во время гастролей ГосТИМа). Оформление спектакля (декорации, монтировка и костюмы) было сделано группой учеников художника Филонова, в числе которых был и я. Группа называлась «Мастера аналитического искусства школы Филонова». Зал и фойе Ленинградского Дома печати были расписаны (безотносительно к спектаклю) огромными живописными панно, сделанными в принципах, которые декларировал Филонов: «… сделанность вещи при максимальном интеллектуальном и аналитическом напряжении».
Спектакль и выставка имели огромный успех. Мейерхольд, Эйзенштейн, Эренбург, Маяковский расценивали и выставку, и спектакль как большое и новое явление в искусстве. Большинство учеников Филонова умерли во время ленинградской блокады. Умер в дни блокады и Филонов. Но его живопись и в наши дни вызывает интерес во всем мире.
Гарин, как выяснилось, был среди зрителей-энтузиастов терентьевского спектакля и выставки работ филоновских учеников и в первую же нашу встречу увлеченно рассказывал о своих 335 впечатлениях. Я знал Гарина по спектаклям ГосТИМа, восторгался, как и многие, его актерскими шедеврами.
Гарин был большим знатоком и ценителем живописи. Многие из наших прогулок по Ленинграду, а затем по Москве связаны с посещением художественных выставок и книжных магазинов — его интересовали прежде всего книги по искусству. С любовью Гарина к изобразительному искусству связывается у меня то, что внешний рисунок его ролей всегда отличался особой выразительностью, а его режиссерские работы — высокой изобразительной культурой.
Но вернемся к нашему знакомству. Произошло оно в 1930 году благодаря счастливой для меня случайности.
К тому времени я успел сменить профессию и стал артистом эстрады, выступая в оригинальном жанре звукоимитации. В тридцатые годы в кинотеатрах перед сеансом практиковались так называемые дивертисменты из двух-трех эстрадных номеров вместо теперешних киножурналов. Мое выступление состояло из нескольких коротких сценок.
Тогда в самом большом кинотеатре Петроградской стороны «Молния» шел фильм Бастера Китона «Наше гостеприимство». Гарин с Локшиной пришли посмотреть своего любимого актера. После окончания фильма он пожелал встретиться со мной, сказав свою неизменную формулу: «Очень художественно!» Так завязалось наше знакомство, возникло чувство взаимной симпатии. К тому времени Гарин и Локшина перебрались в Ленинград. Мы жили по соседству, на Петроградской стороне. Наши встречи сделались частыми и неизменными.
Вскоре Гарин предложил мне принять участие в спектакле по пьесе М. Зощенко «Уважаемый товарищ», которую он ставил в Ленинградском театре комедии. Главные роли играли Л. Утесов, С. Каюков, Т. Филипповская. В спектакле была сцена в ресторанчике: в центре, за столиком, сидели Утесов и Каюков, а над их столиком, как бы в бельэтаже, была раковина, в которой и происходил эстрадный дивертисмент. Сначала исполнялись цыганские песни под гитару, а затем шел мой номер. Включение эстрадного дивертисмента в ткань спектакля было, по существу, кинематографическим приемом — в театр переносился один из принципов киномонтажа.
Когда Гарин и Локшина приступили к постановке фильма «Женитьба» по Гоголю на «Ленфильме», в мастерской С. Юткевича, они пригласили меня и моего товарища по школе Филонова Б. Гурвича в качестве художников картины. Эскизы костюмов, выбор натуры для съемок, обстановку интерьеров — все это мы должны были совмещать с обязанностями ассистентов режиссеров.
Принципиально новой была сама подготовка фильма: каждая сцена отрабатывалась тщательно во всех аспектах и только после длительного репетиционного периода наступали съемки. Об этом методе широко известно, но, к сожалению, он не получил распространения в кинематографе, хотя его творческие и производственные выгоды очевидны.
Как-то Гарин предложил мне поставить для эстрады номер. Он выбрал рассказ Чехова «Разговор человека с собакой». На роль чиновника Романсова он пригласил прекрасного эстрадного актера, обладавшего огромным сценическим обаянием, — А. М. Матова, только что снявшегося в фильме «Женитьба» в роли Анучкина. Мне предлагалось сыграть роль собаки (для роли были специально изготовлены маска и «костюм»). Мы приступили к репетициям. Гарин нашел очень интересное решение: покаяние подвыпившего чиновника Романсова во взяточничестве и казнокрадстве было переведено в иное звучание — в самовосхищение и хвастовство своей подлостью.
Вот как выглядела кульминация инсценировки. Романсов, неожиданно вскочив, шел на авансцену и обращался в зрительный зал со словами покаянного монолога: «… никто отродясь мне путного слова не сказал. Все только в душе подлецом считают, а в глаза, кроме хвалений да улыбок, — ни-ни! Хоть бы раз кто по морде съездил да выругал!» Затем, круто развернувшись, Романсов бросался к собачьей будке: «Ешь, пес, кусай! Рррви анафему. Рви и шубу. Все одно взятка… Продал ближнего и на вырученные деньги купил шубу…» (Собака пластически выражала свое презрение.) Романсов, подобрав шубу, надев ее и фуражку, медленно удалялся, наигрывая на гитаре элегический вальс. Проводив его взглядом, собака поворачивалась к зрителям, недоуменно пожимала плечами и медленно разводила лапами.
Обращение Гарина к эстраде было отнюдь не случайным. Это демократическое по самой своей природе искусство он всегда любил так же, как цирк. Поэтому неудивительно, что в числе первых зрителей, сумевших разглядеть в начинающем артисте эстрады Аркадия Райкина большое, оригинальное дарование, был Гарин. Он, кстати, был режиссером одной из первых программ Аркадия Райкина.
337 Новаторство режиссерской работы Гарина на эстраде заключалось в смелом привлечении классики, оригинальном ее прочтении. Он сумел передать нам тяготение к сильным, острым реалистическим образам, сгущенным до гротеска, до гиперболы, требующим сегодняшнего решения.
Как-то Гарин попросил Эрдмана написать для меня по модели чеховского рассказа диалог с собакой. Эрдман написал прекрасную сценку — «Собачье положение».
Гарин и Эрдман… Эти два имени для меня неразделимы. Гарин и Эрдман обладали свойством, которое я бы назвал взаимоозарением. Я думаю, что образ Гулячкина в «Мандате», воплощенный Гариным на сцене, был прямым продолжением авторской работы Эрдмана. Редко кому из актеров удается с такой полнотой раскрыть сущность — я бы сказал, человеческую сущность — драматурга. Нетрудно было предположить, как ярко смог бы Гарин сыграть Подсекальникова в «Самоубийце» — пьесе Эрдмана, получившей очень высокую оценку Станиславского и Горького.
Когда мне случалось видеть Гарина и Эрдмана вместе, меня охватывало чувство внутреннего трепета от молчаливого созерцания этих двух друзей. И всегда при этих встречах мне приходил на память рассказ Гарина о том, как он во время гастролей театра в Сибири летал за тысячу с лишним километров в Енисейск на маленьком открытом двухместном самолетике, чтобы повидать Эрдмана — всего на несколько часов. Как перед вылетом из Красноярска угрюмый пожилой пилот, подойдя к самолетику, пнул его ногой и мрачно заметил вслух: «Ну, летим в последний раз — и на свалку».
Прошли годы…
Николай Робертович умер в августе 1970 года. Мы с Гариным и Локшиной поехали на панихиду в Дом кино заранее. Гарин хотел проститься с Эрдманом наедине. Лицо Эрдмана никак не изменилось. Закрытые глаза, казалось, смотрели внутрь себя. Это был какой-то таинственный взор хотя и закрытых, но опущенных вниз глаз, словно он слушал музыку. Чуть сдвинутая в сторону нижняя губа выдавала явную сардоническую усмешку, будто ему открылось давно предвиденное: «Ну, что я говорил?.. Так оно и есть».
Гарин подошел ко мне и молча взял меня под руку. Это означало: «Уходим». Мы пошли. Шли медленно и долго. Гарин держал меня, как обычно, под руку. Вдруг он остановился и промолвил:
— А ты знаешь, что сказал Николай Робертович встречавшим его на вокзале, когда он вернулся из Енисейска? «Ой, оказывается, к-к-как вы все далеко живете!»
Около дома на Смоленском бульваре Гарин сказал: «Зайдем попить чайку». Зная хорошо многозначность кратких реплик Эраста, я почувствовал, как ему тяжело и как ему не хотелось оставаться одному.
Наша прочная, многолетняя дружба поддерживалась еще и тем, что Гарин часто привлекал меня к участию в своих работах. И я, в свою очередь, не мог обойтись без его советов и консультаций. Киностудия имени Горького предложила мне озвучить в фильме роль собаки — Белого Бима Черное Ухо, по широко известной повести Г. Троепольского. Так как в фильме не было ни одного синхронного плана, объем работы был огромный. Предстояло вдохнуть жизнь в абсолютно «немого» пса. Разве мог я обойтись без дружеской поддержки и совета Гарина? 338 Мы перечитали повесть, Гарин сказал: «Работа чрезвычайно трудная, но и чрезвычайно интересная. От тебя требуют, чтобы собака “разговаривала”. А какой текст? Текста, естественно, нет. Ты внутренне должен написать для себя “текст” твоей роли, затем перевести его на “собачий” язык и сам же должен сыграть эту роль. Вспомни, как мы делали чеховский “Разговор человека с собакой”. Помни об интонационных стыках в диалогах, об эмоциональном ритме собственно Бима и о драматизме во многих его “монологах”»…
Когда фильм вышел на экраны, Гарин не мог его увидеть — он был уже серьезно болен, и я не узнал его оценки своей работы.
Но на студийных просмотрах даже опытные кинематографисты принимали одушевленного мною Бима за «чистую монету», забывая про то, что звукооператор не может бежать с микрофоном за догоняющей поезд собакой, что живая собака не может вести эмоционально осмысленный диалог, радоваться, ухмыляться, страдать и даже — в финале фильма — воя, рыдать…
И как мне было не испытывать чувства признательности к моему дорогому Эрасту Гарину!
Проходили десятилетия… Все больше сокращалось время и маршруты наших полумолчаливых прогулок, все реже мы смотрели фильмы или спектакли. После перенесенной операции зрение Гарина резко ухудшилось — он почти ослеп. Но в нем по-прежнему сохранялся неизбывный интерес к жизни, к искусству…
Зимой 1974 года, даря мне свою книгу, Гарин сделал на титульном листе надпись, в которой вспоминал многие этапы нашей дружбы «с первого свидания в кинотеатре “Молния” на Петроградской стороне… и до сегодня…».
Гарина со мной нет, но я его люблю и помню до своего неотвратимого последнего «сего» дня.
ЭРАСТ ГАРИН И НИКОЛАЙ ЭРДМАН
(Беседа Михаила Вольпина с Юрием Любимовым)
Ю. Любимов:
Николай Робертович Эрдман был, конечно, человек удивительный… У меня есть такая своя странная, может быть, гипотеза: Эраст Павлович, как говорится, был «ушиблен» Николаем Робертовичем. Николай Робертович так однажды изумил его, словно случайно залетевший инопланетянин, что Эраст Павлович Гарин поневоле стал играть Эрдмана и на сцене, и в жизни и создал маску, замечательную «эрдмановскую» маску, как актер.
Он был блестящий актер, но он всегда играл Николая Эрдмана и даже изменял свою «маску», как в жизни изменялся Николай Робертович. Николай Робертович слегка заикался, и так же чуть заикался Гарин. А когда Николай Робертович больше стал заикаться от своей трудной жизни сатирика, то больше заикаться стал Гарин.
Почему я говорю, что Гарин был «ушиблен» Николаем Робертовичем? Потому что Николай Робертович и меня, когда я был еще молодым актером, обучил двум вещам, за что я ему глубоко благодарен. Во-первых, он всегда говорил: «Юра, но вы же артист, вы же должны чувствовать слово…» Слово! Он так и читал свои пьесы — уникально, как бы «по словам», не комкая их, не проговаривая. И мне кажется, любовь Эрдмана к слову Гарин и почувствовал как актер. Он прежде всего отличался тем, что прекрасно произносил текст. Теперь актеры часто теряют слово, проборматывают реплику, а это ужасно. Николай Робертович был поклонником театра Диалога.
М. Вольпин:
У меня несколько другое впечатление от Гарина… Я не думаю, что появился в театре однажды Эрдман, прочел «Мандат» и Гарин тут же совершенно был «ушиблен» им… Думается мне, что всегда жила в Гарине эта любовь к слову. Любовь к дикции, если хотите.
Ю. Любимов:
Она попала в благодатную почву, как библейское зерно…
М. Вольпин:
В данном случае было совпадение. Драматургия «Мандата», конечно, была удивительная. Читал Николай Робертович очень хорошо, но я думаю, Гарин очень похоже прочел бы роль Гулячкина и сыграл ее, если бы и не слышал чтение автора. Я еще до «Мандата» встретил Гарина и был поражен сходством речи его и Эрдмана. Не о внешнем сходстве я говорю. Во внутреннем облике Гарина, его чувстве юмора, насмешливости, ощущении силы слова было с самого начала что-то сближавшее его речь с речью Эрдмана. Но уже дальше начинается влияние личности, а не манеры произносить слово.
339 Тут надо сказать, что Эрдман стал для семейства Гариных действительно первым человеком на свете. Причем деликатность Гарина была поразительна по отношению к Эрдману. Он, Эрдман, находился в ссылке, у черта на куличках, в Красноярском крае. И приехал туда к нему Гарин. Вдруг является. Просидел у него час. И говорит: «Мне уже пора, я тороплюсь». — «Куда?» — «Пароход». — «Какой пароход?» — «Которым я приехал». И уехал!..
Потом я спросил Гарина: «Что это вы приехали на час в Енисейск?» Он говорит: «Я побоялся, что буду лишним, что я там помешаю Николаю Робертовичу». Он был все-таки удивительный в этом смысле человек, и очень своеобразный… Гарин хорошо понимал — простите за гордое слово — величие Николая Робертовича. Это в самом деле был большой, очень большой человек. Рядом с Мейерхольдом, Есениным, Маяковским… Рядом с самыми большими людьми в искусстве. И Маяковский это понимал, он говорил Эрдману: «Научите меня пьесы писать!»
Ю. Любимов:
Я часто встречался с Гариным, очень часто. Я тогда жил на улице Чайковского, а он шел обычно мимо — из Театра киноактера. Меньше тридцати минут наши встречи не длились. Это было нашей общей страстью — начинался разговор, с юмором, о делах наших театральных, и долго не хотелось прерывать его. Он мне много рассказывал о Николае Робертовиче и о Мейерхольде. Я мальчишкой смотрел у Мейерхольда «Даму с камелиями», «Ревизора», и только.
А однажды мы проговорили всю ночь до утра (мы с ним тогда жили в одном номере) и вместе пошли на съемку… И вот что мне очень запало из того ночного разговора… Эраст Павлович говорил: «Какие мы, артисты, были дураки, как мы не понимали Мастера, и какой я был дурак!..» Эта черта запомнилась мне в Эрасте Павловиче. Так мог сказать о себе только мыслящий человек. Думаю, он видел в Мейерхольде живой ум.
М. Вольпин:
Гарин, я согласен, принадлежал к разряду очень умных людей. Он был очень умный человек, и актер поэтому тоже очень умный.
Ю. Любимов:
… Гарин настолько любил Николая Робертовича, что восстановил в Театре киноактера его «Мандат», повторил по возможности спектакль Мейерхольда. Николай Робертович был счастлив.
М. Вольпин:
Три дня был счастлив. Говорил, что это полная и настоящая победа в возврат молодости. А потом, когда спектакль посмотрели пожилые зрители, которые шли в Театр киноактера, как в мемориал, в свой мемориал, то вдруг увидели, что Гарин уже стар для роли Гулячкина. Он играл Гулячкина с прежним темпераментом, а возраст уже просто не позволял…
Ю. Любимов:
Была у Эраста Павловича еще одна замечательная черта. Вот я вспоминаю съемки «Каина XVIII». Там собрались такие «кашалоты»! Там были и Чирков, и Жаров, и Сухаревская… И был Гарин, который был абсолютно не «кашалот». На съемочной площадке я еще раз имел возможность убедиться, какой это был деликатный человек — Эраст Павлович. Он был совершенно свободен от «звездной» болезни и слушал каждое замечание режиссера, как самый скромный ученик.
И удивительного мужества был человек. Плохо видел уже, все равно работал, как молодой артист, всегда были у него новые идеи, большие планы. Всегда он ходил на премьеры, всем интересовался. Иногда он был злой зритель, по-хорошему, по-умному злой, и до последнего дня не мог жить вне театра. 340 Уж совсем себя плохо чувствовал, но всегда приходил к нам на Таганку поглядеть, что у нас нового.
И вот это, как бы точнее сказать, любопытство к своему цеху — это ведь великое качество! Это все одна цепочка… Она была совершенно зрима. Николай Робертович нес от Гоголя свою цепочку и потому умел ценить слово. Гарин от него брал любовь к писательскому, к сценическому слову. Нельзя, чтобы она умерла, она должна жить дальше…
М. Вольпин:
А могли бы вы представить такого артиста, как Гарин, в своей труппе?
Ю. Любимов:
Обязательно! Эраст Павлович даже мне как-то сказал: «Может, мы чего-нибудь сделаем?» Он хотел что-нибудь поставить у нас в театре. А потом, знаете, как-то сказал: «А впрочем, у вас, Юра, ставить мне не надо, вы сами поставите…» Нужно быть мужественным человеком, чтобы так сказать. Ну, получилась у меня похвальба, зачеркните это.
М. Вольпин:
Нет, не надо зачеркивать. Это ценное свидетельство.
Ю. Любимов:
Гарин был очень талантливый человек: ведь работать в такой манере, которую он избрал, нашей школе русской не свойственно, это, скорее, чаплинская школа — школа актерской маски. Чаплин создал бессмертную маску. У нас пробовал создать маску Ильинский — «Закройщик из Торжка», «Праздник Святого Йоргена» — помните, он имел огромный успех. Именно тогда он создал маску. Но потом от нее отказался. Жалко, что он перестал эту маску разрабатывать — он мог бы достигнуть больших результатов.
А Гарин пошел дальше Ильинского. Но соответствующих не было сценариев, у нас это как-то не очень поощряется, у нас одна есть школа — Станиславского, других не бывает… Даже некоторые наши корифеи иногда не в состоянии были отличить маску, это высшее достижение актерского искусства, от штампа. Михаил Михайлович Тарханов, помнится, говорил: Станиславский учил нас избегать штампов. А вот у Чаплина — один штамп, а как прожил! Ай-ай-ай! А ежели у меня три штампа, то я буду жить-то ого-го как!
М. Вольпин:
Штамп и маска — это разные вещи. Маска — это такое лицо актера, который себя не меняет, а играет в этом что угодно. Думаю, что Гарин, сохраняя вот эту свою манеру говорить, также любя слово, очень широкий диапазон ролей мог бы сыграть у режиссера, который его бы с этой стороны использовал.
Ю. Любимов:
Он недооцененный актер. Он великий артист. Такого второго артиста, как Гарин, нет и не будет…
Записал А. Хржановский
Аркадий Райкин
ПО ОСОБОМУ СЧЕТУ
Я знал Эраста Павловича Гарина на протяжении многих лет. И очень его любил. Любил как прекрасного артиста, который в самых разных, непохожих друг на друга ролях сохранял свою удивительную индивидуальность. Любил как человека, который до последних дней — а дни эти были нелегкими — хранил в душе живую любовь к подлинному искусству, острую заинтересованность в его сегодняшней судьбе. Короче говоря, я действительно очень любил Эраста Павловича, и тем труднее мне писать о нем.
Наверное, нужен особый искусствоведческий дар, чтобы описать эту незаурядную актерскую судьбу, начиная с ярких, острых, порой парадоксальных работ Гарина в прославленном и очень мною любимом Театре Мейерхольда и кончая всем известными и популярными его ролями в кино. Я не театровед, а потому вряд ли смогу при помощи слов и рассуждений о «биомеханике», «эксцентрике», «гротеске» определить суть обаяния Эраста Павловича, набросать мало-мальски похожий его портрет и заключить этот набросок в рамки точного анализа. В доме у Гарина любили иронически повторять чье-то смешное выражение: «Это граничит из рамок!» Я воспользуюсь этой шуткой. Актерская индивидуальность Гарина, очень определенная, всегда узнаваемая, граничащая с маской, была столь живой, неожиданной и своеобразной, что втиснуть ее в рамки точных определений кажется мне делом трудным, а может быть, и ненужным.
Прошло уже очень много лет с тех пор, как я увидел Эраста Павловича в спектакле «Мандат», но до сих пор помню и то потрясение, которое я испытал от самого спектакля, и блистательную работу молодого Гарина. Он был одним из лучших мейерхольдовских артистов и на протяжении всей своей актерской жизни сохранял верность традициям этого театра. Эраст Павлович не был «психологическим» артистом. Секрет его выразительности заключался в другом. Он удивительно владел формой и лепил характер при помощи нескольких скупых, лаконичных, но неизменно точных штрихов.
Обаятельным он оставался всегда, в любой роли, даже отрицательной. В интонациях его неповторимого, чуть гнусавого голоса всегда проскальзывало чувство юмора и, я бы даже сказал, мелодика, присущая ему одному. Он скандировал отдельные слоги, неожиданно менял тональность, виртуозно переходил в другой регистр. Казалось, что текст, который произносил Гарин, можно записать, как музыку, при помощи нот.
Его актерская уникальность была мне всегда чрезвычайно дорога. Я не поклонник слова «единомышленник» — мысли, видимо, должны быть у всех разными, — но есть чье-то удачное 341 выражение: мысли одного цвета. Так вот, мы могли не сходиться с Эрастом Павловичем в опенках и полутонах, но цветовая гамма пристрастий в искусстве у нас была общей.
Мне довелось работать с Эрастом Павловичем как с режиссером в нашем театре. Режиссер он был очень тактичный, к актерам относился бережно и позволял мне пробовать на репетициях все, что мне хотелось. Помню, правда, как, промучившись довольно долго с одной из актрис, он произнес тихо и мрачно: «Это не артистка, а понос, опять ее надо ложкой собирать».
С ним на репетициях неизменно присутствовала его жена, Хеся Александровна Локшина, — в моей памяти она неотделима от Гарина. Без этой умной, талантливой, обаятельной женщины я просто не могу представить себе Эраста Павловича. Ни как человека, ни как художника. Талантливая ученица Мейерхольда, она не только проработала вместе с Гариным всю жизнь, но и создала и неизменно поддерживала совершенно особую атмосферу в их доме, где я нередко бывал. В прокуренной квартире, где жили Гарины, всегда сохранялся молодой задор, кипели споры об искусстве, сидели старые «мейерхольдовцы», которых жадно слушала молодежь, тянувшаяся на огонек, на тот живой огонек искусства, который согревал этот дом.
Вообще к Гариным всегда тянулись люди, причем самые разнообразные, хотя ни Эраст Павлович, ни Хеся никогда специально знакомств не искали, никогда не стремились кому-то специально понравиться, к себе привлечь. Эта черта была присуща Гарину не только как человеку, но и как артисту. Бывает, и нередко, что актер так стремится завоевать симпатии публики, что чуть ли не давит лампочки сценической рампы, напирая на зрительный зал. А бывает наоборот. Артист так сосредоточен и собран, что концентрирует внимание зрителя, завоевывая симпатии и любовь зала силой притяжения своего искусства. Именно таким всегда был Эраст Павлович, неизменно остававшийся самим собой, не заигрывая с публикой, не стремясь понравиться во что бы то ни стало. Поэтому актерская популярность и любовь зрителя были им заслужены по самому большому счету.
О человеке очень любимом и хорошо знакомом можно сказать или очень много, или очень мало. Не будучи писателем, я вынужден выбрать последнее. К сожалению, никто уже не увидит прекрасных работ Гарина в театре, но и того, что сделано им в кинематографе, достаточно, чтобы понять, каким замечательным артистом был Эраст Павлович. Наверное, самой популярной его ролью была роль Короля в «Золушке». Он сыграл в кино еще двух королей, и, мне кажется, эти роли были ему особенно к лицу. Индивидуальность Гарина была уникальной, неповторимой, и в нашем искусстве второго Гарина нет и не может быть. Так же и король может быть только один. Королем нельзя назначить, короля нельзя избрать — им надо родиться. Так же как и художником. Правда, всемогущество короля — удел сказки. Судьба Эраста Павловича складывалась нелегко: подобный талант — не только дар, но и крест. Гарин мог бы сделать гораздо больше, если бы на него писали роли, где дарование его было бы специально учтено и использовано в полную меру. Он этого заслуживал.
И все же я считаю его актерскую жизнь счастливой. «У меня ужасная родословная», — говорил один из гаринских королей, оправдывая свои капризы. У Эраста Павловича была прекрасная родословная в искусстве: Всеволод Эмильевич Мейерхольд, Николай Робертович Эрдман, Евгений Львович Шварц… Список можно было бы продолжить, но и этих имен достаточно. Я не говорю уж о той любви зрителей, которая так дорога актеру, умеющему отличить минутную популярность от искреннего признания.
Когда мне исполнилось шестьдесят лет, я получил телеграмму: «Любим в шестьдесят раз больше. Эраст Гарин. Хеся Локшина». Я сейчас пишу об искусстве, где у времени свой особый счет. Поэтому могу только повторить то, с чего начал. Я очень люблю Эраста Павловича Гарина. Люблю и буду любить.
342 Сергей Юткевич
РЕЖИССЕР ВОЛШЕБНОГО КИНОФОНАРЯ
I
|
Наша шумная ватага примчалась на площадь Святого Марка из харчевни синьора Арлекина, который попотчевал нас макаронами с прованским маслом и чесночной похлебкой. Алоизиус Бертран |
В самом начале «незабываемых 20-х» на меридианах художественной жизни Москвы замаячило пять юношеских фигур, несколько выделявшихся на фоне молодежных полчищ, заполнивших бесчисленные студии, живописные мастерские, самодеятельные театрики, лишь разительным сходством своих силуэтов.
Сходны они были физической худобой, тонкокостностью, тощим овалом лица, увенчанного особой приметой, по которой можно было окрестить этих пятерых «востроносыми».
Настолько они походили друг на друга, что нередко путали их между собой, и лишь приглядевшись, устанавливали естественные различия. Профессии у них намечались разносторонние: первый сочинял стихи, публиковавшиеся в сборниках «имажинистов», но вскоре прославился как драматург; два других были художниками, один с уклоном в театр, другой в станковую живопись; четвертый клеил макеты и мечтал о режиссуре; ну а последний, пятый, — самый тощий и также с носом не то что задранным кверху, а как бы «лопаткой» на конце — сразу выделился завидным актерским дарованием.
Все они были примерно однолетки, ровесники века; в искусстве мало похожие, но связанные общими вкусами и учителями, они встречались, дружили, расходились каждый по разным путям-дорожкам, но притом сохраняли черты схожести в своих пристрастиях к поискам и открытиям.
Сталкиваясь на диспутах, премьерах, вернисажах, подтрунивали друг над другом и над своими приятелями, невзначай путавшими их имена, но от своего первозданного братства «востроносых» не отрекались.
Про них шутили, что они никогда не суют свои длинные носы не в свои дела, а если и «держат нос по ветру», то потому только, что это ветер блоковский, ветер Революции.
Вскоре их имена стали возникать на афишах, в рецензиях, каталогах; в первом юноше узнавали Николая Эрдмана, во втором — Владимира Дмитриева (конструктора оформления «Зорь» Мейерхольда), в третьем — Петра Вильямса, в четвертом — автора этих строк, а громче всех прогремел недюжинным лицедейским талантом пятый — Эраст Гарин.
Для всех остальных четырех он был как бы выдвинут на передний край, представлял все наше поколение, стал его «впередсмотрящим». Успехами Гарина, поначалу в ролях маленьких — очень недолго, а затем сразу в мировом репертуаре — Хлестаков, Чацкий, восторгалась не только четверка «востроносых», но и вся всероссийская аудитория.
Вскоре Гарина и Эрдмана спаяла неразрывная дружба, творческая и человеческая, и так крепко, что теперь их можно было спутать даже по ритму и тембру речи. Гулячкин, порожденный сдвоенной фантазией драматурга и актера, вошел со сценической площадки в быт и долго еще в нэповские времена размахивал своим фантасмагорическим мандатом.
В 30-е годы наступил и мой счастливый черед скрестить свою судьбу с Гариным, уже не в роли благодарного, но пассивного зрителя, а как активного соратника по режиссерскому ремеслу.
Скажу сразу, что отнюдь не уверен в незыблемой полноценности перехода из актерской профессии в режиссерскую. Уж очень они отличны по самой своей сути друг от друга, и всегда будет перевес какой-либо стороны. Даже наш общий с Гариным учитель, Мейерхольд, был просто хорошим актером, но режиссером стал выдающимся; напротив, Хмелев и Ливанов артистами были преотличнейшими, а режиссерами только хорошими. Примеров можно привести еще множество, в них бывали и исключения, но редкие — на память сейчас приходят лишь Станиславский и Чаплин…
Случай с Гариным был особым — режиссура в кино стала как бы органичным продолжением актерской жизни или, вернее, другим способом довоплощения всего несыгранного, задуманного, но нереализованного. Полагаю, например, что Подколесин давно уже состоялся в фантазии Гарина, настойчиво требовал своего места именно на экране, и случилось так, что я смог помочь ему в этом.
Как раз в начале 30-х годов организовалась в недрах «Ленфильма» киномастерская, куда вошли на равных правах молодые единомышленники, дебютирующие постановщики и опытные актеры, они оказали мне честь, избрав своим пастырем.
343 Основное ядро коллектива составили коренные «мейерхольдовцы» (Арнштам, Гарин, Локшина, Юткевич) и сдружившиеся с ними актеры (Зоя Федорова, Пославский, Каюков, Тенин, Бернес, Матов) присоединились к ним и драматурги (Погодин, Каплер, Дэль-Любашевский), художники (Моисей Левин, Ольга Пчельникова, Абидин Дино, Борис Гурвич), композиторы (Шостакович, Пушков, Гольц) и большая группа ассистентов (Эйсымонт, Казанский, Руф и другие), которым именно мастерская помогла сделать первые шаги в самостоятельную режиссуру.
Зачинщики всей этой затеи приютились в весьма романтичной просторной мансарде (в прошлом фотоателье, неподалеку от киностудии) и объединились не только организационно, но и вокруг некоторых теоретических (как это ни странно, в то время считавшихся дискуссионными) идей о безусловном примате на экране актерской игры, о повышении значимости внутрикадрового, а не только монтажного воздействия.
При этом основном посыле считалось необходимым сохранять и совершенствовать общую изобразительную и звуковую культуру кинематографа, а также всеми силами сопротивляться «киношному» дилетантизму, оберегая высокий уровень профессионализма.
Мастерской в этом составе удалось за три года осуществить лишь четыре ленты, зато три из них — «Подруги», «Женитьба», «Тайга золотая» — являлись дебютами и лишь фильм «Шахтеры» был моей уже седьмой работой. Наше объединение в целом продолжало плодотворные традиции таких начинаний, как ФЭКС и КЭМ (группа Эрмлера) в Ленинграде, коллектив Кулешова и экспериментальный коллектив ЭККЮ Юткевича при АРРК в Москве, роднили их и поиски новых творческих путей, и приверженность к производственной дисциплине — отсюда признание обязательности предварительного репетиционного периода.
Апологетом такой системы всегда являлся Лев Кулешов, но нас от него отличало стремление не только к физической тренировке «натурщиков», но и воспитание активной актерской игры, куда, конечно, входили элементы биомеханики, однако желанной целью являлись принципы того мастерства, чьи образцы являли для нас в то время Михаил Чехов на сцене, Чаплин и Бастер Китон на экране.
Не в порядке лжепатриотического бахвальства, но реалистического признания отечественных достижений, мы считали достойным приближением к такому же качеству актерские работы Эраста Гарина на театре — отсюда следствие: я как организатор мастерской должен был сделать все от меня зависящее для практического осуществления режиссерских и актерских замыслов Гарина и его верной соратницы Х. Локшиной. Их выбор для экранного дебюта пал на всеми нами любимую комедию Гоголя «Женитьба».
Фильм был поставлен, и с него можно начинать отсчет судьбы Эраста Гарина не только как актера, но и режиссера волшебного фонаря киноискусства.
344 Позднее сам Гарин в своих мемуарах оценил этот период так: «Время этой работы я вспоминаю добрым словом, равно как и те своеобразные условия, которые способствовали ее появлению. Это адресуется мастерской Юткевича, сумевшей обеспечить творческий характер процесса работы над картиной. На основе опыта этой мастерской ее руководитель мог бы подсказать много ценного и необходимого и для сегодняшнего дня. Ведь его мастерская дала превосходные результаты. Репетиционный метод тогда впервые был законченно проведен группой “Женитьбы”»1.
II
|
Что тебя сделало таким, каков ты теперь? Это мысль, фантазия. Что тебе давало мужество жить до сих пор в труде и горе? Энтузиазм. Жорж Санд. Из письма к Невидимому |
Через волшебный кинофонарь гаринской режиссуры не случайно проецировались такие кудесники пера, как Гоголь и Сухово-Кобылин, Евгений Шварц и Лев Кассиль. Пристрастие Гарина к Гоголю и Сухово-Кобылину из классиков, а из современников к Маяковскому и Эрдману всегда отличало наш клан (недаром это были излюбленные драматурги Мастера, подмастерья, вроде фэксов, тоже закономерно начинали с «Женитьбы» и «Шинели», а Гарин прославился именно в «Ревизоре»), словом, все, казалось, благословляло наше общее решение, и фильм «Женитьба» был осуществлен.
Знаменательно также, что если Гарин начал с воплощения Гоголя на экране, то закончил он свой путь постановщика реализацией бессмертной пьесы Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина».
В середине было обращение и к Юрию Герману («Доктор Калюжный»), и к Марку Твену («Принц и нищий»), но об этом, так же как и о «Женитьбе», написано много, поэтому я бы хотел обратиться к двум другим работам, так как представляют они, по моему мнению, две, казалось, различные и в то же время общие и важные черты постановочного почерка Эраста Гарина.
Это фильм «Синегория» (1946) по мотивам повести Льва Кассиля и «Веселые расплюевские дни» (1967), экранизация творения Сухово-Кобылина (насколько я понимаю, впервые в истории кино).
Но до этого, в 1941 году, представилась мне неожиданная возможность встречи с Гариным как с актером, произошла она в совершенно исключительных условиях — грянула война!
На московской студии «Союздетфильм» (помещалась она тогда в Лиховом переулке) мы все объявили себя мобилизованными, присоединились к нам добровольно и два сценариста — Е. Помещиков и Н. Рожков, они-то и предложили отличную идею: воскресить в новом качестве классического героя повести Гашека — бравого солдата Швейка.
Его я и выбрал в качестве «связного» в цепи новелл, составивших 7-й «Боевой киносборник», как бы продолжающий на экране славные традиции «Окон РОСТА» Маяковского.
Одну из новелл сочинил Николай Эрдман, в ней он вывел фашистского офицера и солдата Шульца, этакого дальнего родственника Швейка, — под личиной дурака, перевирающего приказы фюрера, крылся хитрец. Блестящий диалог, изобилующий остроумными каламбурами, давал возможность актерам сатирически жалить врага.
Съемочную работу над сборником мы начали в конце сентября, фашисты рвались к столице, смены часто прерывались воздушными налетами врагов, и мы вынуждены были спускаться в бомбоубежище.
По ночам мы отсыпались в Подмосковье на даче, где поселились целой коммуной, там возможность прямого попадания в вырытую нами щель была менее вероятной.
Главным достоинством всего труда над сборником, снятым в необычайно сжатые сроки и законченным 13 октября 1941 года, было то, что в самый разгар ожесточенных сражений под Москвой удалось сохранить юмор, свидетельствующий о вере всего советского народа в конечную победу, несмотря на горечь переживаемых минут. Сборник вышел на московские экраны 7 ноября 1941 года.
Так неожиданно скрестились еще раз судьбы трех из «востроносых» друзей молодости.
Но вот наступили последние месяцы решающих сражений, приближалась столь долгожданная победа над фашизмом, к подвигу всего советского народа по-прежнему присоединялись и усилия тружеников кино.
Гарин и Локшина вернулись в Москву из эвакуации вместе с тем же коллективом студии «Союздетфильм» и тотчас приступили к новой работе. Это была светлая повесть Льва Кассиля, где романтика юношеских будней переплеталась со сказочным сюжетом о фантастической стране Синегории.
345 Автор уже и раньше удачно прибегал к такому контрапункту — недаром все мы, и взрослые и дети, до войны испытали на себе чары другой страны, созданной фантазией писателя, — Швамбрании.
Для режиссера Гарина фильм «Синегория» стал событием еще и потому, что в работе над ним он встретил единомышленника, талантливейшего оператора Сергея Урусевского, для которого эта лента стала первой после его демобилизации. До войны он успел снять лишь фильм-дебют — экранизацию повести Гоголя (и здесь опять он, тоже из породы «востроносых»!) «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
В «Синегории» отчетливо проявились режиссерские склонности Гарина и отличительные свойства светописи Урусевского. Пластическим лейтмотивом, проходящим сквозь весь фильм, стала перекличка полетов белокрылых морских чаек с бликами солнечных зайчиков от зеркалец и вспышками световых лучей.
Казалось, простой, почти документальный сюжет — взлет, полет, вальсообразное кружение белых чаек на фоне диких черных скал и бурного северного моря — здесь, в руках молодых мастеров, стал визуальной симфонией, перекликающейся с классическими кадрами фильма Флаэрти «Человек из Арана». Тревожный полет птиц сопровождает драматическую завязку фильма — гибель от фашистской авиабомбы советского метеоролога и моряка Гая. Кинематографисты с особым волнением смотрели этот пролог еще и потому, что в эпизодической роли Гая снялся замечательный актер и режиссер Борис Барнет. По сюжету именно он начинает рассказ о стране Синегории, где романтические подвиги ее обитателей — мастеров и подмастерьев — вдохновляют таинственное сообщество воспитанников сегодняшних ремесленных школ. В сценарии перекликаются знакомые мотивы из гайдаровских повестей о тимуровцах с персонажами из «Трех толстяков» Юрия Олеши, только тут вместо ожиревших диктаторов властвует не менее пузатый «король Фанфарон без четверти Двенадцатый», отлично сыгранный Степаном Каюковым (он играл Кочкарева в «Женитьбе» и черта в «Тайге золотой»).
В режиссуре фильма нет противопоставления мечты и действительности — напротив, с традиционной сказочностью соседствует бытовая реальность, но оснащенная схожими романтическими элементами: так, сигнализация световыми лучами узников королевской крепости переходите перекличку солнечных лучей от зеркальных зайчиков у сегодняшних ребят; схожая игра бликов от водной поверхности пруда аккомпанирует вальсу на танцевальной площадке, где кружатся школьницы с нахимовцами (кстати, эту мелодию сочинил также наш друг по мастерской, Павел Арманд, мой сорежиссер и автор песни «Тучи над городом встали…» из фильма «Человек с ружьем»); сказочные ветры Синегории, вздымающие тучи снежных хлопьев, как бы рифмуются в реальности с белокрылыми тучами птичьих стай над пограничными скалами пролога.
Любопытно отметить, что мотив солнечных зайчиков от зеркала был впервые применен учителем Гарина Вс. Мейерхольдом в инсценировке повести Ю. Германа «Вступление». Там эта игра дрожащим светом на неподвижном лице старого рабочего Генцке (артист Н. Боголюбов), обряженного для похорон убитого сына в черный сюртук и цилиндр, необычайно выразительно передавала внутреннее эмоциональное напряжение сцены.
В фильме «Синегория» тема отражений в зеркалах, как в кривых, так и в отлично отполированных, в маленьких карманных и в трюмо, служит зрительным обертоном к основной теме борьбы добрых и злых сил, сказочных и реальных.
Световая атмосфера фильма была к тому же насыщена целой гаммой лучей — в ту пору Урусевский увлекался возможностями создания светового пространства путем применения тюлей и дымов. Режиссер и оператор не чурались также и использования механических возможностей кинокамеры — в сказочных эпизодах присутствовала и замедленная, и обратная съемка.
В целом эта режиссерская работа Эраста Гарина выявляла лирические стороны его дарования, что и совпадало с драматургической стилистикой Л. Кассиля. Значительно более сложной и глубокой стала встреча с творчеством Сухово-Кобылина.
III
|
В душе художника истинного эта способность видеть орлиным оком общее в частности есть непременно синтетическая, хотя и требующая, конечно, поддержки, развития, воспитания. Тот, кто рожден с такого рода объективностью, есть уже художник истинный, поэт, творец. Аполлон
Григорьев. |
Верный методу предварительной подготовки, столь удачно опробованной в «Женитьбе», Гарин поставил пьесу «Смерть Тарелкина» сначала на площадке Театра киноактера, где проверил свою новую конструкцию драматургического решения. Ничего не меняя в целом, он справедливо ощутил слабость в сюжетной связке «Смерти Тарелкина» с персонажами предыдущей части трилогии, особенно в характеристике взаимоотношения Варравина с Тарелкиным.
346 Недаром сам автор в обращении к читателям признал, что «скрепя сердце связал их (пьесы. — С. Ю.), как говорится, на живую нитку». Поэтому режиссер-сценарист не совершил святотатства, начав фильм с финальной сцены ссоры в канцелярии Варравина (из пьесы «Дело»), где он буквально спускает с лестницы Тарелкина, осмелившегося потребовать своей доли из взяточных махинаций персонажа.
Обращение Гарина к этой пьесе было не первым и не случайным. В спектакле Мейерхольда 1922 года Эраст Павлович выступил в роли сына Расплюева писаря Ванечки (из породы «крапивное семя») и сам позднее сформулировал свое желание экранизировать именно это произведение:
«Выходом к большой теме стал для меня Сухово-Кобылин… О моей приверженности к этому автору, зародившейся еще в мейерхольдовской “Смерти Тарелкина”, можно сказать многое.
… Нередко гротеск Сухово-Кобылина доходит до химеры, карикатуры, фантасмагории. Однако мастерство драматурга в том, что он и в алогизме остается логичным, и в бессмыслице находит смысл, и в самой фантастической ситуации он достоверен, бесконечно правдив и реален. И хотя действием его пьесы управляют нелепость и бессмыслица, хотя происходит крушение привычных норм и законов, хотя перед нами предстают и ожившие мертвецы и живые, которые, по сути дела, являются мертвецами, — все это величайший реализм»2.
Также не случайным представляется и стремление Гарина не только поставить «Смерть Тарелкина», но и сыграть самому основного героя. Его трактовка роли совпала по направленности с тем, что писал В. Сахновский о Тарелкине:
«Этот смешной фарсовый лицедей должен, как это следует по тексту ремарок и по “логике мотивов”, стать шефом всех российских оборотней, всех предающих, всех перелицовывающихся, приспособляющихся, всех хамелеонов любых обстановок, сохраняя живую правду чувств и ни на минуту не оставляя зрителя в сомнении, что все потрясающее, трагическое, что протекает на сцене, взято под углом зрения иронии.
347 Вот и задача — глубочайший реализм, повелевающий рыдать, и обидная, смешная схема пантомимы дешевого цирка»3.
Эраст Гарин не поддался соблазну ни «символизации», ни «оциркачивания» пьесы, как это было в двух постановках В. Э. Мейерхольда. Он перевел ее на язык кино бережно, сохранив всю силу поразительного по смыслу и звучанию сухово-кобылинского слова.
В этом Гарину, бесспорно, помог опыт его работы на радио. Для микрофона он читал, и весьма успешно, самый многообразный репертуар — от Новикова-Прибоя до Гаузнера. Вообще же, культура слова была у него отменной — в Театре Мейерхольда (вопреки установившимся, но неверным взглядам о примате на этой сцене движения над словом) Гарин отлично доносил сложные тексты Гоголя, Грибоедова, Эрдмана.
Рассмотрим пристальнее режиссерскую трактовку Гарина. Вся экспозиция (после вводного конфликта с Варравиным) решена в форме внутреннего монолога Тарелкина, когда на экране идут панорамы Санкт-Петербурга.
Кандит Касторович Тарелкин, только что с позором изгнанный из казенного «присутствия», мыкается по улицам столицы — она предстает перед нами как город, знакомый по описаниям «Невского проспекта», с его шпилями, кариатидами, торговыми рядами, казармами, чугунными решетками, мостами на цепях, фонарями, уличными жаровнями, возле которых обогреваются кучера, дворники и полицейские солдаты, громко именуемые в те времена «мушкатерами».
Вскоре двое вот таких верзил, Качала и Шатала, станут куражиться над лжеотставным надворным советником Копыловым.
348 А перед тем как «оборотиться» в его личину, Тарелкин, по реплике автора, «берет тросточку, напяливает перчатки и подходит к авансцене», восклицая: «Эх, мечты, мечты…»
Здесь же, на экране, герой произносит этот текст на крупном плане, как бы доверительно обращаясь за соучастием к зрителям, а затем, поверяя свои мысли, бежит по «прошпектам» и оказывается… в соборе, там идет свадьба.
И вот под церковными сводами Тарелкин в мечтах уже не у колонн, а перед аналоем на месте жениха, сам во фраке ведет под венец «вороно-пегую купчиху в два обхвата мерою»; звучит торжественный хор «многая лета», коляска мчит законных супругов (на отлично нарисованном городском фоне в манере старинной литографии), но кончается обряд, а вместе с ним улетучиваются и мечты Тарелкина, приходит роковое решение: «Не хочу жить!.. Нужда меня заела, кредиторы истерзали, начальство вогнало в гроб… Судьба говорит: умри, Копылов, и живи, Тарелкин, — зачем же, говорю я, судьба, индюшка ты, судьба! Умри лучше Тарелкин, а живи счастливый Копылов!»
И адский план трансформации злосчастного Тарелкина в удачливого Копылова приходит в движение: высматривает Кандит Касторович в витрине модного магазина куклу-манекен и закупает ее. Но не тут-то было: бдительные «мушкатеры» заподозрили субъекта с объемистым мешком, где упрятано нечто напоминающее человеческое тело, и вот уже залились тревожные полицейские свистки и поспешают в погоню за Тарелкиным дворники, «мушкатеры», шпики и вышибалы…
Ан хитер будущий «вуйдалак»! И тут он выворачивается, пристраиваясь к стройно марширующему воинству, и вместе с ним победно удаляется под дробь барабанов и посвист флейты…
Проживает же Тарелкин, по воле режиссера, где-то в питерских закоулках, точнее, во втором этаже невзрачного флигеля, куда прямо со двора ведет извилистая деревянная лестница.
Именно с одной из ее площадок произнесет свое знаменитое прощальное слово Копылов, он же живой Тарелкин, адресованное самому себе, то есть «мертвому» Тарелкину, чье «тело» якобы покоится в этом нищем гробу, что выволокли сюда в подворотню расплюевские «мушкатеры».
Здесь становится отчетливым выбор режиссером именно такой декорации — с одной стороны, многоступенчатая лестница неожиданно ассоциируется с деревянными конструкциями, бытующими на советской сцене еще со времен «Великодушного рогоносца» и установок художника Шестакова к спектаклям Театра Революции, с другой — «оборачивается» она из просто описательного места действия в обобщенный образ трибуны, с которой торжественно вещает Тарелкин:
«Органы порядка, остановитесь!.. Да, почтенные посетители, воскорбим душами о Тарелкине! Не стало рьяного деятеля — не стало воеводы передового полка. Всегда и везде Тарелкин был впереди… Когда несли знамя, то Тарелкин всегда шел перед знаменем; когда объявили прогресс, то он стал и пошел перед прогрессом — так что уже Тарелкин был впереди, а прогресс сзади!.. Не стало Тарелкина — и теплейшие нуждаются в жаре; передовые остались без переду, а задние получили зад! Не стало Тарелкина — и захолодало в мире, задумался прогресс, овдовела гуманность!»
Но вернемся вспять, к тому самому месту, когда еще «живой» Кандит Касторович, взбежав по скрипучей лестнице с подозрительным холщовым мешком за спиной, посвящает верную Марфушу в свой коварный замысел и отправляет ее на базар за покупкой тухлой рыбы «для вони нестерпимой».
Оставшись в одиночестве, Тарелкин, сняв парик и вынув вставную челюсть, преображается в покойного Силу Силыча Копылова. Усладительный план мести Варравину Тарелкин поверяет в форме монолога возле музыкальной шкатулки. Вспоминается Гоголь — ведь точно так и Подколесин из фильма «Женитьба» излагал свои мысли под ее переливчатую мелодию. Сейчас Тарелкин сладострастно поглаживает пачку заветных писем, разоблачающих ненавистного Варравина, он сможет их выкупить только «ценой крови, собственной своей крови».
А за простыней на фоне — отличная придумка режиссера — колышется призрачная тень куклы, лежащей в гробу, и рядом с ней — силуэт бродяжки-монашки, бормочущей псалтырь.
Сановник Максим Кузьмич Варравин предстает действительно «кувшинным рылом» в отличном исполнении артиста А. Папанова, он же будет угрожающ и во втором своем обличье — капитана Полутатаринова с его зелеными очками и фальшивыми бакенбардами.
И совсем уж точно, в согласии с ремаркой драматурга, возникнет перед зрителем и третий немаловажный персонаж трилогии, Иван Антонович Расплюев, «маленький, но плотненький человечек, лет под 50», на сей раз, по авторскому замыслу, «исправляющий должность квартального надзирателя. Пораздобрел и приобрел некоторую осанку».
Ленинградский актер Н. Трофимов как нельзя лучше соответствовал роли Расплюева. Гарин нашел в нем идеального партнера — их дуэт, в то время как Расплюев «угощается, чем 349 бог послал», насыщен юмором, доходящим в кульминации до гротеска.
Тарелкин, потрясенный количеством пищи, поглощаемой «инструментом» Расплюева, даже залезает под его стул, дабы удостовериться: «Может, у вас днище выперло — так не проходит ли насквозь?»
Но, конечно, главное действие раскручивается в участке, куда «мушкатеры» приволакивают связанного Тарелкина и спускают за решетку в подвал, где помещается пресловутая «темная».
Это также отличная задумка постановщика: уподобить ее некой преисподней, где томятся «грешники», — словом, этакий российский парафраз одного из кругов Дантова ада.
Далее события следуют точно замыслу драматурга, и режиссер заботится о рельефности мизансцен. Здесь школа, пройденная у Мейерхольда, и пристальное вглядывание в фильмы Чаплина и Китона приносят свои плоды.
Гарин не следует штампованному чередованию набора крупных, средних и общих планов, меняя ракурсы и точки камеры, он придерживается принципа охвата всей игровой площадки, расчищенной для наибольшей свободы действий актера и его поведения в пространстве.
Одно время господствовала теория, якобы опирающаяся на термин С. М. Эйзенштейна «мизанкадр», — о несущественности для кино понятия «мизансцены», пригодного лишь для театра.
Но мизансцена в более широком понимании, как взаимоотношения одного человека с другим и их обоих с пространством и выявление пластически через эти отношения сути происходящего, не только не отменяется в кино, но и становится одним из его сильнейших выразительных средств.
Впрочем, за примерами ходить недалеко: знаменитая лестница в «Броненосце “Потемкине”» не что иное, как одна из самых блестящих мизансцен мира, не говоря уже о двух сериях «Ивана Грозного», изобилующих не только «мизанкадрами», но и самыми изощренными мизансценами.
Эраст Гарин широко использует эти возможности, особенно ярко проявляющиеся в распланировании эпизода торжества Расплюева. У драматурга после реплики пристава Оха: «Да знаешь ли еще какую власть следователь имеет?.. Следователь может всякого, кто он ни будь, взять и посадить в секрет!» — значится ремарка: — «Расплюев начинает перебирать плечами»; а затем вслед за текстом: «Здррр…авствуй, милая, хорошая моя, чернобровая… похожа на меня!» — следует в скобках: «Зло проходится трепаком».
Режиссер как бы раскрывает скобки и на большом пространстве разворачивает торжество Расплюева в неистовый пляс, из которого натурально вырастает реплика: «Ура! Все наше! Всякого теперь могу взять в секрет!»
Расплюев-Трофимов здесь с помощью режиссерской мизансцены (а не путем примелькавшейся раскадровки на отдельные планы танцующих ног, плеч и т. д.) также выходит из пределов бытовщины и приближается к высотам сатирической драматургии.
Горечь писателя удалось воплотить режиссеру во всем фильме, а особенно проникнут ее «неизбывностью» финальный эпизод, когда измученный пыткой Тарелкин вынужден отдать письма Варравину. Здесь мизансцена обдуманно разворачивается на контрасте двух фигур: торжествующего сановника и поверженного чинуши, разделенных тюремной решеткой.
Во второй редакции спектакля Мейерхольда в финале Тарелкин пролетал на тросе через всю сцену и в него палили из револьверов.
Гарин и здесь не пошел по стопам учителя и предложил совсем иное решение. Разоблаченный плут выходил из участка опять на заснеженные улицы Санкт-Петербурга и униженно предлагал себя прохожим в должность управляющего имением или в любом ином служивом качестве…
Но разночинный люд, в треуголках, форменных фуражках, цилиндрах или просто в картузах, не только не жалился над докучным просителем, но и затевал игру в снежки, поначалу вроде шуточную, а затем все более ожесточенную, где ледяные комья, как град, побивали неудачливого шута…
И надо же было случиться такому трагическому совпадению — во время съемки этого последнего кадра фильма настоящий снежный ком, пущенный неловкой рукой фигуранта, попал в глаз Гарина и повредил его настолько, что вскоре наступила неизлечимая слепота…
Так поистине неожиданно и грустно закончились «Веселые расплюевские дни» — последний фильм в славной биографии Эраста Гарина, режиссера и актера из стаи «востроносых».
1 Гарин Э. С Мейерхольдом. С. 262.
2 Там же. С. 281.
3 Сахновский В. Театральная судьба трилогии Сухово-Кобылина. Трилогия. М.-Л., Госиздат, 1927. С. 544.
350 Александр Шерель
ОСЕННИЕ БЕСЕДЫ
|
Вечер жизни приносит с собой свою лампу. Жозеф Жубер |
Сентябрь 1979 года. Эраст Павлович еще не оправился от болезни и наши ежедневные «кругосветки» по кварталу рассматривает как лекарство. А лекарство кому доставляет удовольствие? Гарин тихо злится: «Это для дыхания? Или для удушения?..» На Садовой душно, шумно.
Но вот мы попадаем в тишину и изумрудную, несмотря на осень, зелень переулка, где недавно сломали заборы и освободившиеся от их опеки кусты и деревья выползают из московских двориков прямо на тротуары. Первый привал — давно обжитая нами скамейка в аккуратном палисаднике между глухими стенами двух старых домов.
Гарин достает из кепки спрятанную от Хеси Александровны «внеплановую» сигарету, и настроение его меняется.
— Чем сегодня удивлять изволите?
Это в мой адрес: я заканчиваю диссертацию и время от времени приношу в дом Гариных очередную порцию ошеломлявших меня сведений из истории радиоискусства. В большинстве своем они известны хозяевам, однако на сей раз я приготовил сюрприз.
— Юбилей решили «зажать»? — спрашиваю не без ехидства.
— Какой еще юбилей?
— Пятьдесят лет у микрофона.
— Это по какому счету? Намедни сами хвастались газеткой, где объявлялась премьера «Японии». Так ведь она декабрем тридцатого года помечена. А? — Эраст Павлович усмехается.
Я достаю из куртки копию документа, датированного сентябрем 1929 года, о том, что Экспериментальная редакция заключила с режиссером Малого театра Н. О. Волконским и артистом Э. П. Гариным трудовое соглашение на подготовку радиокомпозиции «Путешествие по Японии» на основе очерков Г. Гаузнера и что исполнители приступили к репетициям.
Решаюсь на провокационный вопрос:
— Эраст Павлович, а, вообще, была бы «Япония», если б не история с «Командармом-2»?
24 июля 1929 года, во время харьковских гастролей ГосТИМа состоялась премьера пьесы И. Сельвинского «Командарм-2». Эраст Гарин, репетировавший роль Оконного, в спектакле не участвовал: незадолго до гастролей он подал заявление об уходе. Причина конфликта многосложна: Гарин мечтал о роли Присыпкина в «Клопе» — она ему не досталась; представления актера о своем герое в стихотворной трагедии Сельвинского расходились с трактовкой режиссера и т. д., и т. п. Гарин ушел из ГосТИМа, так и не сыграв эту роль. В те дни он проводил много времени в студии на Телеграфе, где готовились разные радиопостановки.
… От сигареты остался маленький окурок, попытка удержать его и не обжечь губы не удается, и, чертыхнувшись по этому поводу, Гарин встает. Степенно двигаемся дальше.
— Я тогда очень увлекался японцами, — словно продолжая внутренний монолог, говорит Гарин, — ни на какой другой материал не рискнул бы. А тут особый интерес: в Москву приехал Кабуки. Кажется, в 28-м. Гаузнер как-то привел меня к ним в гостиницу. Я ни бельмеса по-японски, они, натурально, на том же уровне владели русским. А все всё понимали. Я бегал с утренних репетиций из своего театра и часами просиживал у них.
— Объяснялись, как мимы?
— Похоже. Для «Путешествия по Японии» «кабучники» оказались очень полезны.
— Какое же они имели отношение к радио, где главное — слово?
— В том-то и дело, что надо было словесное сделать зримым.
Пройдет тридцать с лишним лет, и выдающийся режиссер радио Роза Иоффе напишет статью, где сформулирует главный принцип постановок: «слушая — видеть». Принцип, который Гарин на практике утверждал уже в своем дебюте.
Прослушивание устроили на Телеграфе по всем правилам «живого эфира». Гарин работал в студии, режиссер и техники — в аппаратной, а в соседней комнате поставили несколько рядов стульев и на высокой подставке громкоговоритель. У каждого стула лежали наушники — для тех, кто дома привык слушать радио без репродуктора. Когда передача началась, в зале погасили свет, чтобы не было никаких «отвлекающих моментов». Так, в темноте, и прошло все радиопутешествие.
Успех был полный. На прослушивание пришли коллеги из ГосТИМа. Передачу несколько раз повторяли (тогда вещание шло в эфир непосредственно, звукозаписью еще почти не пользовались).
— При встрече Всеволод Эмильевич поинтересовался, продолжаю ли я «экспериментировать сам с собой» на радио.
Я ответил: «Продолжаю». Тут Мейерхольд проявил не только сочувствие, но и знание моих репертуарных планов, которые и я, и редакция держали в секрете. Спросил: «Как с Пастернаком, когда премьера?»
А с Пастернаком не складывалось. Первоначально идея создания радиооратории по поэме «Девятьсот пятый год» увлекла Гарина, тем более что ему предложили быть и режиссером. Для себя он выбрал главу «Морской мятеж». Расхаживал дома, примеряя голос:
«Глыбы
Утренней зыби
351 Скользнули,
Как ртутные бритвы,
По подножью громады,
И, глядя на них с высоты,
Стал дышать броненосец
И ожил».
Главу «Москва в декабре» согласился читать Качалов, Было с кем соревноваться. На одной из первых репетиций возник спор между Гариным и композитором, которому заказали музыку, — тот предполагал едва ли не каждое слово поэмы сопровождать игрой на одном или нескольких инструментах и хоровым пением. Гарин не был против мелодекламации вообще, но в данном случае стилистика этого жанра казалась ему неподходящей.
— Стихи разрывались на слова, ритм шел уже не от Пастернака, а от музыки.
Режиссер Н. О. Волконский, художественный руководитель литературно-драматического вещания, принял сторону композитора и взял режиссуру на себя. Качалов ушел сразу. Гарин репетировал вплоть до первой генеральной. На ней читали уже не под фортепиано, а с оркестром и хором.
— Показалось невыносимым. А что делать? Волконский — мой «крестный» на радио, обижать его не хотелось. Спрашиваю в перерыве у знакомого критика — их пускали тогда на Телеграф, как в театре на предварительные просмотры «для своих»: «Ну как?» Он в остервенении: «У Пастернака своя музыка, а вы что с ней творите?!» Кончили в два часа ночи. Написал Волконскому записку: «Занят, готовим к выпуску “Последний решительный” — у меня роль, отпустите». Письмо оставил у дежурного и поехал домой.
Сна ни в одном глазу. Промучился до утра, звоню Волконскому в редакцию: «Вы мою записку получили?» «Да», — говорит. И молчит. Я разозлился на него и на себя: «Николай Осипович, разорвите мое письмо. Врать не хочу — играть не могу», В ответ слышу: «Я вас понимаю, Эраст Павлович. До свидания». Не обиделся, изумительный человек.
Спектакль неоднократно повторяли по радио, затем — с теми же участниками — начали играть как концертное представление. Борис Леонидович Пастернак занял позицию непримиримую: «Я даже не огорчен, я не протестую, потому что это не моя поэма… Ведь книга — это организм. Можно ее рвать на части, на мелкие части, но какая-то неразложимая молекула должна остаться неприкосновенной — молекула ритма. Я не узнавал себя…»
— Меня тогда расспрашивали, не сожалею ли, что ушел из этого радиодейства. Считалось, что мы, мейерхольдовцы, вообще падки на скандалы, особенно из-за переделок литературных произведений и пьес. Но ведь Мейерхольд шел на определенную деформацию литературного источника, не изменяя духу автора. В поэзии дух и буква неразрывны, а в «Девятьсот пятом годе» слово или фраза повторялись по четыре раза — предполагалось, что таким образом передаются четыре разных отношения к слову и факту. Ерунда сплошная получалась.
Эраст Павлович отшвыривает недокуренную сигарету. Насколько я понимаю, это высшая стадия раздражения.
— А почему я должен уродовать автора, поэта, тем более такого, как Пастернак!
(Здесь уместно отступление. В пятьдесят седьмом году в студии на улице Качалова, 24 Гарин записал и смонтировал композицию по стихам и прозе Маяковского под названием «Я сам». Устроили общественное прослушивание. Народу позвали много, разного, в том числе и хорошо знавших Маяковского. Прослушивание уже началось, когда приехал Лев Кассиль. Он скромно устроился у двери, но через несколько минут занервничал и взволнованно зашептал одному из редакторов: «Откуда взялась эта запись?» Кассиль считался знатоком фононаследия Маяковского и был ошарашен — он решил, что читает сам Маяковский, что хитрый Гарин вмонтировал в передачу неизвестную ему запись голоса поэта, настолько «близко к автору» звучал актер.)
— Перерыв, впрочем, был относительно небольшой. Хотя в редакции, очевидно, рассердились: была идея монтажа «Пуанкаре» — очерк-шарж, любопытно начал сочинять Гаузнер — отменили; заключили мы с Николаем Давыдовичем Оттеном предварительный договор на композицию «Дирижабль» — на современную тему — спустили это дело на тормозах; начал репетировать чеховский рассказ — оказалось вдруг «не ко времени…».
352 — Через год с небольшим позвонил Волконский: «Эраст, вы “15 раундов” читали? У нас эту книгу включили в план. Прочтите и, пожалуйста, подумайте».
В тридцатые годы это была очень популярная книга, написанная Анри Декуэном. Ее герой — профессиональный боксер, добившийся многих чемпионских званий. Переживания этого человека — его зовут Баттлинг — на протяжении пятнадцати раундов профессионального боя, в котором он терпит поражение и сходит с ума от нечеловеческого напряжения и полученных ударов, — таково содержание романа.
Поздним ноябрьским вечером 1932 года «15 раундов» впервые прозвучали по советскому радио. Из отзывов, весьма противоречивых, можно составить солидную брошюру. Диапазон оценок — от «Бесспорная победа!» и «Гарин прав» до «Профессиональное радиопоражение» и «Чего же хотят этот Декуэн и этот Гарин?» (я цитирую названия рецензий).
О том, чего хотел Гарин, он написал сам, вмешавшись в дискуссию статьей «Режиссер о своей постановке». Журнал, где она опубликована, давно стал библиографической редкостью, и поэтому я позволю себе процитировать несколько фрагментов:
«Во всех искусствах больше всего интересен человек. Даже в цирке, где показывают лошадей, интересен дрессировщик.
Композиция “15 раундов” построена на одном человеке — боксере Баттлинге.
Баттлинг — профессиональный боксер; но “он слишком умен для того, чтобы быть боксером”, — говорит его импресарио-менеджер Жорж.
“Боксер — это машина, которую заводит менеджер”.
“Я хотел бы быть этой машиной”, — произносит перед своим роковым матчем Баттлинг. Он хотел бы выключить свой аппарат, ведающий мыслями и чувствами, и превратиться в идеального боксера-профессионала, думающего лишь о комбинациях боя, о верном ударе.
Баттлинг был побит до своего выхода на ринг.
Баттлинг перерос свою профессию. Он видит нелепость атмосферы, окружающей профессиональный бокс.
Поэтому и автор, и режиссер, и актер заинтересовались фигурой Баттлинга.
Через 15 раундов последнего матча проникаем мы в думы и ощущения Баттлинга.
Тут, как за мгновение до казни, проходит его жизнь: его детство, когда он опьянен овациями, когда он видит великолепный зрительный зал, прекрасные туалеты и т. д.; его юность, когда он — сильный, ловкий, тренированный спортсмен — талантливо ведет бой; его зрелость, когда он мечтает о спорте на стадионе, на чистом воздухе, о непрофессиональном спорте. Он с отвращением думает о боксе на ринге.
Наконец, не найдя выхода, поддерживаемый лишь профессиональной инерцией, ждет он своего пятнадцатого раунда, пока взволнованный голос арбитра: “Аут! Аут!”, как залп из винтовок, не прикончит экзекуцию над его сознанием. Возбужденная 353 жестоким зрелищем азартная толпа приветствует своего героя. А Баттлинг?.. Но ведь “он слишком умен, чтобы быть боксером!”. Его, лишившегося рассудка, вытаскивают с ринга.
Итак, тема “Профессиональный бокс на Западе” и сюжет, изложенный выше, толкнули нас облечь эту композицию в форму монодрамы.
Глазами Баттлинга мы видим окружающий его мир, живем его ощущениями, даже голос его менеджера мы слышим в той интонации, в которой, как нам кажется, он слышится Баттлингу. Отсюда Жоржа (менеджера) читает тот же актер, и только арбитр, как некая официальная данность матча, передан другому исполнителю, чтобы придать событию аромат действительности, а не сна, не воспоминания. Текст арбитра к тому же ведется на французском языке.
Фрагментарно дана толпа зрителей. Она возникает лишь тогда, когда, как нам кажется, она ощущается Баттлингом: вначале подхлестывающая его аплодисментами и затем своими возгласами обостряющая трагедию Баттлинга».
Интереснейший прием нашел Гарин, когда искал звуковое решение реплики «Баттлинг нокаутирован»: каждый из десяти актеров, изображающих зрителей у ринга, пел какую-то свою мелодию. Эта какофония, пропущенная через ревербератор, создавала впечатление головокружения у героя, ибо голоса орущей толпы входили в его сознание как бы с некоторым торможением. Кстати, заметим, что Гариным впервые в радиотеатре был использован этот аппарат — ревербератор, позволяющий «раздваивать» звук. В массовых сценах это позволило при небольшом количестве действующих лиц вызвать ощущение грандиозной толпы; а в камерных — например, в монологе арбитра — создать впечатление гнетущей испуганной тишины в огромном куполообразном зале, где каждое слово — как удар, отзывающийся эхом.
Гарин тщательно разрабатывает и воплощает музыкально-шумовую структуру спектакля. Он подробно говорит об этом в письме к Х. А. Локшиной: «Музыка строится так: лейтмотив лирический — это Моцарт, “Фантазия” (кстати сказать, здесь слово “лирический” употребляется в широком смысле, иначе “Фантазия” не может соответствовать — это не Фильд и не Шопен). Затем музыка извне под названиями:
1) фокстротоподобный маршеобраз;
2) благополучный вальс;
3) танго (из “Двойника”, получилось мистическое танго);
4) вальс, который перекликается с “Фантазией”;
5) галлюцинация (это когда нокаут).
Весь конец идет на финальной странице Моцарта, сначала только на фортепиано, а затем в оркестровке…»
А для того чтобы все это не превратилось в музыкальный винегрет, Гарин приглашает композитора, который делает новые аранжировки, заново оркеструет некоторые мелодии, «прописывает» дополнительные места сюжетных сочленений радиодрамы.
Гарин чисто интуитивно формирует важнейший принцип радиорежиссуры — умение обозначить ведущую и единую интонацию радиоспектакля.
Впервые на невидимой сцене радиотеатра музыка и шумы перестали быть дополнительными, подчиненными, второстепенными элементами — они выполняют четко выраженные сюжетные и смысловые задачи.
Именно Гарину в этой работе принадлежит пальма первенства в определении важнейшего закона радиодрамы: примат слова, человеческой речи здесь не обязателен — обязательна их способность к контакту с музыкой определенного, заданного настроения.
«Эффект присутствия» был поразительным. Вот как описывает свои впечатления один из рецензентов:
«Голос Гарина “пляшет” вокруг меня, обходит со всех сторон. Удары его изобретательности я блокирую холодным контролем рассудка. Меня не обманешь. Он подталкивает мое воображение, вызывает ассоциации. Я отражаю все это с улыбкой предубеждения. Я знаю бедность доступных вам воздействующих средств, радио-Гарин. Вы не можете дать мне зрительные впечатления. Я знаю, что сейчас в небольшой душной радиостудии вы взмахиваете руками и два человека изображают ревущую толпу. Ха-ха! Над этим зло смеялся старик Диккенс…
Какая огромная толпа следит за боем. Я слышу ее рев. Что это? Я сам в нем участвую? Где я и где он? Я не хочу продолжения боя! Пятнадцать раундов — это бессмысленно! Это слишком много! Надо кончать! Прекратите это дикое зрелище! Я требую!
… Простите. Это я вскрикнул. Я загнан в свой угол… Радиоустановка надвигается на меня неумолимо… Я хочу знать, что будет дальше… Осталось только десять минут… Как мало…
… Вы правы, Гарин, что дали обреченность с самого начала. Потому-то вы и волнуете. Вы правы, Гарин, потому что сумели показать бессмысленность и ужас пятнадцати раундов. Вы правы, Гарин! В пятнадцать раундов вы показали всю жизнь боксера. Всякого боксера-профессионала, бессмысленный ужас его профессии, его обреченность. Вы правы, и потому вы убеждаете».
… Когда Мейерхольд начнет готовить радиоверсию спектакля «Дама с камелиями», он позвонит главному редактору литературно-драматического вещания Нине Немченко и попросит прислать ему музыкально-шумовую партитуру гаринского спектакля.
— Эраст Павлович, вы знали об этом?
— Нет, хотя косвенное одобрение чувствовал. Когда ГосТИМ ездил на гастроли, то в «план мероприятий», учитывающий все возможности рекламы спектаклей и актеров, обязательно включалась отдельным пунктом — если я ехал тоже — «трансляция “15 раундов” через местную студию».
— На вас пошла большая мода?
Вроде бы невинную фразу сказал, а в ответ:
— Что я, покрой платья? Слава богу, прически «а-ля Гарин» ни один куафер никогда не сочинял.
354 Знаю же, что он терпеть не может слово «модный» применительно к искусству. За двадцать лет знакомства ни разу не слышал от него это слово без иронии. Помню, принес нашумевший роман: «Самая знаменитая сейчас книга в Москве». Гарин с демонстративной торжественностью перекладывает журнал на полку, где, как мне известно, лежат книги, годами дожидающиеся своей очереди. Пренебрежительный жест относится уже не к журналу, а ко мне. Вот и теперь разволновался, прибавил шагу, почти бежит.
— Поворачиваем домой, нагулялись.
А нам «по распорядку» еще минимум час полагается провести на воздухе. На мое счастье, мы как раз приближаемся к беседке, в которой, по сложившемуся ритуалу прогулки, я рассказываю о городских новостях. Усаживаемся. «Перемолчать» Гарина невозможно — это я очень хорошо понимаю, — но он решает смилостивиться.
— Модный — не модный, сапожник, портной, кто ты такой… — это произносится тихо, себе под нос, словно без расчета на реакцию собеседника. Но я хватаю этот актерский крючок, как якорь спасения:
— Во всяком случае, работы на радио у вас хватало.
— Пожалуй, даже больше, чем могу успеть, — подтверждает Эраст Павлович.
Из письма к Х. А. Локшиной. 24 марта 1934 года:
«Меня остановил один человек (не могу припомнить фамилию) на радио и говорил минут тридцать о том, что то, что я делаю, — это путь создания типа современного слушателя. Он закатывает громадную статью с научно-исследовательским уклоном по поводу моих работ.
Теперь своей следующей работой, и очень серьезной, я думаю избрать “Слово о полку Игореве” — это даст возможность ухватиться за основу традиционного сказительства, но модернизировать и проложить мост, здорово продуманный, к современному материалу. Меня этот парень убил тем, что все мысли, им высказанные, я только хотел изложить в “Письме к моим слушателям” — ответе на письма о “Цусиме”, которых много и большинство которых ругательные».
В радиоспектакле «Цусима», о котором упоминает Эраст Павлович, он выступил в трех лицах сразу: как автор инсценировки романа А. С. Новикова-Прибоя, как режиссер и исполнитель. В письме к жене Гарин явно преувеличил число отрицательных отзывов — премьера, состоявшаяся 18 февраля 1934 года, имела успех и у слушателей, и у профессиональных критиков. Но наиболее строгим судьей Гарина всегда был он сам. Правда, подробно описывая этот свой эксперимент спустя много лет в книге «С Мейерхольдом», Эраст Павлович отнесся к спектаклю более благожелательно. Но тогда настроение у него было скверное.
«Кончил только читать “Капитальный ремонт”. Мне очень понравилось, и я жалею, что для радио выбрал “Цусиму”, а не “Ремонт” — последняя для меня написана…» — это уже из другого письма к Х. А. Локшиной в том же марте тридцать четвертого года.
Интерес к Гарину тем больше, чем чаще повторяются его уже «обкатанные» радиоспектакли. Практически все редакции, готовившие художественные передачи, постоянно обращаются к нему с разнообразными предложениями.
Молодежная уговаривает прочесть повесть Ивана Катаева «Сердце», редакция вещания для колхозников предлагает «любую постановку на ваш выбор», отдел передач для красноармейцев — «годовой договор на регулярное сотрудничество».
4 ноября 1934 года:
«В радио работы — завались. Пока остановился только на Олеше более твердо… Предлагают в драмвещании “Капитальный ремонт”, “Мюнхгаузена”, я предлагаю “Похождения факира”… В ближайшие дни… возобновляются “15 раундов”; и “Цусима”. Кстати, Новиков написал обо мне замечательную рецензию (как мне сказали, сам не читал), причем кроет радиогазету за ее отношение к моей работе». 12 ноября 1934 года:
«Приехал я очень вовремя: радио обзвонилось, и сейчас прямо иду на репетицию. На завтра договорился о читке Селина [роман “Путешествие на край ночи”], так что после репетиции доделаю “Париж” и потом… займусь составлением и проработкой “Женитьбы”».
«Париж» — одна из любимых радиоработ Гарина.
— Между прочим, если бы не ваша тогдашняя популярность, «Париж», да и другие ваши идеи насчет «Маяковский и радио», наверное, остались бы в стадии замысла?
— Да, мне говорили и о примитиве, и что «слушатель вырос из этих грубых агиток». А я хотел доказать, что до этого примитива нам всем еще тянуться, и далеко не все дотянутся.
— Поэтому вы начали с «Парижа», с соединения публицистики и стиха?
— «Париж» не первая моя композиция по Маяковскому, где чередуются проза и поэзия. Хотя как считать: она оказалась первой записанной на фонограф и пластинку. Но до этого передавалось по станции имени Коминтерна «Мое открытие Америки» — просто стихи с музыкой, сочиненной по моему заказу А. В. Мосоловым. Потом было несколько вариантов «Америки» — уже по образцу «Парижа», и «Рожденные столицы» — тот же принцип, и «Я сам». Эти уже записывались на пленку в конце пятидесятых годов, но я ничего не менял — записывали так, как я играл на премьере в «живом» еще радио. Хотя, может быть, теперь они и устарели немного.
Устарели? «Париж» передавали в очередной раз, когда Гарина уже не было в живых. Вскоре на Смоленский бульвар пришло письмо — отправитель не знал о смерти Эраста Павловича и писал ему:
355 «Поздравляю Вас с замечательной работой “Париж”. К сожалению, для нас, молодого поколения режиссеров и актеров, эта работа многолетней давности неизвестна, хотя она — часть золотого фонда…»
Автор письма ошибся немного — «Париж» и некоторые другие сохранившиеся работы Гарина стали достоянием «золотого фонда», то есть зачислены на вечное хранение только в 1980 году, после кончины их создателя. К сожалению, это оказалось поздно для записей «Мандата», «Смерти Тарелкина» и ряда других — они или полностью утрачены, или сохранились обрывками магнитофонных лент в плохом техническом состоянии, настолько плохом, что реконструировать их для передачи в эфир невозможно.
Я рассказываю об университетском семинаре, где мои студенты до хрипоты ругались, обсуждая гаринский цикл моноспектаклей по Маяковскому. Эраст Павлович просит подробнее. Это уже рабочий интерес — у нас есть принципиальная договоренность: когда Гарин почувствует себя лучше, он вместе с Локшиной встретится с моими ребятами для разговора.
В фондах Всесоюзного радио хранится около десяти часов звукозаписей с участием Гарина. Почти половина из них — Маяковский. К беседе об этом готовятся и студенты, и актер. Эраст Павлович «пробует» на мне один из излюбленных, насколько мне известно, своих рассказов:
— Обсуждали «Командарм-2». Выступал Анатолий Васильевич Луначарский. Ему пьеса не приглянулась, а уж когда Луначарскому что не нравилось, он умел подвести базу. Нарком отметил глубокое содержание, отличные стихи, актуальность и т. д., и т. п. А кончил утверждением, что зритель пьесы не поймет, ибо не в состоянии он — зритель — переварить все многочисленные философские проблемы, которые поставил автор. А посему трагедию в стихах Сельвинского следует считать несценичной и на подмостках театра ей делать нечего.
Луначарский кончил говорить, все молчат. Приговор вроде окончательный, обжаловать трудно. Тут выходит Маяковский.
— А ведь это парадоксально сегодня прозвучало — «трагедия» Сельвинского, — говорит он. — Это действительно трагедия, и, к сожалению, не одного Сельвинского. Я хорошо представляю его состояние сейчас, когда говорят, что вы, мол, Сельвинский, настолько талантливы и так блестяще написали свою пьесу, что ставить ее никак нельзя, так как, упаси господь, эту пьесу не поймут наши рабочие и крестьяне… А «Капитал» Маркса? А Энгельс? Ну, пусть не Маркса, не Энгельса, а Шекспира рабочие и крестьяне сегодня понимают? Так что же? Давайте и Шекспира запретим! Я считаю, — басил Маяковский, — такую позицию неправильной, обидной для художника и, если хотите, обидной для рабочих и крестьян. И прошу извинить меня, уважаемый Анатолий Васильевич, но сегодняшнее ваше выступление напоминает мне случай из дореволюционного прошлого, когда в городе Херсоне впервые появился автомобиль и губернатор издал приказ: «Автомобиль в город не пущать, пока лошади к нему не привыкнут…»
Зал грохнул. Луначарский поднял вверх руки — мол, сдаюсь — так поднятыми руками и аплодировал. Пьесу приняли. Маяковский приходил на репетиции, бубнил стихи Сельвинского. Для него ведь не было «чужой» поэзии. Всякие хорошие стихи вызывали у него радость. А как он репетировал «Клопа»!..
Сам Эраст Павлович дважды ставил «Клопа», но не в театре, а в эфире. Сначала перед войной на Ленинградском радио с Б. Тениным в роли Присыпкина, сам читал за Олега Баяна; затем, в 1948 году, там же, в Ленинграде, с участием артистов Театра комедии. Главного героя уже никому не отдал.
Мне часто казалось, что Маяковский — неутоленная страсть Гарина.
Однажды я рассказал Эрасту Павловичу, как волновался и сомневался Аркадий Райкин, когда ему предложили сыграть Короля в радиоверсии шварцевской «Золушки». Его смущали два обстоятельства. Во-первых, как к этому отнесется Гарин, и во-вторых, как он будет играть эту роль после Гарина.
Спектакль ставила Лия Веледницкая — человек неуемной творческой фантазии, ученица Абдулова и Иоффе, унаследовавшая от них весьма крепкую режиссерскую руку. Мне были ведомы ее сомнения — а как, действительно, отнесется к этому Гарин?
Почти год у меня раздавались ее телефонные звонки:
«Понимаешь, я не хочу и не могу повторять Кошеверову1, а если я позову Гарина или Раневскую, то я неизбежно буду повторяться. А как их не позвать и кто рискнет с ними конкурировать?..»
Наконец она решилась все-таки не звать ни Гарина, ни Раневскую.
Мнение Фаины Георгиевны Раневской об этой работе мне неизвестно.
Хесе Александровне она активно не понравилась.
Эраст Павлович сказал:
— Это же совсем другой коленкор, сегодня так даже веселее. Вот песенки такой у нас не было. — Он имел в виду вступительную песенку Короля, которую композитор А. Спадавеккиа написал для радиоспектакля в расчете на Аркадия Райкина. — Нет, просто здорово, передайте режиссеру — очень хорошо сработала. А Райкину я позвоню и поздравлю. Вот тут я и влез с вопросом:
— Что же, вам никогда не жалко было отдавать «свои» роли?
— Никогда, если это не Маяковский, — услышал незамедлительный ответ.
Теперь — в сентябре семьдесят девятого — мне хочется вернуться к тому давнему разговору — много лет меня интересует отношение Гарина к «несостоявшемуся». Ведь «не произошло» в его творческой биографии многое: монтаж сцен из «Петра Первого» Алексея Толстого; есенинский цикл; рассказы Бунина; 356 Гоголь — была готова партитура «Женитьбы», задуманы «Нос», «Записки сумасшедшего»; не состоялось «Слово о полку Игореве»; была отрепетирована и не дошла до эфира пушкинская «Сказка о попе и работнике его Балде»; стихи Некрасова. А история с «Войной и миром»? Гарин записал ее в своей книге:
«… Я принес в литературное вещание композицию “Война и мир”.
Все происходило так же, как с “Цусимой”2.
На беду, Льва Николаевича Толстого уже не было в живых, и санкцию на композицию я должен был получить у одного известного литературоведа.
— Вы исказили Толстого?
— Исказил. Из всей огромной эпопеи я сделал шестнадцать передач, рассчитанных на шестнадцать часов текста.
Литературовед, не в пример Новикову-Прибою, запретил на корню эту работу… Не мы, а англичане сделали двадцать шесть передач “Войны и мира”.
— Неужто не обидно?
— “Обидно за державу”3. А за себя? Жаль, конечно, сил, потраченных на споры о бесспорном. Но если не прерывается процесс накопления, то реализует он себя непременно. Не в одной, так в другой работе. Важно не променять идею, замысел на конкретность материала, не разменять накопленное на обстоятельства.
— У вас такие соблазны были?
— Сколько угодно. Зная о моем увлечении романом Алексея Толстого о Петре, мне несколько раз предлагали принять участие в разного рода его инсценировках. То на Московском радио начиналась многосерийная эпопея, то в Ленинграде разыгрывали отдельные главы. Режиссеры все были солидные, партнеры — не нарадуешься. Но я готовился не к спектаклю с огромным числом действующих лиц, а к представлению с одним исполнителем. В материал я уже влезал так глубоко, что всякое иное решение — пусть интересное, пусть закономерное, но из “другой оперы”, не по-моему, — было душе наперекосяк. И я отказывался.
— Всегда?
— Иногда соблазны были сильнее. Но не часто.
— Почему все-таки монодрама оказалась самым предпочтительным для вас жанром во всей палитре радиотеатра?
— Моноспектакль — форма, которая, по моим ощущениям, создает максимальную возможность актеру для самовыражения. Сколько ролей надо освоить актеру, взявшемуся играть у микрофона целый роман! Какое количество интереснейших постановочных задач надо ему решить! В том числе и наисложнейшую — как одному удержать внимание аудитории в течение довольно длительного времени.
— Ну, вам, как первооткрывателю этого радиожанра, все секреты давно известны.
— Первооткрывателю? Давно известны? Тут каждый раз яма без дна, пропасть. Перепрыгивать через нее я учился всю жизнь…
Это я хорошо знаю, увидел в первые месяцы знакомства».
Было так. Илья Григорьевич Эренбург читал в университете главы из только что написанных воспоминаний «Люди, годы, жизнь». Отдельным изданием книга еще не вышла, вопросов к автору было превеликое множество. Эренбург отвечал неохотно, повторял хмуро одну и ту же фразу: «Я написал то, что знал и думал. Другие люди могут дополнить».
Когда он кончил читать главу о Мейерхольде, один из нетерпеливых слушателей заорал с галерки: «А кто может дополнить о Мейерхольде?»
Эренбург на выкрик, против обыкновения, не рассердился, а назвал несколько имен. Одним из первых — Гарина.
На следующий день несколько студентов, в числе которых был и автор этих заметок, напросились в гости к Гариным. Эраст Павлович и Хеся Александровна рассказали так много интересного, что мы почувствовали угрызения совести — почему все только нам. Родилась идея вечера, посвященного творчеству Мейерхольда. Через три с лишним месяца, 27 марта 1961 года, такой вечер состоялся в старом университетском клубе на улице Герцена. У нас, устроителей, было ощущение, что у дверей собралась вся Москва. Еще бы: вечер открывал Сергей Юткевич, фрагменты из спектаклей играли Ильинский, Свердлин, Мартинсон, Штраух, воспоминания читали Назым Хикмет, Волков и Гладков, в гостях были Бабанова и Плучек, Марков и приехавший из Ленинграда Меркурьев. Вечер, начавшийся в шесть часов открытием небольшой экспозиции афиш, фотографий и личных вещей Мейерхольда, закончился в половине второго ночи показом кинофильма «Белый орел».
Все это тщательно планировалось и готовилось дома у Гариных. Три месяца Эраст Павлович и Хеся Александровна занимались нашими клубными делами больше, чем своими театральными и кинематографическими.
На вечер они не пришли. Локшина слегла от переутомления.
Через некоторое время вечер захотели повторить у себя молодые инженеры из города Жуковского. Но «второй спектакль» всегда бывает с изъяном — многие из актеров и режиссеров, согласившихся поехать во Дворец культуры подмосковного города, не смогли этого сделать по уважительным причинам. Стройная конструкция вечера разваливалась, к ужасу устроителей, когда приехал Гарин.
«Что стряслось?» — спросил он, увидев бледные лица энтузиастов театрального просвещения.
«Выпадают две сцены из спектаклей, концертный номер — не приехал пианист, показ биомеханики, сейчас антракт, потом вы, и мы не знаем, что делать», — выпалил на одном дыхании главный энтузиаст.
«Давайте третий звонок», — величественно произнес Гарин и пошел на эстраду.
Он не уходил с нее полтора часа: рассказывал, играл, демонстрировал элементы биомеханики, читал стихи, показывал 357 Мейерхольда и своих коллег по ГосТИМу… Эраст Павлович сыграл блистательную импровизацию на тему «Мейерхольд, время и мы», которой зал внимал сначала настороженно — очень уж необычно, — а потом с восторгом и неослабевающим напряженным вниманием.
А дома на следующий день Гарин поставил на магнитофон пленку с записью своего выступления и, прокручивая по нескольку раз не совсем удавшиеся, как ему казалось, места, комментировал: «Потерял ритм…», «Пережим», «Развинтился внутри» и т. д.
В наших разговорах о моноспектаклях на радио мы часто вспоминаем тот вечер в Жуковском. Гарин утверждает — если б не навык, наработанный у микрофона, он бы сорвался и потерял зал через пятнадцать-двадцать минут максимум. Мне кажется, он несколько лукавит.
— Вам действительно помешали бы партнеры? — спрашиваю, понимая щепетильность вопроса.
— Помешали бы. Актерская гордыня должна иметь выход. — Эраст Павлович вдруг обрывает себя: Конечно, пока есть физические возможности, пока не перешагнул свое собственное время. Тогда любую несыгранную роль оцениваешь как трагическую потерю. Наверное, ошибаешься, но поправить тебя некому. И уже некогда.
Я вспоминаю, будто очнувшись, что моему собеседнику за семьдесят пять. И думаю, что все разговоры о его замкнутости, погруженности в свои мысли, его «неконтактности», как выражаются современные психологи, — все эти разговоры, может, и не пустые. Но кому дано понять душу актера, не растраченную на подмостках?
… На исходе последняя сигарета.
Солнце ушло за Москву-реку, его косые лучи высверкивают зайчиками в окнах верхних этажей. Появилось маленькое облако. Совсем маленькое, похожее на индюка с вытянутой шеей. Одно-одинешенько. Но расположилось оно как раз между городом и солнцем. И листья в скверике, где мы сидим, не то чтобы пожухли, а налились густой неприятной чернотой. Пора домой.
И все-таки самое сильное впечатление от встреч с Гариным — самое неожиданное. Моя журналистская молодость пришлась на ту пору, когда чрезвычайно увлекались разнообразными социологическими исследованиями. Составлялись всевозможные анкеты — чаще неумелые, порой бестактные, но казавшиеся очень перспективными для познания и людей, и закономерностей нашего бытия. Опыта не было, социология как наука у нас только начиналась. В моду входили опросы «разоблачительного» характера: у подчиненных спрашивали, как они относятся к начальству, у молодых супругов — всегда ли они говорят правду друг другу, и тому подобное.
Об одном таком «исследовании», касающемся «художественного типа личности», я за вечерним чаем рассказал у Гариных. Эраст Павлович поинтересовался: «Так вам и режут правду-матку?» Я заявил, что на анкеты отвечают по-разному. Эраст Павлович попросил показать ему какую-нибудь из этих анкет. Назавтра я притащил отпечатанные на ротапринте несколько листочков с плохо просматривающимся текстом. Гарин внимательно изучил их и вернул с безапелляционным комментарием: «Труха!»
Увидел мое огорчение и добавил: «Ладно, выбирайте один какой-нибудь вопрос, на ваш взгляд самый интересный».
Я, не размышляя, ткнул в номер тринадцатый: «Вы тщеславны?»
Гарин усмехнулся и сказал: «Читайте Монтеня». И пододвинул мне традиционный «Хесин бутерброд» — масло, колбаса, сыр, варенье в несколько этажей на ломте белой булки, — давая понять, что дальнейшей дискуссии на социологические темы он вести не намерен. При чем здесь Монтень, я не понял, но тот же совет я услышал еще раз — через несколько лет и совсем по другому поводу.
Мне довелось принимать участие в одной работе, которая по-разному и многократно поощрялась. Однако при распределении премий моя фамилия ни в один из списков не попала. Я пришел на Смоленский бульвар за сочувствием. Эраст Павлович покачал головой и сказал: «Труха! Читайте Монтеня, в самом конце, полегчает».
Честно говоря, я немного разозлился, мне в тот момент было отнюдь не до общефилософских бесед. Но дома я открыл томик великого француза и прочитал там:
«Уменье достойно проявить себя в своей природной сущности есть признак совершенства и качество почти божественное. Мы стремимся быть чем-то иным, не желая вникнуть в свое существо, и выходим за свои естественные границы, не зная, к чему мы по-настоящему способны. Незачем нам вставать на ходули, ибо и на ходулях надо передвигаться с помощью своих ног. И даже на самом высоком из земных престолов сидим мы на своем заду».
Такие вот были они, уроки Гарина.
1 Н. Н. Кошеверова вместе с М. Г. Шапиро осуществила постановку фильма «Золушка» с Э. П. Гариным в роли Короля и Ф. Г. Раневской в роли Злой мачехи.
2 Редакция радио разрешила постановку «Цусимы» лишь при условии одобрения текста радиоспектакля автором романа.
3 Цитата из пьесы Вс. Вишневского «Оптимистическая трагедия».
358 Борис Андреев
ЗНАК ДОБРА
Есть люди какие-то просветленные, с детским, наивным взглядом, добрым, светящимся любопытством и удивительной доверчивостью. Вот таким человеком мне вспоминается Эраст Павлович Гарин. Я имел радость работать с ним после войны в Театре-студии киноактера, а во время войны встречался на разных киностудиях. Его детская наивность и чистая, какая-то первозданная доверчивость порой бывали трудноразличимы в будничном движении деловой суматохи, но их вспышки выражали его душу, ее манящее постоянство.
В Гарине удивительно чисто сохранилась природа русского человека, уроженца рязанских земель. Причем «рязанство» это было не формальным, нет. Эраст никогда не выпячивал его в своих работах. Он не утратил природу духа, которую вынес из родных мест, особенности доброго российского мужика, особую сметку разума и красоту проявлений нрава человеческого, выражаемого интеллигентным современным артистом-художником, с могучим храмом души, сложенным природой матушки-Рязани. Вот эти две силы, свято сохраненные в своей цельности душой художника, лежали в основе исключительной гаринской правдивости.
Я думаю сейчас о внутреннем свете, о природе духа артиста, о происхождении своеобразной, очевидной народности артиста, она всегда была основой почти магнетической притягательности образов, созданных Эрастом Павловичем.
Этот человек носил на себе знак добра и, при всей внешней парадоксальности проявлений обостренного характера, лик его никогда не омрачали тени зла. При всех его резкостях — в прямых и нелицеприятных режиссерских укорах, в словах, порой очень резко поданных, броско сказанных, — никогда не чувствовалось желания оскорбить виноватого. Его мысль несла необоримую правду — ее можно было только с благодарностью принять. Его боялись, боялись в хорошем смысле, как боятся святую чистоту, которая никогда не уступает, как боятся фона, на котором невыгодно и постыдно выглядят малодушие, коварство, воинствующее зло. В таких случаях все знали; Эраст не промолчит. Его природа была нетерпима к любой несправедливости. Его облик на первый взгляд этакого разини-простолюдина — все актеры также это знали — был обманчив. Ибо вдруг вы замечали взгляд мыслителя. И все мы, зная особое, обостренное гаринское правдолюбие, не позволяли себе при нем беспечно ошибаться, старались не допускать небрежности манер и, что серьезнее, не терять принципов человечности.
При всей своей огромной и глубокой эрудиции Эраст Гарин мог легко поверить какой-то явной чепухе и, широко открыв глаза, дивиться в ней явлению удивительного. В торжественной обстановке собрания он мог вдруг встать и произнести с присущим ему убийственным юмором разящую реплику, заставлявшую всех вдруг «прозреть» и с предельной наглядностью понять бессмысленность спора в накале преувеличенных страстей.
Особый склад гаринского ума предопределял форму его образов. Старый мейерхольдовец, Гарин отлично понимал природу воздействия отточенной формы на зрителей. Он обладал какой-то особой способностью вызывать в зрителях желанные ему движения души.
Реализм гаринского искусства никогда не сводился к подражанию достоверности. Он поднимался выше житейской, будничной правды, пользуясь всеми средствами многовекового опыта искусства — гротеском, даже фарсом, любой находкой остроумия, способной усилить выразительность замысла. И, как ни странно, гаринская острая манера никогда не создавала ощущения диссонанса, контраста с общим ансамблем.
Мне довелось сниматься с Э. Гариным в картине «Оптимистическая трагедия» Самсона Самсонова. Там есть эпизод, когда возвышенная трагедия вдруг перебивается явлением фарса — приходом «обезьян»: ввалилась на экран разнузданная шпана, предводительствуемая Вожачком, этакая патология анархизма.
Вот падает сраженный пулей Алексея Вожак — воплощение злой и необузданной силы анархии, а вот уже мелкие представители анархистского отребья несут на руках, словно набоба, своего предводителя, гордого кретина, философствующую мразь. Острый гротеск в поведении, в характере и никакого ощущения преувеличенности, ибо артист перенес на исполняемый образ всю силу своего презрения, а в рисунке роли нашел точную и благородную выразительную форму.
В образах, созданных Гариным, всегда можно было различить следы отношения гаринских современников к той или иной проблеме, выдвигаемой самой жизнью. Гарин выражал мысли и чувства зрителей средствами художника, живущего в их среде. Он был наделен редкой способностью постигать отношение современников к крупным явлениям жизни.
Кто-то должен, обязательно должен носить среди людей вериги бессребреника, человека устойчивой чистоты души, быть 359 эталоном мудрости и сердечной простоты. Кто-то должен противостоять человеческой слабости, особенно в среде людей, занимающихся искусством, слабеющих порой под тяжестью скрытых и неисполнившихся желаний, обманутых надежд… Это бремя легко нес Гарин.
Смерть Эраста Павловича отозвалась болью, похожей на ощущение порушенного добра. Мы, актеры, утратили товарища, необходимого каждому. Сам факт существования Гарина в нашей артистической среде вселял веру в торжество правды и чистоты в мире людей искусства.
С глубочайшим чувством печали я понимаю сейчас, что больше не доведется испытать радость явления нового произведения с участием Эраста Павловича. Не испытаю радостной встречи с мудрым волшебником и чудаком, сатириком, милейшим и добрейшим собеседником, всегда таким знакомым, по-своему объясняющим жизнь, как это делали всенародно исстари Иванушка, Петрушка или Полишинель, как это делают порой простофили в цирке, как это делает, шутя, живая, не иссякающая мудрость, что в природе нашего народа.
Когда говорят о ценности художественного вклада ушедшего от нас художника, то вспоминают произведения искусства, в создании которых он участвовал, и это правильно. Но есть еще ценность другого рода, качество, которое довольно часто забывается. Это незримая ценность живого пребывания личности в среде, на которую эта личность непосредственно воздействует. На этику живых и каждодневных отношений; на глубину и силу человеческих суждений в среде художников; на ощущение постоянной высокой требовательности в творчестве к своим собратьям и прежде всего к самому себе. У меня нет сомнения в том, что каждый, кому посчастливилось встречаться с Э. Гариным — на художественном, на жизненном ли поприще, — испытал влияние творческой личности Эраста Павловича и неотразимое обаяние его натуры.
Надо было видеть, с какой любовью и желанием артисты Театра-студии киноактера рвались к работе в постановках Эраста Павловича. Гарин был источником совершенствования творческой личности любого работающего с ним художника.
… Всегда есть в искусстве люди, несущие знамя художественной правды и чистоты. Эти люди не имеют права быть «гибкими», обтекаемыми, им это не прощается. Они обязаны всегда быть прямыми, точными в суждениях, неукоснительно постоянными в принципах, справедливыми и ясными. Эти люди не избираются, не выдвигаются на общих собраниях — они молчаливо и радостно признаются всеми как необходимая добрая сила. Перед этими людьми нельзя юлить, лгать, изворачиваться. От них принято с благодарностью воспринимать истину.
Сергей Юрский
ЧУВСТВО ФОРМЫ
Однажды после спектакля «Горе от ума» в БДТ Гарин распахнул дверь нашей гримерной: — Хвалить не буду. Но мне понравилось… Интересно, черт вас возьми. Качалов играл в Чацком Грибоедова, мне Мейерхольд сказал, что в Чацком надо играть Кюхлю, и я сыграл Кюхлю. У вас, по-моему, еще не все получается, но я понял, что вы хотите: вы Пушкина играете в Чацком. Интересно, что еще тут откроется, но ведь ясно же — откроется. Черт возьми, до чего же это интересно!..
А вот не знаю — сгодился бы Эраст Гарин для современного кинематографа? Что-то не могу его себе представить ни в многосерийке, даже на историческую тему, ни тем более в злободневном фильме. Сейчас требуется достоверная фактура — как в жизни (якобы достоверная, потому что достоверность тоже становится киноштампом). Сейчас требуется как бы репортажный стиль, даже если играют костюмную вещь, даже если Шекспира. А Гарин нес образ. Он не мог выйти на сцену или войти в кадр «пешком». Не мог сказать фразу «как написано». Артист на то и артист, чтобы сотворить из себя другого человека. Его жест, его взгляд, его речь. Раньше ценилась особенность. Теперь — обыденность. Я не к тому, что «эх, были времена!». Я только к тому, что Гарин не забывается. Новый стиль отодвинул его в сказки, и только.
Но Гарин не забывается. Не только как прошлое. Но как неисчезающее, как нечто, что составляет первооснову актерского искусства. Да, конечно, — органика, но яркая, да — убедительность, но с фантазией, с выдумкой, да — автор написал смешной текст, но еще и сам персонаж должен быть создан как смешной. Артист творит. Артист не просто человек среди людей, а мастер, искусник, особый умелец. В его воплощении жизнь предстает выпуклой, особо впечатляющей, окрашенной талантом. Реальность сгущается, уплотняется в невероятность искусства, и в этом сверкающем сгустке мы глубже и заново познаем все ту же реальность. Вот путь одной из линий нашей литературы — Гоголь, Достоевский, Булгаков… Вот путь одной из линий нашего театра — тут много имен, и среди самых первых незабываемые Раневская, Гарин… Внутри такого подхода всегда лежит высокая культура, глубокий интеллект, психологическая зоркость (это атрибуты содержания) и еще — великое, почти забытое качество актера — чувство формы. Без всего этого нет развития. Это еще вспомнится не раз. Еще понадобится — как школа, как перспектива, как суть. Потому и не забудется это странное неординарное сочетание звуков его имени, красивое и ритмичное, — ЭРАСТ ГАРИН.
360 Андрей Хржановский
СПЕКТР ЖИЗНИ
|
Ты понимаешь ли, верный друг Мавруша, какую бессмертную штуку я играю?.. А. В. Сухово-Кобылин. Смерть Тарелкина |
Лев Николаевич Толстой был уверен, что помнил себя с утробного возраста. Лично я не могу похвастаться такой памятью. Но как далеко в прошлое ни относила бы меня волна воспоминаний, я неизменно вижу перед собой явившегося с мороза гостя с седой шевелюрой, с обветренным на солнце лицом, с выразительными интонациями захватывающего рассказа, который излагается возбужденным и удивительно мелодичным голосом, отчего и пустяк превращается в драматическое происшествие; с плавными жестами рук, в одной из которых дымится неизменная сигарета, и с закрученными замысловатым кренделем — одна вокруг другой дважды (а казалось — четырежды!) — ногами.
Сохранилось устное свидетельство родителей о моем колыбельном знакомстве с гостем: «Да он у вас косой, черт!» — по поводу моих узких глаз. Выходит, я знал его с первых моих дней и до последнего его дня.
В тот день, после долгих августовских холодов, сквозь тучи проглянуло прощальное сентябрьское солнце. «Оно покрыло жаркой охрою», высветило на темно-вишневых обоях портрет того, кого Гарин называл Мастером. А рядом, чуть ниже, обращенный к нему профиль ученика, простертого на постели.
Этот Ученик Мастера был мой Мастер, хотя при жизни я так и не назвал его вслух этим именем. На протяжении более чем трех десятилетий он был для меня предметом удивления и тайного (ибо он не терпел сантиментов) обожания.
Вот я написал эти слова и тотчас представил себе хитрый взгляд светлых гаринских глаз (он и с одним, в конце жизни невидящим, глазом, казалось, обладал этим взглядом) и его голос, с интимной напевностью произносящий: «Да будет вам бузовину-то пороть…» Нередко мне приходилось слышать от Мастера и другое, вроде: «Художественно!» или: «Почем зря как шикарно!..» Гарин жив для меня во всей неповторимости своего облика и поныне. Воспоминания о нем снова и снова переносят меня в дом моих друзей, на уютную кухню, где за овальным столом в креслах восседают друг напротив друга хозяева и бродит, трется у ног, распушив хвост, дымчатая Клякса…
Сам Эраст Павлович неохотно делился воспоминаниями, но был не прочь вместе со мной лишний раз послушать их в пересказе жены — Хеси Александровны Локшиной.
… Бабка его по отцовской линии — Елизавета Ивановна — была человеком необычайной доброты, жила в Дмитровом погосте, под Рязанью, где ей принадлежали обширные леса и угодья. В ее владении было также несколько домов в Рязани.
Будучи уже известным актером, Гарин при первой же возможности — когда выдавалось несколько дней, свободных от спектаклей и репетиций, — уезжал в Рязань, а оттуда нередко в Дмитров погост, чтобы, как он говорил, «окунуться в космос» мещерских лесов, навестить родных1.
Отец — Павел Эрастович, лесничий — был человеком с причудами. Одна из них заключалась в том, что он, невзирая на собственный страх, в канцелярии лесничества вместо царского портрета держал козла.
В архиве Э. Гарина сохранились фотографии Павла Эрастовича в ролях из любительских спектаклей.
Мать — Мария Михайловна, женщина волевая, страстный книгочей, острая на язык, — передала сыну по наследству то, что Гарин называл творческой выходкой.
Бабка по материнской линии — Екатерина Дмитриевна — была заядлой картежницей. К ней съезжался для встречи за ломберными столиками весь рязанский бомонд.
Однажды внук, вооружившись мелом, тайком пробрался в пустую комнату и на зеленом ломберном сукне написал жирными буквами: «Жопа».
361 Каково же было потрясение гостей, когда, откинув с четырех сторон сложенную конвертом деревянную крышку, они прочли это слово!
Спрятавшийся в соседней комнате злоумышленник в гуле возмущенных голосов отчетливо расслышал, как кто-то из гостей громко произнес: «Выпороть!»
Тогда, выждав какое-то время, маленький Эраст вышел к гостям через двери, ведшие в гостиную с улицы, и, стараясь подражать многократно слышанной интонации, как мог громко провозгласил: «Лосади поданы, господа!..»
(Весь этот эпизод, как мог убедиться читатель, построен на игровых паузах и мог бы стать для будущего актера хорошим примером их выразительности.)
«У нас даже вист свой составился: французский посланник, английский посланник, немецкий посланник и я», — в упоении от собственного вымысла рассказывает доверчивым слушателям Иван Александрович Хлестаков после бутылки толстобрюшки.
Мне кажется, что весь облик Хлестакова, каким его задумали и воплотили на сцене Мейерхольд и Гарин — фат в очках с квадратными стеклами, — являлся для Гарина, с одной стороны, продолжением мести маминым поклонникам, бабушкиным картежным партнерам, а с другой стороны, таким же «репримандом» против норм «благонравного» бомонда, как меловая надпись на зеленом сукне…
Известный эпизод из детских лет Пушкина связан с тем, что император Павел I сделал выговор его няне за не снятый перед ним картуз.
Случайное совпадение: маленькому Эрасту также довелось встретиться с царствующей особой.
«Сними картуз!» — успели шепнуть ему родители. «Но я с ним не знаком!» — резонно ответил мальчик, надвигая картуз глубже на глаза.
Так начинались гаринские отношения с монархами, чье племя, пожалуй, не испытывало таких насмешек от частных граждан, какие пришлось испытать от исполнителя ролей королей, «корольков» и царей разных мастей и калибров — народного артиста Эраста Гарина.
Даже те, кто видел Гарина однажды, бывали поражены совершенством его пластики. Внутреннее, органическое чувство формы внушало его движениям какую-то особую завершенность, легкость и вместе с тем значительность.
Прежде всего поражала походка. Когда все вокруг торопились куда-то, зачем-то, Гарин просто шел, как бы «в никуда и в никогда», и это уже было пластическое действие. Его фигура с деликатной, без чванства, обособленностью проплывала среди уличной толпы…
Походка Гарина таила богатейшие возможности трансформации, как белый цвет заключает в себе все цвета спектра. В конспекте по сценоведению, курс которого вел в Гэктемасе 362 сам Вс. Мейерхольд, мы читаем: «Строгая экономия движений и жестов (скупость выразительных средств), то есть разрешать себе только те движения и жесты, которые достаточны, чтобы довести до сведения зрителя то, что нужно актеру сообщить… Актер должен прежде всего иметь в виду походку как ритмическое выявление особенностей того или иного индивидуума».
В самом деле: разве можно забыть ритмическое богатство пластики Короля в «Золушке», его танцующий шаг? Или Короля в «Обыкновенном чуде», то еле переставляющего ноги, то ступающего величественно, то игриво, вприпрыжку?..
Или сложную гамму походок бродяги из «Монеты»?..
Или целую сюиту походок в «Веселых расплюевских днях», где Гарин играет две роли: Копылова и Тарелкина, с их то шаркающими шажками, то этакими вкрадчивыми пробежками?..
Он владел секретом недосказанности, всегда оставляя зрителю возможность додумать, доразвить те мотивы, которые намечал в своей игре.
В доверии к зрителю сказался его высший демократизм.
Вместе с определенностью внешнего облика маска, мы знаем, несет в себе многообразие ассоциаций. Такой тип актерской игры обладает наивысшей степенью условности и поэтому может оказаться непростым для восприятия.
Уже в самом намерении предложить зрителю такой тип игры есть высокое к нему, зрителю, уважение. Гаринский демократизм не знал фамильярности и никогда не опускался до заискивания. Девизом Гарина-актера были слова К. С. Станиславского (в архиве Гарина мы находим их дважды переписанными гаринской рукой): «Чем больше актер хочет забавлять зрителя, тем больше зритель сидит барином, откинувшись назад, и ждет, чтобы его услаждали, не пытаясь даже принять участия в происходящем творчестве, но лишь только актер перестает считаться с толпой в зале, как она начинает тянуться к нему, особенно если он заинтересован на сцене чем-то важным и для нее самой».
Высокая содержательность всегда была первейшей заботой актера, обладающего феноменальной техникой. Ибо другим его заветом были слова Мейерхольда: «Техника актера, не пропущенная сквозь спектр жизни, может привести его к беспредметному акробатизму».
По сравнению со своими коллегами Э. Гарин сыграл не так уж много ролей. И не потому, что было недостаточно предложений — слишком высоким оказался, как выразились бы психологи, критический порог артиста. Его, впрочем, можно было понять: после главных ролей в пьесах Гоголя, Грибоедова, Эрдмана, сыгранных под руководством Мейерхольда, трудно было вписаться в узкие рамки искусства так называемого социалистического реализма. Вот отчего в списке сыгранных Э. Гариным ролей почти нет таких, которые он мог бы и не играть.
Прекрасным эпиграфом ко всему гаринскому творчеству могли бы послужить слова Гете, некогда выписанные Гариным четкими буквами на отдельном листке бумаги:
«Размышления поэта относятся, собственно, только к форме: сюжеты предоставляет ему жизнь слишком щедрою рукой…
363 Но форма, хотя она во всей полноте уже присуща гению, требует познания, требует мысли; и именно думать надо для того, чтобы пригнать форму, сюжет и содержание друг к другу, чтобы они слились в одно целое, проникли друг в друга…»
И еще: «Поэт стоит слишком высоко, чтобы принять чью-нибудь сторону. Веселость и сознательность — вот прекрасные дары, за которые он благодарит создателя; сознательность для того, чтобы не отступить перед страшным, веселость для того, чтобы сделать изображение всего радостным».
Откуда возникала эта радостность, повышавшая градус зрительского восприятия, как только на сцене и на экране появлялся Эраст Гарин?
Несравненный сатирик и тонкий лирик, он до седых волос оставался озорником, с детства влюбленным в стихию игры.
Природа игры как естественной формы существования была усвоена Гариным с детства. Игровое начало было основой его органики. В детстве он устраивал на дому «киносеансы», при этом сам бывал и актером, и киномехаником, и кассиром, и буфетчиком.
Однажды поймал свинью, выкрасил ее в зеленый цвет и написал на боку: «РСФСР». Отец, Павел Эрастович, считал почему-то, что всю семью непременно должны за это посадить.
А спустя много лет к известному актеру Театра им. Мейерхольда Гарину обратился местком с просьбой помочь оформить встречу Нового года на Электрозаводе. «Я взялся, — рассказывал Э. Гарин в письме к Х. Локшиной. — Из этого можно сделать интересную вещь… Выдумался один трюк — мне он очень нравится: перед выходом лодырей, рвачей и прогульщиков через весь Колонный зал Дома Союзов свинья (живая, дуровская) входит на сцену, раскланивается и бьет в гонг, после чего выходят выше написанные группы…»
… Старая книга, раскрытая наугад, открывается, как известно, на той странице, которая более других обращала на себя внимание читателя. В раскрытой таким образом книге Джорджо Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», подаренной мне Эрастом Павловичем в составе прекрасного собрания книг по искусству, я прочитал историю из жизни флорентийского живописца Буонамико Буффальмакко: «… когда Буффальмакко был еще подмастерьем у Андреа, названный мастер имел обыкновение в то время, когда ночи были длинные, подниматься на работу до света и заставлял бодрствовать и своих подмастерьев; это очень огорчало Буонамико, которого отрывали от сладкого сна, и он замыслил найти способ отучить Андреа вставать на работу до света, и вот что он придумал. В каком-то неметеном подвале поймал он тридцать больших не то жуков, не то тараканов и тонкими и короткими булавками приколол на спину каждого из них по огарку; и лишь только наступил час, когда Андреа обычно поднимался, через дверную щель он начал впускать, зажегши свечки, их одного за другим в комнату Андреа. Тот… увидев огоньки, начал дрожать от страха… Когда же он утром встал, то спросил Буффальмакко, не видел ли он демонов, которых было больше тысячи…»
Старому мастеру из этой новеллы явно не хватало «сознательности для того, чтобы не отступить перед страшным». Зато 364 сколько фантазии и изобретательности послал господь его ученику! Как похож этот движущийся сонм свечей на сцену чтения письма «душе Тряпичкину» в мейерхольдовском «Ревизоре», а также на тронувшийся с места Барнамский лес в шекспировском «Макбете» — словом, на все то, в чем явственно звучит особая музыка Театра! Понятно, что Гарин не мог не восхититься выдумкой флорентийца.
Сопоставляя эту историю с тем живейшим интересом, с которым Гарин рассматривал принесенную как-то мною монографию о Босхе (помню, как он комментировал чисто режиссерскую, как он считал, изобретательность Босха в создании причудливых мизансцен, костюмировке персонажей и игре атрибутов), я и здесь нахожу подтверждение стойкой приверженности Гарина не только к элементу фантастического в искусстве, но, шире, к игре как к одному из проявлений образности. Самому Гарину так называемое игровое поведение было присуще всегда. Возможно, оно и было тем воплощением веселости, которая, как мы уже выяснили, необходима художнику, чтобы «сделать изображение всего радостным».
Вот строки из письма Х. А. Локшиной от 21 июля 1925 года:
«На пароходе ехала прямо кунсткамера, которую дополнял я, ибо у меня штаны на федре прорвались до размеров, заметных уже невооруженным глазом…»
Кто это пишет, по-вашему? По-моему, Аркашка Счастливцев по пути из Керчи в Вологду.
А это кто? Впрочем, гадать не приходится, герой обозначен в тексте письма:
«Безумно усталый, после урока в Гэктемасе, наполненный “идеей” о столе, вышел я в мокрые коридоры Москвы… Выбившись из сил, я захожу в невзрачный магазин и вижу стол, роскошный, шведского типа… “Заверните мне!” — говорю я. И вот я сижу дома, еще не пообедав, и сейчас привезут роскошный, шведского типа стол. О, Акакий Акакиевич! Я понимал тебя, когда в первый раз ты надел новую шубу! Кстати сказать, и мне скоро принесут новую шубу!..»
Или вот другой персонаж, также описанный Гариным в письме к Локшиной после одной из премьер: «Когда я вошел в зал ресторана, меня встретили громом аплодисментов, так что сидящие спрашивали: “Кто этот Габриэл Д’Аннунцио?”»
Необычайное внимание ко всем слагаемым внешнего рисунка, усвоенное Гариным от его Учителя, также в основе своей питалось врожденной страстью к игре.
Стоит вспомнить признание артиста, что для роли жениха в чеховской «Свадьбе» он решил использовать высокий стоячий воротничок, «как у Бальмонта».
— Вначале Мейерхольд решил стилизовать Хлестакова под Пьеро, — рассказывал мне Гарин. — Потом в этот замысел вносились уточнения. Прическу уже я предложил сделать, как у Дюра2 в жизни. К ней добавились очки — как у Шприха3. Мейерхольд дал мне рисунок: «Поди закажи на Тверской».
— И что же, вы всю роль вели в очках?
— Нет, снимал в лирических местах. Например, в сцене вранья, когда говорил: «На, Маврушке, шинель…» Публика плакала в этом месте. Но бывало, что и не удавалось дожать этот эффект, очень трудно было…
Коллизия путаницы, когда тебя принимают (или выдают) за другого, сопутствовала Э. Гарину и в жизни, и в кино, и на сцене с таким постоянством, что можно было только удивляться, насколько «Его величество случай» оказался пристрастен и последователен в выборе объекта для своей игры.
Известен, к примеру, эпизод, когда Николаю Робертовичу Эрдману были оказаны неожиданные почести на перроне вокзала, где он был встречен возгласами: «Привет товарищу Гарину!»
Другую историю описывает Э. Гарин в письме к Х. А. Локшиной от 14.XII.30 г.:
«… Приехал я при довольно странных обстоятельствах; при выходе из вагона меня встретил строй пионеров, который заорал: “Гарин, Гарин!” Оказывается, подшефный ГосТИМу отряд встречал коммуниста4, но так как первым из вагона вышел я, то меня тоже приветствовали…»
В иных случаях Э. Гарин становился то нечаянной жертвой, то исполнителем в жанре травести, как это называл Абрам Эфрос, комментируя страсть А. С. Пушкина к графической игре с изменением пола изображаемого лица (нарисует женский профиль — портрет сестры; пририсует к нему бакенбарды — автопортрет; «накинет» поверх них платок — снова перед вами женское личико)…
Вначале — это женская роль в трансформациях «Даешь Европу». Затем — в немецком журнале помещен Хлестаков и подписано: «Гарина в роли Хлестакова».
В другом случае Гарин принимает участие в хлопотах по поводу путаницы с полом Е. Л. Шварца, которому театральная бухгалтерия выслала гонорар на имя «Евгении Львовны».
А Король в «Обыкновенном чуде», одетый в шотландскую юбку, в другой сцене — подвязанный по-бабьи платком?
А мистер Пиблс5, также щеголяющий в клетчатой юбке?
А женские роли в фильмах «Необыкновенный город» и «Дорогой племянник»?..
… Наконец, такая история. Как-то, в одну из первых поездок Э. Гарина и Х. Локшиной к родственникам в Рязань, Э. Гарин велел остановить лошадей и подвел жену к стоявшему при дороге памятнику. На нем было написано: «Эраст Павлович Герасимов». Оказалось, что многие поколения в роду чередовали имена Павел и Эраст. Не зная этого, Хеся Александровна была поражена столь странным, чтоб не сказать — страшным, совпадением. И кто знает, не произнес ли тогда про себя Эраст Павлович Гарин слова из пьесы, ставшей его последней постановкой в театре и в кино: «Умри, Копылов! Живи, Тарелкин!»
367 Сейчас все читают мемуары. Эраст Гарин любил читать мемуары задолго до распространения этого поветрия. И та единственная книга, которую он так талантливо написал, также относится к этому жанру.
Возможно, эту любовь он унаследовал от матери. Когда кто-либо отправлялся из Рязани в столицу, она просила привезти ей новые «мемуары».
Вместе с любовью к книгам такого рода Эраст Гарин воспринял от матери и любовь к пародийному переиначиванию слов. Так, например, в его интерпретации (заимствованной, впрочем, у Лескова) «поликлиника» превращалась и «полуклинику», «беллетристика» меняла мягкую согласную на твердую в середине слова и т. п. Обостренное внимание к звуковой стороне языка помогло Гарину оценить и донести до зрителя все тонкости словесной игры в пьесах Н. Эрдмана, М. Зощенко, Е. Шварца. Любовь к каламбуру диктовала Гарину, например, такую фразу письма в чисто эрдмановском духе: «Воздух в комнате спертоват» (от слова «спертый», не «спирт»). А гаринская манера сокращать слова так понравилась Е. Шварцу, что он решил использовать ее («оформив» это решение согласием Гарина на такое заимствование) в диалоге министров из «Тени». Кстати, в РГАЛИ хранятся тысячи (!) страниц шварцевских мемуаров, которые он, опять-таки в полюбившемся ему гаринском стиле, называл сокращенно: «ме…»
Чем объясняется столь широкий интерес к мемуарам в наши дни? Наверное, прежде всего — интересом к тем подробностям, из которых складывается история человеческой личности.
Эраст Павлович Гарин, даже если можно было бы поставить «чистый» опыт и отделить его необыкновенный дар актера и режиссера от «просто Гарина», — так вот, этот «просто Гарин» был личностью поразительной. Когда я пытаюсь разгадать одну из загадок этого явления, то прихожу к довольно неожиданному выводу: удивлявшая всех гаринская оригинальность, парадоксальность его суждений, непредсказуемость поведения — все это было следствием уникальной гаринской… естественности. Его поведение своей необычной органичностью походило на поведение сказочных героев. Не каких-нибудь «шильдбюргеров», которые тащат корову на крышу, чтобы там задать ей корм, а на тех сказочных героев, которые обезоруживают своей простотой, верой, противопоставленной безверию, врожденным чувством правды…
… Помню гаринские репетиции «Мандата» и «Смерти Тарелкина», «Тени» и «12 стульев»… Как я жалею, что не нашлось камеры, которая сняла бы Эраста Павловича, когда он вел репетицию!..
В замечательном фильме Г. Франка «На 10 минут старше» (он и длится десять минут) всего один крупный план: четырехлетний мальчик снят скрытой камерой во время спектакля детского театра. На экране — вся гамма возможных реакций: любопытство, испуг, негодование, удовлетворение, радость, смех, слезы…
Так и по лицу Гарина можно было безошибочно догадаться, что происходит на сцене. Его губы беззвучно произносили текст, мгновенно изменялось выражение лица, принимая на себя игру партнеров на сцене. А руки, необыкновенно пластичные гаринские руки, то соединялись в беззвучном всплеске, то хватались за голову, то подсказывали актеру не только направление, но и рисунок перехода — все, вплоть до темпа и характера походки, — словом, становились руками дирижера, красноречиво изъясняющегося с оркестром…
Вот почему мизансцены гаринских спектаклей можно было рассматривать как воссозданную «общим планом» пластику постановщика…
— Так, так, хорошо… Живописуй, живописуй! — подсказывал он актрисе, добиваясь нужной выразительности пластического рисунка и при этом показывая жестом, какого рода «живописи» он от нее ждет.
— Забыла про черта под селезенкой! — кричал он из зала С. Харитоновой, исполнительнице одной из ролей в «Двенадцати стульях». И мгновенно сам преображался в персонажа, в которого вселился этот самый черт…
— Да ты посучись, посучись немного, — напоминал он другой актрисе характер ее героини. — А в этом месте развернись в пупке, лицом к зрителям. А ногами не перебирай!.. Что значит — «неудобно»? Кому неудобно? Вам неудобно? Зато нам, то есть зрителям, необычайно удобно!
Все должно было подчиняться единому требованию — предельной выразительности, достигнутой на основе безупречной логики и психологической оправданности поведения.
Гарин ненавидел иждивенческий подход к репетициям со стороны некоторых актеров, душевную и физическую лень, заставляющую некоторых из них идти по пути наименьших затрат.
— Скоро мне придется выступать с докладом по поводу того, как артисты все препятствия, которые изобретает режиссер, за что ему и платит деньги дирекция, норовят выбросить в канаву, — неистовствовал Эраст Павлович на репетиции. — А преодоление препятствий — это и есть актерское творчество, иначе театр становится литературным, сводится к чтению текста, что противно его природе…
Для самого Гарина, привыкшего к постоянному тренингу по программе биомеханики и сверх нее, казалось, не было ничего невозможного.
Работая с Мейерхольдом, он привык решать труднейшие задачи.
В готовящемся спектакле по пьесе И. Сельвинского «Командарм-2» Гарин репетировал Оконного. Гаринского героя, стоявшего на верхней площадке винтообразной лестницы, расстреливали, 368 и он, падая, должен был скатываться к нижней ступеньке. Проделав этот каскад на репетиции, Гарин позволил себе незаметным движением почесать ушибленное бедро. Мейерхольд, заметивший это, очень огорчился и стал распекать актера: «Что же это за артист, если он не может с лестницы кубарем скатиться и при этом встать не почесываясь!»
Всю ночь после этого Гарин тренировал флик-фляк…
Нет ничего удивительного в том, что с высоты таких же требований Гарин подходил и к другим артистам.
Как-то на репетиции он предложил актерам в небыстром темпе имитировать бег по кругу воображаемой арены — с условием немедленной остановки, как в игре «замри», в той позе, в которой их застанет условленный сигнал. Это упражнение Гарин предложил для того, чтобы наглядно продемонстрировать артистам степень их «зажатости».
Следующий пластический этюд состоял в том, что Гарин показывал технику «типичной игры под музыку», основанную на умении «тормозить», то есть делить физическое действие на фазы, изображая его замедленным, как бы снятым рапидом. Гарин попросил концертмейстера сыграть «типичную таперскую музыку», а сам в течение нескольких минут импровизировал под нее, изображая весь набор «страстей» из арсенала немого кино. Я не хочу обидеть кого-либо из артистов, но, сравнивая их игру с гаринскими показами, не могу не вспомнить выражение, которым грузинский поэт Илья Чавчавадзе отличил великого Важу Пшавела от других поэтов: «Он был на несколько полетов выше!»
Эраст Павлович знал, как однажды сам признался, «гамму театра», и это позволяло ему так свободно и выразительно пользоваться всеми нотами этой гаммы. Особенно эффектно получались «сломы», переход из одного плана действия в другой. Как-то, объясняя характер одного из таких переходов в «12 стульях», Гарин бросил артистам: «Дальше действие пошло всерьез, как в “Норе”, спектакле “Моссовета”»…
У Гарина была излюбленная мизансцена: человек из-за рассеянности или неосторожности оказывается слишком близко к горящему камину или слишком долго не выпускает из рук горящую спичку. В результате огонь обжигает его, происходит «подстегивание», резкая смена ритма.
Гарин играет, как правило, одно из двух состояний: герой либо чем-то убит и потому почти неподвижен, выключен из действия, либо неподдельно захвачен происходящим. Третьего не дано. Все эти чтения случайно попавшихся под руку книг, ковыряние оконной замазки, уборка комнаты и прочие признаки бесформенного «реализма на подножном корму» противопоказаны эстетике Гарина.
Говоря о приемах, характерных для режиссерского почерка Гарина, следует отметить его особый подход к монологам-рассказам внутри сценического действия: Гарин всегда их выделял — при помощи музыки ли, освещения ли, как это было с рассказом Короля в «Обыкновенном чуде» (вынесенный на авансцену, он становился маленьким спектаклем внутри спектакля), или при помощи актерской игры, щедро использующей показ в рассказе, — так Аннунциата из «Тени» показывала, как торгуется Мальчик-с-пальчик или как танцует его жена по прозвищу Гренадер… Безупречное чувство ритма, чередование ритмов по принципу контраста позволяли Гарину достигать огромной выразительности. Чего стоит, например, все тот же Король в «Обыкновенном чуде» с его мгновенно, как весенняя погода, меняющимися настроениями? Король, то нежный до слез, когда речь идет о счастье дочери, то резко превращающийся (у Шварца ремарка: «Он неузнаваем») в некий свирепый тотем; то жалобно-помешанный, беспомощно путающийся в полах несуразной дохи; то угрожающе печатающий шаг.
В этой пьесе Медведь говорит: «Вот счастье! Вот беда!» А вслед за репликой Эмилии: «Смешно!» — следует уточнение Трактирщика: «Ужасно смешно! До слез!» В сказке грусть и веселье перемешаны так, что выглядят нераздельными, как… в жизни. Увидеть грустное в веселом, смешное в печальном доступно не всякому, даже талантливому художнику…
Гарин был человеком стойких пристрастий как в жизни, так и в творчестве.
Если он что-нибудь ненавидел (именно ненавидел — нелюбовь была для него слишком вялой эмоцией), то ненависть эта была также стойкой.
Пошлость, фарисейство, мещанство Гарин ненавидел до дрожи, в буквальном смысле слова: когда он говорил 369 о ком-нибудь из носителей этих качеств, его голос начинал вибрировать…
Гаринский взгляд всегда был нацелен на самое существо вопроса. Его интересовали психологические и социальные корни мещанства. И если он находил признаки этого явления даже в уважаемых, любимых им людях, его приговор бывал беспощадным. Из письма к Х. Локшиной: «… Цареву устраивается пышная встреча. Мастер выписал автомобиль из Москвы и перекрасил в модный цвет. До чего надоели мне эти советские феодалы!»
Одной из своих приятельниц, актрисе Е. А. Тяпкиной, Э. П. Гарин написал как-то: «Остерегайся заразить себя курортной или дачной идеологией — это говорю не как члену ВКП (б), а как актрисе…»
«Увеличивающее стекло» всегда присутствовало во взгляде сатирика, каким бы неприметным ни представало перед ним мимикрирующее мещанство. Увидев как-то дачного соседа, гордо восседавшего на собственной веранде, Э. Гарин заметил: «Кислород через трубочку сосет…» (сосед и впрямь походил на описанного у Пу Сун Лина монаха, который любил предаваться «искусству вдыхания и выдыхания»).
Из сочинского санатория он пишет:
«… Рядом за столом сидит кретин… стремя сталинскими медальками и с рыжей жадной бабой… Он, наверное, какой-нибудь литератор (так в тексте. — А. Х.). Мордочка у него зловредненькая и завистливая…»
За этими меткими наблюдениями угадываются замечательные создания Гарина-сатирика: Гулячкин, Хлестаков, Альфред Тараканов, Апломбов, дьячок Савелий из «Ведьмы», Каин XVIII… Эти персонажи в чем-то родственны между собой. Стойкой проницательностью Гарин разглядел и выявил в них нечто общее: их мещанскую сущность. «Мещанство — вот ведущий интернационал», — прозорливо констатировал он в одном из писем к Х. Локшиной полвека тому назад.
Гарин всегда с удовольствием встречался со зрителями. Могу засвидетельствовать, что самый факт узнавания артиста — будь то на улице, или среди театральной публики, или, скажем, в такси (садясь в машину, Гарин, здороваясь с водителем, нередко слышал в ответ: «Здравствуйте, Эраст Павлович…» или «… товарищ Гарин»), — самый факт популярности не оставлял Гарина равнодушным. Но ему и в голову не могла прийти мысль об эксплуатации этой популярности или о необходимости как-то ее «отрабатывать». Там, где одного имени Гарина было бы достаточно — для того, например, чтобы попасть на труднодоступный спектакль, — принципиальное нежелание воспользоваться своей известностью делало для Гарина подобные цели практически недосягаемыми.
Его скромность граничила с застенчивостью. Еще в бытность его актером ГосТИМа к нему за кулисы приходили известные гастролеры-иностранцы, его хотели видеть К. С. Станиславский и М. А. Чехов, но Гарин всегда пытался уклониться от этих встреч.
С З. Н. Райх, женой В. Э. Мейерхольда, примой ГосТИМа, партнершей Гарина по многим спектаклям, он держался с подчеркнутой независимостью. Как-то Зинаида Николаевна Райх попросила Гарина сделать надпись на его портрете.
371 — Но я же не тенор, чтобы давать автографы, — ответил Гарин. Райх у него на глазах порвала портрет…
Из письма Э. Гарина к Х. Локшиной от 12 мая 1932 года: «… с Зиной имели разговор… Она предложила билет на Казадезюса6 — идти с ней, или, говорит, я отдам билет другому. Я говорю: “Отдайте другому”. Она: “Ты меня не любишь”. Я: “Я не люблю Казадезюса”».
И тут же — его ироническая самооценка: «Это меня очень радует, что я могу так шикарно изъясняться, совсем в стиле Дидро…»
Уютнее всего Гарин чувствовал себя там, где «шла жизнь без помпы и парада». Поэтому, когда ему предложили торжественно отметить 70-летие в Доме кино, Гарин отказался. И, чтобы снять все недоумения по этому поводу, пояснил: «Когда Далматову предложили устроить бенефис по случаю круглой даты, он отказался в таких примерно словах: “Буду я за серебряный портсигар обнародовать свой возраст…”» Юбилей Э. П. Гарина отмечался… на кухне — шумно, весело и по-домашнему уютно, как все семейные праздники, во время которых хозяин выступал из своей комнаты, проплывая по узкому коридору своей магической походкой и скрываясь в его перспективе, когда ему это заблагонравится…
|
Но самое замечательное в доме были поющие двери. Н. Гоголь. Старосветские помещики |
Самым замечательным местом в квартире Гариных на Смоленском бульваре всегда была кухня.
Я помню ее с детства, помню ее запах, словно созданный для состязания в тонкости обоняния. (Где-то написано, что большими любителями и мастерами в подобных соревнованиях были И. А. Бунин и А. И. Куприн, на пари определявшие многослойный букет запахов, скажем, на пороге ресторанного зала «Праги» или «Славянского базара». Уверен, что на пороге гаринской кухни они также не остались бы без работы.) Там всегда пахло всеми травами и овощами, которые водятся на наших рынках, пахло в тот момент их существования, когда они разбухали, струясь, как водоросли, в кипящем ключом мясном бульоне, перманентно варимом в гигантской зеленой кастрюле на случай кормежки не столько хозяев (один из которых предпочитал всем гастрономическим изыскам яичницу и сосиски, а другая ограничила свой рацион сыром, чаем и сигаретами «Новость», истребляемыми в таком количестве, что, кажется, целая фабрика должна была с трудом справляться с задачей обслуживания одного такого клиента), сколько непрерывной череды приходящих, забегающих, впархивающих и упархивающих, приносимых неведомыми ветрами, старых и новых, молодых и «со 372 стажем», привлеченных давнишней любовью и неизменным хозяйским радушием гостей…
Кого только не видела эта кухня, кому не куковала выскакивающая через каждые полчаса из своего домика кукушка!.. Помню за овальным столом, уютно поместившимся в нише, словно специально для него сделанной, Ф. Раневскую и С. Мартинсона, А. Гладкова и Л. Трауберга, М. Блеймана и Л. Арнштама, А. Папанова, Е. Тяпкину, М. Вольпина, Л. Сухаревскую, Я. Жеймо, А. Галича…
Помню, как «шаркающей кавалерийской походкой», чуть враскачку, выходил из «своей» комнаты (для удобства работы он жил у Гариных, когда писал для них сценарий по шварцевской «Тени»7) Н. Эрдман, сухопарый, как это положено сатирику, и, сверх положенного, широкоплечий. Помню его афористически точные, порой неожиданные высказывания о тех или иных писателях, актерах, спектаклях.
— Я недавно перечитывал «Клима Самгина» — з-з-замечательная книга, — чуть заикаясь, сообщал Николай Робертович.
— Признайтесь, это в вас говорит комплекс вины за то, что вы уснули, слушая ее в первый раз в гостях у Алексея Максимовича, на Капри…
— Я писал тогда: «Самое замечательное в Италии — это русский Горький…»8
И Эрдман подробно рассказывал, что и почему понравилось ему в романе Горького…
Все оценки, высказываемые на гаринской кухне, необходимо было обосновывать. Суждения вроде: «Хорошо, потому что нравится» — здесь не проходили.
Дутые авторитеты, авторы модных новоявленных «шедевров» лопались как мыльные пузыри, едва их касался заочный суд, чинимый за чаем на гаринской кухне.
— Это же пудель, а не режиссер. Он не знает азбуки ремесла, двум свиньям корм раздать не может — развести элементарную мизансцену, — оценивал Э. Гарин постановщика фильма, «успех» которого был вызван спекуляцией на актуальности темы.
— Не понимаю, как вам может нравиться режиссер, делающий декорацию из орденов! Это же убожество, чистейшей воды формализм! — спорил хозяин с кем-то из гостей, восторгавшимся недавно увиденным спектаклем.
Или, узнав о том, что какой-то выскочка преподает во ВГИКе: «Где вы учились, а если нигде, то где преподаете?» Все-таки у Эрдмана это точно сказано, не в бровь, а в глаз… Эта кухня была для многих и домом, и школой, где можно было услышать беседу умнейших мужей (среди которых блистала не устававшая накрывать на стол и потчевать гостей наиумнейшая хозяйка), приютом для страждущих и неприкаянных, импровизированной сценой, зрительным залом, музеем, где со свитком Ци Бай Ши соседствует репродукция Модильяни, а с гравюрами прошлого столетия — изумительные акварели современного художника… И самое удивительное заключалось в том, что при этом она могла оставаться просто… кухней, где дымился «очаг» и педантичная кукушка отсчитывала часы быстротекущей, а казалось, что нескончаемой жизни.
Гарин запомнился всем, знавшим его, как легендарный молчун. Однако молчание его было необычайно красноречивым.
Конечно, он молчал не потому, что считал это признаком ума (про одного моего приятеля, с которым Э. Гарин познакомился накануне, он сказал: «А этот ваш знакомый, должно быть, умный!..» — «Почему Вы так думаете?» — «Потому что — молчит…»). В гаринском молчании заключалась какая-то необыкновенная наполненность. Оно было чем-то сродни мейерхольдовскому принципу «предыгры». Кстати будет заметить, что Гарин говорил реже, чем другие, не потому, что умел это делать хуже других, — он был бесподобным оратором. Я запомнил несколько его выступлений — на вечерах памяти Мейерхольда, перед студенческой аудиторией ВГИКа, — в них Гарин блистал и выразительной, как всегда, образной речью, и артистической ее подачей, заразительной возбужденностью. Выступая, он никогда не пользовался микрофоном — видимо, считал это унизительным для профессионального артиста — и не «закреплял» свою фигуру на одном месте — скажем, на трибуне, если таковая была, — но расхаживал вдоль рампы, еще более усиливая воздействие речи, как бы электризуя слушателей.
373 … Одну такую «предыгровую» паузу я запомнил по холодному дню в подмосковном Болшеве, когда мы, идя в ногу — Эраст Павлович всегда подстраивался под ногу спутника, — обходили усадьбу Дома творчества, пересекая унылый фабричный пейзаж эпохи становления капитализма в России.
Это был 1965 год. Гарин в то время готовился к съемкам «Веселых расплюевских дней».
Подходя к воротам, он легонько «постучался» ко мне в бок той рукой, которая была продета под мою: «Можете себе представить, я, кажется, придумал, как надо снимать мечты Тарелкина: он будет проходить мимо церкви, и в это время…»
И пересказал мне сцену мечтаний героя, снятую впоследствии в точности по этому замыслу9 — в интерьере и на паперти Никольского собора в Ленинграде…
Ясный октябрьский день 1957 года. В Доме звукозаписи на улице Качалова предстоит прослушивание новой гаринской работы — радиокомпозиции «Я сам» по Маяковскому.
В небольшой комнате уже собрались Л. Брик, В. Катанян, М. Светлов, братья Н. и Б. Эрдманы, Н. Григорович, Н. Литвинов. Позже пришел Л. Кассиль.
Праздничность премьерного настроения поддерживалась не только необычайной ясностью осеннего дня, но и совсем недавним событием, всю грандиозность которого потомки смогут оценить, быть может, так же, как мы, его свидетели, но, увы, уже не смогут пережить первозданной свежести впечатления: только что был запущен первый искусственный спутник Земли. В тот октябрьский день говорили о том, что спутник можно наблюдать в ясную погоду в бинокль.
Все собравшиеся расселись вдоль стен.
И…
«Я сразу
смазал
карту будней,
Плеснувши краски из стакана…» —
полилось из динамиков…
В необычайной яркости звучания будто бы сию минуту, при вас рождавшихся стихов была та же новоявленная свежесть и сила откровения, что и в самой поэзии Маяковского. Могу сказать, что никогда — ни до, ни после — я не слышал такого исполнения стихов этого поэта. (Великолепный Яхонтов поражал красотой тембра, мощью, глубиной, но в его исполнении не было, на мой взгляд, той безграничной амплитуды оттенков — от мягко-юмористических до желчно-сатирических, — которые были свойственны гаринскому чтению.) Поразительный синтез музыки Шостаковича со словом Маяковского, одушевленным гаринским чтением, необычайная музыкальность этого чтения заставляли воспринимать радиопостановку как напряженную симфоническую вещь… Большинство собравшихся слышали авторское чтение Маяковского и подтвердили, что это наибольшее приближение к нему. Особую радость и удивление у меня вызвало звучание лирики. Любя Гарина во всем или почти во всем, я все же, признаться, и загадывать боялся — как он, столь ярко выраженный комик, говоря языком амплуа дореволюционного театра, может взяться за такое — читать «Про это»… Мало в ком из артистов я находил столько подлинной нежности без излишней чувствительности, столько страсти без аффектации.
И неудивительно, что Гарин сделался непременным участником мультфильмов. Ему пришлось озвучивать множество самых разнообразных ролей. Голосом Гарина заговорили воплощенные в рисунках волки и вороны, злые и добрые духи и, конечно, короли…
Тонкий знаток изобразительного искусства, Гарин был не просто одним из актеров, участвовавших в создании мультфильмов, — его нельзя даже назвать одним из первых среди равных. Но если существует душа того или иного искусства (а ведь «анимация» и происходит от слова «анима», т. е. душа), то в ее состав входит искусство Эраста Гарина.
Еще с тридцатых годов, с дружбы с замечательными мастерами, стоявшими у истоков нашей мультипликации, среди которых следует особо отметить художника и режиссера М. М. Цехановского, начинается гаринский интерес к новому искусству.
374 Характерная для искусства мультипликации природа вымысла, допускающего самые смелые сочетания жанров, соединяющего порой в одной ленте, в одном образе лирику и сатиру, сказку и притчу, была близка искусству и пристрастиям актера Эраста Гарина и делала неизбежной их встречу.
С каким азартом Гарин записывался в ролях рисованных героев! Вот король в «Сказке о храбром портняжке» (режиссеры В. и З. Брумберг, сценарий М. Вольпина) — в этой роли ему приходилось и говорить, и петь. Я вспоминаю тонкую гаринскую фигуру, выделывающую немыслимые танцевальные па перед микрофоном в стремлении вовлечь партнеров в ритм песни. Или вожак гусиной стаи в гаршинской «Лягушке-путешественнице», обработанной для мультипликационного экрана Н. Эрдманом… Казалось, что лексика гаринского персонажа «подсказана» сценаристу гаринской манерой иронического пародиста: «Посмотрите направо, посмотрите налево, на там и сям расстилающуюся красоту, как бы сошедшую с полотен Левитана…»
В диалогах Н. Эрдмана, поражающих остроумием и мастерским раскрытием характеров, Гарин всегда ощущал близкую творческую стихию, уникальный сплав высочайшего интеллектуализма и демократичности.
Вот один из обитателей подводного царства, радеющий о спасении Дюймовочки, обращается к философствующему Раку, роль которого в экранизации «Дюймовочки» Г.-Х. Андерсена (режиссер Л. Амальрик) озвучивал Э. Гарин:
— Могу ли я просить вас кое-что перекусить…
— Спасибо, я только что позавтракал, — отвечает Рак.
— … Необходимо перекусить стебель кувшинки. Понимаете ли, речь идет о девочке…
— Девочками не интересуюсь, — отрезает Рак.
— Ее хотят насильно выдать замуж.
— Что же вы сразу мне этого не сказали? Я как раз из тех раков, которые против браков, я рак-отшельник.
Даже в чтении этот текст магическим образом сопрягается с гаринским голосом, его интонациями.
Эраст Павлович записывался для моей кинокомпозиции по крыловским басням, где он озвучивал несколько ролей. В темном звукоателье, освещенный слабенькой лампочкой, прикрепленной к пюпитру, на котором лежали листки с текстом роли, он то удивленно вытягивал шею, то выпучивал глаза и вроде даже поводил ушами, казалось, они вот-вот вырастут и превратятся в ослиные, он всплескивал руками, разводил ими, подпирал голову «копытом» — словом, был в эти минуты «ослее» — ибо выразительнее — любого осла. Это было чудом актерского перевоплощения, совершенно недостижимого за счет одной только техники «представления». (Я вспомнил об этом еще раз, когда нечто подобное увидел на записи И. Ильинского для другого моего фильма, «Дом, который построил Джек». Тогда Игорь Владимирович, глядя на экран — он записывался «под изображение», — «порхал» синицей, крался с кошачьей мягкостью, то в образе пса бросался из воображаемого укрытия за воображаемым Котом… И тогда же я снова подумал, что никакая, даже 375 самая совершенная техника «представления» — да и для кого было «представлять» в темном ателье! — не способна на такое удивительное перевоплощение без той органической наполненности психологического плана, которую долго отрицали за актерами мейерхольдовской школы и которую так ярко продемонстрировали у меня на глазах два, быть может, лучших ее представителя.)
Когда фильм «В мире басен» был готов, я позвал на просмотр Э. Гарина и Х. Локшину.
Просмотр кончился, зажегся свет. Я увидел в первом ряду обезоруживающе неподвижную, я бы сказал, растерянную спину Гарина и услышал его слова: «Я ничего не понял. Можно еще раз?»
Понуро, предчувствуя приговор «высшего суда», я отправился к киномеханику и попросил его показать фильм еще раз. И не успела на экране появиться надпись «Конец фильма», как я услышал характерное гаринское: «Очень художественно!»
И совсем по-детски:
— А можно посмотреть еще разок?..
Чем больше проходило времени после просмотра, тем подробнее вырисовывались гаринские впечатления. В последующих разговорах мы сошлись на том, что даже самое массовое из искусств нуждается в дифференцированном подходе и может себе позволить несколько непривычную трактовку известного материала.
К чему я вспоминаю об этом?
К тому, что умудренный опытом не только создания, но и восприятий произведения искусства мастер не посчитал для себя зазорным обнаружить трудности в восприятии фильма молодого тогда режиссера и, что тем более ценно и о чем я не перестаю вспоминать с благодарностью, не сделал из этих трудностей непреодолимого препятствия на пути к фильму, но проявил доброжелательную настойчивость в желании понять логику построения, непривычный ракурс подачи материала. Более того, Гарин сделался добровольным пропагандистом картины (что бывало с ним чрезвычайно редко!). Вспоминаю, как вскоре после просмотра застал Гарина в немыслимых артикуляционных экзерсисах. «Что вы делаете?» — спросил я. «Разучиваю отчество Андроникова, хочу позвонить ему — сказать, чтобы посмотрел ваш фильм…» Нет, при всем известном мне уважении Эраста Гарина к ясности содержания и изложения «тот, кто постоянно ясен» не был для него, как и для Маяковского, образцом ни художника, ни зрителя.
Поэтому я не перестану гордиться тем одобрением и поддержкой, которую Гарин оказал одной принципиально важной для меня, не всеми одинаково понятой и принятой работе, — я имею в виду фильм «Стеклянная гармоника». Даря мне свою книгу «С Мейерхольдом», он напутствовал меня надписью-пожеланием: «Играй на “Стеклянной гармонике” — Эраст Гарин».
376 Прошло много лет с тех пор, как я услышал от Э. Гарина: «Хочу поставить и сыграть “Ричарда”»… То, что замысел так и остался неосуществленным, я считаю невосполнимой потерей для искусства, для зрителей. Я никак не мог с этим смириться и однажды затеял разговор на эту тему.
— Стали бы вы сейчас ставить «Ричарда», если бы была возможность?
— Нет.
— Почему?
— Нет актера.
— Ну а если бы вам предложили составить сборную труппу, нашелся бы в ней актер на Ричарда?
Гарин задумался. Потом сказал:
— Пожалуй, что нет…
Гарин был неутомимым зрителем. Признаться, это меня поначалу удивляло: как человек со столь высокими критериями в искусстве, с такой высокой требовательностью, бескомпромиссностью так опрометчиво охотно пускается в поиски новых впечатлений? И хотя чаще всего очередной выход в театр или кино кончался легким толчком в бок в темноте зала, что надо было воспринимать как предложение немедленно его покинуть, с годами я оценил неиссякаемую гаринскую доброжелательность и надежду на новые творческие симпатии.
Из сравнительно редкого и потому наиболее показательного ряда известных мне положительных впечатлений могу назвать спектакли Театра на Таганке (помню, вскоре же после того как Любимов подтвердил ближайшими постановками неслучайность успеха «Доброго человека из Сезуана», Гарин заключил: «Да, Любимов вырабатывается в блестящего режиссера»).
Нравились Гарину фильмы «Застава Ильича» М. Хуциева и Г. Шпаликова, «Белорусский вокзал» А. Смирнова, «9 дней одного года» М. Ромма, особенно игра И. Смоктуновского в этом фильме. Исполнение Смоктуновским роли князя Мышкина в спектакле «Идиот» БДТ Гарин считал шедевром.
Прочтя еще в рукописи «Мастера и Маргариту» М. Булгакова, Гарин возгорелся желанием экранизировать роман. (Узнав об этом, Елена Алексеевна Тяпкина тут же сделала заявку на роль кота Бегемота.)
Высоко ценил Гарин творчество В. Шукшина, Б. Окуджавы, В. Высоцкого…
Из зарубежного искусства выше других ставил творчество И. Бергмана и Ф. Феллини. Восхищался талантом Симоны Синьоре и Эдит Пиаф. Помню, как усаживались Гарин и Раневская у проигрывателя и как снова и снова заводил он трагическую «Блуз бланш»…
377 Отмечал дарование Ричарда Харриса. Посмотрев фильм «Такова спортивная жизнь» с его участием, говорил: «Он мог бы играть Достоевского» (Достоевский был для Гарина мерилом актерского темперамента еще со времен любимого им П. Н. Орленева).
Особняком стояло для него творчество Ч. Чаплина и Б. Китона. Их он, каждого по-своему, любил и ценил бесконечно…
Гарин не пропускал выступлений зарубежных гастролеров — «Берлинер ансамбля» Бертольта Брехта, Национального театра Жана Вилара, итальянской труппы Стрелера. Но при этом всегда подчеркивал — и возмущался теми, кто забывал это, — преемственность искусства гостей, взявших на вооружение все наиболее ценное из опыта нашего театра, в частности, из достижений Вс. Мейерхольда.
Нет нужды напоминать, как много значил для Гарина его учитель, хотя отношения Мастера и ученика и не были безоблачными. Впрочем, вряд ли кому-либо из учеников Мейерхольда удалось прожить вблизи Мастера без размолвок и конфликтов с ним. Чем сильнее, самостоятельнее, чем значительней в творческом отношении была личность ученика, тем больше, тем горячее любил его Мейерхольд. И… тем чаще бывали между ними размолвки, иногда драматические, непоправимые (как, например, в случае с М. И. Бабановой). Парадокс же состоял в том, что — чем сильнее проявлялась «тяга прочь» и «страсть к разрыву», тем беззаветнее оказывалась любовь к Мастеру, высказанная уже после смерти Мейерхольда его учениками.
(Мария Ивановна Бабанова как-то сказала мне: «Да я бы согласилась всю жизнь в его спектаклях подносы выносить, только не уходить из театра…», а Игорь Владимирович Ильинский: «Второго такого не было. И, я думаю, уж не будет…»)
Приведу отрывок из письма Вс. Мейерхольда к Х. А. Локшиной, написанного во время его заграничной поездки. Этот период совпал с очередной размолвкой между Мастером и учеником. Тем ценнее уважительное, если не сказать — нежное чувство Мейерхольда к Э. Гарину, высказанное в заключение письма.
«12/Х 1928.
Дорогой друг Хеся!
Дюреровский скелет с косою за плечами на покорной ему лошадке, которую он усердно направлял по моему адресу, решил дать мне отсрочку и повернул свою лошадку по другому адресу…
Милая Хеся, когда после серьезной болезни силы возвращаются, жить становится еще радостнее, чем раньше, до болезни…
Получаю я известия о всяческих мерзостях нашего нового начальника, а я зонтика защиты и раскрывать не хочу: пусть себе мочит меня дождичек, сколько ему угодно.
378 Ох, силушка моя, не дает она меня в обиду, не дам я себя свалить в лужу.
Будем драться и победим.
Верно ведь, Хеся?10
… Отчего так редко беседуете с нами? Ваши письма мы любим больше других писем. Хороший четкий почерк хорошо соответствует четкости мысли и ясности чувствований.
Полюбили мы Вас… еще сильнее, чем любили прежде.
Привет Гарину, которого не разлюбил, хоть и в ссоре с ним по пустякам».
Часто Мейерхольд сам делал первый шаг к примирению, иногда — с помощью З. Н. Райх или общих друзей, как, например, во время гастролей ГосТИМа в Тифлисе, когда помирить Мейерхольда и Гарина вызвался Андрей Белый. В память об этом случае сохранилась записка З. Н. Райх:
«Гариной и Локшину
совершенно
официально,
дружески,
приятельски
и всячески
хорошо
приглашаю Вас, милые черти, к обеду 21 мая в 4 часа дня.
Присутствие обязательно.
Вс. Мейерхольд,
Андрей Белый и
Кл. Васильева11».
Все, кто знал Гарина, кто следил за его творчеством, кто прочитал его замечательную книгу «С Мейерхольдом», пожалуй, лучшее из всего, что написано о Мастере, — смогли бы удостоверить, что и Гарин не разлюбил своего учителя, пронеся через всю жизнь верность ему, его творческим заветам. И так же, как через всю жизнь Гарин пронес любовь к Мейерхольду, так же — на всю жизнь — он был ранен разлукой с Мастером…
… Это было незадолго до смерти Эраста Павловича. Я сидел на кухне, смежной с гаринской комнатой. Вдруг раздался настойчивый стук в стену. Этим сигналом Гарин просил подойти к нему. Я вошел в комнату, но выяснилось, что он ни в чем не нуждался: все перечисленные мною пожелания, возможные с его стороны, были отклонены. Но лицо выражало какую-то тревожную, мучительную напряженность. Видно было, что какая-то неотступная мысль не покидает его сознания. И вдруг она выразилась вопросом:
— За что убили старика?
В первую минуту я подумал, что вопрос этот — следствие какой-то путаницы в сознании: все наши знакомые старики в обозримом прошлом умирали своей смертью, свято охраняемые законом.
— Какого старика? — спросил я, сомневаясь в том, правильно ли был задан вопрос.
— Мей-ер-хольда! — раздражаясь моей непонятливостью, подчеркнуто членораздельно почти прокричал он. И в тщетном ожидании ответа вперил невидящие глаза в пространство…
Внимание Гарина к коллегам, товарищам было неизменным, профессионализм — высок во всем. Начиная с того, что он никогда никуда не опаздывал, будь то съемка, запись, репетиция или просто условленное свидание. Он всегда приходил загодя и дожидался назначенного часа.
Помню как-то его в большом возбуждении, которое он пытался подавить. Наконец признался: «Завтра съемка с Топорковым12 — с ним надо держать ухо востро…»
Чувство товарищества было присуще Гарину в высшей степени. Более того, оно было отмечено у него какой-то, я бы сказал, сокровенной нежностью. Для него не была безразличной ни одна деталь даже самого пустякового, сугубо бытового обихода, если только она была связана с жизнью кого-либо из симпатичных ему людей. В Гарине не было и тени того чванства, которое, иногда в хорошо завуалированной форме, встречается в отношениях прославленных «звезд» к своим менее именитым собратьям. Если его путь во время столь любимых им пеших прогулок по Москве пролегал мимо дома кого-нибудь из знакомых, он не упускал случая зайти хоть на несколько минут попроведать товарища.
Накануне дня своего рождения я мог не заводить будильник: рано утром меня будил звонок, и в трубке слышался гаринский голос: «Андреус! Это Гарин говорит…» (То-то было бы смеху, если б я его не узнал!) Простота и обаяние Гарина покоряли каждого, кто был объектом его расположения или просто со стороны наблюдал Гарина в общении.
А уж о том, чтобы уклониться от изъявления товарищеских чувств в каких-либо особых случаях, будь то юбилей, только что появившаяся новая книга друга, фильм, спектакль или печальный обряд похорон, не могло быть и речи.
Причем с особым, бережным вниманием Гарин относился к тем, кто по «чину» стоял ниже его. Помню, как он волновался однажды, идя на юбилей артиста К., товарища по Театру Мейерхольда, 380 а впоследствии по совместной работе в кино. (Уж то, что он не волновался так по поводу собственного юбилея, могу засвидетельствовать определенно.) И как был доволен на следующий день, с каким увлечением рассказывал подробности успешно прошедшего празднества!..
Как-то — холодным ноябрьским днем — я зашел в Театр киноактера, где Гарин репетировал «Горе от ума». Он словно ждал меня, чтобы поделиться горестной вестью: «Умер Урусевский». Из театра на Смоленский бульвар, где жил Гарин, шли подавленные. Пересекая бывший Новинский бульвар, Гарин почему-то вспомнил похороны другого Сергея — Есенина…
За неделю до этого на Ваганьковском кладбище, там же, где и Есенина, мы похоронили Г. Шпаликова. С. Урусевский и Г. Шпаликов, первый — старый друг Гарина, второй — мой друг, связанные между собой дружбой и совместной, так и неоконченной, работой, ушли из жизни один за другим…
Года за три до этого Гена Шпаликов писал мне из Болшева, где они с Урусевским работали над сценарием13:
«… Урусевский работал с Гариным, поэтому я часто вижу Гарина — в Сергее Павловиче, — а через такое странное переплетение — почти мистификацию — вижу тебя, — это и смешно, но и невесело… мы бы могли вот так сидеть друг против друга, как я сижу с людьми хорошими, более того, — замечательными. С. П. — просто блестящий человек, но, — чего мне писать тебе про “но”?.. Андрей, очень неохота, — чтоб жизнь нас разъединила, — смерть соединит, — хотя, так оно и кончится, — правда…»
И вот, когда нет уже никого из них, все трое собрались на поляне памяти и встали «в кружок на лужке интермеццо, руками, как дерево, жизнь охватив», — я думаю: каждому из них было по плечу и по размаху это объятие с жизнью.
Давно известна истина о предназначении художника, лучшую формулу которой мы найдем у того же поэта: он — «вечности заложник у времени в плену».
Мы всегда помним про время сегодняшнее, но нередко забываем, что оно является лишь составной частью того, что мы подразумеваем под словом «вечность».
Гамлет сетовал на то, что в датском королевстве «порвалась связь времен».
Когда о сегодняшнем дне говорит большой художник, мы восстанавливаем эту естественную, так легко утрачиваемую связь. Больше того, о чем бы ни говорил такой художник, это будет всегда разговор для нас и «про сегодня». И окажется, что «вечность» — всегда современна, а «талант — единственная новость, которая всегда нова…».
Я пишу эти строки в саду на берегу переделкинского пруда. Тени от листьев вперемежку с солнечными бликами гуляют по белому листу, и это подвижное «отражение действительности», являясь частью ее самой, кажется самым полным воплощением непрерывности жизни.
И в этой непрерываемой жизни так и чудится, что вот-вот скрипнет калитка, и по садовой дорожке к дому невозмутимо и отрешенно, держа перед собой в вытянутой руке узелок с гостинцами, неподвижный при ходьбе — настолько она плавна (как жаль, что композиторы, указывая в нотах обозначение темпа и характера пьесы, не прибегают к такому: «В ритме вечности»), — двинется знакомая фигура в сером костюме и светлой кепке, из-под которой мудро и весело глянут голубые глаза, и послышится слегка удивленный, удивительный гаринский голос: «Здравствуйте, любезные! Я — король, дорогие мои… Однако жара сегодня чудовищная…» И, присаживаясь к столу под деревом: «Ну, рассказывайте, как вы тут поживаете?..»
1 Род, из которого происходил Эраст Павлович, носил фамилию Герасимовых. Гарин — сценический псевдоним артиста.
2 Артист Императорского театра, первый исполнитель роли Хлестакова.
3 Персонаж драмы М. Ю. Лермонтова «Маскарад».
4 Имеется в виду В. Э. Мейерхольд.
5 Пиблс — магистр богословия, сыгранный Гариным в фильме Г. В. Александрова «Русский сувенир».
6 Казадезюс — известный французский пианист, в то время гастролировавший в СССР.
7 Фильм этот не был поставлен Э. Гариным и Х. Локшиной по не зависящим от них обстоятельствам.
8 Письмо Н. Эрдмана к родным опубликовано в сб. «Встречи с прошлым» (вып. 3). Упомянутое место выглядит так: «Приходится согласиться с Райх, что в Италии самое интересное — русский Горький, может быть, потому, что у них нету русской горькой».
9 Интересно отметить, что в этом эпизоде последней постановки Э. Гарин обратился к самоцитированию, введя в него реминисценции из первого поставленного им фильма: Тарелкин выступает здесь в гриме и костюме Подколесина из «Женитьбы», «вороно-пегая купчиха в три обхвата» заменяет Агафью Тихоновну, а тему мечтаний героя сопровождают звуки все того же ланнеровского вальса, доносящиеся из музыкального ящика в комнате гоголевской невесты.
10 На книге Гордона Крэга, подаренной Мейерхольдом Локшиной, есть надпись: «Одному из немногих стойких знаменосцев ТИМа Хесе Локшиной — Вс. Мейерхольд».
11 Жена А. Белого.
12 Актер МХАТа В. О. Топорков снимался с Гариным в фильме Э. Рязанова «Девушка без адреса» (1958).
13 С. П. Урусевский собирался ставить «Дубровского» по сценарию Г. Шпаликова.
381 Основные творческие работы Э. П. Гарина
ТЕАТР
СЫГРАННЫЕ РОЛИ
1917
Рабочий — «Враги» М. Горького, Рязанский городской театр, реж. Н. Листов.
Лакей — «Мадам Сан-Жен» В. Сарду, Рязанский городской театр, реж. Н. Листов.
Прохожие (трансформация) — «Дни нашей жизни» Л. Андреева, Рязанский городской театр, реж. Н. Листов.
1920
Болтай — «Сбитенщик» Я. Княжнина, Первый самодеятельный театр Красной Армии, реж. В. Жемчужный.
1921
Фирюлин — «Несчастье от кареты» Я. Княжнина, Первый самодеятельный театр Красной Армии, реж. Н. Фореггер.
Криспин — «Игра интересов» Х. Бенавенте, Театр в Золоторожских казармах.
Леший — «Потонувший колокол» Г. Гауптмана, Театр в Золоторожских казармах.
Барон — «На дне» М. Горького, Театр в Золоторожских казармах.
1922
Ванечка — «Смерть Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина, Театр ГИТИС, Мастерская Вс. Мейерхольда, реж. Вс. Мейерхольд.
1923
Повар — «Земля дыбом», Театр Вс. Мейерхольда, реж. Вс. Мейерхольд.
Городулин — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского, Первый Рабочий театр Пролеткульта, реж. С. Эйзенштейн.
Префект полиции — «Слышишь, Москва?» С. Третьякова, Первый Рабочий театр Пролеткульта, реж. С. Эйзенштейн.
1924
Семь изобретателей (трансформация) — «Д. Е.» («Даешь Европу!») М. Подгаецкого по мотивам произведений.
И. Эренбурга и Б. Келлермана, Театр имени Вс. Мейерхольда, реж. Вс. Мейерхольд.
1925
Секретарь — «Учитель Бубус» А. Файко, Театр имени Вс. Мейерхольда, реж. Вс. Мейерхольд.
Павел Гулячкин — «Мандат» Н. Эрдмана, Театр имени Вс. Мейерхольда, реж. Вс. Мейерхольд.
1926
Хлестаков — «Ревизор» Н. В. Гоголя, ГосТИМ, реж. Вс. Мейерхольд.
1928
Чацкий — «Горе уму» А. С. Грибоедова, ГосТИМ, реж. Вс. Мейерхольд.
1931
Жан Вальжан — «Последний решительный» В. Вишневского, ГосТИМ, реж. Вс. Мейерхольд.
1938
Доктор Калюжный — «Сын народа» Ю. Германа, Ленинградский театр комедии.
1940
Тень — «Тень» Е. Шварца, Ленинградский театр комедии, реж. Н. Акимов.
1956
Король — «Обыкновенное чудо» Е. Шварца, Театр киноактера.
Павел Гулячкин — «Мандат» Н. Эрдмана, Театр киноактера.
1963
Тарелкин — «Смерть Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина, Театр киноактера.
ПОСТАНОВКИ
1921
«Игра интересов» Х. Бенавенте, Театр в Золоторожских казармах.
1930
«Первый кандидат» А. Жарова и М. Поликарпова, Ленинградский передвижной театр «Станок».
«Уважаемый товарищ» М. Зощенко, Ленинградский театр сатиры.
1932
«Поэма о топоре» Н. Погодина, Первый Рабочий театр Ленинградского Пролеткульта.
1934
«Братья Кастильони» А. Колантуони, Московский областной театр новой драмы.
1938
«Простая девушка» В. Шкваркина, Ленинградский театр комедии.
«Сын народа» Ю. Германа, Ленинградский театр комедии.
«Разговор человека с собакой» А. П. Чехова, Эстрадный театр «Эрмитаж».
1943
«Время идет вперед» В. Полякова, Ленинградский театр миниатюр (совм. с Х. Локшиной).
1948
«Вас вызывает Таймыр» К. Исаева и А. Галича, Ленинградский театр комедии.
«Московский характер» А. Софронова. Ленинградский театр комедии.
«Медведь» А. П. Чехова, Ленинградский театр комедии.
1949
«Роковое наследство» Л. Шейнина, Ленинградский театр комедии.
«Особняк в переулке» бр. Тур, Ленинградский театр комедии.
1950
«Флаг адмирала» А. Штейна, Театр киноактера (совм. с Х. Локшиной).
1953
«Раки» С. Михалкова, Театр киноактера (совм. с Х. Локшиной).
1956
«Обыкновенное чудо» Е. Шварца, Театр киноактера (совм. с Х. Локшиной).
«Мандат» Н. Эрдмана, Театр киноактера (совм. с Х. Локшиной).
1958
«Тень» Е. Шварца, Московский театр сатиры (совм. с Х. Локшиной).
1960
«Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, Московский театр сатиры (совм. с Х. Локшиной).
1961
«Несущий в себе» по сценарию Л. Сухаревской, Центральная студия киноактера (совм. с Х. Локшиной).
1963
«Смерть Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина, Центральная студия киноактера (совм. с Х. Локшиной).
1975
«Горе от ума» А. С. Грибоедова, Театр-студия киноактера — автор, режиссер, исполнитель.
КИНО
СЫГРАННЫЕ РОЛИ
1934
Адъютант Каблуков — «Поручик Киже», реж. А. Файнциммер.
1937
Подколесин — «Женитьба», реж. Э. Гарин и Х. Локшина.
1938
Диверсант Волков — «На границе», реж. А. Иванов.
1940
Тараканов — «Музыкальная история», реж. А. Ивановский и Г. Раппопорт.
382 1941
Солдат Шульц — «Боевой киносборник № 7» (новелла «Эликсир бодрости»), реж. С. Юткевич.
1944
Жених — «Свадьба», реж. И. Анненский.
1945
Тихон Спиридонович — «Иван Никулин — русский матрос», реж. И. Савченко.
1947
Король — «Золушка», реж. Н. Кошеверова и М. Шапиро.
1949
Томми — «Встреча на Эльбе», реж. Г. Александров.
1952
Почтмейстер Шпекин — «Ревизор», реж. В. Петров.
Урядник — «Джамбул», реж. Е. Дзиган.
1955
Школяр Самохвальский — «Нестерка», реж. А. Зархи.
Колосков — «Неоконченная повесть», реж. Ф. Эрмлер.
Петухов — «Фонтан», реж. Э. Гарин и Х. Локшина.
1957
Дедушка — «Девушка без адреса», реж. Э. Рязанов.
1958
Якоб Гофман — «Шли солдаты», реж. Л. Трауберг.
Дьячок Савелий Гыков — «Ведьма», реж. А. Абрамов.
1960
Пастор Пиблс — «Русский сувенир», реж. Г. Александров.
1961
Прохор Лыков — «Водяной», реж. С. Сиделев.
Витаминыч — «Аленка», реж. Б. Барнет.
1962
Нищий — «Монета», реж. А. Алов и В. Наумов.
1963
Вожачок — «Оптимистическая трагедия», реж. С. Самсонов.
Секретарша, Пал Палыч, Крутиков — «Необыкновенный город» реж. В. Эйсымонт.
Каин XVIII — «Каин XVIII», реж. Н. Кошеверова и М. Шапиро.
1964
Король — «Обыкновенное чудо», реж. Э. Гарин и Х. Локшина.
1966
Тарелкин — «Веселые расплюевские дни», реж. Э. Гарин и Х. Локшина.
1970
Профессор — злой волшебник — «Два дня чудес», реж. Л. Мирский.
1971
Профессор Мальцев — «Джентльмены удачи», реж. А. Серый.
Ульяныч — «Если ты мужчина…», реж. А. Чемодуров.
1973
Кисель — «Много шума из ничего», реж. С. Самсонов.
Укротитель Лаврушайтис — «Нейлон-100 %», реж. В. Басов.
1975
Василий Порфирьевич — «Пошехонская старина», реж. Н. Бондарчук, Н. Бурляев, И. Хуциев.
ПОСТАНОВКИ
(совместно с Х. Локшиной)
1937
«Женитьба».
1939
«Доктор Калюжный».
1942
«Принц и нищий».
1946
«Синегория».
1954
«Синяя птичка».
1955
«Фонтан».
1964
«Обыкновенное чудо».
1966
«Веселые расплюевские дни».
РОЛИ,
ОЗВУЧЕННЫЕ В МУЛЬТФИЛЬМАХ
(все указанные фильмы сняты на к/ст
«Союзмультфильм»)
1948
«Федя Зайцев», реж. В. и З. Брумберг — Учитель.
1950
«Волшебный клад», реж. Д. Бабиченко — Судья.
1955
«Заколдованный мальчик», реж. В. Полковников, А. Снежко-Блоцкая — гусь Мартин.
1956
«Двенадцать месяцев», реж. И. Иванов-Вано — Учитель.
«Девочка в джунглях», реж. М. Цехановский — Лиса.
1957
«Исполнение желаний», реж. В. и З. Брумберг — Король.
1958
«Спортландия», реж. А. Иванов — Матрац.
«Тайна далекого острова», реж. В. и З. Брумберг — Профессор.
«Краса ненаглядная», реж. В. Дегтярев — Царь.
1961
«Дорогая копейка», реж. И. Аксенчук — Пенс.
«Дракон», реж. А. Снежко-Блоцкая — Крестьянин.
«Семейная хроника», реж. Л. Амальрик — Собака-фотограф.
1963
«Дикие лебеди», реж. М. и В. Цехановские — Епископ.
«Дочь солнца», реж. А. Снежко-Блоцкая — Ворон.
1964
«Дюймовочка», реж. Л. Амальрик — Рак.
«Лягушонок ищет папу», реж. Р. Качанов — Рак.
«Храбрый портняжка», реж. В. и З. Брумберг — Король.
«Почта», реж. М. и В. Цехановские — от автора.
1966
«Слоненок», реж. Е. Гамбург — Удав.
1969
«Возвращение с Олимпа», реж. А. Снежко-Блоцкая — Орел.
1971
«Без этого нельзя», реж. М. Ботов — Селезень.
1972
«Винни Пух и день забот», реж. Ф. Хитрук — Ослик Иа.
1973
«В мире басен», реж. А. Хржановский — Автор, Осел, Любопытный.
РАДИО
1930
«Путешествие по Японии» — Путешественник.
1932
«15 раундов» А. Декуэна — автор композиции, режиссер, исполнитель роли Баттлинга.
«Мое открытие Америки» — постановочное чтение очерков В. Маяковского.
1934
«Самолет и я» Ч. Линдберга — постановочное чтение.
«Путешествие нашей молодежи по городам мира — Москва» — От автора.
«Цусима» А. С. Новикова-Прибоя — автор композиции, режиссер, исполнитель.
«Зеркало, яшма и меч» — режиссер и исполнитель.
«Парабола солнца» — Участник космической экспедиции.
1937
«Ревизор» Н. В. Гоголя (монтаж сцен из спектакля ГосТИМа) — Хлестаков.
1940
«Сорочинская ярмарка» Н. В. Гоголя — режиссер (совм. с Х. Локшиной), исполнитель роли От автора.
«Клоп» В. Маяковского — режиссер, исполнитель роли Баяна.
1950
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя — От автора.
1953
«Я сам» (по произведениям В. Маяковского) — режиссер (совм. с Х. Локшиной) и исполнитель.
«Приключения Чипполино» Дж. Родари — Тыква.
1955
«Мартин Чеззлвит» Ч. Диккенса — Полковник Дайвер.
1958
«Рождение столицы» (по произведениям В. Маяковского) — автор, режиссер, исполнитель.