5 Натэлла
Башинджагян
Контуры биографии
«Биография Ежи Гротовского — одно из самых поразительных, небывалых явлений, какие могли приключиться в Польской Народной Республике. В свете официальной истории послевоенной Польши она совершенно не поддается пониманию, а вместе с тем как восполнение некой несомненно существовавшей лакуны представляется совершенно ясной»1.
Эти слова были написаны в 1992 году, когда небывалая жизнь насчитывала почти шестьдесят лет, а не менее поразительная работа — почти сорок. И хотя движение лет продолжалось, контуры биографии, казалось, уже достаточно четко определились. Но все же последующий шестилетний творческий этап был еще впереди и, многое продолжая, многое также и изменял.
Сегодня — иное. Сегодня каждый, пишущий или размышляющий о Гротовском, может добавить уже от себя: отправная точка осталась далеко позади, вехи прочерчены, путь завершился. И тем не менее все это нам вместе с читателем предстоит пройти заново. Потому что вопросы, неотступно сопровождавшие путь Гротовского, никуда не исчезли, а понятие прошедшего времени к нему, вероятно, менее всего приложимо.
Литература о Гротовском (на многих языках) строго научного, эссеистического и даже сенсационного толка обширна. Закономерен интерес к человеку, о котором не без оснований говорится, что современный театр после Гротовского уже не тот, каким был до него; к человеку, чью практику и исследования называют иногда Второй Театральной Реформой; к человеку, награжденному в 1991 году специально учрежденной для него премией гению.
Начало жизни Ежи Мариана Гротовского, нежное детство, отмечено всеми приметами судьбы, омраченной войной и жестокостью. Родился 11 августа 1933 года, рос в небольшом тихом городе Жешуве, но именно там, ровно шесть лет спустя, пролегла полоса первых побоищ. Катастрофа внезапно начавшейся войны с фашистской Германией разорвала семью: отец был брошен на 6 запад, мать с двумя детьми эвакуировалась на восток. В чистом поле эшелон разбомбили; они уцелели чудом, по шпалам добрались до лесничества. Отец обнаружил их там, но неожиданная, драматичная встреча оказалась последней: превратности войны забросили Мариана Гротовского сначала на Ближний Восток, потом — в Англию, Аргентину и Парагвай, и никогда больше семья его не увидела.
В годы нацистской оккупации, скрываясь по деревням, порой недоедая, дети все же посещали, где было возможно, школу, а мать тайно приобщала их к польской поэзии и иностранным языкам. Огромно и благотворно было ее влияние: Эмилия Гротовская, женщина незаурядного характера, цельная и чуткая натура, не раз служила сыну и впоследствии моральной опорой. Ее тяга к познанию мира, к походам в неизведанные места была сродни страсти сына: в семьдесят шесть лет она путешествовала с ним по Индии; многие годы занимаясь горным туризмом, поднималась в Высоких Татрах на труднодоступные уровни; она и скончалась в пути, в восемьдесят два года, возвращаясь с рюкзаком за плечами со своего последнего горного маршрута.
Жизненный и духовный уклад семьи питался традициями, издавна присущими польской интеллигенции. Что же хранилось в таких скромных, но стойких семьях, что передавалось от деда-прадеда к внуку и правнуку? Самое драгоценное. Открытость навстречу миру и высшая степень любознательности к нему; уважение к учению, к знаниям, к честному «мозольному» труду; конфессиональная и национальная терпимость. Польский шляхетский род Гротовских герба Равич записан в геральдических книгах с конца XVII века, но в роду с обеих сторон, материнской и отцовской, переплелись с польской кровью чешская, австрийская, литовская, немецкая, венгерская; еще был предок-француз, королевский часовщик, успевший в 1793 году бежать из революционной Франции в Австрию, а оттуда и навсегда — в Польшу.
Передавалась впитанная, что называется, с молоком матери тяга к романтической идеальности, сколь бы убыточной в житейском смысле она ни была. (Ведь и отец, лесовод по профессии, резко сменил жизненную колею, став живописцем, неудачливым и неденежным, но все же — художником.) И хотя в роду Гротовских в прошлом числились и военные, повстанцы и легионеры, а старший из братьев стал ученым в области ядерной физики, гуманитарные наклонности Ежи Мариана определились рано. Впрочем, 7 были и колебания: увлечение санскритом и йогой влекло к востоковедению, желание стать врачом — к психиатрии. Позже он скажет: «Какую бы профессию я ни выбрал тогда, знаю, что постарался бы выйти в ней за ее пределы»2. Однако в разбросе интересов, естественном для семнадцатилетнего юноши, уже звучала не по годам серьезная нота. «Сравнительно рано, еще в дотеатральной жизни, — вспоминал Гротовский, — я понял, что меня преследует какая-то определенная потребность, какая-то стихийно складывающаяся “ведущая тема”, а также и желание выявить эту тему; выйти с ней — к другим. <…> Меня преследует проблема человеческого одиночества»3. В 1951 году, выбрав окончательно, Гротовский поступает на актерский факультет краковской Высшей театральной школы. В 1953-м проходит краткую стажировку в Праге, у Э. Фр. Буриана; едет во Францию, где смотрит спектакли Жана Вилара; познакомившись в стенах школы с «системой» Станиславского, стремится оказаться как можно ближе к первоисточнику и в 1955 году, окончив актерский факультет, едет на годичную режиссерскую стажировку в Москву, где занимается на курсе у Ю. А. Завадского.
Здесь следовало бы сделать одно уточнение: вопреки распространенному мнению, молодой Гротовский интересовался в Москве не только Станиславским, которого уже неплохо знал, но также опытом Вахтангова и «композиционными» секретами Мейерхольда, в особенности тем, что тогда было для него наиболее привлекательным и что он называл «партитуральным» построением спектакля. (Позже он познакомился с английскими переводами работ Михаила Чехова.)
Молодой стажер, впрочем, не был пленником вузовского учебного процесса. В письме подруге юности, однокурснице по краковской Театральной школе, он признавался, что в тот неполный московский год предпочитал читать тысячами страниц Толстого, Достоевского, Лермонтова, Маяковского и — в русских переводах — «Махабхарату» и «Шах-Намэ»; что «открывал» для себя природу, общаясь с ней как с живым существом.
Он писал: «Я открыл Небо. <…> И дышу им, как воздухом. <…> Оно есть, оно живет, единственное, всеохватывающее, непреходящее, оно не участвует в наших печалях, не слушает наших молитв, но оно существует, одно — неделимое и безграничное (ему нет конца, как же его разделить?) <…> Когда я погружаюсь в свою глубину (а может, не в глубину), я как бы дохожу до той преграды, в которой растворяется моя малость и вырастает Сердце — 8 то есть Небо. <…> Небо — живое, и оно и есть мое сердце»4.
В этих искренних заметках, лишенных регламентации будущих неизбежных публикаций, уже прочерчивается круг привязанностей и предпочтений — сам Гротовский называл их «главными искушениями», — питавших работу ума и сердца: восприятие природы как явления целостного и сакрального; чувство одиночества и — преодоление его (в потребности выйти к другим); беспокоящее, то неуловимое, то отчетливое ощущение в себе плотно закрытой «двери» — того порога и замка отчуждения, за которым еще только маячит возможность открытия.
Но тогда же он написал и нечто, почти неожиданное: «Все с большей полнотой, все отчетливее я сознаю, что временем театрального обучения я уже объелся по горло, и даже выше. Или создавать что-то, или — с копыт долой, крах и компрометация; а если нет, если учиться и дальше, то, значит, оглупеть-отупеть, скиснуть, зайти в тупик, до предела, до сухости в горле…»5. Это пишет человек, всю жизнь не устававший постигать, изучать и исследовать неизведанное.
Все эти наблюдения, размышления и сомнения молодого Гротовского мало известны. Со временем они стали трудно доступны, частично распыленные, рассеянные среди полузабытых газет и тонких журналов 1950-х годов, частично никогда и нигде не публиковавшиеся или опубликованные в самое последнее время. Гротовский не громоздил личного архива, не копил писем, не заводил картотек. Но именно в этих заметках содержатся факты его жизненного становления.
Вопросы, обращенные к самому себе, и свои же ответы, догадка о невозможности ответа, и снова, вопреки всему, продолжение поиска — все это в будущем ляжет в основу его мироощущения.
Между тем на родине Гротовского шли важные «оттепельные» перемены, и его вхождение в самостоятельную жизнь совпало со временем «расчета с прошлым», получившим у историков название «польского Октября». После 1956 года Польша уже дышала воздухом новой жизни. В обновляющихся исторических обстоятельствах оживали общественно-политическая и философская мысль, публицистика и литература; набирало полноту дыхания художественное творчество; на глазах шло рождение школы польского кино.
9 Свежими веяниями насыщалась и театральная жизнь: на подмостки репертуарных театров оживленно вторглись европейская драма абсурда и американские фрейдистские пьесы. Был разблокирован и свой, отечественный, пророк абсурдизма Виткаций. Стали дозволяемы Брехт и Маяковский. Оживилось молодежное движение, и не случайно вечерней и ночной жизнью городов завладели литературные кабаре и студенческие театрики.
Но, пожалуй, важнее всего для польской художественной культуры тех лет было возвращение в круг духовной жизни нации творений великих романтиков — Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого, Станислава Выспянского, отодвинутых в предыдущие годы в тень массивного фантома социалистической «культуры».
Целое поколение молодых польских художников как бы разом, единой волной вырвалось в те годы на волю из-под пресса догматического давления, из пут идеологического и эстетического закрепощения.
Были среди этой плеяды и «черный» прозаик Марек Хласко, и поэт божьей милостью Эдвард Стахура, и режиссеры-романтики Анджей Вайда и Конрад Свинарский, и рано ушедший из жизни «Брехт польской живописи» Анджей Врублевский, и дерзкий музыкальный авангардист тех лет Кшиштоф Пендерецкий, и не менее дерзкий ваятель гигантских скульпто-картин и кинетических ассамбляжей Владислав Хасиор; были и многие другие. В скором будущем все они прославят Польшу, заставив мир заговорить о неожиданном феномене современного польского искусства.
Позже это поколение назовут поколением 1956 года.
Гротовский был среди них едва ли не самым молодым. И как многие из его сверстников, а может быть, и острее них, он почувствовал, что жить с душой, открытой к обновлению, но оставаясь в обкатанных рамках государственной и коммерческой культуры, в общепринятых правилах житейской игры — нельзя; что так жить в искусстве — неладно. Более того: так жить нельзя и в самой жизни.
Он видел, что рутина «спектакля-мероприятия» и нездоровая закулисная атмосфера способны отравить тех, кто еще только мечтает посвятить себя театру: «… моральный цинизм, карьеристские поползновения, отношение к своей профессии лишь как к источнику заработка — вот наихудшие из худших проявлений деморализации»6. Что предлагал он, чтобы одолеть это зло? «Не пессимизм, а конкретные дела вместе с единомышленниками» — 10 ради «утоления потребности в великой романтике»7. Пусть единомышленников еще только предстоит отыскать.
Начать самому.
С 1957 года начинается самостоятельная режиссерская работа Гротовского: первые спектакли на сцене солидного краковского Старого театра («Стулья» Э. Ионеско, «Искушение св. Антония» П. Мериме, «Дядя Ваня» А. Чехова). Они не прошли незамеченными. Директор Старого театра (он же декан краковской Театральной школы) профессор Владислав Кшеминский оценил в своем ученике «режиссерскую интуицию», «значительную художественную индивидуальность», заметив и то, как «проступает» в «совсем еще молодом человеке <…> режиссер-философ, влюбленный в синтетичность форсированных выразительных средств — но не ради модной “современности” формы, а в стремлении перелить в зрительный зал свое мировосприятие жизни, внушить зрителям свою позицию — социально неравнодушную, покоряющую интеллектуально»8. Заметила спектакли и пресса. В 1958 году еженедельник «Современность» уже писал: «Ежи Гротовский — режиссер нетерпеливый… и агрессивный в отношении зрителя, которого он атакует, не слишком считаясь ни с его привязанностями к старому, доброму репертуару XIX века, ни с его любопытством к снобистским модам»; он отмечал, что первые же самостоятельные постановки Гротовского «выявили богатство творческого воображения этого сегодня самого молодого режиссера, его способности в использовании всех средств современной театральной выразительности»9.
Действительно, молодой Гротовский так и начал работать: не отказывая себе и актерам в удовольствии поиграть внешними чудачествами персонажей-фигурантов, их колючей пластикой и кинетикой, словом, оснастившись всеми мыслимыми возможностями театральных аллегорий, знаков, аллюзий. В современной польской пьесе «Неудачники» актеры играли на качелях и в масках; в «Орфее» Ж. Кокто их тела были упрятаны в жесткие панцирные балахоны, а головы скрыты под муляжными черепами; в «Каине» Байрона — затянуты в фантастично расписанные космические трико-комбинезоны; в «Фаусте» персонажи с цирковой ловкостью рассаживались и повисали в точках скрещения «узлов» огромной конструкции — кристаллической молекулы мира.
Острая, прямая брехтовская ироническая атака на зрителя, публицистичность пискаторовского стиля, самые разные технические украшатели и пояснители театрального действия, включая 11 киноэкран, цветомузыку, радиоусилители, — всем этим сценическим богатством молодой Гротовский пользовался умело, эффектно, результативно Он пробовал самую разную материю театра, не изменяя своей рано определившейся внутренней теме.
Мысль, однажды так рано высказанная о себе самом «дотеатральном», впоследствии не отступила, не умалилась, не стерлась ни годами ученичества, ни дебютными хлопотами, ни необходимостью житейского самоопределения: «Меня преследует неизбежность человеческого движения к небытию, неизбежность того, что он, человек, преходящ, ему суждено миновать»10, — говорил Гротовский. «Человек не знает покоя, он полон страха. Он знает, что он преходящ, и не хочет знать, что он преходящ. Он знает свою слабость. Он либо обидчик-мучитель, либо жертва обид. Но перед лицом времени — он одинок. <…> Человек ищет Грааля1*, сосуд, который подобно тому, высеченному из камня-смарагда, был бы высечен из бесконечности и был бы способен его, человека, освободить от слабостей и от смерти»11, — писал он в 1958 году и продолжал свою мысль: «Но человеческое существо (и вот тут именно и начинается моя “ведущая тема”) в состоянии противопоставить себя своему одиночеству и смерти, воспротивиться им. Если человек захвачен проблематикой жизни, вырастающей над сферой узких интересов одного человека, если он познает интегральность человеческого существа и природы; если тем самым он сознает нераздельность единства природы и в ней находит собственное “я”, собственное сердце, то тогда, в значительной степени, он из пут страха высвобождается»12.
Настойчив этот мотив благодатного, врожденного человеку и природе союза, завета. Но настойчив и мотив тревоги перед недобрыми последствиями их насильственного разлучения.
В эти же годы один за другим появляются ранние тексты Гротовского: «О творческих амбициях театра» (1958), «Мим и мир» 12 (1959), «Заметки, написанные в Швейцарии» (1959), где впервые звучат мысли о создании новой мирской, нецерковной этики. Наконец, «Театр и космический человек» (1959), где возникает тема «обнаженного», «безоружного», но именно поэтому спасительного переживания жизни. «Пожалуй, нет ни одного человеческого существа, которое хотя бы на краткий миг не оказалось перед фактом “нагого” переживания объективной действительности, — пишет Гротовский. — Ибо что же такое детские впечатления? Да и не только они, эти первые детские впечатления. В неожиданном эстетическом волнении перед произведением искусства, в восхищении пейзажем, деревом, красотой оттенков неба, в спазме сексуального наслаждения — как птица небесная с высоты обрушивается на нас, охватывая и поглощая, действительность жизни, переживание, полное восторга и облегчения»13. В мировосприятии Гротовского природа, жизнь, произведение искусства — единая цепь.
Конец 1950-х принес Польше многие обнадеживающие перемены, но она была краем все еще скудным. Лишь постепенно восстанавливались города, оправляясь после военной и оккупационной разрухи; возрождалось просвещение, налаживался быт. Жилось нелегко. Но именно в это время Гротовский сказал о своем поколении — «поколении 56-го года» — такие слова: «Наши глаза порой беспокойны, наши уста — не каждый день сыты, а нередко полны горечи; наша одежда заношена, ботинки залатаны. Но есть в нас, даже в нашем недовольстве и в нашей горечи, какое-то ощущение общего шанса, внутреннее напряжение, голод и жажда библейских избранников — тех, что всему вопреки жаждут достичь “обетованной земли”»14.
В этот момент жизнь дарит неожиданный шанс: предложение принять маленький «Театр 13 рядов» в небольшом городе Ополе на западных землях Польши.
Много позже писатель и критик Людвик Фляшен, ставший впоследствии сотрудником Гротовского, вспоминал: «Когда я лично познакомился с Гротовским, он поразил меня каким-то неправдоподобным ощущением своей миссии. <…> Будучи начинающим режиссером краковского Старого театра, он обладал вполне гарантированным карьерным стартом, а впечатление производил Дон Кихота в своих затененных близоруких очечках и с вечной папкой под мышкой. <…> Как только я позвонил ему с предложением сотрудничества в Ополе, он согласился не моргнув 13 глазом. Он покинул стабильное штатное место в Кракове, бросил превосходно складывавшуюся режиссерскую карьеру и двинулся в провинцию. Была в этом и какая-то сумасшедчинка, но прежде всего — огромное ощущение своей миссии»15.
«Театр 13 рядов», где Гротовский собрал небольшую группу совсем молодых актеров, был и похож на малые нетрадиционные сцены тех лет, и не похож. Одни из них впоследствии заглушались солидной поступью репертуарного театра (в Польше к тому же не закрытого наглухо для экспериментальных веяний), другие, ярко мелькнув, рассыпались на почве любительского беспорядка: жизнь их, питаясь студенческим энтузиазмом, была недолгой.
Группе Гротовского тоже были присущи запал молодости, неиспорченность сценической рутиной, искреннее недовольство привычным театром. А также и личные, в высшей степени динамичные, данные, и в первую очередь — как скажет более чем тридцать лет спустя сам Гротовский — «бездна индивидуального анархизма», добавив, что поэтому они были бунтовщиками и символичными, и реальными.
Но вскоре обнаружилось, что его малое сообщество (7 – 11 человек, не более) проявляет свойство, не слишком присущее даже профессиональному театру, а среди молодых театральных нонконформистов и вовсе из ряда вон выходящее: редкостное, фанатичное трудолюбие. Их бунт направлялся в русло поистине муравьиного труда; запал, не остывая, входил в плоть путями неустанной работы, принявшей форму систематичных, неотменяемых занятий, упражнений-экзерсисов, телесного и голосового тренинга. Их склонность к мятежному протесту была взята в руки не менее мятежным режиссером, который, будучи их ровесником, стал их наставником.
Тренинг Гротовского, опубликованный им в 1968 году в книге «К Бедному Театру», доходивший до нас только по слухам и оставшийся, по существу, неизвестным нашим актерам, принес в свое время немало практической пользы европейским и американским исполнителям (если они пользовались им не механически).
И все же, однажды опубликовав «Тренинг», Гротовский впоследствии не рекомендовал его к публикации. Почему?
Во-первых, потому, что тренинг на протяжении более чем двадцати лет существенно менялся; во-вторых, потому, что он не мог быть приложим ко всем, к каждому желающему, так как адресовался исключительно к индивидуальности актера; в-третьих, 14 потому, что многие моменты в этой эмпирической, исследовательской работе вообще не могли быть жестко зафиксированы, тем более с целью последующего умножения и тиражирования; наконец, некоторые особенности занятий относились к области мнемотехники.
И все же слухи о таинственном тренинге Гротовского продолжали и продолжают жить.
В этой упорно существующей версии о неких сокрытых особенностях занятий Гротовского с актерами, вероятно, есть своя доля интуитивной правды. (Ведь написала же режиссер и критик-литератор Малгожата Дзевульска, участвовавшая, кстати, в одной из программ паратеатра во Вроцлаве, что значительную часть своих исследований Гротовский «утаивал».)
В городе заговорили о маленьком театре, где по вечерам показывают странные спектакли, а днем тренируются с неясными целями. Цели действительно не были заранее встроены в программу, а программа не была априорной. Гротовский искал и то и другое вместе с актерами. Индивидуальные склонности к анархизму выравнивались в том, что критики, уже тогда заметив разительную непохожесть этой группы на какие-либо другие, стали называть невиданной «монастырской» дисциплиной, строжайшим «отшельническим» режимом жизни и труда. Они были людьми, которых терзали неслыханные, острые, бурные страсти, — вспомнит позже Гротовский. Своеобразное послушничество было средством необходимого обретения равновесия.
«Театр 13 рядов» честно отрабатывал субсидии городских властей: спектакли «Мистерия-буфф» Маяковского и «Сакунтала» Калидасы вызывали интерес у зрителей; театр организовал Публицистическую эстраду, давал выездные спектакли в маленьких городках.
Но внутреннее развитие театра шло уже другими путями. Гротовский сосредоточился на совершенно новом типе работы с актером.
Три года занятий, напряженных и высокоинтенсивных — и вместе с тем как будто замедленных, неспешных во времени. Они проходили закрыто и даже, как явствовало из скупых реляций опольской прессы, «втайне». Гротовский стремился разблокировать присущие актеру «зажимы», помочь преодолеть сковывающие психоэмоциональные и физические препятствия, выйти из их «скорлупы» к лучшим, положительным состояниям самоощущения свободы и целостности. Такое преодоление, «выход за 15 пределы» он в своей работе называл в тот период актом трансгрессии2*.
И все же, еще в самом начале создания Театра-Лаборатории, Гротовский обозначил не только цель, но и принципы своих поисков, от которых никогда не отступал: «Невозможно опыты того типа, какой проводит Театр-Лаборатория, проводить на публичной площадке. Они, эти искания, хрупки и беззащитны. Они нуждаются в защите перед “publicity”. Но в первую очередь они нуждаются в такой ситуации, в которой то, что делается — не продается»16.
«Что мы ищем в актере?» — таким вопросом Гротовский задавался на протяжении всей своей «театральной» жизни. И отвечал: «Однозначно: его самого. Если мы его не ищем, если он не вызывает у нас интереса, если он не является для нас чем-то существенным, мы не сможем ему помочь. Но мы ищем в нем также и самих себя, наше глубинное “я”»17.
Театр, освобожденный ради взаимности такого искательного переживания от каких-либо украшающих или объясняющих постановочных приемов, Гротовский назовет Бедным Театром.
Новый поворот самоопределения внутри проводившейся в «Театре 13 рядов» репетиционной практики и методики подготовки спектаклей повлечет за собой существенные последствия.
Сама сцена, бывшая в «Театре 13 рядов» всего лишь полом небольшого зала, станет претерпевать неожиданные превращения: она тоже будет меняться — лабильно, «текуче», во всем пространственном захвате спектакля.
Проступят и измененные взаимоотношения актера и зрителя: момент внутреннего состояния действующего актера будет сливаться с ответным состоянием зрителя, подводя к взаимному переживанию спектакля как минуты «святой и страшной».
Изменится репертуар, в нем появятся творения польской романтической классики: «Дзяды» Мицкевича, «Кордиан» Словацкого, «Акрополь» Выспянского; будет поставлена и полузабытая драма Марло «Трагическая история доктора Фауста».
Теперь спектакли будут опираться на новые основы: на проникновение в полузапретную, чуть ли не табуированную область «безоружной» людской взаимности. В спектаклях «Дзяды», «Кордиан», 16 «Трагическая история доктора Фауста» осуществилась такая связь между актером и зрителем, когда не только зритель рассматривает актера, но и актер рассматривает зрителя, что создавало возможность «обстрела» психики зрителя со стороны актера в происходящем спектакле18.
Надо заметить, что в некоторых спектаклях (в «Кордиане», например) воздействие актера на зрителя, а главное, психическое втягивание зрителя в спектакль оказывалось чрезмерным: зрители замыкались в себе или пугались и плакали, и очень скоро Гротовский от таких приемов отказался.
Вместе с исчезновением дуализма сцены и зала исчезала и привычная неприкосновенность зрителя: группа зрителей в той же степени режиссировалась Гротовским, как и группа актеров. «Актер должен знать, что из зрителей возникает контр-ансамбль (или со-ансамбль). Зритель должен знать, что он — со-актер <…> а не только наблюдатель»19, — писал Гротовский в одной из ранних статей «Возможности театра».
В этом же раннем эссе он заговорил и о втором полюсе своих опытов, о понимании режиссуры, в отношениях с текстом, как конфронтационных отношениях.
Выбранный принцип контрастных и даже конфронтационных отношений с текстом заключался в «проникновении и отскакивании режиссуры от текста <…> в столкновении, даже “сшибке” острой постановки (в смысле творческой постановки) с острым текстом (в смысле сильного текста). Между театром, иллюстрирующим литературу, и театром, ее изничтожающим, — писал Гротовский, — находится действенный, эффективный вариант, сохраняющий и автономию театра, и ценности литературы: вариант, состоящий в столкновении острой режиссуры с острым текстом, в их противоречии и даже противоположности-единстве»20.
Но открытием, повернувшим все творчество Гротовского на путь лабораторной работы, стало то, что его отношение к актеру изменилось.
Существует запись беседы Гротовского 1962 года с его первым иностранным стажером и ассистентом итальянцем Эудженио Барбой. Она многое объясняет.
Театральная практика середины XX века, эксплуатируя возможности синтеза искусств на сцене, предпочла, по мнению Гротовского, изготовление и тиражирование театральной продукции по формуле наименьшего сопротивления: количественного и технического умножения элементов изобразительного, визуального и исполнительского богатства театра, а оно, в свою очередь, все 17 откровеннее зависит от финансовых возможностей заказчика. Театральная продукция, а теперь уже и театральная индустрия, говорил в этой беседе Гротовский, продолжает нуждаться в актере как в главном живом воплотителе постановочных проектов. Но, втягивая его в этот процесс, она профанирует самое неповторимость, уникальность природы актера. Создается своего рода порочный круг. Актер, как «человек, публично работающий своим телом», «публично отдающий его», вступая в этот круг, рискует превратиться в «актера-куртизана», в то время как режиссер сознательно выбирает роль «режиссера-сутенера»21.
Резкость тогдашних суждений Гротовского не должна нас удивлять: вместе с очень маленькой группой единомышленников он пошел против преобладающего течения, выбрав не метод умножения театрального изобретательства, а метод последовательных исключений всего того, без чего театр все-таки может существовать, без чего он еще возможен: «… и тогда нам остались только актер и только зритель»22.
Эти суждения Гротовского, ставшие вскоре благодаря публикации известными в Европе, заинтересовали, но и насторожили театральный мир. Они воспринимались как опровержение (и чуть ли не призыв к разрушению) знаменитой вагнеровской концепции театра, в котором все виды искусства — драма, музыка, живопись, пластика актеров, танец, пение, режиссерское мастерство, костюмы и сценическая машинерия объединяются, обогащая друг друга в синтезе — в огромном, впечатляющем, всеохватывающем тотальном театре.
На самом же деле Гротовский ничего не предлагал «разрушать» (разрушительные тяготения вообще не были свойственны его натуре), а сделал свое, глубоко личное, альтернативное, но и дополняющее (по принципу дополнительности3*) предложение 18 театру: «обеднеть», «умалиться». «Обеднеть» во всем внешнем, пойти вглубь. Познать свою природу, познать себя. Через актера, в актере.
Тем временем ситуация в Ополе вокруг «Театра 13 рядов» (принявшего название Лаборатории) складывалась не в его пользу. Новые спектакли, обращенные по своему внутреннему потаенному смыслу к каждому зрителю как единственному зрителю — ради обнаружения его «глубинного Я», перестали развлекать горожан, а горожане перестали на них ходить. Городские власти никак не могли уяснить «идейно-художественную установку» и «социальную ориентированность» театра. На всякий случай непокорный театр стали обходить молчанием на официальном уровне. Тишина, установившаяся вокруг Театра-Лаборатории, способствовала бы работе, но дотации сокращались, «касса» (и без того скудная) таяла, молодые актеры, жившие в основном впроголодь, случалось, теряли сознание во время сложного тренинга. Чиновники от культуры чинили театру препятствия и в очень чувствительном пункте: в общении со зрителем. Было время, когда выезды «Театра 13 рядов», ставшего лабораторией Гротовского, за пределы города Ополе были запрещены; гастроли не только в столице, в Варшаве, но даже и в Кракове отменялись; о выездах за границу не могло быть и речи. В течение двух лет актеры Театра-Лаборатории нигде не могли показать свои спектакли, они с трудом пробивались к зрителям. И только по мере распространения сведений о диковинном театре люди сами стали приходить и приезжать в театр Гротовского с разных сторон.
Официальный заговор молчания вокруг Театра-Лаборатории нарушил только в 1963 году Конгресс Международного Института театра, проходивший в Варшаве. Гротовский, не обладавший никакими официальными регалиями, не был приглашен на конгресс, но Эудженио Барба организовал поездку группы европейских и американских театральных деятелей и критиков для просмотра спектаклей Гротовского. Впечатление было ошеломляющим. Фламандская делегация Конгресса МИТ выступила с заявлением, опубликованным в Хельсинки, где говорилось: «Мы стали свидетелями спектаклей театра особого рода <…> стремящегося к высвобождению той ветви искусства, что издавна была подавлена общепринятыми условностями и концепциями»23.
Постепенно стал шириться круг и польских критиков, режиссеров, театроведов, откликающихся на спектакли Театра-Лаборатории. Спектакли ошеломляли, не даваясь в то же время в сети 19 умственного постижения, что соответствовало их замыслу и их природе, но не способствовало объективной оценке.
Порой мнения складывались диаметрально противоположные. «Это — не театр! <…> Это йоги сценического искусства <…> флагелланы, скрещенные с факирами! — писал критик В. Дзедушицкий. — Не знаю, какой степенью испытания и на каких уровнях воздуха, воды и огня проходят актеры Гротовского посвящение, но знаю, что только одному ему доступными методами достигают они того состояния <…> какое мы увидели: актеры плачут настоящими слезами, в страданиях и восторгах бичуют себя до кровавых рубцов на спинах4*. Какими же внутренними и внешними стимулами надо обладать, чтобы с такой жертвенной самоотдачей доводить свое тело до такого состояния добровольной всеподчиненности? <…> И все для того, чтобы достичь смысла и выразительности спектакля, который — фактически — спектаклем не является… Не является спектаклем, потому что Гротовский не старается завоевать симпатии зрителя, не пытается приголубить его — зрителя, случайного участника, случайно попавшего на совершение этого обряда»24.
Взволнованный критик уловил, однако, в увиденном очень важное: спектакль — не-спектакль. И непривычное — в самом себе, в своем, столетиями почти непоколебимом статусе зрителя: случайно попал в обряд. Уловил и общую необычность происходящего: во всем, что увидел, он в одно и то же время и притянут и отторгнут, и потрясен и теряется в догадках и сомнениях.
Стали появляться отклики, оценивающие не только «расширение экспрессивных возможностей актера», но и попытку проявить через возникавший в Театре-Лаборатории спектакль — не-спектакль «более широкую перспективу существования человека»25. Увидела свет, наконец, и обстоятельная объективная оценка спектаклей. Один из самых видных ученых, историков и теоретиков театра, профессор Збигнев Рашевский, выступил в академическом «Театральном дневнике», признавая, что в Польше появилось принципиально новое явление: «Небывалое зрелище», в котором «необычайные, странные, но и сильные впечатления входят в замысел, в программу театра, принявшего название Лаборатории»26. Обширный обстоятельный отзыв, профессионально поддержав искания театра, открыл, казалось бы, свободное 20 поле для возможных дискуссий. Тем не менее тогда, в 1964 – 1965 годах, они так и не развернулись. Общий тон редких польских рецензий был полон не только оговорок, но и явного недовольства: краковская «Литературная жизнь» назвала спектакли «Театра 13 рядов» «суммой лирических завываний <…> давно известных, со времен “амплуа неврастеника”». Отзыв не был чисто настроенческим. Гротовскому недвусмысленно указывалось на необходимость искать иное, «более социальное» решение проблем жизни, «более социальные пути художественного познания», менее связанные с «прощупыванием тела». Советовали «приглядеться к Брехту»27. Другой рецензент осуждающе писал: «Гротовский… очень любит говорить о “неуловимом и невыразимом процессе”»28. Примечательно, что обе рецензии явились единственными отечественными откликами на опубликованное в то время в польской печати программное выступление Гротовского «К Бедному Театру», излагавшее суть начатого им дела. Этого выступления почти не заметили. Но для самого Гротовского оно значило в то время очень многое: решительный шаг и в исканиях, и в биографии.
С него и начинается эта книга.
Поздней осенью 1964 года Гротовский был вынужден из Ополе уехать. Театру-Лаборатории впрямую грозила «приостановка» деятельности, а такая приостановка в те годы могла означать полную гибель всех начинаний. Однако молодую группу согласился приютить город Вроцлав. Там с января 1965 года, в трудных новых условиях, Театр-Лаборатория принимается за работу. Но и тогда в одном из частных писем, опубликованных позднее, Гротовский писал о своих трудностях без печали: «Устраиваемся во Вроцлаве. В нашем новом существовании это целое событие, наполненное возможностями — и хорошими, и плохими — почти библейский исход. В области упражнений и репетиций — совершенно новая фаза (начатая еще в Ополе). Житейски — времянки и времянки… Пока что, “на минуточку”, расположились в “Свидницких подвалах” под Ратушей»29. Вскоре, благодаря поддержке научных кругов Вроцлавского университета, положение меняется: городской магистрат отдает беспризорному театру старый, но очень высокий кирпичный дом возле исторической Ратуши, окнами выходящий в узкий переулок. Там, оборудовав на третьем этаже, куда вела крутая железная лестница, маленький зал — а фактически снова одну большую комнату, единую для актеров и зрителей, — Театр-Лаборатория обоснуется на долгих семнадцать лет.
21 Вместе с актерами Гротовский убежден, что для них началась «новая фаза» существования. Жизнь подтвердила эти надежды.
Здесь, по-прежнему в лабораторной тиши и несуетности, будут созданы четвертая версия «Акрополя», «Стойкий принц» и «Apocalypsis cum figuris»5* — все с теми же семью-девятью актерами. Но сюда же спустя семь лет будут стекаться со всего мира тысячи молодых театральных пилигримов в надежде участвовать в открытых программах и специальных проектах Гротовского.
Театр-Лаборатория несколько раз сменит свое название (в 1965-м — на «Институт исследования актерского метода», в 1970-м — на «Институт Актера», в 1975 году — на «Институт-Лабораторию» и сразу же — на «Университет исканий Театра Наций») и все равно на долгие годы останется все тем же единственным делом жизни: лабораторией. Рабочей Мастерской.
В 1966 году состоялись первые зарубежные гастроли театра Гротовского в Европе (Швеция, Дания, Голландия, Бельгия) со спектаклями «Акрополь» и «Стойкий принц» и выступления на X фестивале Театра Наций в Париже. В Англии — практические занятия с актерами Шекспировского Королевского театра. «Гротовский — уникален», — напишет после этого Питер Брук и посвятит ему в своей книге «Пустое пространство» главу «Священный театр». В сезон 1967/68 года — гастроли в Югославии и снова в Бельгии; большие выступления проходят на «Фестивале двух миров» в Италии, в Сполетто; следующий сезон — в Иране и Ливане. Молва о «вроцлавском чуде», о необычайных актерах и спектаклях из Польши ширится: чтобы их увидеть, съезжаются во время европейских гастролей актеры, режиссеры, театральные критики из США, Японии, стран Латинской Америки. В дни выступлений со спектаклем «Стойкий принц» в Париже во время сезона Театра Наций, в Одеоне среди приветствующих Гротовского — министр культуры Франции Андре Мальро, писатели Луи Арагон и Эжен Ионеско, поэт лауреат Нобелевской премии Сен-Жон Перс, деятели театра и кино Питер Брук, Жан-Луи Барро, Жан-Люк Годар. В откликах прессы значение Гротовского сравнивается со значением Бертольта Брехта и Жана Вилара.
Рубеж своего тридцатитрехлетия молодой режиссер из восточноевропейской страны, известный до тех пор лишь небольшому 22 кругу людей и вдобавок работающий не в столице, а в провинции, встречает, вместе с актерами, на подъеме славы.
В 1968 году в Дании, в Хольстебро, выходит на английском языке первое издание книги «К Бедному Театру» (переведенная на многие языки, книга вскоре становится известна во всем мире).
В 1969 году состоялись еще одни триумфальные гастроли Театра-Лаборатории: в Англии со спектаклями «Акрополь», «Стойкий принц» и «Апокалипсис» и вслед за этим в Соединенных Штатах Америки. В Нью-Йорке, где спектакли проходили в специально отведенной для этого методистской церкви, на Вашингтон-сквер, здание подверглось в полном смысле слова штурму тех, кто не смог в него попасть. 30 ноября 1969 года авторитетный американский критик Эрик Бентли выступил в печати с «Открытым письмом Гротовскому», в котором писал, что для тех «счастливых», кто спектакли все же увидел, они стали небывалым, «шоковым потрясением» и что «со времен отца Реформации Мартина Лютера двери собора не знали такой осады».
«Открытое письмо Гротовскому» Эрика Бентли осталось важным документом — свидетельством опытного и нелицеприятного критика. Бентли начал свое «Открытое письмо» с перечисления «грехов» руководителя Театра-Лаборатории, возмущавших многих американских театральных и не только театральных авгуров и не раз вызывавших двойственное отношение, а порой и неприятие работы и личности Гротовского: «чрезмерной, граничащей с высокомерием требовательности», «неуступчивости», «фанатизма». Но далее Бентли признается: «Только после третьего спектакля я начал приходить в себя после испытанного потрясения. Во время спектакля (а это был “Апокалипсис”) я внезапно испытал некое непостижимое чувство: я говорю об этом так интимно, так лично, потому что оно было глубоко интимным, личным переживанием. Примерно в середине представления я испытал совершенно особенное озарение. Внезапно, как говорится, ниоткуда пришла ко мне некая мысль, позволившая мне лучше понять самого себя и свою личную жизнь. Она, эта мысль, должна остаться тайной, чтобы не утратить своей ценности, но сам факт, что она пришла ко мне, имеет, я так считаю, более широкое значение. Кроме того, я должен, я просто обязан добавить: не припомню, чтобы нечто подобное когда-либо происходило со мной в театре»30.
Слава спектаклей Гротовского росла и становилась сенсационной. Театру-Лаборатории незамедлительно последовали два, типичных с точки зрения американской психологии успеха, предложения: 23 выступления на огромном стадионе и трансляции по телевидению. Читателей книги, вероятно, менее, чем американских продюсеров, удивит то обстоятельство, что от обоих выгодных предложений театр отказался.
Подводя в конце 1969 года итоги уходящего десятилетия, популярный американский еженедельник «Тайм» на первое место среди театральных событий ставит спектакли Гротовского. В том же, 1969 году Ришард Чесляк, признанный «самым выдающимся творцом в актерском искусстве», получает также и американскую премию «Актера высшей надежды»; коллектив Театра-Лаборатории награжден премией нью-йоркского Театрального союза «Drama Desk»; награды и премии множатся.
И даже спустя год критик Энтони Боумен напишет, что «со времен первого приезда в США в 1923 году театра Станиславского, московского Художественного театра, ни одна зарубежная театральная труппа и ни один режиссер не произвели у нас такого мощного впечатления»31.
Некоторые европейские и в особенности американские группы «открытого» или «альтернативного» театра воспринимают наиболее разительно-необычные приметы «стиля» Гротовского в качестве исполнительских приемов. (Впрочем, американский режиссер Джозеф Папп заметил: «Я видел подражателей Гротовского, они почти смешны. Они выглядят детишками в сравнении с Гротовским; они дети, а он — взрослый. Гротовский несет зрителям понимание, что театр — это не просто серия представлений, коими надлежит забавляться или коими можно, напротив, пренебрегать, но что они, спектакли, могут иметь для людей ни с чем не соизмеримую весомость»32.)
Следует иметь в виду, что американский «театр протеста» тех лет был занят преимущественно задачами социального и даже политического обличения, чего Гротовский никогда не делал.
Но на подъеме разрастающейся славы Театра-Лаборатории его создатели рассказали о таком повороте своих интересов и таких предпочтениях, которые в конце 1960-х годов, времени особого увлечения авангардными идеями, могли удивить. «После авангарда» — так называлось выступление сотрудника Гротовского Люд-вика Фляшена в 1967 году на Международном Конгрессе молодых писателей в Париже.
Оно было коротким, и все в нем говорилось от множественного лица. Звучало общее мнение всех строителей Театра-Лаборатории: «В нынешнюю эпоху умножения авангардных форм мы, если хотите — арьергард, мы остаемся на стороне глубинного 24 прошлого, остаемся искателями корней театра в минувших эпохах. Мы совсем не современные, напротив, мы целиком — в давних традициях, в давних преданиях: случается, что самыми поразительными оказываются вещи, которые уже были»33.
В конце 1968 года в своем парижском выступлении «Театр и ритуал» Гротовский эту мысль, высказанную друзьями, подтвердил и развил.
Создалась парадоксальная ситуация: тот, кого в мире искусства поспешили окрестить «папой римским театрального авангарда», выражал сомнение в творческой продуктивности исканий, связанных лишь с так называемым авангардным саморазвитием форм, и приоткрыл свою приверженность изучению старых, даже прастарых и природных, органичных потенций в творчестве человека-актера.
Начало 70-х годов стало для Гротовского, по всей вероятности, рубежным. Но не в смысле переломности, а в смысле переходности: прежнее уходило, с новым еще только предстояло встретиться6*.
Между этими двумя состояниями пролегла нелегкая полоса сомнений, отказа от умножения уже состоявшихся достижений. В одном из писем того времени он признавался: «С какими-то вещами я теперь не согласен — но это потому, что я уже не согласен с самим собой, прежним»34.
Гротовский знал, что в трех его великих спектаклях, в «Акрополе», «Стойком принце» и «Апокалипсисе», было найдено так долго искомое целостное преображение человека-актера и проявилось то, что и было названо феноменом «лучистого», светоизлучающего, светоносного актера.
Однако создание спектакля «Апокалипсис» стало одним из поворотных событий в жизни Гротовского. Работая над «Апокалипсисом», он опирался на опыт достижений Ришарда Чесляка в «Стойком принце», распространяя этот опыт на всю группу со-творчества, испытывая, могло ли небывалое, уникальное светоизлучение 25 в подобной же степени прорасти и в других актерах. Могло. «Апокалипсис» на новом витке развития воочию показал креативные возможности всей группы, еще раз, и особенно глубоко, затронул зрителей, стал вершиной пятнадцатилетней жизни вроцлавской Лаборатории.
Но после «Апокалипсиса» Гротовский с театром расстался. Он вышел за его пределы в надежде включить в круг со-творчества намного большее число участников — из тех, кого в Театре-Лаборатории называли «людьми, пришедшими извне», «внешними людьми»35.
Шаг был решительным; мог показаться парадоксальным.
Лаборатория уходила из замкнутых стен «театра одной комнаты», а Гротовский уходил, вместе со своими и многими незнакомыми людьми, в неизученные области. «Апокалипсис» еще долго игрался в разных странах и собирал зрителей, жил еще многие годы, вплоть до весны 1980-го: «пока не иссяк» — как сказали бы его создатели. Естественное иссякновение энергии спектакля было неизбежным. Но многолетняя коллективная работа группы не должна была понести потерь. Необычный опыт межчеловеческого общения, накопленный в «Апокалипсисе», на этот раз должен был, по замыслу, претвориться в какие-то иные, заранее не вычисляемые, неизведанные возможности общения множеств людей — в вольных условиях природы, в свободных, в ничем, вопреки городским навыкам, не формализованных связях и отношениях.
Начался новый период жизни.
Обстоятельства общественно-мирового развития середины 70-х годов не могли не порождать тревог по поводу трех крупнейших опасностей современного мира: разрастания различных войн (со все еще актуальной угрозой ядерной войны), экологической катастрофы и — что было не менее грозным, хотя, возможно, и менее «материально» ощутимым — оскудения психоэмоциональной сферы человека.
Театру-Лаборатории никогда не было свойственно ловить «злобу дня», подхватывая идеи, носящиеся в воздухе. Тем не менее его существование, казавшееся таким особенным, таким элитарным, все-таки дышало окружающей жизнью и отражало ее, но отражало не «вслед», а упреждая, чуть-чуть спеша.
В последней четверти XX века Гротовский, к этому времени уже признанный авторитет в такой своеобразной области гуманитарной культуры, как театр, предпринял обширную работу на базе вроцлавского Театра-Лаборатории, которая стала известна под общим названием паратеатра или Театра Соучастия.
26 Ранней весной 1975 года Театр-Лаборатория напечатал и распространил тоненькую брошюрку, проект годичной работы. Проект был международным, в нем значился двуязычный титул: английский Project «The Mountain of Flame» и польский «Гора Пламени».
Документирование творчества Театра-Лаборатории на этот раз, в отличие от предыдущих, приняло не просто открытый характер, но стало широко адресованным манифестом. Театр предпринимал шаги в неизвестное, в непредсказуемое предприятие, и хотел их обосновать. Текст «Горы» был опубликован во Вроцлаве, вскоре — листовкой — облетел Польшу, проник и за рубеж. Гротовский звал к себе многих людей из многих стран.
Его спрашивали — и через прессу, и впрямую — «Кто будет допущен? Кто будет главным?» Он отвечал: «… и нету тут никаких мероприятий, организованных путем разделений. Наш коллектив неделим. Один общий импульс влечет нас: от пройденного — к будущему. И только он, этот импульс, этот порыв, дает тем, кто принадлежит к коллективу Театра-Лаборатории, силу и право поиска вместе со всеми другими людьми — с людьми, пришедшими извне»36.
Программы паратеатра были задуманы в противовес все более возраставшим общим тенденциям глобального развития. Работа выстраивалась в окружении множества новых и новейших (преимущественно технически новых) течений в современной цивилизации, «разгон которой, — как писал Гротовский, — связан с умножением подобий, бытийственных и предметных. В нашем же деле, — продолжал он, — речь идет о направляемом, а скорее даже самоуправляемом организме исканий. Его структура настолько жизнеспособна, насколько содержит в себе приспособляемость к человеческой изменчивости».
Текучесть и незавершенность, мерцающую изменчивость, «мигание и пульсацию живых явлений мы противопоставляем стационарному совершенству того, что механично» — так заключал он коллективную программу паратеатра.
И в самом конце: «Чем же во всем этом выступает наше предприятие? Областью искусства или, скорее, культуры. Публичным фактом, который от обыденности ускользает»37.
И вскоре во Вроцлав, на историческую площадь Старого Рынка, к древней Ратуше, «к Гротовскому» потянулись сотни и сотни людей, в основном молодежь. Они шли и шли, изо дня в день, добираясь каждый по-своему, иногда из очень отдаленных краев, в запыленных сандалиях, дешевых свитерах и футболках, с нехитрым 27 скарбом в рюкзаках за плечами. Для каждого из них в тесном помещении театра или в приволье окрестностей Вроцлава находилось насущное: ломоть хлеба, стакан молока, пара яблок. Большего никто не желал. Они шли вслед за потребностью большей, чем жажда иметь, — за жаждой быть.
Паратеатр проходил в естественном времени и пространстве природного окружения, как бы колеблясь между обыденностью и необыденностью поведения человека, оказавшегося в непривычных для горожанина условиях. (Следует иметь в виду, что этот «исход» молодежи был в основном из стран, перегруженных цивилизацией.)
Эти встречи и действия (Гротовский называл их событиями) не были ни повторением, ни каким-либо вариантом театрализованных действ, издавна знакомых античности, средневековью или даже, в некоторых формах, новым временам. Напротив, театральность в них программно снималась, а порой уходила сама. Но сохранялась внутренняя связь с отношением к театру как жизненному поступку, проявляясь и раньше с особенной интенсивностью в спектаклях Театра-Лаборатории; она корнями уходила в исторически более давнюю национальную духовную традицию.
Идея театра, выходящего за свои пределы, была впервые высказана Адамом Мицкевичем еще в первой половине XIX века в его парижских лекциях о славянских литературах. С того времени можно проследить развитие этой поистине своеобычной разновидности польской ветви мышления о театре. От Мицкевича польская романтическая душа в нескольких поколениях впитала необычное стремление к экспансии театра на близлежащие — смежные, а иногда и весьма удаленные от театрального искусства — «земли»: начиная с грубой и земной, суровой и кровавой жизни-борьбы за национальное освобождение и кончая областью религиозного познания.
Мицкевич истово верил, что Великий Театр будущего, равно открытый и во вселенную природы, и в людскую земную «юдоль», когда-нибудь обязательно возникнет посреди Европы, посреди человечества. Такой театр, где события рождались бы из факта жизни и из слова поэта, ему мечталось приравнять к героическому деянию-поступку. В таком театре человек способен был бы стать лучше.
Свою версию театра, равного жизненному деянию, вынашивал и современник Мицкевича, Юлиуш Словацкий. Она же составляла стержневую идею размышлений о миссии театра поэта и художника Станислава Выспянского, первого польского экспрессиониста, 28 несущего в себе память о романтизме. Одну из ее граней развивал, уже в 30 – 40-е годы XX века, в своих проектах театра будущего, назвав его «Далью», выдающийся польский актер и режиссер Юлиуш Остэрва.
В творчестве Гротовского не раз проступала глубинная связь с польской духовной традицией. Произведения всех упомянутых романтиков составляли ядро его творчества в Бедном Театре в тот период, который он сам называл периодом Театра Спектаклей, а Юлиуша Остэрву, основателя прославленного театра «Редута», Гротовский считал своим предшественником в осуществлении замысла театральной лаборатории.
Паратеатральные искания имели разные формы и осуществлялись в виде интернациональных по составу программ или циклов встреч, рассчитанных на разные сроки (от нескольких дней или недель до нескольких месяцев). Они получали поэтические или, если угодно, кодовые названия: «Ульи», «Гора Пламени», «Древо людей», «Бдения» и «Ночные бдения», «Путь», отражавшие то, что лежит у самых основ метафорического миростроения разных народов и племен без различия в уровне цивилизационного развития, расы, национальности, цвета кожи.
«Гора Пламени» может служить одним из многих примеров по-новому ориентированных поисков Гротовского. Гора — образ, укорененный в воображении человека, в его «коллективном бессознательном». Но Гора — не плод воображения. Она — объективна, как видимый, осязаемый знак тектонического творения, знак географии Земли и ее биографии.
С процессом продвижения к Горе множеств людей, пришедших «извне», Гротовский связывал род особого, инициационного, испытания. «Если в разных местах Земли бьется подобие сердца или пульса, — писал он, — то одним из таких пульсов Земли и могла бы быть Гора. Гора несет в себе отдаление, из которого возвращаешься. <…> На Гору вы идете совсем не так, как на спектакль. Она требует умения распорядиться временем вашей собственной жизни. Ваше вложение в это предприятие не носит “денежного” характера; оно несет в себе усилие и время решившихся»38.
Оценку одной из программ паратеатра (а именно, «Ульев», проводившихся летом 1975 года) дал психолог и психиатр Казимеж Домбровский (создатель Института психической гигиены детей и юношества Польской Академии наук). Свои впечатления от участия в «Ульях» он назвал «Мистерией развития».
«Именно с такой атмосферой и такими людьми я хотел бы сталкиваться непрестанно, — писал он. — Питаясь моими положительными 29 чувствами, они не поглощали моей энергии, а наоборот: освежали ее. <…> Эти люди участвуют в своей драме жизни и — в жизненной драме других людей. Тех, кого я встретил во Вроцлаве, характеризует интенсивная внутренняя жизнь и стремление к обнаружению внутренней жизни в других. <…> Реакции, освобождавшиеся в участниках “Ульев”, я назвал бы мистерией развития. Там проявлялись и действовали необычные силы. Силы воображения, интеллекта, а также и силы анимистические, иррациональные, то есть такие, какие удается ощутить лишь интуитивно. Таким образом, эти два, в принципе разных, типа динамических действий, проявляясь в “Ульях”, представляли всесторонность ситуации развития; и еще — ее подлинность. Я наблюдал силы и рациональные, и импульсивные; и “общественные” по своей природе, и такие, которые от постижения рассудком ускользают. Поэтому я говорю и о подлинности, и о всесторонности»39.
Уход Гротовского за пределы театра вызвал нескрываемое недоумение. Авторитетный писатель Антони Слонимский, который раньше, в пору создания спектаклей, отвергал их, теперь, после организации во Вроцлаве паратеатральных программ, на которые стекались множества людей, снова выразил свое крайнее возмущение «намеренной изоляцией за стеной фанатизма от трудных времен, в которые мы живем»40.
В конце 1975 года в ноябрьском номере популярного варшавского еженедельника «Культура» появилась огромная, на две газетные полосы, статья под крупным заголовком «Анти-Гротовский». Публицист Мацей Карпинский не скрывал ни огорчения, ни резкого недовольства «бегством такого творческого артиста, как Гротовский», из созданного им театра; он отказывался принимать доводы Гротовского, его ссылки на нежелание, на «страх» конфронтации с уже состоявшимися достижениями. «Да если бы все так поступали, — возмущался он, — то вскоре мы имели бы больше пророков, чем творчески работающих режиссеров»41.
Замысел Гротовского о сбережении и развитии достижений «Апокалипсиса», об их распространении — «открытии», «рассеивании — кругами — в мир» — не встречал, да, вероятно, и не мог встретить поддержки в театральной среде. Возникавшие недоумения были вполне логичны: он нарушал законы честолюбивой самоценности артистического успеха.
Для многих критиков и наблюдателей практикуемая утопия Гротовского, складывавшаяся на самом деле из конкретных фактов необычного опыта человеческого общения, осталась очередной 30 причудой в творческой биографии выдающегося режиссера. Именно тогда прозвучали мнения о «бегстве от театра», о «мутных суждениях, лишенных всякого смысла», о том, что «смысл имеет только та художественная философия, из которой вытекают какие-то всеобщие истины, пригодные для применения в любой ситуации»42. Опыты же Гротовского представлялись «мистификацией», так как они были «основаны на единичном, никому не передаваемом опыте», опыте каких-то «невероятных» человеческих состояний и форм общения.
На фоне столь популярных и все умножающихся «школ посвящения» и «учителей жизни» нередко и в отношении Гротовского говорилось о его притязаниях на роль «гуру», о посягновении на волю человека, стремлении «направлять его пути».
Но вот одно из свидетельств участника паратеатральных действий, высказанное спустя восемнадцать лет. Актер Тадеуш Корнас спрашивает: «Что в нас осталось?» — от тех лет, от тех опытов? И отвечает: «… Гротовский никогда не был моим непосредственным учителем, не мог он и направлять мои жизненные пути, так как я не был с ним знаком, в паратеатр пришел впервые, и видел его только однажды в общем зале Театра-Лаборатории. И ни к какому “свету” он меня также не звал и не вел. То, что происходило тогда в зале Театра-Лаборатории, открывало мне, что окружающий мир, по крайней мере хоть на какое-то время, может стать ко мне, человеку, доброжелательным; что и я могу его глубоко ощущать, волнующе впитывать. <…> Это необычайное состояние взаимных отношений складывалось из тысячи дополняющих друг друга мелких элементов — языка напева без слов и — взгляда, движения и — ответного движения, “оглядывания” кого-то и — дозволения на то, чтоб “оглядели” тебя, самых разных перемещений в пространстве — и его охватывания, даже “захвата”. Мы должны были научиться разговаривать телом. Но чтобы научиться разговаривать телом, надо было научиться точности. “Изображение” чего-то, маска — сразу же замечались, от них разило искусственностью.
Паратеатральные действия, а в особенности “Древо людей”, заключали в себе еще один, необычайно существенный элемент: они формировали, лепили, “выстругивали” и обогащали профессиональные умения. Я заметил это намного позже. Во время самих действий никто никого не поучал, вообще — ничему впрямую не учили. И все же… Именно устремленность к точности (тут я вынужден подтвердить мнение Гротовского: все мы и вправду были тогда 31 скопищем “любительщины”) приводила к тому, что средства и методы нашего взаимообщения должны были быть чистыми, выполняться как можно лучше и как можно полнее. И вот спустя какое-то время я заметил огромное расширение резонаторных возможностей голоса и способности добывать его из себя, овладение пластикой движений, точность владения телом»43.
Многие годы Гротовский работал под обстрелом неадекватной критики: его либо отрицали, либо превозносили. Начатые им после расставания с театром «специальные проекты» встречались и с резким неприятием, и с недоуменными вопросами, и с отзывами положительными, а иногда просто восторженными. Но не было никогда у опытов Гротовского критика более строгого и объективного, чем он сам.
Вложив немалые силы в масштабные, пленэрные программы паратеатра, зная их положительные результаты (не только актеры становились профессионально лучше — лучше, человечнее становились и «просто люди, пришедшие отовсюду»), он заметил такие вещи, которые не заметили сами участники.
Гротовский всегда был далек от ни к чему не обязывающей идеализации человека, от слишком большой доверчивости к волне охватывающих всех настроений. Он заметил, что порой в достаточно динамичных и интенсивных «переживательных» действиях, происходящих среди собравшихся множеств людей, что-то важное тонуло в некоем общем «эмоциональном компоте». (Так же, впрочем, как и в действиях «тихих» — в прикосновении рук, в совместном молчании, в улыбке друг другу и тому подобном.) Заметил он и пробуждающиеся в участниках склонности к инфантилизму, иногда — самолюбованию. И записал в своих заметках, что из одних только прикосновений ничего сущностного еще не следует.
К тому же люди — участники его программ — возвращались в свои обыденные, рутинные жизни, и те неумолимо предъявляли им свои обыденные, рутинные права, зачастую стирая ту внеобыденность поведения, что была ими приобретена в паратеатре.
От этой правды нельзя было уклониться.
С 1976 года Гротовский исподволь начал новый этап работ, которому дал название Театр Истоков, официально объявив о нем в 1978 году. Программа (также интернациональная по составу участников) была на этот раз ориентирована не на вольные множества, а на людей, отобранных путем тестирования и предрасположенных к долгой, углубленной и кропотливой работе над собой.
32 В Театре Истоков Гротовский занялся практическим исследованием того, что он называл «исполнительскими техниками» и что в основном сосредоточивалось вокруг двух узловых для того периода моментов: работы над телом, движениями, восприятием обусловленными — ради превращения их в тело, движения, восприятия от-условленные, и разработкой особых форм движения, названных им движение, которое есть покой.
В эссе «Театр Истоков», написанном в 1981 году, но опубликованном в авторизованной версии намного позже, в 1987-м, в Париже, Гротовский признается, что в его биографии и в его работе всегда существовали две линии, две путеводные нити: одна, связанная с публичной стороной деятельности; другая же — исключительно личная, протекавшая скрыто, как бы подспудно. «Я тянул ее в одиночку или вместе с немногими близкими мне людьми, но она никогда не прерывалась»44. Эта работа вне театра, задуманная, так же как и прежние, на несколько лет вперед, не слишком подробно описана.
По программе Театра Истоков он вместе с сотрудниками предпринимает путешествия с ознакомительной целью на Гаити (где наблюдает ритуалы «вуду»), в Индию (в штат Бенгалия для знакомства с традициями баулов), в Нигерию (обычаи племени йоруба), в Мексику. Но не только в дальние и экзотические страны путешествовал он в это время. Вот как пишет об этом свидетель и давний приятель Гротовского: «Был сентябрь 1981 года — такой же прекрасный, как и тот сентябрь, перед той катастрофой7*. Солнечным днем я встретил Грота на Краковском Предместьи в Варшаве. Он превосходно выглядел, — тонкий, легкий, в узком джинсовом костюмчике, казавшемся уже давно его второй кожей. Его занятием в последние месяцы были поездки по Польше: он как бы заново открывал для себя страну, где родился и где прожил уже почти полвека. Сейчас он ездил неустанно в самых разных направлениях, в грязных поездах, в набитых вагонах последнего класса, по каким-то захолустным линиям, главным образом ночью: “Ночью люди — если не спят — становятся мягче, и дышит в них тогда "правда"”. <…> Я смотрел удивленный, впервые открывая в нем чуть ли не преклонение перед народом, вовсе на него не похожее, хотя в то время оно было всеобщим: народ проснулся8*.
33 Он постигал — по-своему, от самых корней, от основ — трясясь раскисшим рассветом в закопченном вагоне — доподлинность той минуты, которой не ожидал, хотя и ждал ее всю жизнь»45.
Полному развитию международной программы Театра Истоков помешали в конце 1981 года политическая ситуация в стране и введение военного положения, вынудившие приостановить некоторые культурные начинания.
Летом 1982 года Гротовский завершает недалеко от Вроцлава, в Островине под Олесницей, последние работы над польской частью Театра Истоков и, поскольку в стране продолжалось военное положение, покидает Польшу. Беженцем, после краткого пребывания в Италии и на Гаити, он приезжает в США, где вначале преподает в Колумбийском университете в Нью-Йорке в качестве «профессора драматического искусства», а с 1983 года как профессор Калифорнийского университета начинает в городке Ирвине осуществлять новую программу под названием Объективная Драма.
Чем была Объективная Драма?
Уже в замысле Театра Истоков было заложено изучение самых разных, в том числе и традиционных, и архаических, и экзотических, техник исполнительства. В практических занятиях с несколькими десятками стажеров разных национальных и этнических культур этот замысел осуществлялся в их детальнейшей проработке — на индивидуальном уровне каждого из участников.
В Объективной Драме Гротовский пошел еще далее, подтверждая тем самым, что он работает не вширь, а вглубь.
В фокусе исследований Гротовского всегда находился индивид. Мы привыкли ассоциировать производное от этого слова понятие «индивидуальность» с чем-то личностно-неповторимым, чем-то «особенным», но individ (лат.) означает также и не-делимый (аналог греческого «а-том»). Индивид — равнозначность внутриположной, возможно, врожденной человеку целостности, в новые времена поколебленной, дробящейся, разделенной, иссыхающей.
Правда, в корнях все еще заложено то, что питает.
Изучение в практических программах Театра Истоков и Объективной Драмы родовых особенностей человека можно, по мнению Тадеуша Бужинского, критика пристального и объективного, хотя и с некоторым риском признать одним из видов практической антропологии. (Добавим, что он заглянул на семь лет вперед: в 1996 году Гротовскому была присуждена премия Международной Ассоциации 34 антропологов.) Но была у этой работы и «своя особенность: Гротовский искал “Чистого Адама” не в археологических раскопках, не в исторических манускриптах и документах цивилизации, и даже не в мифологических, религиозных, литературных преданиях, а в себе и в других, то есть в современных живых людях.
Образно можно сказать, что он искал то, скрытое под разнообразнейшими напластованиями цивилизации, что послужило бы неким аналогом важнейшего исходного, но не конечного первоэлемента человечности — культурным, духовным аналогом биологического генетического кода»46.
В Объективной Драме изучались несколько важнейших объективно-неотъемлемых элементов, издревле присущих ритуально-драматическим исполнительским техникам человека в моменты действий, наивысшим образом поглощающих его эмоции, пронизывающих всю его психофизическую структуру, его органику. (Подробнее принципы этой работы изложены в статье Гротовского «Ты — чей-то сын».)
Большинство социологических концепций исходит из того, что социальное детерминирует «психическое» и способно детерминировать также и физиологическое, иначе говоря, не только наша личность, но и наше тело, будучи орудием наших действий, тоже обусловлено социумом.
Иначе мыслил и работал Гротовский. Он исходил от тела, находящегося в состоянии готовности, тела от-условленного. В Объективной Драме, в обучении специально отобранным ритуально-драматическим техникам, использовались отдельные техники, почерпнутые, заимствованные из разных традиционных культур; они как бы проверялись (практически тестировались) на их способность возбуждать органический процесс. «Возникает вопрос, — пишет польский этнолог и антрополог Лех Коланкевич в статье “Объективная Драма Гротовского”, — что же в таком случае, если в принципе не то, что социально, создает из действия участников внутренне спаянную, целостную конструкцию? Иначе говоря, что делает возможным упомянутый “органический процесс”»47. Гротовский ставит антропологическую гипотезу, сформулированную присущим ему поэтическим образом: это общие всем людям «корни существования», говорит он, это «перводанный источник людских потребностей». Ибо, по его глубокому убеждению, тело всех людей, независимо от их социальности, — идентично.
Объективная Драма в известной степени отличалась от предшествовавшего Театра Истоков, будучи работой намного более 35 ремесленной по своим задачам и по выполнению, то есть укорененной в исследовании всех возможных «секретов», а по сути дела — объективных законов самого (древнейшего и «новейшего») ремесла исполнительства9*.
Она не была возвращением Гротовского в театр. Но она была все же повторным, а может быть и возвратным, но на новом уровне, обращением к работе над структурой действий исполнителя, над их исключительной точностью и дисциплиной.
Опираясь на опыт исследований, проведенных в Театре Истоков и в Объективной Драме, Гротовский приходит к PERFORMER’у — особым образом подготовленному человеку, который был бы способен, сам сущностно меняясь, вести процесс изменений в других людях.
«PERFORMER» — один из самых загадочных текстов Гротовского — увидел свет в 1987 году. Краткий и семантически емкий, он приоткрывает некоторые стороны работы Гротовского с действующим человеком на уровне, названном им естеством. В «PERFORMER’е» Гротовский говорит о своем призвании «строителя мостов», о своем высшем предназначении: учителя PERFORMER’а.
Резонанс, вызванный «PERFORMER’ом», сопоставим разве что с реакцией на появление программного выступления «К Бедному Театру», а может быть, и превосходил ее. В то же самое время и на той же конференции в Италии прозвучало и выступление Питера Брука, которое следует за вступительной статьей данного издания. Голоса двух экспериментаторов современного театра в живом диалоге дополняли друг друга.
Не следовало бы думать, однако, что Гротовский, охарактеризованный Бруком, возможно и справедливо, как властитель не только открыто естествоиспытательских знаний, но и знаний сокрытых, сокровенных, был человеком, склонным к медитативной созерцательности. Один из его последних учеников-стажеров, американец Томас Ричарде, свидетельствует об обратном. Предоставим ему слово. «Когда я впервые увидел Гротовского, непосредственно работающего с актером, я был одновременно и покорен, 36 и потрясен. <…> Мы готовили один из фрагментов для задуманной нами “Акции”, и он пришел ее посмотреть. В какой-то момент он остановил нас и начал практически работать с одним из актеров. Он вторгся, — нет, он ворвался в пространство актера как буря и стал давать ему указания, заставляя его снова и снова повторять свой фрагмент, управляя им и ведя его без малейшего колебания — как управляет и ведет по-своему наездник своего скакуна: актер сразу же перескакивал на другой качественный уровень работы. Сила, с какой Гротовский ворвался в актера, с какой он ставил ему требования и оказывал на него давление, — не в отрицательном смысле, а в смысле просьбы, приводила к тому, что актер тут же глубоко “включался”»48.
Пробуждение сокрытого в человеке неосознанного потенциала становилось текущим сквозь него потоком, и в тот же самый момент этот поток входил в структуру — театрального спектакля или «акции»-Действия — с достигнутой «миллимикронной» точностью — и эти два аспекта встречались между собой, выводя актера на высокий уровень.
В кропотливой и вместе с тем побудительной работе с актером-человеком Гротовский исходил из естественного единства его психофизической конституции, из единства в нем телесного и духовного.
(Вместе с тем он никогда не рассуждал о «душе», а особенно настойчивым вопрошателям на эту тему однажды, в одной из дискуссий, ответил: «Я не могу ваять вас в дыме».)
Поэтому он уделял большое внимание в своих практических исследованиях тому, что называл памятью тела, придя в результате к открытию еще более важному и более сущностному — к такому явлению, как тело-память.
С 1985 года занятия Гротовского со стажерами переносятся в Италию, в небольшой городок Понтедера, недалеко от Флоренции.
Здесь, в еще большем уединении и сосредоточенности, чем в Ирвине (где занятия проводились вдали от шумных больших поселений, в лесном поместье), в своей Мастерской, Гротовский вел изучение элементов ритуальных искусств разного происхождения и их влияния на действующего человека.
Работа Гротовского в Мастерской в Понтедере в последние годы складывалась из трех уровней занятий, названия которых выражают их содержание и цель: Подготовление (Preparation), Действие (Action) и Продвижение, Прохождение (Motion).
37 Подготовление — в высшей степени трудоемкая, «техническая» работа над вычищением, выстругиванием и чеканкой многих деталей всех тех сегментов, из которых потом будут складываться Действия. Эти сегменты, в свою очередь, состоят из архаичных вибрационных песен, принадлежащих к древнему наследию средиземноморской культуры, колыбели нашей цивилизации — Древнего Египта, Древней Греции, Палестины, Ассирии, так же как и текстов того же происхождения. В исходный материал входит также работа над разными формами звука и голосового напева, а также и движений тела: шага, бега, падения, пляса и других действий. Здесь есть сходство с древнегреческой архаичной «тройной хореей» — сочетанием песни, танца, слова. (Но слова здесь крайне мало.) В Подготовлении происходит разогревание, точное выстраивание и со-страивание организмов всех участников.
В Действии каждый участник становится источником потока импульсов, сигналов, посылов энергии, протекающих от одного к другому взаимовозвратно; оставаясь источником этих «потоков», действующий участник сам же их и воспринимает: зритель здесь отсутствует.
Поэтому Действие, хотя и может иметь структуру спектакля ввиду ясно и выразительно обозначенного начала, кульминации и завершения, все же спектаклем не является. Потому что оно не показывает — оно несет. «Архаичные песни — как бы это ухватить поточнее? — материализуются, — пишет очевидец. — Скрытое в них зерно проявляет свою живую силу. Оно развивается. Проступают те самые единственные формы — другие даже трудно себе вообразить, — какие, быть может, и были в ней, в этой “материи”, закодированы далекими предками. Песни кажутся живыми существами, их не столько поют, сколько они поют себя через посредство участников-исполнителей, действующих как завороженные. Но это не транс с отключенным сознанием, не “одержимость”. Это взлет при помощи искусства-носителя». Так свидетельствует видевший. «Мое впечатление записано сразу после просмотра, — признается он. — Может быть, оно субъективно. Может быть, не совсем верно (или даже ошибочно?). Ведь в конце концов я видел внешнее проявление того сокровенного, что для просмотров не предназначено»49.
Созданное таким образом участниками Действий произведение (opus), обладающее строго соблюдаемой конструкцией, основанной на тончайшем ремесле выполнения, перестает быть зрелищем, а становится орудием работы над собой, носителем духовного 38 развития (ведь латинское слово «opus» означает и сотворенное произведение, и орудие).
Если в этом случае прибегнуть к поэтическому языку самого Гротовского, то можно сказать, что искусство действия (если угодно, и театра тоже) становится попыткой строительства Лестницы Иакова, идущей в небо, с постепенным, предельно точным добавлением к ней все следующих и следующих ступеней-уровней. «Это разновидность йоги, своеобразной техники действующего человека, смена энергетического уровня от плотного, биологически сильного, — к уровням более тонким, просветленным. И — спуск к телесности, с сохранением просветленности»50.
Гротовский предпочитает говорить и писать об этом в терминах «технических», даже скорее практических, в категориях обмена процессов энергий, изменения их качества и уровней, избегая теоретических рассуждений и комментариев.
В сумме же, в контексте того, что уже сказано, проступает и проявляется его видение театра (искусства) как проводника, носителя телесных и духовных импульсов, как движителя взлета. Это и есть vehicul (вэикул) Гротовского10*.
Каким был Гротовский? На этот вопрос ответов столько же, сколько людей, его знавших. В субъективности суждений (встречались мнения о «волшебстве» и о «бестелесности», о способности, «растворившись, внезапно исчезнуть») образ становится неуловимым, почти нереальным; приходилось читать, даже в серьезной печати, что он был «гениальным полицейским надсмотрщиком бродячей тюрьмы для волонтеров»51 или же — «представителем высших ариманических сил, посланных на Польшу»52.
Но возможен объективный очерк характера.
Гротовский был человеком, стоически прошедшим свою жизнь. Хотя, даже чисто житейски, она складывалась отнюдь не из непрерывных побед. Случались у него и поражения — в каких-то он признавался, о некоторых умалчивал.
39 Первое поражение настигло Гротовского на пороге ранней юности, фактически в отрочестве, в 14 лет: тяжелое заболевание обмена веществ (осложнение после плохо залеченной скарлатины) сделало его прикованным к постели пациентом больницы, пленником приговора врачей. «Нет, — ответил мальчик, — я не буду лежать, я буду ходить», встал и ушел. (И в будущем, зная, что ему отпущена недолгая жизнь, не терял даром ни единого часа.)
В ранней молодости немалые надежды связывались с общественной активностью: не по годам начитанный и образованный, он успевал в Кракове работать в кружках Союза социалистической молодежи, читать лекции по индийской философии, йоге (и заниматься йогой), а в летних студенческих лагерях, по воспоминаниям сокурсников, был одним из самых видных заводил. Кумиром его ранней юности был Ганди. Недавно обнаружилось еще одно свидетельство: оказывается, в глазах ровесников — современников событий 1955 – 1956 годов — он был «молодой лев польского Октября — после поражения»53.
Но прохождение через поражения — тоже одна из составляющих биографии Гротовского: парадоксальным образом они служили опорой его последующих успехов. Встать из поражения, принять вызов, посланный жизнью, — трудно сказать, было ли это выработанным внутренним «девизом»? Было натурой.
Он был долготерпелив, хотя и крайне требователен с актерами. В работе, что называется, безотказен и незаменим, никогда не подводил. Работал по 16 часов в сутки, а если надо, то и больше; отдыхал когда придется, урывками. Не было случая, чтобы актер, пришедший к нему с недоумениями, с вопросами, с желанием проработки какого-то эпизода, ушел ни с чем: в любое время дня и ночи он без слова вставал и начинал или продолжал с ним работу.
В начале 1964 года Гротовский писал актеру Збигневу Цинкутису, с которым создал «Трагическую историю доктора Фауста»: «Необычайным было то открытие себя, которое я помню со времени наших с Вами, таких добрых, репетиций. Все самое человечное, все, что только ни есть моей кровью, моей кожей и тканью, дыханием, всеми моими пятью чувствами, я заключил — Вы это знаете — в моей профессии, и во время работы я хотел отдать Вам, перелить Вам, как это делается в трансфузии. Не то чтобы мне хотелось подавить в Вас Вашу природу чем-то чуждым, но хотелось пробудить то, что в каждом может быть только своим, собственным, и поэтому так неслыханно трудно для пробуждения.
40 Никогда и ни с кем я не работал с такой болью — если видел, что больно и Вам, с мукой, когда Вы метались, с таким беспредельным желанием Вам помочь; собственно, это было уже обнажением себя вне пределов и сверх всякой меры»54.
Не здесь ли заключен ответ на вопрос: не относился ли Гротовский к актерам инструментально? (Характерно, что некоторые из тех, что ушли от него, считали, что так именно и относился, но те, кто остались, были другого мнения: выбор каждого был абсолютно свободным.) Думается, что прав критик Тадеуш Бужинский, писавший, что «весь этот великий эксперимент — этот путь действенной эмпирики, познания через опыт — Гротовский провел в равной степени и на самом себе»55.
Был внимателен с близкими себе людьми. Осмотрителен с властями (нельзя забывать, что все двадцать три года существования в Польше его детище, Театр-Лаборатория, оставался заложником власти); открыт к диалогу и обсуждению, иногда готов, до определенной степени, на уступки, но если принимал поворотное решение — действовал бесстрашно.
Существует запись одной из дискуссий середины 1970-х годов, в которой Гротовский отвечает на важный для него вопрос о подлинном счастье.
«Гротовский: Кто-то из вас спросил меня: “Трудно ли работать в одиночку, даже если и встретилась такая группа, как ваша?”
Страшный вопрос. Что ж, отвечу, хотя, может, и не впрямую, а косвенно. Отрекаешься от всего. Отбрасываешь все, что в так называемом свете считается нормальным и достойным уважения: положение в обществе, определенный уровень жизни и многое тому подобное. Так, стремясь к тому, чтобы не стать в жизни несчастным, отказываешься принять законы игры — диктат стандартного якобы счастья»56.
Это признание автобиографично. В течение многих лет Гротовский жил вне общепринятых и общемыслимых жизненных благ: пренебрег тем, что сам называл «общепонятной» карьерой, отказался от создания семьи, долгие десятилетия не имел дома. Тесная комната, заваленная книгами, составляла все его достояние и в «молодом» Ополе, и в «зрелом» Вроцлаве, и позже — в американском Ирвине и в итальянской Понтедере. Создатель Бедного Театра и в личной судьбе был себе верен, жил бедно. Может быть, поэтому и его ответ в той давней дискуссии прозвучал как встречный вопрос: «Но можешь ли ты сказать со всей уверенностью, что любой ценой искал себе подобных — ближних своих, искал людей, в которых горит тот же огонь? Если правду сказать, 41 то в той области, о которой ты спрашиваешь, лишь малая горстка людей готова была проверить на себе, возможно ли это или нет, достижимо ли это? Большинство же отступилось от своих же первых усилий через месяц, ну, может быть, через два. И если они, эти люди, сейчас одиноки, то, может быть, потому, что мало искали? И не нашли племени своего?»57
… Весной 1997 года в Париже, в Коллеж де Франс, где когда-то читал лекции Адам Мицкевич, Гротовский начал, на специально открытой для него кафедре театральной антропологии, курс лекций и семинаров, рассчитанных на два года и посвященных исследованию «органической линии» в театре и ритуале. Первая лекция курса состоялась, при огромном стечении публики, в парижском театре «Буфф дю Нор», следующие в Театре Европы — театре Одеон. Они посвящались темам: искусственная линия на сцене: Марсель Марсо, Пекинская опера, Станиславский, Мейерхольд, Вахтангов, Брехт; физические действия во вроцлавском Театре-Лаборатории; органическая линия в театре и ритуале.
Резкое ухудшение здоровья не позволило Гротовскому завершить курс лекций в полном объеме. 14 февраля 1999 года он скончался в Италии, в Понтедере, от расширения сердца. Прах его, согласно завещанию, был рассеян на склонах горы Аруначали в Индии.
В лекции, открывавшей курс, Гротовский сказал: «Я не ученый. Считаю ли я себя артистом? Вероятно, можно сказать и так. Но я бы сказал, что естественная область моей деятельности — быть ремесленником. Ремесленником в сфере человеческого поведения в мета-обыденных обстоятельствах»58.
И все же он сказал не всю правду. Потому что более сорока лет назад, в начале пути, он приоткрыл и свою фантастическую мечту: «Я верю, — написал он в двадцать пять лет, — что современный человек, поставленный наукой и прогрессом перед лицом космоса без рая, без богов и без демонов, все же отыщет, по глубочайшему моему убеждению, строительную россыпь надежды: чувство психической укорененности внутри единства и бессмертия природы»59.
Издание в России книги Ежи Гротовского оказалось непростым делом. И не только в силу некоторых объективных причин. До 1988 года само имя Гротовского, о котором первые ласточки информации стали долетать до нас еще в самом начале 1960-х годов, было в нашей стране с официальной точки зрения, хотя и негласно, нежелательным.
42 «Советско-российские» страницы биографии Гротовского могли бы составить небольшую главу.
Приезду Театра-Лаборатории и показу спектаклей многие годы ставились продуманные заслоны. По мнению распорядителей советской культуры, «идеологически неясный» театр под руководством Гротовского считался — попеременно, а иногда одновременно — «формалистическим», «католическим», «мистическим», «патологическим», «физиологическим» и, наконец, просто «голым» (отзвук ходившей в списках статьи «Оголенный актер»?).
На публикации текстов Гротовского также существовал негласный запрет. Достаточно сказать, что небольшое эссе об Антонене Арто «Он не был целостным и не был самим собой» пролежало в редакциях без надежды на публикацию восемнадцать лет, увидев свет лишь в 1988 году в журнале «Театральная жизнь».
Зная о тех трудностях, с какими столкнулась попытка опубликовать «Театр и ритуал», и о намерении попросить Марию Осиповну Кнебель поддержать эту публикацию своей весомой педагогической репутацией, Гротовский откликнулся письмом, в котором писал:
«Я был бы доволен, если бы Вводное слово написала госпожа Кнебель (знаю и очень ценю ее работы) — прекрасный и заслуженный человек старшего поколения, обладающая, разумеется, иным опытом, — но это и было бы что-то вроде моста, переброшенного между поколениями, что-то, по-человечески волнующее. Да, да, представьте себе, и у меня бывают такие слабости, хотелось бы получить благословение от них, великолепных стариков»60.
М. О. Кнебель свое небольшое вводное слово написала и прислала в редакцию журнала «Театр» летом 1971 года, назвав его «Об опытах Ежи Гротовского». Однако оно ничему не помогло. «Театр и ритуал» прождал публикации еще долгих семнадцать лет и появился в журнале «Театр» только осенью 1988 года.
Мало изменил реальное положение дела с показом спектаклей Театра-Лаборатории и приезд Гротовского на три дня в Москву на симпозиум, посвященный Станиславскому, в ноябре 1976 года, также как и его встреча с видными деятелями советского театра того времени: О. Ефремовым, Г. Товстоноговым, Ю. Любимовым, А. Салынским, П. Марковым. Гастроли Театра-Лаборатории так никогда и не состоялись.
Но стали возможными более непосредственные контакты: в 1978 году режиссер Валерий Фокин принял участие в одной из «открытых программ» Гротовского; в 1990 году осуществилась программа «Славянские пилигримы», и в Италию, в Понтедеру, 43 в Мастерскую Гротовского поехала труппа московского театра «Школа драматического искусства» вместе с его руководителем режиссером Анатолием Васильевым.
В 1992 году вышел в свет в издательстве «ГИТИС» сборник «Театр Гротовского», куда вошли некоторые важные статьи и очерки о нем. Составитель сборника и пропагандист творчества Гротовского театровед Е. М. Ходунова собрала в Москве, в своей скромной квартире, единственную в своем роде коллекцию различных материалов о вроцлавском Театре-Лаборатории и его руководителе, с которыми многие актеры, режиссеры, критики, театральные педагоги, студенты и просто заинтересованные люди могли познакомиться.
Всестороннему же знакомству с сочинениями Гротовского препятствовали (разумеется, в западных странах в меньшей степени, чем в нашей стране) и другие причины. Громкая известность и вместе с тем нежелание давать повод для широкого тиражирования методов своей работы приводили к тому, что Гротовский был необыкновенно требователен в отборе для публикаций принадлежащих ему текстов: в такой, едва ли не единственно доступной ему, форме он принципиально противостоял напору поспешных публикаторов, десятилетиями множившихся в огромном количестве и во многих странах61.
Неоднозначным было и его отношение к так называемым пройденным этапам, а ведь именно из них складывается любое творчество. Гротовский же, оставляя то, что было (а именно так, во времени прошедшем совершенном — «Что было?» — назвал он одно из своих выступлений середины 1970-х годов), от себя, «прежнего», уходил. И не всегда стремился возвращать своего читателя к тому, что составляло, в его понимании, уже пройденное звено пути. Не случайно, видимо, на родине Гротовского, в Польше, до сих пор не увидело света полное издание его текстов, а появился только небольшой сборник. Хотя существует немало книг, написанных о Гротовском и по поводу Гротовского.
Была и еще одна причина, по которой иные тексты, на наш взгляд, достаточно интересные, автор не склонен был предавать широкой огласке. В письме Гротовского, адресованном составителю и переводчику, читатель найдет объяснение и этой причине. Найдет и мотивировку, по которой наш замысел издания на русском языке обширного и, можно сказать, всестороннего собрания его трудов — эссе, статей, бесед и выступлений, касающихся всех периодов деятельности, в том числе и паратеатральных исканий, — был им скорректирован.
44 Гротовский сам отбирал и присылал тексты для задуманного издания, сам предложил его структуру.
И терпеливо ждал свою первую российскую книгу.
«Ежи Гротовский — Натэлле Башинджагян
Понтедера, 9.IX.1991
Уважаемая и дорогая пани Натэлла,
действительно, пришло уже время издать мои важнейшие тексты на русском языке, в предельно точном переводе, практически дословном и без каких-либо сокращений или дополнений. Вы совершенно правы: любые купюры (как, например, произошло в финале текста статьи об Арто) изменяют общий смысл всего текста. Пользуюсь в этом письме случаем, чтобы выразить согласие на публикацию Вашего перевода статьи “Он не был целостным и не был самим собой” в книге о театре Арто, разумеется, в полном, не сокращенном варианте62.
Возвращаюсь к проекту издания сборника моих текстов на русском языке. Для меня важно, чтобы он содержал все тексты, опубликованные в книге “Тексты 1965 – 69 гг.”, Вроцлав, 1990, Издание второе. Если Вы переводили с первого издания, то следует строка за строкой сравнить эти переводы со вторым изданием, которое содержит очень много поправок. Они не осовременивают эти тексты, а лишь возвращают им их первоначальную форму или смысл там, где по разным причинам они были изменены, даже искажены. Словом, только второе издание и во всех деталях является образцовым.
Для того, чтобы выровнять уровни и даже заполнить “пробел”, как Вы называете, между текстами 60-х гг. и “PERFORMER’ом”, надо использовать текст Осинского из вроцлавской книги, а также “Ты — чей-то сын” (именно в переводе с французского языка). Кроме того, следует опубликовать мой обширный новый текст “От театральной труппы к Искусству-проводнику”, который заключает в себе описание всех промежуточных этапов между периодом Бедного Театра и “PERFORMER’ом”. В эту минуту у меня под рукой только испанская версия этого текста, и только ею я и располагаю, но через несколько месяцев будет готов французский перевод, и тогда я смогу его Вам прислать.
Не возражаю против того, чтобы в блоке текстов, заполняющих упомянутый временной “пробел”, Вы опубликовали мой текст “Режиссер как профессиональный зритель”. Других текстов, ни “Странствование за Театром Истоков”, ни “Театр Истоков”, 45 ни “Праздник”, ни “Беседу с А. Бонарским”, не следует печатать. Мне важно, чтобы в этом избранном составе текстов не появился, пусть даже небольшой, акцент на паратеатральный период, да и на Театр Истоков тоже. Почему? Когда Вы прочтете “От театральной труппы к Искусству-проводнику”, Вам это станет понятным. К сожалению, текст этот пока еще не существует в польском переводе, и в настоящий момент я не могу его Вам выслать. Но уже сейчас могу объяснить Вам в нескольких словах, почему мне хотелось бы избежать любого подчеркивания паратеатрального периода или того периода, который связан с Театром Истоков. Дух нынешнего времени требует, чтобы все сосредоточивалось на точности, мастерстве, профессиональной компетенции. Такая шкала приоритетов определяла и мою чисто театральную работу, и, в равной степени, мою теперешнюю работу в области ритуальных искусств или, иначе, “Искусства-проводника”. Книга должна служить профессионалам, и к тому же таким профессионалам, которые работают солидно, серьезно. Описание же паратеатральных исканий и даже Театра Истоков может стать в руках некомпетентных людей источником достаточно опасной любительщины: впрочем, даже в Театре-Лаборатории нам порой не всегда удавалось, с этой точки зрения, избегать некоторых негативных моментов. Все это анализируется в тексте “От театральной труппы к Искусству-проводнику”, который, кстати, кратко объясняет, в чем заключался смысл тех обоих переходных этапов, а значит, не обходит их молчанием.
В числе текстов, восполняющих временной интервал или “пробел”, следует также дать Питера Брука “Гротовский: искусство как проводник”, ксерокопию которого я Вам высылаю. Переводить его надо с того языка, на котором он возник, то есть с французского, и ни в коем случае не следует сличать его (а тем более ставить в зависимость) с польским переводом, опубликованным в варшавском журнале “Театр”, потому что польский перевод на редкость неудачный, ошибочный, а перевод заголовка текста попросту говорит о чем-то прямо противоположном самому тексту (польская переводчица превратила “Искусство как проводник” в “Искусство как средство коммуникации” (!)); разумеется, тут дело заключено не в каком-то “средстве коммуникации”, а совсем наоборот, и следует сохранить слово “vehicul” буквально, дословно. Таким образом, среди текстов не моего авторства следует использовать упомянутого уже Осинского (но тоже по второму вроцлавскому изданию книги, потому что и в нем оказалось немало поправок), 46 Брука и, может быть, хотя я и не очень в этом уверен, оба текста Константия Пузыны. (То есть Приложение должно быть кратким.)
Библиографические примечания к разделам “Голос” и “Упражнения” (те, что есть во вроцлавской книге) следует дополнить, так как они не полны и не учитывают первоначальных версий этих моих текстов, опубликованных на французском языке во Франции. Но этим мы с Вами займемся уже в самом конце.
Я заметил одну ошибку во втором издании вроцлавской книги: на с. 158 в конце первого абзаца между двумя запятыми стоит: “Берег реки”. А должно быть: “Берега реки”.
Огромной проблемой и трудностью будет перевод “PERFORMER’а”. Переводить его нужно с польской версии, опубликованной во вроцлавской книге, и переводить следует буквально. А мне следовало бы текст просмотреть. К сожалению, я уже совершенно забыл русский язык, да и тут у нас, в Понтедере, никто не говорит по-русски. И поскольку и в будущем едва ли кто-либо подобный появится, был бы, по-видимому, необходим Ваш приезд в Понтедеру на два-три дня для того, чтобы нам эту работу проделать вместе.
Что касается вообще всех моих текстов, то мне хотелось бы, чтобы они были переведены максимально дословно, но вместе с тем чтобы сохранялась некая интонация непосредственной, пусть даже “сырой” беседы, собеседования. И вместе с тем без добавок разного рода ненужных эмоциональных всплесков, вроде восклицаний, многоточий и т. п.
Относительно названия книги — оба из предложенных проектов не кажутся мне подходящими. Предлагаю дать название “От Бедного Театра к Искусству-проводнику”. И, пожалуйста, не нужно давать никаких подзаголовков, никакой философской интерпретации посредством подзаголовка. Снабжение книги комментарием также вызывает у меня сомнения. Тексты должны отстаивать себя сами, они сами говорят то, что должны говорить, и всякий комментарий может лишь послужить источником недоразумений. Так что: решительно лучше бы без комментария.
Вводная статья должна быть чисто исторической и уж, во всяком случае, не интерпретацией. Но зато, напротив, хотелось бы, чтобы она содержала описания спектаклей Театра-Лаборатории, ведь Вы их видели. Прошу мне простить, что я пишу обо всем этом так впрямую, но поверьте, правда же, что таковы мои принципы при публикации моих текстов или книг в разных странах, и я никак не могу от этого правила отступить.
47 Я очень обрадовался Вашему письму и тому, что именно Вы взялись за работу над моей книгой в русском переводе. Наше, теперь уже такое давнее и длительное, знакомство я всегда вспоминаю с глубокой сердечностью и искренне радуюсь его возобновлению.
Приветствую Вас со всей теплотой
Ежи Гротовский
P. S. Если бы тем не менее Вам бы хотелось дать в Приложении статьи Константия Пузыны об “Апокалипсисе”, то я предложил бы в таком случае дать также и описание “Акрополя”, сделанное Фляшеном (разумеется, согласовав с ним), — то, которое было опубликовано в варшавском “Театральном дневнике”, а также было включено в книгу “Towards a poor theatre”.
Г.».
Теперь мы можем сказать, что, предлагая читателю книгу Гротовского «От Бедного Театра к Искусству-проводнику», мы старались выполнить волю автора.
48 Питер Брук
Гротовский: искусство как проводник11* 63
Не устаю поражаться: ничто так не радует, как парадокс, а вместе с тем, говоря о Гротовском и его работе, мы тут же оказываемся лицом к лицу с огромным и странным парадоксом. Гротовский, каким я его знаю на протяжении более двадцати лет, — это человек очень простодушный, ведущий исследование углубленное и чистое. Как же получилось, что вот уже долгие годы в результате этой чистой простоты возникают различные сложности и даже своего рода смятение?
Соприкасаясь с его деятельностью, я познал ее достоинства самым непосредственным образом. Работа, предпринятая в Польше этим уникальным человеком вместе с маленькой группой актеров, невероятно быстро — в результате гастролей, поездок и всей системы взаимосвязей и общения, так характерной для XX века, — стала достоянием прессы, книг и журналов, обозрений и интервью. Она проникла в практику небольших театральных трупп всех стран мира. Вот тогда-то и обнаружилось, что подобное стремительное проникновение происходило отнюдь не так, как положено, то есть через квалифицированных людей. Вокруг имени Гротовского начали, подобно снежному кому, лепиться и множиться всяческие «наносы» и «наросты», разрастаясь в самого разного рода недоразумения.
Вспоминаю, как несколько лет назад в парижском аэропорту служил один авиадиспетчер. Возвращаясь домой после своей работы, и так достаточно утомительной, он проводил в пригороде, где жил, «курс Гротовского». Не берусь судить, мог ли этот человек квалифицированно преподать какие-то важные вещи по своей специальности, возможно, и мог. Но, может быть, он был как раз одним из тех, кто, наблюдая однажды за посадкой самолета польской авиакомпании, счел себя с той поры специалистом в польских делах, и тем самым, специалистом, знающим толк в работе Гротовского?
49 В результате многолетних недоразумений возникла определенная неясность, которую необходимо прояснить: каковы связи между работой Гротовского и театром?
Был период, когда все выглядело достаточно просто, так как актеры из Вроцлава играли спектакли, вызывавшие в театральном мире шок, вызывавшие истинное потрясение. Происходило это благодаря прежде всего качеству их работы. Тогда это было подобно сильнейшему источнику света, подобно маяку, осветившему возможности актера и показавшему, что в театре можно выразить подлинную глубину и высочайшую напряженность. Но при условии, если актер дойдет до такого постижения своих возможностей, какого не существует в привычном театре, — при условии, если он достигнет состояния жертвенности. Вот тогда-то очень скоро появилось первое недоразумение. Многие театральные группы в других странах, испытывавшие такое же желание выйти за пределы «прогнившего» театра, последовали путем Гротовского. Последовали, не отдавая себе отчета в том, что если учитель и его ученики не обладают той же степенью жертвенного проникновения и понимания, достигнутых в результате собственного опыта, то вся их работа, какой бы искренней она ни была, вместо того, чтобы поднимать их к вожделенному идеалу, будет, напротив, опускать идеал до их уровня. До того уровня, против которого они восставали.
Вторая фаза работы Гротовского, если взглянуть на нее со стороны, оказалась еще более таинственной и сложной. Потому что Гротовский, хотя и продолжал идти своим путем, по-прежнему простым, логичным и последовательным, стал производить впечатление человека, совершившего на этом пути некий необычайный поворот: он перестал давать публичные представления.
Если взглянуть на работу Гротовского вблизи, то можно заметить, что она продолжала развиваться, становилась все более насыщенной, богатой, необходимой и важной; издалека же она производит впечатление деятельности таинственной, и чем далее, тем все более таинственной. Но всякая серьезная работа должна быть ограждена от вторжений, она не может являться углубленным поиском и в то же время быть открытой для тех, кто теснится вокруг нее с вполне естественным любопытством. По-настоящему напряженную работу таким образом можно только разрушить. Но я думаю, что бывают минуты особого свойства, такие, например, как сегодняшний день, когда надо позволить великому ветру открытия откинуть завесу таинственности. Давайте же ближе вглядимся во все, что нам хотелось бы как можно лучше понять.
50 Сначала — с точки зрения театра. Самым сильным проводником во всех формах театра, существующих в мире, всегда был человек. Этот человек до сих пор не постигнут, он по-прежнему нам неизвестен. Поэтому абсолютно необходимо — необходимо для блага самого же театра, — чтобы хоть где-нибудь существовали условия, в которых исследователь мог бы продолжать изучать этого загадочного незнакомца: человека-актера.
Входя сюда, я приветствовал Гротовского как своего старого друга, напомнившего мне, что он — истинный сын одного из самых великих наших учителей, Гордона Крэга. Одного из самых великих наших учителей, говорю я, потому что немногие оказали столь непосредственное и столь же продолжительное влияние на театральное искусство нашего века, как Гордон Крэг. Это влияние происходило благодаря двум-трем вещам, и хотя замечены, прочитаны или увидены они были совсем немногими людьми, это были вещи поистине необычайные. Само качество исканий Гордона Крэга породило веяние, пронизавшее мир. Ибо мир театра — мир интуитивный, мир, способный чутко улавливать то, что носится в воздухе, и в этом его огромное преимущество. Великие веяния проникают глубоко и распространяются очень широко. Вот почему я могу сказать, что работа Гротовского в последние годы, безусловно, касается мира театра, затрагивает его. И прежде всего потому, что имеет характер лаборатории, то есть места, где ведутся опыты, которые вне лабораторных условий были бы совершенно невозможны. Если наш Международный Центр творчества в Париже сотрудничает с Итальянским Центром Гротовского, то потому, что мы абсолютно убеждены: между его закрытыми от любопытных глаз исследованиями и той пищей, которые они могут дать театру, открытому для публики, должна установиться живая и постоянная связь.
Однако я думаю, что сегодня было бы интересно затронуть еще иной аспект. С того момента, как начинается исследование возможностей человека (хотим мы того или не хотим, страшимся ли осознать, что же представляет собой само это явление, или нет), мы должны прямо взглянуть в лицо факту: такое исследование является исследованием духовным. Я начинаю со слова, обладающего мощной силой, хотя, казалось бы, слова очень простого, и тем не менее оно порождает немалые недоразумения. Я говорю «духовным исследованием», имея в виду то, что, продвигаясь к глубинной сущности человека, мы идем от известного к неизвестному. Я говорю, что по мере того, как работа Гротовского становилась, благодаря его личной эволюции, все более существенной, — 51 внутренние точки, затронутые исследованием, становились все более неуловимыми, все более ускользающими от любых попыток тривиальных определений.
Можно сказать, что в какую-то иную эпоху такая работа была бы подобием естественной эволюции великой духовной традиции. Потому что великие духовные традиции на протяжении всей истории человечества всегда испытывали потребность воплотиться в какие-то конкретные формы. Нет ничего хуже, чем тяга к трансцендентности, жажда потустороннего, выраженные аморфно, принявшие облик неопределенностей и «общих мест». В великой духовной традиции можно встретить, к примеру, монахов, искавших опору своим внутренним духовным метаниям в гончарном ремесле; или же людей, которые открывали для себя в качестве проводника — музыку. Мне кажется, что сегодня мы стоим перед лицом вещей когда-то уже существовавших, но оказавшихся с течением многих веков забытыми. Между тем, среди тех средств-проводников, что позволяют человеку достичь иного уровня и служить своему предназначению во вселенной более справедливо, есть и такое средство, как драматическое искусство во всех его формах.
Но от чего это зависит? От одного-единственного условия: личность должна быть одарена способностями к этой форме. Ведь очевидно: если человек, отправившийся на поиски Бога, пришел в монастырь, где вся деятельность сосредоточена вокруг музыки, а у него к музыке душа не лежит, ему попросту «медведь на ухо наступил», то, вероятнее всего, он ошибся адресом. И напротив, есть в мире немало людей, привлеченных «игровой» формой деятельности, естественной для тех, кто по натуре склонен к игре. Мы очень хорошо знаем из опыта прослушиваний молодежи, поступающей в театральные студии, что человечество делится на две части: на тех, кто хочет играть, но не имеет таланта, и на тех, кто этим талантом одарен. Так вот, те, кто одарен талантом, не имеют ни малейшего представления, что это значит, они не умеют этого объяснить даже самим себе; они попросту знают, что у них есть какие-то способности, склонности, какое-то тяготение. Обладая этой склонностью, этим тяготением, человек, стремящийся в жизни стать актером, может совершенно естественно чувствовать, что его долг — играть на сцене. Но он может чувствовать и нечто другое, чувствовать, что весь его дар, вся его страсть — это лишь путь, открывшийся к иному пониманию, иному призванию. Может чувствовать, что найти этот путь, достигнуть этого понимания он сумеет только в процессе индивидуальной работы 52 с учителем, как это происходило во всех потаенных, передававшихся непосредственно эзотерических традициях.
По этим причинам я и хотел бы попросить моего друга, нашего друга, Ежи Гротовского прояснить нам, каким образом и до какой степени его работа в области драматического искусства приобрела для тех людей, кто работает вместе с ним, особую форму. Эту форму нельзя отделить от необходимой эволюции личности. Хотелось бы, чтобы он бросил луч света именно на эту проблему. Что касается меня, то я убежден, что его активная деятельность в той области, которую можно назвать «искусство как проводник», не только обладает высокой ценностью для сегодняшнего мира; дело в том, что вряд ли кто-то другой мог бы подражать ему или делать что-либо за него.
Поэтому я и пришел к одному простому выводу: никому не следует говорить за него12*.
53 ОТ БЕДНОГО ТЕАТРА
К
ИСКУССТВУ-ПРОВОДНИКУ
55 К БЕДНОМУ ТЕАТРУ64
1
«Каковы истоки ваших экспериментальных работ в театре?» Мне часто с недоумением задают такие вопросы, и, должен признаться, они вызывают во мне ответное недоумение. Под экспериментальными спектаклями подразумеваются обычно какие-то театральные зрелища, пытающиеся каждый раз все начать как бы с самого начала — испробовать что-то «новое». Чаще всего это «новое» сводится к модной драме, к сценографии, использующей столь же модные течения дня (ташизм, фактурность и тому подобное), к музыке, считающейся современной (к примеру, электронной или конкретной). В то же время актеры существуют во всем этом разнообразии как бы сами по себе, опираясь на свои собственные штампы, обогащенные некоторыми стереотипами клоунады или кабаре. Знаю все эти приемы, сам ими пользовался.
Наша работа движется в ином направлении. Во-первых, мы стремимся освободиться от эклектизма, от понимания театра как мешанины разных искусств; мы хотим точнее определить, что же именно составляет особую, неповторимую природу театра, ту его неповторимость, которую нельзя продублировать в других видах зрелищных искусств и чему подражать невозможно.
Во-вторых, комплекс наших работ сосредоточен вокруг того, что мы считаем сутью театра как искусства, то есть вокруг взаимоотношений зритель — актер, вокруг духовной и «композиционной» техники актера; эти работы носят характер длительных исследований.
Говорить о конкретных истоках подобного типа деятельности не так просто, легче было бы говорить о традициях. Я вырос на Станиславском, и ему я обязан своим интересом к проблемам методики воспитания актера. Как личность, Станиславский в какой-то степени является для меня образцом в своем упорстве исследователя, в систематическом обновлении самого способа видения проблем, в неустанной полемике с самим собой — самим собой вчерашнего дня, прошедшего периода. Именно Станиславский поставил принципиальные вопросы в области методики. 56 Но наши ответы на эти вопросы далеки от Станиславского, а во многих случаях противоположны.
По мере возможности я знакомился с разными направлениями воспитания актера в Европе и за ее пределами. Особенно заслуживают внимания упражнения Дюллена по ритму; полезными оказались исследования, проведенные Дельсартом, вовне и внутрь направленных реакций человеческого поведения; «физические действия» Станиславского; биомеханика Мейерхольда, а также попытки соединить подобный тип внешней экспрессии со школой Станиславского, предпринятые Вахтанговым. Интересовался я и методами подготовки актера в восточном театре, например, в Пекинской опере, в индийском театре Катхакали и в японском театре Но.
Можно было бы и дальше множить театральные системы и театральные имена. Но метод, разрабатываемый нами, не является смешением различных приемов, заимствованных отовсюду, хотя порой мы и пользуемся элементами чужих систем, всегда, впрочем, перерабатывая их и приспосабливая к нашим нуждам. Сущность нашего метода заключается в том, что мы не пытаемся учить актера тем или иным определенным сценическим навыкам; наш метод не способствует выработке так называемого арсенала средств. Путь дедуктивный, суммирующий навыки и приемы мастерства, — не наш путь. У нас все сконцентрировано на духовном процессе актера, процессе, характеризующемся предельной степенью, полнотой его «обнажения», раскрытия им своей интимной сути. Однако же это происходит не на основе эготизма, наслаждения собственными переживаниями (эмоциями), а, напротив — как бы в акте самоотдачи. Это техника «транса», техника интеграции всех духовных и физических сил, владеющих человеком и поднимающихся в актере из области инстинктивно-интимной — к «просветлению».
Метод воспитания актера в этом театре направлен не на обучение чему-то, а на снятие тех препятствий, которые в духовном процессе актера может воздвигнуть перед ним его собственный организм. Организм актера должен избавиться от всего, что блокирует его внутренний процесс, причем таким образом, чтобы не возникало, собственно, никакой разницы во времени между внутренним импульсом и ответной, внешней реакцией, чтобы импульс сам по себе был одновременно реакцией, — словом, чтобы тело актера подвергалось как бы уничтожению, сгоранию и чтобы зритель оказывался лицом к лицу только с видимым потоком духовных импульсов. В этом смысле мы идем путем, который 57 уместно назвать via negativa13*: не накапливание приемов и умений, а снятие препятствий.
Правда, можно было бы сказать, что сам духовный процесс актера в рамках этого метода уже является неким умением, но это было бы неточно. Ибо научить этому процессу нельзя. Годы работы со специально скомпонованными «наводящими» упражнениями (которые только частично связаны с пластическим и голосовым тренингом, а по сути своей пробуют привести актера к необходимому типу концентрации) иногда позволяют актеру открыть в себе самое начало, завязь процесса, и тогда под соответствующей опекой становится возможным дальнейшее развитие того, что в нем пробудилось. Процесс, о котором я говорю, хотя он и связан с концентрацией, доверием, открытием себя, чуть ли не с растворением в мастерстве, не является волевым процессом. Он связан с состоянием пассивности (пассивная готовность к воплощению активной партитуры), с такой психической позицией, в которой решающим выступает не актерское «хочу это сделать», а скорее как бы «отказ от не-делания».
Большинство актеров в этом театре находятся сейчас в стадии уточнения и постижения возможности такого процесса. Их ежедневная работа сосредоточена не на духовной технике, а на композиции роли, на конструировании формы, партитуры знаков — словом, на том, что мы сами охотно называем «искусственностью». Потому что внутренняя техника актера и «искусственность» (артикуляция роли в знаках) не обязательно взаимно противоположны. Вопреки господствующему мнению, мы считаем, что духовный процесс, которому не сопутствуют формальная артикуляция, дисциплина, структурирование роли, расплывается в бесформенности. И наоборот, процесс композиции роли как определенной системы знаков, выходящих за пределы обыденной естественности (которая скорее скрывает правду) и демонстрирующих то, что скрыто за этими реакциями (то есть разоблачает общепринятое видение и выявляет скрытые антиномии, заложенные в человеческих реакциях), приводит к духовному процессу, а не ограничивает его.
В момент психического шока, вызванного опасностью для жизни, страхом или необузданной радостью, человек ведет себя не «естественно», а «по-другому», как будто бы даже — в глазах объективного наблюдателя — «искусственно». В состоянии самозабвения, восторга, вдохновения, в состоянии духовного максимума 58 человек начинает творить знаки — плясать, петь, ритмически что-то выкрикивать; знак, а не обыденная, общепринятая естественность является присущей нам элементарной выразительностью. И наконец, между внутренним процессом и формой возникает отношение взаимного напряжения, которое усиливает оба упомянутых фактора: форма становится подобна узде, а духовный процесс — зверю, попавшему в узду формы, бьющемуся в этих путах, из которых он вырывается, чтобы броситься в спонтанные реакции.
Также и в области формальной техники мы не стремимся собирать и накапливать знаки (как делают в восточном театре, где одни и те же знаки, как правило, повторяются), а хотим вывести знаки в чистом виде из естественных человеческих импульсов путем своего рода дистилляции, отсеивания, очищения от всего, что является наслоением обыденного поведения на чистом импульсе, «наростом» на нем. Даже касаясь противоречий (между жестом и голосом, голосом и словом, словом и мыслью, волей и неосознанным порывом), мы стремимся очистить, дистиллировать — почти искусственно — их скрытый костяк; а значит, и тут есть via negativa, хотя и на более низком уровне.
2
Нам самим нелегко отличить то, что является в некотором роде структурой нашего воображения, от сознательно постулированной программы. Довольно часто, например, мне задают вопрос, проистекают ли некоторые элементы наших спектаклей, вызывающие ассоциации со средневековым театром, из сознательного обращения к «корням», к ритуальному театру и тому подобное. На это нет однозначного ответа. Действительно, на том уровне сознания, на каком я нахожусь в настоящий момент, овладевая ремеслом нашего дела, проблема мифа, «корней» элементарных человеческих состояний и ситуаций имеет для меня значение вполне уловимое. Только вытекает она не из какой-то выработанной мною философии искусства, а из практики, то есть из того, что мы позволили проявить себя, позволили «подать голос» законам ремесла, законам по-своему объективным. В этом смысле я согласился бы с Сартром, заметившим, что «каждая техника ведет к метафизике».
Не так-то легко было это понять, и несколько лет ушло на метания между искусом практики и искушениями априорно понимаемых постулатов. Одним из первых, если не первым, обратил 59 мое внимание на это обстоятельство критик Людвик Фляшен, друг и что-то вроде личного, невероятно строгого рецензента, заметив — в достаточно, кстати, саркастической форме — такую особенность: то, что у меня в спектакле рождается спонтанно, из внутренней структуры ремесла, открывает новые зоны видения; напротив, то, что я выдвигаю как тезис, обнаруживает, что не интеллект, а какие-то другие стороны личности выступают тут более плодотворным фактором. Впоследствии, наблюдая за собственными спектаклями, я заметил, что лишь из уже состоявшегося спектакля, а не из какой-то априорно осознанной тезы рождается подлинное осознание. Но в первую очередь я связываю это с тем, что начиная с 1960 – 61 года я сосредоточился на методике, а это и привело к тому, что формула Сартра может быть здесь применима.
Итак, попытка посредством практики найти ответ на вопрос, занимавший меня чуть ли не с самого начала: что такое театр? в чем его отличие и особенность? в чем не могут его ни повторить, ни скопировать, ни заменить ни фильм, ни телевидение? — привела меня к кристаллизации двух конкретных понятий. Во-первых — Бедного Театра, во-вторых — спектакля как акта трансгрессии. Не хотелось бы излагать вкратце важные подробности этих двух аспектов нашего видения театра. Во всяком случае, мы шли опытным путем; постепенно исключая из театрального зрелища все, что можно было из него исключить, мы в наших опытах и исследованиях пришли к выводу: театр может существовать без грима, без автономного костюма, без декораций, без электроосвещения, без выделенной сцены, без музыкального сопровождения и тому подобных вещей. Но он не может существовать, если нет взаимоотношения актер — зритель, если нет их вполне уловимого, непосредственного, «живого» общения.
Теоретически — проблема старая. Но при исследовании на практике из нее вытекают важные последствия. Можно поставить знак вопроса над этой старой проблемой: является ли театр синтезом различных творческих дисциплин — литературы, пластических искусств, живописи, архитектуры, игры световых эффектов и актерского искусства (под дирижерской палочкой постановщика)? Теория театра как синтеза искусств ведет, правда, к утверждению — во всех его слабостях — господствующего ныне театра, который мы охотно назвали бы театром Богатым.
Что такое Богатый Театр? Художественная разновидность клептомании, ибо он паразитирует на поступательном развитии и на творческих элементах разных, но равно чуждых ему дисциплин, 60 выстраивает свои гибридные зрелища на смешении форм, лишенном монолитного корня, а значит, не интегральном. Такой театр утрачивает свою индивидуальность, «личность». Все более умножая присвоенные себе элементы разных искусств, Богатый Театр пытается выйти из того состояния растерянности, куда его загнала конкуренция с кино и телевидением. Поскольку кино и телевидение превзошли театр в области механической оперативности (монтаж, смена мест действия, композиция кадра и т. п.), в недрах Богатого Театра по принципу почти фрейдовской компенсации появилась потребность «тотального театра», доводящего как бы до абсолюта соединение в сценическом воплощении возможностей различных творческих дисциплин. Не останавливаясь перед введением в театральное зрелище киноэкранов, широко разрабатывая механику сцены и зрительного зала, стремятся достичь подвижности, динамики и переноса зон игры; пытаются даже, приводя в движение пол зрительного зала и планшет сцены, менять перспективу взгляда на происходящее. Все это фальшиво.
Театр, сколь бы обильно и изобретательно он ни перестраивал свои технические «тылы», все равно в этой области будет беднее кино и телевидения. А поэтому мы утверждаем принятие театром статуса бедности. В нашей практике мы отказались даже от сцены и зрительного зала, достаточным оказалось пустое помещение, в котором заново для каждого спектакля распределяются места для актеров и зрителей. И тогда становятся возможными отношения разного типа. Актеры могут действовать в разных местах, разбросанных между зрителями, подобно их эманации, как бы становясь корифеями среди собравшейся публики. Таким образом они непосредственно контактируют со зрителями, своими действиями навязывают им ситуацию в драме: пассивную роль в действии.
Но зрителей можно в равной степени и отдалить от актеров, поместить их, к примеру, как бы за высокой оградой, из-за которой будут видны только их головы. Оттуда, сверху, как бы в специально искривленной перспективе они будут следить за актерами, как за животными в зоопарке, когда тех выпускают на свободу. Зрители могут уподобляться наблюдателям корриды, ассистентам на операции или попросту любителям подсматривать, которые a priori осуждают происходящее на их глазах за моральное разложение. Актеры могут в равной степени действовать между зрителями, не замечая их, смотря сквозь них, как сквозь стекло. Они могут воздвигать среди зрителей какие-то конструкции и встраивать их тем самым уже не в действие, а как бы в архитектуру 61 действия, придавая им, зрителям, визуальный смысл. Или же подвергать их давлению пространства, сгущению его, ограничению. Можно, наконец, всему залу придать значение абсолютно конкретного места: в нашем спектакле «Фауст» Марло вечеря происходила в монастырской трапезной, где Фауст принимал гостей за огромными столами, на которых, совсем как на барочном пиру, он угощал их эпизодами своей жизни — актеры разыгрывали их на поверхности столешниц между зрителями.
Количество таких возможностей не ограничено. В театре небольших размеров обустройство всего зала по-особому для каждого спектакля представляется самым простым подходом (кстати, и не дороже обычной сценографии). Но предположим, что суть спектакля не требует разрушения границы между сценой и зрительным залом. Мы создали с этой точки зрения своего рода чистое, лабораторное пространство, удобную для исследований территорию. В сущности, речь идет о том, чтобы для каждого типа спектакля находить соответствующие ему отношения актер — зритель и на этом основании делать из них выводы о пространственной организации представления.
Мы отказались от подвижной игры электроосвещения, и это неожиданно открыло нам целую область возможностей использования актером света, исходящего из неподвижной точки; отсюда пришло сознательное использование актером тени и освещенных точек. Эксперименты со светом привели нас к мысли, что и зритель, освещенный из какого-то источника, то есть ставший видимым, тоже превращается в часть спектакля и начинает функционировать в нем уже как его составляющая. Но оказалось также, что актер посредством духовной техники способен светиться, подобно фигурам в картинах Эль Греко, способен «сиять», становясь источником света в спектакле, «света психического».
Мы отказались от грима, наклеенных носов, подвязанных животов и других средств внешней характерности — словом, от всего, что актер готовит в своей артистической уборной перед выходом к публике. И тогда оказалось, что чарующей, обладающей театральной магией является способность актера переливаться из типа в тип, из характера в характер, из одного облика в другой «бедно», то есть единственно с помощью своего ремесла. Представьте себе, что лепка актером маски лица с помощью лишь собственных мышц и внутренних импульсов вызывает в зрителе чувство какого-то необычайного театрального «переноса» субстанции, в то время как маска, сработанная скульптором и гримером — лишь разновидность трюка.
62 Оказалось, что костюм, у которого отобрали автономную ценность, который якобы не может существовать вне актера и его действий, на самом деле может трансформироваться на глазах зрителей, создавать контраст с действиями актера и тому подобное. Изгнание из театра декоративных элементов, которые «высказываются», по-своему «говорят» в спектакле (хотя «говорить» с нами должно само действие, то есть актер как его живой узел), открыло возможность создания актером из самых элементарных и очевидных предметов, лежащих в радиусе досягаемости его действий, что называется — на расстоянии протянутой руки, новых предметов, ибо актерское действие позволяет преобразить пол в морскую волну, стол — в исповедальню, кусок ржавого железа — чуть ли не в живого партнера.
Оказалось, что устранение из спектакля механической музыки, равно как и музыки, звучащей в исполнении автономного по отношению к актерам оркестра, как раз и позволяет зрелищу стать музыкальным, потому что позволяет сотворить музыку в пределах самого театрального действия, а именно — в композиции человеческих голосов, звуковых эффектов от удара предмета о предмет, ботинка об пол и т. п. Мы поняли, что текст сам по себе не принадлежит сфере театра и что он входит в нее только в связи с тем, что с ним сделает актер, то есть как интонация, как звуковая ассоциация, как речь, ставшая музыкой.
Принятие бедности театра, обнажение его от всего, что театром не является, сосредоточение на том, что есть его завязь, его корень, открыло нам иные богатства, которые лежат уже в самой его сути, а значит — в сфере ремесла.
А теперь о спектакле как акте трансгрессии. Для чего мы занимаемся искусством? Для того, чтобы преодолеть в себе барьеры, чтобы выйти за пределы своих собственных ограничений, чтобы восполнить то, что в нас является нашей же собственной пустотой, калечащим нас недостатком, для того, чтобы самоосуществиться или же, как я предпочел бы это назвать, прийти к «исполнению себя». Это не состояние, не самоощущение или форма — это процесс, это трудное движение, в котором то, что является в нас темным, подвергается просветлению.
В этом единоборстве с правдой о самом себе, с преодолением, со срыванием с себя житейской маски театр в своей осязаемости, телесности, почти физиологичности давно стал для меня местом провокации, вызовом, брошенным самому себе, а тем самым и зрителю (или же зрителю, а тем самым самому себе), нарушением общепринятых стереотипов воззрений, ощущений, 63 осуждений, и к тому же нарушением тем более вызывающим, что моделируется оно в человеческом организме — в теле, в дыхании, во внутренних импульсах. Это проблема нарушения табу, трансгрессии, которая делает для нас возможной через шок, срыв маски, в полнейшем раскрытии, в «наготе» отдачу себя чему-то, что очень трудно поддается определению, но в чем заключены и Eros, и Charitas14*.
Я чувствовал искушение в ситуации табу (в области религии, национальной традиции и тому подобного) оперировать элементарными, архаичными положениями, использовать ситуации, освященные традицией. Я чувствовал потребность как бы померяться силами со всеми теми ценностями, что в них содержались. Хотя я и был во власти их очарования и, более того, внутренне трепетал перед ними, все же искушение кощунства было во мне сильнее. Нарушение их неприкосновенности, их преодоление, а может быть, точнее, конфронтация с ними — вот что влекло меня. Но конфронтация, совершаемая с позиции личности, впитавшей не только опыт, но и предрассудки своей эпохи. Одни критики называли эту особенность наших спектаклей «сопоставлением с корнями», другие — «диалектикой апофеоза и осмеяния». Бывало, что ее определяли как «религию, выражающую себя через кощунство», или же как «любовь, выражающую себя через ненависть».
Наступил момент, когда сама практика и наблюдения над тем, что я к тому времени уже сделал, перешли из как бы бессознательного в сознательное, то есть из практики в метод. И вот тогда мне и пришлось по-новому приглядеться к истории театра, также как и к некоторым другим областям человеческих знаний: к антропологии культуры, к психологии — и произвести своего рода мысленный обзор возникавших вопросов. В тот момент я уже с полной ясностью осознал, что вплотную столкнулся с проблемой мифа. Мифа как простой человеческой ситуации, с одной стороны, а с другой — как явления соборного; с моделью, которая уже независимо живет в коллективной психике и неосознанным для нас образом направляет коллективное поведение и реакции.
В тот период, когда театр не перестал еще быть частью религиозной жизни, но был уже театром, он высвобождал духовную энергию зрителя путем воплощения мифа и его же праздничного профанирования, преодоления. В результате такой операции зритель заново и по-новому обнаруживал свою личную правду в правде мифа и через момент пережитого ужаса приходил к катарсису. 64 Не случайно в Средние века родилось понятие «parodia sacra»15*.
Однако сегодняшняя ситуация — совсем иная. Коллективная общность не определяется религией, традиционные формы мифа находятся в состоянии великого «перемола», исчезновения и новых инкарнаций. Что же касается зрительного зала, то он в своем сознательном и бессознательном отношении к мифу как коллективному комплексу оказывается несравненно более разнороден, расслоен. Вместе с тем все мы намного сильнее детерминированы «мозговым», мыслительным опытом. Все это приводит к тому, что достичь шока, способного атакующим образом воздействовать на те слои нашей психики, которые как бы лишены жизненной маски (то есть естественны), становится намного труднее. Кроме того, сегодня уже стало невозможно коллективное, «соборное» отождествление себя с мифом, то есть отождествление правды личной с правдой универсальной.
Тогда что же сегодня еще возможно? Во-первых, конфронтация с мифом вместо идентификации, отождествления с ним. А именно: при сохранении нашего личного опыта переживаний и того, что в нас уже отложилось из духа и опыта нашего времени, возможна еще попытка воплощения в миф, натягивания на себя его «кожи», которая, впрочем, едва ли будет прилегать к нам достаточно плотно. Еще возможно постижение относительности наших проблем, рассматриваемых в перспективе «корней», и относительности «корней», рассматриваемых в перспективе сегодняшнего дня. Если этот подход брутален, если мы совершаем его с высшей степенью самоотречения и послушания, обнажая себя в самом интимном нашем слое, как бы отдавая или даже «принося в жертву» ту область, что в нашей повседневности, привычной нам обыденности является неприкосновенной, тогда житейская маска подвергается сокрушительному разрушению.
Во-вторых, если уж ни в чем невозможно быть безусловно уверенным и ничто ни для кого не очевидно, то все же тем необходимым полем надежности, в пределах которого возможно преодоление барьеров, остается осязаемость человеческого организма. Только миф, воплощенный в буквальность актера, в его живой организм, может функционировать как табу, нарушаемое табу. Нарушение интимности живого организма, его раскрытие, зашедшее так далеко в физиологической конкретике и во внутренних импульсах, что оно уже преодолевает порог эксцесса, возвращает 65 ситуации мифа ее всеобщую человеческую конкретность, становится постижением правды.
3
Когда мы говорим о методе, вопросы, возникающие относительно его рациональных (принятых разумом) источников, кажутся мне рискованными. Стоит употребить формулировку, в которой звучит слово «жестокость», как тут же все с жаром принимаются выпытывать мое мнение об Арто, потому что и он употреблял подобные формулировки, хотя и опираясь на опыт, отличавшийся от моего, и придавая ему несколько иной смысл. Арто был незаурядным визионером театра; он не имел возможности длительных исследований и, может быть, поэтому в его текстах нет методического значения, они не несут в себе какого-либо ясного предложения. Он хочет что-то удивительным образом напророчить, и время подтверждает его правоту, но он не дает указаний к действию.
Стоит обронить такие слова, как «корни» или «мифическая почва», как тут же летят вопросы о Ницше, а стоит назвать то же самое «коллективными представлениями», как возникает имя Дюркгейма, а если же назвать «архетипами», все заговорят о Юнге. А ведь то, что я формулирую, для меня самого рождается в сфере ремесла и вовсе не является каким-то расчетом, производимым на почве иных гуманитарных дисциплин (хотя, наверное, может анализироваться также и под этим углом зрения).
Когда я говорю о партитуре знаков у наших актеров, меня спрашивают о понятии знака в восточном театре, в особенности же в классическом китайском театре, тем более, если знают, что я изучал его непосредственно, что называется, на месте, в Китае. А ведь знак в восточном театре — величина неизменная, подобная литере в известном нашему зрителю алфавите, в то время как тут мы говорим скорее о кристаллизации роли в знаках, об артикулировании психофизиологии актера в партитуре значений, то есть об «оголении» людских реакций до предельной степени, до самого костяка.
Не берусь утверждать, что в том, чем мы занимаемся, мы не подвержены никаким влияниям или что все у нас — абсолютные новации. Как часто бывает, совершенно неосознанным образом, лишь просто вдыхая воздух того континента, где мы родились, и той цивилизации, что нас вскормила, мы воспринимаем и усваиваем сумму традиций, сумму знаний о человеке и об искусстве, а 66 вместе с ними и сумму предрассудков, пророчеств, надежд и беспочвенных мечтаний. И как бы упорно и сколь бы настойчиво мы от них ни открещивались, они влияют на наши поступки. Даже postfactum, когда, идя путем практики, мы уже многое осознали и уже начинаем со многим сравнивать нашу работу (в том числе и с теми именами, что я перечислил, и с теми явлениями в окружающей жизни, о которых я говорил), мы производим некоторую корректировку «вспять» по отношению к тому, что уже нами было осознано, начинаем яснее понимать наши возможные перспективы.
Сопоставляя свою работу со всей совокупностью Великой Театральной Реформы от Станиславского до Дюллена и от Мейерхольда до Арто, мы сознаем, что строим свое дело не на пустом месте; что он был, и он по-прежнему есть — тот воздух великих открытий, которым мы дышим. Что же касается нашей практической ежедневной работы, то, угадывая в ней претворенными в жизнь проблески чужой интуиции (даже если тут и не было чьего-то непосредственного влияния), мы учимся, замечая и ощущая в себе все воздействия, — учимся науке смирения. Смирения перед лицом неопровержимого, данного нам в наблюдении факта: само ремесло, которым они, великие, занимались и которым занимаемся мы, по-видимому, просто имеет свои объективные законы. И не дано нам иной возможности осуществления себя, иначе как лишь посредством высшего послушания, «серьезности» и «бдения», как говорил Томас Манн.
4
В театре, которым я руковожу, положение мое своеобразно и не совсем обычно: и не директор, и не режиссер, а скорее мастер, наставник в деле, может быть, как когда-то говорили, «духовный наставник». Однако было бы большим недоразумением считать, что подобные неординарные отношения могут быть односторонними. Если в пространственных построениях наших спектаклей архитектора Ежи Гуравского отражаются какие-то мои идеи, то и мое собственное видение тех или иных пространственных фантазий несет на себе отпечаток нашего с ним многолетнего общения.
Но чем-то несравнимо более интимным и плодотворным оказывается работа с актером, доверившимся мне. Если его готовность и то, что не совсем точно может быть названо доверием, осязаемо-конкретны, обладают качеством бдительности и фактически 67 безграничны, безграничным становится и мое желание выявить и сделать видимым наивысшую силу его, а не моих возможностей. Этому желанию увидеть его рост, его возрастание сопутствуют, с моей стороны, наблюдение, изумление и желание ему помочь. То, что является моим ростом, отражается в нем, точнее, он сам находит его в себе, а это и делает возможным наш общий рост и становится своего рода откровением. Это уже не значит обучать кого-то чему-то. Это значит — шагнуть кому-то навстречу. В работе с актером становится возможен совершенно особенный феномен «рождения» двух личностей. Тогда актер родится — еще раз — не только в области ремесла, но в гораздо большей степени как личность. Его «рождению» сопутствует — и тоже всегда заново — «рождение» руководителя совместного действия, того, кто смотрит, и — да простится мне такая формулировка — того, кто близок к полному приятию существа человеческого.
1965
68 ОГОЛЕННЫЙ АКТЕР65
I
Актер — это человек, работающий своим телом и делающий это публично. Если, однако, он довольствуется таким же отношением к своему телу, какое присуще любому обычному человеку в повседневной жизни, если оно не становится для него послушным инструментом, делающим человека способным к совершению некоего духовного акта, если оно используется ради денег и ради угождения публике, актерское искусство становится чем-то близким к проституции. И то, что на протяжении веков театр сопоставляли с проституцией в том или ином смысле этого слова, — не случайно. Понятия «актриса» и «куртизанка» долгое время совпадали между собой; граница, разделяющая их сегодня, возникла не столько в результате какой-то принципиальной перемены в актерском мире, сколько благодаря преобразованиям в общественных отношениях; дело в том, что сегодня стерлась разница между куртизанкой и порядочной женщиной. И если рассматривать профессию актера в ее наиболее распространенных проявлениях, то больше всего поражает убожество этой профессии, торговля актера своим организмом, терзаемым различного рода покровителями: директором, продюсером, режиссером и т. п., а это в свою очередь порождает атмосферу интриг и скандалов.
Но так же, как, согласно теологическим понятиям, лишь великий грешник может стать святым (вспомним из Апокалипсиса: «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих»), так и это убожество актерской профессии может преобразиться в некий род святости; история театра знает тому немало примеров.
Разумеется, я говорю о святости с позиции неверующего — о «святости мирской». Актер публично совершает акт провокации по отношению к другим путем провокации по отношению к самому себе; если он выходит за пределы своей повседневной маски и через эксцесс, через профанацию, через недопустимое святотатство пытается добраться до подлинной правды о самом себе, — то он дает возможность возникнуть подобному процессу и в зрителе. С того момента, когда он перестает демонстрировать 69 свое тело, набивая ему цену, когда освобождает его от всяческого сопротивления по отношению к духовным импульсам, когда сжигает его, когда как бы его уничтожает, — с того момента он уже не торгует своим организмом, а приносит его в жертву и, повторяя жертвенный жест во имя искупления, достигает состояния, близкого святости.
Однако чтобы такого рода акт в актерской игре не стал эфемерным явлением, не стал одноразовым «извержением», зависящим от особенностей какой-то исключительной личности, то есть феноменом, чье возникновение и протекание невозможно заранее предугадать; чтобы постоянный театральный коллектив, для которого такой род творчества является хлебом насущным, мог нормально функционировать, — должны быть выработаны определенные методы упражнений и поисков.
II
Существует миф, расхожее убеждение, что актер с обретением определенного опыта обретает и так называемый арсенал средств, то есть способов, трюков, технических приемов, благодаря которым, применяя к каждой роли то или иное количество комбинаций, может достигнуть высокого уровня экспрессии и вызвать рукоплескания. Опуская уж сам факт, что каждый «арсенал средств» в результате сводится к определенному количеству стереотипов (штампов), следует признать, что такого рода процедура как раз довольно тесно смыкается с тем, что мы определили как актерскую проституцию. Разница между техникой актера-куртизана и актера-«святого» (если и впредь употреблять это рискованное определение) идентична той, что отделяет сноровку куртизанки от акта самоотдачи и дозволения, рожденного истинной любовью, то есть — жертвования собой. В этом, втором, случае решающей является способность миновать все, что мешает преодолению границ. В первом случае все заключено в наращивании «умений», во втором — в преодолении барьеров и сопротивлений; в первом случае принципиальным вопросом является существование тела, во втором — его, можно сказать, несуществование.
Техника «святого» актера была бы, следовательно, техникой индуктивной, техникой элиминации16* в противоположность технике актера-куртизана, то есть технике дедуктивной, суммирующей 70 умения. Это генеральная формула, диктующая соответствующий тип упражнений. Актер, призванный совершить акт самообнажения, «оголения», принесения в жертву того, что в нем наиболее интимно, должен быть способен к выявлению психических импульсов, находящихся еще in statu nascendi17*, рожденных как бы всего лишь наполовину. С другой стороны, учитывая, например, проблему звука, готовность дыхательного и голосового аппарата должна быть у актера несравнимо более высокой, чем у обычного человека в повседневной жизни. Кроме того, его аппарат должен быть способен воплотить каждый звуковой импульс с такой скоростью, чтобы к нему не успело присоединиться то или иное размышление, лишающее его спонтанности. Актер должен как бы расшифровать собственный организм, открывая в нем потенциальные точки опоры для подобного типа работы. Он должен знать, какой способ управления воздухом, переносящим звук, применять для отдельных частей организма — так, чтобы вызвать вибрацию, усиление звука с помощью определенного типа резонатора. Обычный актер способен говорить «в маску», то есть пользоваться черепным резонатором, который не только усиливает голос, но и, по его мнению, «облагораживает» его, делает приятным для слуха. Иногда он догадывается, что аналогичным образом, хотя и для других целей, можно воспользоваться также грудным резонатором.
Однако актер, систематически исследовавший возможности своего организма, обнаруживает, что количество этих резонаторов, по сути дела, безгранично. В любом случае помимо резонатора маски и груди он имеет еще в своем распоряжении затылочный, носовой, переднезубной, гортанный, брюшной, нижнепозвоночный (крестцовый) резонаторы; и еще тотальный резонатор (охватывающий как бы все тело) и ряд других резонаторов, из которых многие нам еще не известны. Такой актер обнаруживает, что недостаточно пользоваться на сцене диафрагмальным дыханием, поскольку различные типы действий требуют дифференцированных дыхательных реакций (если он не хочет нажить неприятности с постановкой голоса и в результате получить сопротивление всего организма в целом). Обнаружив, что дикция, заученная им в театральной школе, слишком часто влечет за собой закрытие гортани, он должен овладеть умением открывать гортань, контролировать извне ее состояние: открыта ли она, закрыта ли и т. п. Если он не решит этих проблем, то, сталкиваясь с 71 трудностями, рассеивающими его внимание, он будет не в состоянии осуществлять весь нужный процесс. Пока актер сохраняет чувство тела, он не может решиться на акт «обнажения». Тело должно полностью избавиться от состояния сопротивления; практически в каком-то смысле оно должно перестать существовать. И недостаточно того, что, например, в области дыхания и артикуляции актер достигает способности пользоваться перечисленными здесь резонаторами, что он может открывать гортань, дифференцировать дыхание, — нет, он должен научиться приводить все это в движение бессознательно, как бы пассивно, а это влечет за собой особую серию упражнений. Он должен научиться во время работы над ролью думать не о накоплении технических элементов (использовании резонаторов и т. п.), а об устранении тех препятствий, которые становятся заметными (например, затруднения с полнозвучием или силой голоса). Различие здесь совсем не чисто словесное, напротив, именно оно предопределяет результат. А это означает, что техника актера никогда не выступает чем-то завершенным; всегда, на каждом этапе — поисков ли себя, провокации ли в форме эксцесса, преодоления ли собственных тайных барьеров — появляются новые технические ограничения и затруднения, но как бы на более высокой ступени, и все время, снова и снова, необходимо их преодолевать, начиная с самых простых упражнений. Это относится ко всем элементам игры, к пластике тела, жесту, конструированию маски лица, к каждой частице актерской телесности. Но самой решающей проблемой в этом процессе остается духовная техника.
III
Актер должен манипулировать сценическим образом, как скальпелем, для препарирования собственной индивидуальности. Речь идет не о том, чтобы играть самого себя в неких предлагаемых обстоятельствах, то есть о так называемом переживании роли, и не о создании образа в эпической форме, о так называемом очуждении на основе холодного объективного анализа. Речь идет об использовании вымышленного образа в качестве трамплина, орудия, делающего возможным проникновение вглубь, к тому, что укрыто под нашей повседневной маской, к достижению интимных слоев нашей индивидуальности для того, чтобы принести их «в жертву».
Эксцесс касается не только актера, но и зрителя, поскольку он, зритель, сознательно или бессознательно воспринимает такого 72 рода акт со стороны актера как обращенный к нему призыв ответить тем же; чаще всего это вызывает протест и возмущение, потому что обычно все наши жизненные поступки служат утаиванию правды — и не только от других, но также и от самих себя. Мы бежим от правды о самих себе, а тут нам предлагают остановиться и вглядеться в нее. Нас охватывает страх перед превращением, постигшим жену Лота, — превращением в соляной столб, если мы обернемся, чтобы взглянуть правде в глаза.
Во всяком случае, эта способность актера, способность самая основная, требует упражнений специального характера: я имею в виду упражнения на концентрацию. Концентрацию, не имеющую ничего общего с нарциссизмом, со смакованием собственных переживаний, словом, концентрацию, являющуюся сосредоточением не на том, что мы могли бы назвать «я», а на том, что можно определить как «ты». Совершение акта, о котором шла речь, акта «обнажения», требует от актера мобилизации всех физических и душевных сил: так достигается как бы состояние пассивной готовности. Пассивной готовности для претворения в жизнь активной партитуры. Пользуясь метафорическим языком, можно определить наиболее существенный в этом процессе момент как смирение: психическое расположение, в котором выражается не стремление к свершению каких-то дел, а как бы отказ от их не-свершения. В противном случае эксцесс теряет свою межчеловеческую функцию и превращается в чью-то частную непристойность.
Если бы мне пришлось выразить все единой фразой, я бы сказал, что смысл заключается в отдаче себя. Именно в этой точке все сходится: обнажение, транс, эксцесс, даже дисциплина формы — все это осуществляется, если на самом деле происходил доверительный, полный тепла и как бы просветленный акт отдачи себя. И тогда, если акт полный и достигает некоего пика — climax’а — то он психически интегрирует и дарует успокоение.
Однако все упражнения без исключения в каждой области актерской подготовки должны протекать не под знаком умножения навыков, а создавать как бы цепь намеков, относящихся к тому неуловимому, невыразимому процессу.
IV
Звучит все это довольно необычно и, не стану отрицать, напоминает какую-то разновидность знахарского искусства. Если нужны научные формулировки, то скажу: мы употребляем те или 73 иные понятия в качестве воздействия, способного вызвать определенное идео-пластическое воплощение. Должен, впрочем, признать, что мы, нисколько не стесняясь, используем эти формулировки только в чисто рабочих целях. Ведь, по сути дела, воображение актера и воображение режиссера более всего восприимчивы именно к импульсам, по видимости несущим в себе что-то от магии и выходящим за пределы нормальности.
Следовало бы, я думаю, выработать специальную систему анатомии актера с вычленением в теле разнородных планов концентрации для самых разных видов игры (основная база: концентрация всего организма в «окрестностях сердца»). Следовало бы также исследовать некоторые области в организме, в которых кроются потенциальные энергетические центры. Такую функцию часто выполняет, например, крестец или нижняя часть живота, частично — солнечное сплетение. Исследования должны проводиться индивидуальным образом в зависимости от психических типов, причем каких-либо преждевременных внушений в ходе работы следует избегать.
Актер, совершающий акт, предпринимает как бы путешествие, которое артикулируется в голосовых знаках и знаках-жестах. Таким образом зритель получает что-то вроде приглашения к соучастию. Поэтому актерские знаки должны быть точными и организованными. Нужно отметить, что по-настоящему выразительным является то, что актер совершает «всем собой». И дело вовсе не в сверхподвижности: склонность к сверхподвижности является своего рода бегством, она свидетельствует о тенденции к созданию видимостей. Актер может быть почти неподвижным, но жест его ладони может начинаться уже в ступнях или даже «ниже» ступней и может проходить внутри организма. Есть такие элементы тела, которые играют роль своеобразных отражателей или зеркал по отношению к целостной реакции: плечи, позвоночник, ступни ног. Мертвые плечи, негнущийся позвоночник, топорная или подчеркнуто «общепринятая» постановка ног — вот симптомы, обнаруживающие, что актер действует не целостно, не интегрально. Когда плечи взаимодействуют в своих реакциях с ладонями, когда маска лица рождается уже как бы внутри ступней — словом, когда актер реагирует «всем собой», появляется выразительность.
Однако такая выразительность рождается не без определенного столкновения, противоречия — противоречия, возникающего из смыкания внутреннего процесса с дисциплиной формы. Процесс, не сочетающийся с дисциплиной, не становится освобождением, 74 он граничит с биологическим хаосом. Поэтому каждое действие, вызванное процессом, должно подчиниться узде искусственности. Чем жестче узда — тем полнее внутренний процесс.
Искусственность вырабатывается через идеограммы (жесты, интонацию), вызывающие к жизни ассоциации в психике зрителя. Это похоже на труд скульптора, который, обтесывая камень, совершенно сознательно прибегает к долоту и молотку. Например, прослеживание рефлекса руки, возникшего в ходе духовного процесса, — и пути развития этого рефлекса через плечо, локоть, ладонь, пальцы; определение способа, с помощью которого каждый из этих обнаруженных элементов может быть артикулирован в знак.
Процесс выработки «узды» соответствует поиску в организме тех форм, чьи очертания нами уже уловлены, но чья полная конкретность нам еще не доступна. Вот он, тот пункт в актерской игре, который роднит ее больше с искусством скульптуры, чем с живописью. Живопись заключается в наращивании красок, в то время как скульптор сдирает наслоения с формы, как бы ожидающей воплощения в глубине камня; речь идет не о том, чтобы форму выдумать, а о том, чтобы ее отыскать.
Работа над «уздой» и над формой снова влечет за собой целую серию дополнительных упражнений, исследований, отдельных партитур, расписанных на различные «инструменты» организма.
V
Что же касается проблемы театрального зрителя, то наши постулаты не отличаются от тех, что адресуются «потребителю» каждым подлинным произведением искусства: живописи или скульптуры, музыки или поэзии.
Нас не интересует зритель, приходящий в театр для удовлетворения своих амбиций или снобизма, использующий нас для получения большего «светского» лоска, для похвальбы своей информированностью среди так называемой элиты, постоянно находящейся в курсе наисвежайших «художественных новинок». Не обращаемся мы и к тем зрителям, что трактуют театр как место, где можно расслабиться после дневных трудов. Конечно, человек имеет право на отдых после работы, но ведь он может воспользоваться для этого самыми разнообразными зрелищами, предназначенными специально для этой цели: определенного сорта кинофильмами, телевизионными шоу, эстрадными ревю, музыкальной 75 комедией, кабаре, развлекательным театром и тому подобным. Для нас важен зритель в стадии духовного развития, находящийся как бы на психическом повороте, ищущий в зрелище ключ к познанию самого себя и своего «места на земле». Тот, кто достиг своей «малой стабилизации» духа, кто гордится своим якобы непогрешимым всеведением на тему добра и зла, кто не испытывает никаких сомнений, едва ли может быть нашим зрителем.
Что же, значит, мы — театр для избранных? Элитарный театр? Возможно. Но такая элитарность не имеет ничего общего ни с социальным происхождением, ни с имущественным положением, ни даже с уровнем образования. Простой рабочий, не имеющий за плечами даже средней школы, может переживать трудный процесс творческого возрастания, в то время как ученый профессор может уже застыть в своем развитии, обладать той ужасной «застыл остью», которая характерна для трупов.
Не берусь решительно утверждать, что сегодняшний театр выполняет незаменимую функцию, если уж так многое из его атрибутов (развлекательность, эффекты формы и цвета, способность «подсматривать жизнь») перехвачено в свое владение кинематографом и телевидением. Мы все повторяем постоянно один и тот же риторический вопрос: а нужен ли еще сегодня театр? Но задаем мы этот вопрос только затем, чтобы тотчас же ответить: да, нужен, поскольку театр — искусство вечно живое. И все же, если бы в один прекрасный день все театры мира оказались бы ликвидированы, подавляющее большинство граждан Земли не имело бы об этом ни малейшего представления в течение многих недель, в то время как на известие о закрытии кинотеатров и тем более изъятии телевизоров население всего земного шара в тот же самый день ответило бы единым мощным воплем протеста.
Многие деятели театра, сознавая существование этой проблемы, предлагают ошибочные способы ее решения. Поскольку кино превосходит театр техникой — театр, дескать, следует как можно основательнее технически оснастить. Проектируются новые конструкции театральных залов, создается сценическое оформление, дающее возможность молниеносного переброса мест действия, вводятся новые источники сценического света, новые осветительные приемы и так далее и тому подобное, но все равно достичь технических возможностей кино и телевидения никогда не удастся. Театр должен в конце концов признать свои собственные границы. И если уж он не может взять верх над богатством киноискусства, пусть изберет бедность; если ему не хватает 76 размаха и большого радиуса действия телевидения, пусть станет аскетичным. Если механика, которой он располагает, не несет в себе никакой привлекательности, пусть вообще от механизмов откажется. Оголенный актер в Бедном Театре — вот формула, которую мы принимаем.
Есть одна только ценность, которую ни кино, ни телевидение никогда не смогут перенять у театра: непосредственная связь, рождающаяся между живыми существами. Связь, которая приводит к тому, что каждый акт провокации со стороны актера, каждое проявление его магии (а этого зритель не в состоянии повторить) становится чем-то огромным и необычайным. От этого хищного, всепоглощающего всплеска волны ничто не должно отгораживать зрителя; пусть он станет лицом к лицу с актером; пусть почувствует на себе его дыхание и его пот.
1965
77 «ТЕАТР-ЛАБОРАТОРИЯ 13 РЯДОВ».
Ежи Гротовский об искусстве актера66
ITD18*: В эмблеме вашего Театра обращает на себя внимание характерный знак: изображение «петли», бывшей когда-то символом театра «Редута»19*. Вероятно, это не случайный выбор?
Гротовский: В знаке петли «Редуты» в центре была вписана буква «R»; мы, приняв ее без изменения, лишь вписали «L» — от слова «Лаборатория». Такое решение родилось, во-первых, из чувства возмущения, вызываемого во мне пренебрежительным тоном, с каким в театральных кругах нередко отзываются об отшельнических нравах и наивных идеях «редутовцев». На мой взгляд, «Редута» была существеннейшим явлением межвоенного театра, если учесть ее попытки вести рассчитанные на долгие годы исследования актерского мастерства, а также ее этические постулаты. Конечно, они были сформулированы в стилистике того времени и сегодня могут показаться наивными, но тогда они были наполнены смыслом, поскольку означали попытку изгнать из театра все, что связывается с понятием артистического «полусвета». Ремесло и призвание, осуществляемое посредством ремесла, — вот без чего, я считаю, невозможно создание театрального произведения: без очной ставки с этими двумя проблемами, без конфронтации и сопоставления с ними. «Редута» была попыткой такой очной ставки. Наши исследования в области техники искусства актера носят иной характер, но в понимании цели работы, нам кажется, мы совпадаем. Во всяком случае, нам хотелось бы, чтобы так было. Мы считаем «Редуту» великой традицией польского театра, и если бы наша деятельность была признана ее продолжением, мы бы этим только гордились. Вот та вторая причина, по которой мы приняли знак «Редуты».
ITD: Однако это не единственный, как представляется, и даже не основной источник традиций в ваших конкретных экспериментах и исканиях.
78 Гротовский: Да, не единственный. Я бы сказал, что в наших начинаниях «Редута» выступает традицией моральной. Традиция же стиля, путей исследования мастерства и тому подобных вещей — иная. Те, кто наблюдают и анализируют наши представления, глядя на них как бы со стороны, особенно иностранцы, говорят об элементах античного театра (актер, сочетающий речь, пение и танцевальный жест), о средневековых мистериях, о театре испанского барокко. Эти сравнения не лишены оснований. В театре и в актерском искусстве нас особым образом интересует непосредственная встреча, непосредственные взаимоотношения, более того, даже соприкосновения между актерами и зрителями — между ведущими участниками происходящего и его свидетелями. Мы не случайно упразднили классическое деление на сцену и зрительный зал ради того, чтобы заменить его пространственными связями (а они выстраиваются для каждого спектакля заново), то есть человеческой ситуацией, возникающей между актерами и зрителями. Любой обряд, еще сохранивший в себе элементы спонтанности, вполне сознательно обустраивает в пространстве и место действия, и тип контакта между его участниками — участниками ведущими и участниками наблюдающими. Поэтому традиции театров разных эпох, но традиции, схваченные, уловленные как бы в момент их рождения из обряда, нам особенно близки. Второй idee fixe наших исследований в области актерского поведения является техника выведения, извлечения спонтанных реакций из упорядоченности, конструкции и дисциплины формы. К чему чаще всего обращаются в современном театре? Либо к сознательной, мыслительной, «интеллектуальной» конструкции роли (ее крайним выражением был Брехт), либо пытаются разбудить такие подсознательные силы в психике актера, которые позволили бы ему, освобождаясь от сдерживающих начал, достичь спонтанной экспрессии. Представителем второго направления был Арто, а сегодня ими выступают сторонники так называемого хэппенинга. В Соединенных Штатах проводятся также опыты по достижению актером состояния спонтанного транса посредством употребления наркотиков. Путями, более близкими к психоанализу, стремится к той же цели нью-йоркская «Actors Studio» (Станиславский, интерпретируемый с позиций фрейдизма).
Так вот, в нашем понимании спонтанность не только не исключает детальной композиции роли, но, напротив, подлинная, а не поддельная спонтанность достижима только на почве точной актерской партитуры. Иначе нет подлинности. Недисциплинированная спонтанность, по сути дела, рождает эффект некой разновидности 79 биологического хаоса, приводит к реакциям аморфным и случайным. Крики, метания, судорожные движения, смахивающие на конвульсии, — все это вовсе не является спонтанной реакцией, а скорее наполовину шутовством, наполовину попыткой силком «качать» спонтанность. И все это тяжко, натужно. Истинная же спонтанность легка, свободна.
И тут мы снова сталкиваемся с проблемой спонтанного обряда и литургии — словом, теми элементами, которые существовали еще в античном и средневековом театре или же в театре испанского барокко. Нас они интересуют как техническая проблема в области актерского искусства, актерского действия. Это проблема особого выведения, посредством множества деталей, потока человеческих импульсов и реакций, очищенных от любой случайности, как бы до самой сердцевины. В результате возникает поток знаков, вычерчиваемых целостным организмом. Для актера этот поток становится своего рода партитурой, стартовой площадкой или трамплином, отталкиваясь от которых он может мобилизовать и ввести в действие свои глубоко личные, интимные впечатления, целый спектр своих жизненных переживаний и, играя таким образом, ежедневно творить заново ту же самую партитуру всем собой, всем своим существом, целостностью своих духовных и физических возможностей. А это значит — импровизировать не внешне, а внутренне, вокруг подготовленных мотивов, личных тем. Именно это я имею в виду, когда говорю о спонтанности, рожденной из духа порядка, из упорядоченности.
ITD: Пришел момент задать вопрос: какое место в той традиции работы с актером, которую Вы развиваете, занимает так называемый метод Станиславского?
Гротовский: Если мне позволительно сделать признание, то Станиславский был и остается моей личной традицией. Я был воспитан на его технике. К примеру, так называемый метод физических действий Станиславского является в театре, стремящемся к бытовому реализму, то есть в театре обыденных человеческих действий, ни с чем не сравнимой в своей точности профессиональной грамматикой. Но что самое существенное у Станиславского, так это способность выявлять и ставить ключевые вопросы в области актерского ремесла, а также систематическое, обладавшее долговременным воздействием усилие, направленное на овладение самим процессом творения в актерском искусстве, овладение творческим сознанием, то есть методом. Для Станиславского методические искания всегда были систематическим преодолением обобщений и выводов, уже возникших на предыдущем этапе 80 работы. Метод Станиславского всегда находился in statu nascendi, был процессом исследования, а никак не рецептом. Ученики Станиславского в большинстве своем превратили его метод в закрытую систему, и с той минуты он перестал функционировать как живой инструмент режиссерской профессии.
ITD: Значит ли это, что в работе с актером Вы опираетесь на Станиславского и сохраняете ему верность?
Гротовский: Ответы на ключевые вопросы в области актерского ремесла, искомые и находимые в моей практике, отличаются от тех ответов, что давал Станиславский, а часто оказываются даже их противоположностью. Это ничуть не умаляет того факта, что в моей артистической биографии Станиславский сыграл поистине ключевую роль. Разница заключается, кроме всего прочего, в понимании нами роли не как аналогии обыденных человеческих действий, а как деяния, совершаемого человеком-актером перед лицом человека-наблюдателя, перед лицом зрителей. Это деяние можно свести к понятию безграничной искренности, предельного проявления и обнажения того, что носит наиболее личный характер в человеке, к совершению этого деяния всем собой, целостным, всем своим существом — как бы в акте полной самоотдачи. В этом определении «всем собой целостным» заключено предложение покончить наконец, хотя бы на время спектакля, с нашей каждодневной раздробленностью, нашей игрой видимостями, нашими половинчатыми увлечениями, нашей ежедневной неполнотой. Конструкция и предварительная подготовленность позволяют сделать этот акт упорядоченным и совершаемым как бы с полной сознательностью, с полным чувством личной ответственности.
ITD: До сих пор мы беседовали о проблемах в основном общего характера. Но поскольку наш разговор должен был касаться главным образом работы с актером, может быть, несколько слов на эту тему?
Гротовский: Основой нашего метода является исходное допущение, что научить творчеству нельзя никого и что никаких идеальных моделей, следуя которым можно было бы научиться творить, не существует. Например, в технике владения голосом или в дыхательной технике поиск идеальных моделей приводит зачастую к травмам. Потому что, если правильно мнение, что так называемое диафрагмальное дыхание (с преобладанием брюшного пути) дает наибольшие возможности, то неправильно, напротив, мнение, что существует лишь один идеальный тип диафрагмального дыхания, что это дыхание всегда должно быть одним и тем же, несмотря на различные физические действия; что, наконец, 81 будто бы нет людей, которым больше соответствовал бы другой тип дыхания: например, актеры, обладающие узкой и удлиненной грудной клеткой.
Мы исходим из негативной техники. Мы предлагаем актеру, чтобы он прежде всего определил, что ему мешает, что в нем служит преградой и что «сопротивляется» в нем. Предлагаем, чтобы он нашел для себя индивидуальный тренинг, позволяющий исключить эти помехи, эти препятствия на данном этапе его развития. Негативная техника предполагает также создание таких ситуаций, в которых можно либо открыть в себе момент полной свободы и факторы, ее обусловливающие, либо определить свои существенные внутренние помехи. Это ситуации, связанные с разными типами упражнений, часто граничащих с акробатикой, тренировкой различных позиций, в том числе типа йоги, в которых ищется естественное равновесие и «успокоение» организма; упражнений, во время которых актер получает невероятно сильный стимулирующий толчок, побуждающий его к спонтанной реакции-ответу, охватывающему целостность всего организма.
Самые важные среди них — упражнения психического характера. Они заключаются в возвращении в реальном действии, посредством реальных реакций и физических импульсов к ключевым, предельным, высшим моментам собственной жизни, собственной биографии. Они немного напоминают, если угодно, ту реконструкцию на месте преступления поступков всех людей, присутствовавших при нем, которую предпринимают в процессе следствия с целью воспроизведения подлинного течения событий. Разница здесь заключается в том, что это не «холодная» реконструкция — она скорее ближе законам личных, интимных ассоциаций, тем законам, по которым возникает, скажем, сон, повторяющий какое-то событие. Таким образом, это как бы сон, возвращающий актера к особенно сильному впечатлению, происшествию, к особенно важному эпизоду в его жизненном опыте. Только формируется он не в образах-«картинах», а в реальных физических импульсах и реакциях.
Существуют также упражнения, которые, приводя в движение различные центры в организме, позволяют актеру усиливать звук голоса разными способами и в разных типах звучания, что делает возможным снятие вредного самовнушения вроде «у меня только такой голос», «у меня нет других голосовых данных» и т. п. Момент, когда актер опытным путем убеждается, что в голосовой сфере он способен далеко превзойти свои обычные возможности, даже те, которые были результатом предварительного обучения, 82 этот момент понимания, что нет вещей невозможных, и открывает наконец пути к самому существенному: к речи, пению, шепоту, крику, к любому реагированию голосом на основе импульса всего организма. При этом импульс спонтанен, а звук является его естественным высшим завершением, кроной и не требует никакой контролируемой постановки голосового аппарата. Это нелегко пояснить словами, но вкратце можно сказать, что наступает день, когда актер открывает, что в нем поселились, в нем живут голоса людей, зверей и всей природы. Когда он открывает это — он перестает думать о границах своих возможностей, он действует и управляет всем множеством голосов, какие ему только нужны. Физический импульс выступает здесь как бы трамплином, от которого актер отталкивается в сторону голосовой реакции, не просто предполагая, но уже зная, что природа в этой области не поставила ему почти никаких реальных ограничений.
ITD: Множество противоречивых мнений, дискуссий и критических отзывов вызывает так называемая произвольная трактовка вашим театром произведений классиков. В чем тут дело? Где кончаются права постановщика? Что должно их ограничивать?
Гротовский: Стремление к построению спектакля как произведения, вдохновленного драмой, но автономного, являющегося как бы нашим откликом на побудительный стимул, каковым является текст, — словом, создание представления вокруг текстовой материи с той же самой свободой, с какой, например, Леонардо да Винчи творил портрет Джоконды вокруг персоны Джоконды, — эта возможность была фактически открыта в нашем веке Мейерхольдом. Несколько позднее к тому же призывал во Франции Арто. Но я должен тут оговориться, что творчество театра, освобожденного от мертвого пиетета по отношению к драматической литературе, не означает замену одной литературы другой. Было время, когда я, что называется, дописывал тексты классических драм, однако позже начал понимать, что такое предприятие является попыткой творчества не в области театра, а в области литературы, и к тому же попыткой человека, в этой области совершенно некомпетентного.
Монтаж текста, монтаж слов с действенным поведением играющих людей, лепка в движении физических импульсов и реакций, лепка из материала слов живой речи вместе с ее акустикой — вот это, и именно это, является сферой творчества в театре, его владениями.
1966
83 ОН НЕ БЫЛ ЦЕЛОСТНЫМ И НЕ БЫЛ САМИМ СОБОЙ67
Станиславский оказался скомпрометирован учениками. А между тем это был первый методолог театра, и ныне каждый из нас, людей, занимающихся теми же проблемами, может давать лишь собственные ответы на вопросы, уже поставленные Станиславским.
Когда на многих европейских сценах мы, борясь со смертельной скукой, смотрим постановки в духе «теории Брехта», где отсутствие убежденности актеров и режиссеров в том, что они делают, преподносится нам в качестве «эффекта очуждения», мы с грустью думаем о спектаклях самого Брехта. Быть может, они были менее верны его теории, но зато несли в своей сути отпечаток его личности, были своеобразно коварны; в них было превосходное знание своего ремесла, и, право же, скукой от них не веяло.
Ныне мы вступили в эру Арто.
«Театр жестокости» канонизирован, то есть сведен на уровень тривиальности, его терзают на все лады, его разменивают на мелочи. Когда Питер Брук, выдающаяся творческая личность со сложившимся стилем, ссылается на Арто, он не прячет за его спиной свои слабости, не пытается его передразнивать. Просто в определенный момент своего развития он соглашается с ним или чувствует необходимость помериться силами, что-то проверяет, ища подтверждения, и отдает должное тому, что подтвердилось. Он остается самим собой, и тут нет места упреку: мы знаем, что он личность творческая, что произошла встреча творческого человека Брука с творческим человеком Арто. Но те жалкие зрелища, какие можно наблюдать в среде театрального авангарда многих стран, хаотические, мертворожденные творения, полные так называемой жестокости, которая, впрочем, не испугала бы и ребенка; все те хэппенинги, за которыми не кроется ничего, кроме неумелости, растерянности и желания устроить себе легкую жизнь, хотя и скрываемую за внешними грубостями (призванными нас оскорблять, а на деле нас даже не трогающими), — когда мы видим все эти полуфабрикаты, чьи создатели ссылаются на Арто, мы думаем, что, может быть, они и в самом деле жестокие 84 произведения, ибо в них содержится жестокая профанация его имени.
По сути же парадокс Арто состоит в том, что ни подражать ему, ни воплощать его постулаты невозможно. Означает ли это, что он был неправ? Нет, не означает. Думаю, что его правота касалась многих моментов и обладала силой, поистине незаурядной. Но вот вопрос можно ли реализовать пророчества Нострадамуса? Допустим, они подтверждаются. Но ведь об этом становится известно всегда postfactum, когда пророчество уже подтвердилось, потому что Нострадамус, подобно Арто, не оставил после себя ни какой-либо конкретной техники, ни пути указующего, ни какого-либо метода. Он оставил лишь видения и метафоры.
Частично, наверное, все проистекало из особенностей личности Арто, частично же из того факта, что не дано ему было ни времени, ни средств в систематической работе опробовать то, что он предчувствовал. Проистекало это также и из того, что можно назвать ошибкой Арто (хотя, скорее, это было его особое свойство), а именно прощупывая, если можно так выразиться, нечто тончайшее, внеописательное, почти неуловимое, невидимое, он оперировал языком в равной степени неуловимым, неосязаемым. А между тем микроорганизмы исследуются точным прибором — микроскопом. То, что неуловимо, требует особой точности.
Арто говорил о магии театра, и то, каким образом он говорил об этом, обладает несомненной силой внушения, затрагивающей нас. Мы можем ее не осознавать, но мы знаем, что он стремился к театру, выходящему за пределы повествовательности и за пределы психологии в обычном смысле этого слова — как расхожей мотивировки человеческих поступков. И когда в один прекрасный день мы открываем, что сущность театра заключается не в рассказе о чем-то, что происходило, и не в обсуждении с публикой какого-либо тезиса, не в картине той жизни, «которая существует снаружи», и даже не в видении этой жизни, что театр по своей сути является актом, совершающимся hie et nunc20*, перед лицом людей, сюда пришедших, и в организмах актеров, что действительность театра непосредственна и сиюминутна и не иллюстрирует жизнь, а соотносится с жизнью «по аналогии», — когда мы все это сознаем, мы задаемся вопросом: а не об этом ли говорил Арто? Или когда мы ликвидируем в театре грим, трюковые костюмы, ватные животы, муляжные носы и предлагаем актеру, чтобы он силой собственного импульса, мощью собственного организма 85 преобразился на глазах зрителя в иное существо, когда мы убеждаемся, что, пожалуй, в этом преображении, ничем не прикрытом, схваченном in statu nascendi, заключена магия актера, мы снова спрашиваем самих себя: разве не эту магию имел в виду Арто?
Арто говорит о «космическом трансе». Неплохо звучит в наше время, когда опустевшее небо, лишившееся традиционных небожителей, само становится предметом культа. Космический транс должен привести к «магическому театру». Таким образом, у Арто неизвестное объясняется через неизвестное, магическое через магическое. Не знаю, что значит «космический транс», потому что вообще не верю, чтобы космос мог служить человеку — в психическом смысле — некой трансцендентной точкой соотнесения. Личность является точкой соотнесения.
Арто выступил против повествовательного, дискурсивного принципа в театральном искусстве, противопоставив себя тем самым всей традиции французского театра. Во Франции вначале это вообще было выше всякого понимания, а позже оказалось, что предложения Арто освещают совершенно новым светом средства и возможности театра. Однако в странах Центральной и Восточной Европы все еще существуют живые традиции не-повествовательного театра. Нам в этом смысле трудно было бы признать Арто пионером; что бы мы тогда, к примеру, сказали о Вахтангове? Да и в значительной степени о Станиславском?
Арто противопоставил себя театру, попросту иллюстрирующему драматические тексты; его постулатом был театр как творческое искусство, а не театр — пересмешник литературы. Было в этом с его стороны великое понимание сути вещей и большая отвага, ибо он писал на языке, в которым даже собрания сочинений драматургов называются не «Драмы», а «Театр»: «Театр Мольера», «Театр Монтерлана». И все же идея автономного театра пришла к нам — и к тому же намного раньше — не от него, а из России, от Мейерхольда.
Арто постулирует стирание границы между сценой и зрительным залом; это кажется поразительным, но давайте приглядимся внимательно к его предложениям. Арто предлагает не ликвидацию сцены, отделенной от зрительного зала, и не поиск соответствующего каждому спектаклю соотношения между сценой и залом, то есть соответствующего принципа конфронтации двух ансамблей — актеров и зрителей. Он предлагает зрителей поместить в середине зала, а играть главным образом по четырем углам. Здесь мы имеем дело не со стиранием границы между сценой и зрительным 86 залом, а с ликвидацией классической сцены-коробки и заменой ее другим постоянным принципом. Надо сказать, что за много лет до предложений Арто радикальные шаги по линии ликвидации деления на сцену и зрительный зал сделали Рейнхардт, а также Мейерхольд в своих мистериальных зрелищах. В Польше позднее архитектор Сыркус в уже сознательно выработанной концепции «симультанного театра» сделал то же самое.
Так постепенно одну за другой мы отобрали у Арто его заслуги, чтобы вернуть их законным владельцам. Казалось бы, мы готовимся сорвать с Арто его одеяния, подобно тому, как он сам сорвал их с Беатриче Ченчи в своем представлении. Но разве мы «раздеваем» его для того, чтобы замучить, а не для того, чтобы увидеть, каким он был на самом деле? Разве тот факт, что где-то когда-то что-то уже было постулировано, может поставить под сомнение ту истину, что Арто совершил эти открытия по-своему — через свои мучения, через призму собственных навязчивых идей — и что для своей страны он их действительно совершил? Если бы Арто обладал собственной театральной студией, он, быть может, вывел бы свои видения из сферы неопределенности в какую-то определенность и преобразил бы их даже не в форму, а, что более существенно — в технику. И тогда он смог бы опередить всех остальных реформаторов, ибо он обладал отвагой и способностью одолевать границы обыденной повествовательной логики. Наверное, так оно и случилось бы, но так не случилось.
Загадка Арто заключена, кроме прочего, в том, что более всего он был плодотворен в ошибках, которые совершал, и в недоразумениях, которые порождал. Его описание балийского театра, столь убедительно действующее на наше воображение, по сути дела, являет собой одно сплошное недоразумение. Арто прочитывал как «космические знаки», как «жесты, вызывающие высшие силы», такие элементы спектакля, которые действовали там на совершенно иных, весьма простых и, я бы сказал, элементарных основах. То, что для Арто было «таинственно» и «космично», в балийском театре означало попросту конкретное выражение, конкретное театральное слово в том алфавите знаков, ключ к которому для балийцев был общеизвестен и ясен.
Созерцание балийского спектакля было для Арто тем же, чем для ясновидящей — стеклянный шар. Спектакль балийцев как бы выманивал из него некий потенциальный спектакль — совершенно иной, дремавший в нем самом, и этот-то спектакль, возникший «по поводу» балийского театра, дает нам представление о пределах творческих возможностей этого человека. Конечно, там, 87 где он от описания переходит к теории, он объясняет магию — магией, космический транс — космическим трансом; словом, это теория, где все означает все.
Но и в этом описании Арто как бы прикасается к чему-то существенному и в то же время обходит его, так и не сумев постичь до конца. Дело заключается между тем в подлинном уроке сакрального театра, будь то античный театр или театр средневековой Европы, балийский или индийский театр Катхакали. А урок этот состоит в том, что спонтанность и дисциплина взаимно усиливают, а не ослабляют друг друга: то, что стихийно, и то, что взято в рамки партитуры, приводит к взаимному обогащению, становится подлинным источником «излучения» в актерской игре. Этого урока не понимали ни Станиславский с его учением о доминанте предлагаемых обстоятельств, ни Брехт, у которого исключительный приоритет отдавался конструкции роли.
Арто обладал интуитивным ощущением мифа как динамичного средоточия театрального зрелища. Единственным, кто опередил его в этой области, был Ницше. Арто знал также, что насилие, совершенное над мифом, обновляет его истинные ценности и «становится фактором того ужаса, который вновь восстанавливает обесчещенные нормы» (слова принадлежат Людвику Фляшену). Он не заметил, однако, что в эпоху, в которую мы живем, когда смешаны все языки, уже невозможно отождествление театральной коллективности с мифом, ибо нет уже единой веры. Возможны еще лишь конфронтация с мифом, поединок с ним, «очная ставка».
Арто мечтал о том, что театр будет создавать новые мифы. Истоком этой прекрасной мечты было отсутствие точности, ибо если миф — «отстой», узловое сплетение всей суммы опыта многих поколений, то не театру творить его, а поколениям. Театр же самое большее мог бы содействовать кристаллизации мифа. Но, слишком совпадая с общепринятыми суждениями на этот счет, такой театр едва ли мог бы быть творческим. Конфронтация как поединок с тем, что являет собой традиционную ценность; спектакль как трансформатор, «приспосабливающий» наш опыт к опыту минувших поколений (и наоборот); спектакль как столкновение ценностей традиционных и ценностей сегодняшних и возникающее в этом столкновении преодоление — вот, как мне кажется, единственная реальная возможность функционирования мифа в театре. Истинное обновление заключается в этой двойственной игре ценностей, в этом сближении и отталкивании, в разоблачении мифа и в отдаче себя в его власть.
88 И все же Арто был пророком. Его тексты заключают в себе столь необычное, столь многозначное переплетение предвидений, такие удивительные нащупывания возможностей, такие убедительные видения и метафоры, что есть в них, несмотря ни на что, какая-то неизбежная, долгодействующая меткость открытия, ибо это должно подтвердиться. Неведомо как, но должно. И подтверждается.
Мы издаем торжествующий вопль, ловя Арто на детских недоразумениях. Знак в восточном театре, который попросту является частью общеизвестного алфавита, он пытается перенести в европейский театр, где знаки должны родиться каждый раз заново и соотноситься с известными здесь жизненными и культурными параллелями, а значит, стать чем-то совершенно иным. Все его разделения на женское, мужское и среднее дыхание проистекают из непонимания восточных текстов, практически же они так туманны, что не поддаются проверке. Рассуждения об «атлетике чувств», не лишенные удачных наблюдений, в случае практического применения неизбежно вели бы к штампу жеста и движения, вечно означающему ту или иную определенную эмоцию.
И все же за всем этим видно некое верное предчувствие, впрочем, не конкретизированное и не выкристаллизовавшееся. Оно, однако, касается чего-то такого, что мы можем обнаружить, идя иным путем. Это касается глубинной сути, самого корня актерского искусства: то, что делает актер, должно быть, назовем это так, актом целостным. То, что он делает, он должен делать всем собой, целостно, а не лишь ограниченным и, следовательно, деревянным жестом руки, ноги, гримасой лица, логическим акцентом, наконец, даже мыслью, ибо и она тоже не в состоянии управлять всем организмом, а может его только побуждать к чему-то. В противном случае организм перестает жить, его импульсы становятся видимостью. Между реакцией целостной и реакцией, направляемой мыслью, та же разница, что между цветущим орешником и куском отесанного дерева. В конце концов речь идет о неотделимости сферы духовной от сферы физической. «Акт души» актер должен не иллюстрировать организмом, а совершать организмом.
Арто преподает нам великий урок, навстречу которому каждый из нас должен открыть себя. Урок этот — его болезнь. Несчастьем Арто был тот факт, что его болезнь, паранойя, отличалась от болезни века. Цивилизация больна шизофренией — отрывом рассудка от чувства, души от тела. Общество не хотело терпеть того, что Арто был болен иначе. Его лечили, иными словами, подвергали пыткам — реально, при помощи электрошока, чтобы вынудить 89 его признать правоту описательных, «мозговых» истин, то есть признать болезнь общества своей. Арто превосходно определил свою болезнь сам в письме к Ривьеру: «Я не могу быть целостно самим собой», — написал он. Он был не только собой, но и еще кем-то. Ему была доступна половина дилеммы его личности: «быть самим собой». Оставалась вторая половина: «быть самим собой целостным».
Глубокая трещина между сферой видения (интуиции) и рассудком не могла быть им заполнена, ибо он отказывался от того, что является порядком, он не стремился к точности, к господству над хаосом. Скорее он объективировал свой хаос, свою разорванность. Его хаос действительно свидетельствовал миру о многом. Это была не терапия, а диагноз, во всяком случае — для других. Его затмение, его хаос были святы, ибо другим они дали возможность достичь знания о самих себе.
У его последователей хаос уже и не свят, и недостаточно детерминирован; он призван лишь замаскировать половинчатость, скрыть то, чего не хватает. Арто давал ему выражение — это нечто противоположное.
Арто предлагает великое неистовство и великое насилие над всяческими нормами, идею очищения через насилие и жестокость, предполагая, что вынесение всех этих слепых сил на сцену способно уберечь нас от них в жизни. Но это никоим образом не может нас уберечь и не уберегает. Не в театре должно пытаться обуздать слепые силы. Скорее уж слепые силы могли бы прибегнуть к помощи театра, хотя не думаю, что они в этом нуждаются, ибо они располагают и так, в меру надобности, средствами массового воздействия. Театр, по сути, не может нас ни «спасти», ни «не спасти». Не верю, чтоб разнузданность сцен Содома и Гоморры на подмостках разрядила или хотя бы утихомирила в ком-либо те греховные желания, за которые, как известно, города эти были подвергнуты суровой каре.
И все же, когда Арто говорит о разнузданности, неистовстве и жестокости, мы чувствуем, что в чем-то он прав; и мы находим ее, эту правоту, но на иных путях. Мы чувствуем, в частности, что актер дорастает до самой сути своего призвания, когда преодолевает барьеры обыденности, когда достигает акта искренности, самообнажения, самораскрытия, даже «отдачи себя», акта предельного, торжественного, не отступающего ни перед какой начертанной «нравами» границей; когда этот акт предельной искренности моделируется в живом организме, в импульсах, в дыхании, в ритме мысли и крови, когда он упорядочен, а следовательно, сознателен, 90 то есть не расплывается в хаосе и анархии форм, — словом, когда этот акт, совершаемый посредством театра, является целостным, тогда театр, хотя и не хранит нас от слепых сил, но позволяет нам реагировать целостно, позволяет нам самим стать целостными, а это и значит — стать, это и значит — осуществиться. Ибо обычно мы реагируем на все лишь половинчато.
Говоря о целостном акте, я чувствую, что в нем заключена альтернатива «театру жестокости». Но Арто всей своей жизнью выступает здесь в определенном смысле аргументом: не столько, может быть, своими произведениями, сколько идеей спасения через театр. Самой идее театра как терапии этот человек придал своим мученичеством поразительную осязаемость.
Я нашел у Арто две формулировки, заслуживающие внимания. В первой из них — проблеск того, что анархию и хаос, к которым он надеялся прибегнуть как к своего рода ланцету, надо, тем не менее, соединить с каким-то порядком, с каким-то ладом, правда, как он пишет, — «с точки зрения разума», а не техники. Стоило бы, однако, привести эту формулировку, чтобы посвятить ее так называемым ученикам Арто. «Жестокость, — пишет он, — это дисциплина и добросовестность».
И второе определение, в котором заключается само зерно актерского творчества как высшего, предельного акта. «Актеры, — пишет он, — должны быть подобны тем мученикам, живьем сжигаемым на кострах, которые все еще подают нам знаки со своих пылающих столбов». Добавим, что эти знаки должны быть членораздельно артикулированы, что они не должны быть бормотанием, бредом, чем-то, что адресуется всему и ничему одновременно (кроме тех случаев, когда в каком-то конкретном произведении мы желаем достичь именно «бормотания»). С этой оговоркой можно утверждать, что процитированная мысль Арто в зашифрованной, оракуловой формуле выражает проблему спонтанности и дисциплины — того самого coniunctio oppositorum21*, в котором родится целостный акт.
Арто был великим поэтом театра, вернее — поэтом его возможностей. Именно театра, а не драматической литературы. Как мифические пророки, как Исайя, он возвещал театру некое высшее назначение, новый смысл, новую возможность. «И родится Иммануил…». Подобно Исайе, он знал, что родится Иммануил — новое возможное воплощение. Он прозревал его туманные очертания.
1967
91 АКТЕРСКИЕ ТЕХНИКИ
Беседа
с Дени Бабле68
Дени Бабле: Хотелось бы, чтобы Вы высказали свое отношение к разным актерским техникам, например, Станиславского, Арто и Брехта. А также я просил бы Вас объяснить, как Вы, исходя из размышлений над этими техниками, но и, естественно, опираясь на свой индивидуальный опыт, пришли к выработке своей собственной техники актера, к определению ее целей и средств.
Ежи Гротовский: Думаю, что надо точно разграничить методы и эстетику. Например, Брехт поведал множество интересных вещей о возможностях игры, предполагающей сознательный контроль действий со стороны самого актера, об «эффекте очуждения». Но здесь речь идет не о методе в точном значении этого слова, а скорее о чем-то вроде понятий из области эстетики актерского искусства, так как Брехт на самом деле не ставил перед собой вопроса «как это делается». Если он и давал пояснения, то они носили общий характер. Безусловно, Брехт следил за игрой актера в самых мельчайших деталях, но всегда с позиции постановщика, сопутствующего актеру.
Иной случай с Арто. Он, без сомнения, вдохновляет на искания, касающиеся возможностей актерского искусства, но то, что Арто предлагает, сводится в конечном счете к видениям, к своего рода поэме об актерском призвании. Причем его высказывания до такой степени поэтичны, что из них невозможно извлечь никаких практических выводов. Арто верно заметил — Вам ведь знакомо его эссе «Атлетика чувств» из книги «Театр и его двойник», — что существует реальный параллелизм между усилием человека, совершающего физическое действие (подъем тяжелого предмета и т. п.), и его психическими процессами (принятие импульса, ответ на него и т. п.). Арто сделал верное наблюдение, что в теле существует некий центр, управляющий реакциями как атлета, так и актера, стремящегося выразить психическое действие посредством тела. Но если его исходные положения подвергнуть анализу с точки зрения практики, становится ясно, что ведут они к стереотипу: выработке постоянно очерченного типа движения 92 для выражения определенного рода эмоции. Так можно прийти к штампу.
Конечно, когда Арто проводил свои исследования, когда, будучи сам актером, наблюдал собственные реакции и искал пути, в конечном счете далекие от достоверного подражания человеческому поведению и в равной мере далекие от холодных конструкций, его телесные реакции не были штампом. Но мы обсуждаем его теорию. В ней можно обнаружить полезные и вдохновляющие моменты; если же, однако, трактовать ее как технику, то можно прийти к штампу. Арто предлагает нам некий исходный пункт, плодотворный для дальнейших исследований; он также предлагает и некую эстетику. Когда он склоняет актера к наблюдениям над собственным дыханием, к применению элементов дыхания в игре, он предлагает актеру расширение его возможностей, предлагает вовлекать в действие не только слово, но и то, что словами невыразимо (вдох, выдох и т. п.). Это в высшей степени плодотворное эстетическое предложение, но это не техника.
Не так уж много в конечном счете методов актерского искусства. Наиболее разработанный из них принадлежит Станиславскому. Станиславский поставил существенные вопросы и дал на них собственные ответы. В течение многих лет исследований его метод менялся, но не менялись его последователи. В каждый период своей творческой жизни Станиславский имел учеников, и каждый ученик обычно держался постулатов своего, для него единственного, периода. Отсюда все их дискуссии, которые носят поистине теологический характер. Сам же Станиславский неустанно экспериментировал и предлагал актеру не рецепты, а средства для обретения им самого себя, средства, делающие для него возможным — в каждой конкретной ситуации — ответ на вопрос: «Как это делается?» Вот в чем суть дела. Разумеется, он экспериментировал в границах театра своей страны, своей эпохи, театра реализма…
Д. Б. Внутреннего реализма…
Е. Г. Реализма человеческого бытования, как мне кажется… А может быть, скорее натурализма… Шарлю Дюллену также принадлежит немало удачных проектов в области упражнений, импровизаций, этюдов с масками или же этюдов на тему: «человек и растения», «человек и животные» и т. п. Все это очень полезно в подготовительной работе актера, пробуждает не только его воображение, но и развитие его естественных реакций, однако в целом не складывается в некую технику воспитания актера в собственном значении этого слова.
93 Д. Б. На чем же основывается оригинальность Вашей позиции по сравнению с этими различными концепциями?
Е. Г. Все созданные системы в области актерского искусства ставят перед собой вопрос: как это сделать? И они правы: метод и заключается именно в том, чтобы осознать пресловутое «как сделать». Я считаю, что раз в жизни этот вопрос надо перед собой поставить. Но когда уже углубляешься в детали, ставить его себе и дальше не следует, ибо в тот момент, когда мы его формулируем, мы уже создаем стереотип, штамп. А посему следует поставить перед собой другой вопрос: как этого не делать? чего не следует делать?
Наиболее внятными в таких случаях оказываются технические примеры. Возьмем, к примеру, дыхание. Если мы ставим вопрос, «как делать», мы имеем в виду тип некоего наилучшего, наиболее правильного дыхания, по-видимому, брюшного: ведь в жизни мы неоднократно наблюдали, что детям, животным, людям, наиболее близким к природе, присуще дыхание с брюшной, диафрагмальной доминантой. Но тут возникает второй вопрос: какой вид брюшного дыхания считать наилучшим? В поисках наилучшего мы могли бы совершить выбор какого-нибудь одного типа вдоха, одного типа выдоха, одной позиции участвующего в дыхании позвоночника. А это как раз и есть непростительная ошибка, так как не существует совершенного типа дыхания, обязательного для всех людей во всех психических состояниях и позициях тела. Дыхание — физиологическая реакция, связанная с особенностями натуры, особенностями природных свойств личности; оно зависит от ситуации, от рода и типа предпринимаемых усилий, от тех действий, которые совершаются телом. Большинство людей, когда они дышат свободно, естественным образом пользуются брюшным дыханием, однако число видов брюшного дыхания не ограничено, а кроме того, существуют и исключения. Я, например, встречал актрис с настолько удлиненной грудной клеткой, что в сценическом действии они не могли естественным образом использовать брюшное дыхание. Надо было поэтому искать для них другой тип дыхания — дыхание, направляемое через позвоночник. Если актер силится искусственным образом изобрести некую наилучшую и объективную модель брюшного дыхания, он блокирует свой естественный дыхательный процесс даже тогда, когда его природное дыхание относится к диафрагмальному типу.
Когда я начинаю работу с актером, первые вопросы, которые я себе задаю, звучат так: а может быть, у этого человека нет никаких 94 трудностей с дыханием, и дышит он правильно, и в момент речи или пения ему вполне хватает воздуха, зачем же создавать лишние трудности, зачем навязывать ему другой способ дыхания? В этом нет необходимости, это ни к чему. Но, может быть, он все-таки испытывает какие-то трудности на самом деле? Какие? Отчего? Физические ли здесь причины? Или психические? А если это психические проблемы, то какие?
Допустим, актер «зажимается». Почему? Каждый из нас порой «зажимается». Расслабиться полностью невозможно, хотя этому и учат во множестве театральных школ. Невозможно и не следует, потому что, если вы расслабитесь полностью, вы превратитесь в выжатую тряпку. Жить — не значит, разумеется, быть напряженным, но и не значит тем более быть расслабленным, — это процесс. Если, однако, актер находится постоянно в состоянии чрезмерного напряжения, надо искать причины, почти всегда психической природы, которые блокируют в нем естественный процесс дыхания. Следует определить врожденный тип дыхания актера и, наблюдая его, давать упражнения, которые требовали бы от него полной психофизической мобилизованности. Его надо наблюдать в тот момент, когда он конфликтует с другими: с партнерами или вообще с окружающими; когда он совершает различные действия по отношению к ним, кокетничает с ними; наблюдать и в такие минуты, когда что-то подвергается автоматическим изменениям. Зная врожденный тип дыхания актера, мы можем точнее определить причины, которые препятствуют его естественным реакциям, а упражнения в конечном своем итоге преследуют цель устранения этих препятствий. Вот основное различие между нашей техникой и другими методами: наша техника является не позитивной, а негативной.
Мы не ищем ни рецептов, ни стереотипов — всего того, что составляет арсенал и трофеи рутинеров; не стараемся ответить на вопросы: что надлежит делать, чтобы показать гнев? как надо расхаживать по сцене? как играть Шекспира? (а ведь в конце концов к этому сводится весь набор вопросов, которые обычно ставятся). Но надо спросить актера: «Каковы препятствия, блокирующие тебя на твоем пути, блокирующие в тебе тот акт самовыявления, который должен включить все твои резервы, от самых что ни на есть инстинктивных до наиболее осознанных»? Надо установить, что же его блокирует в отношении дыхания, движения, а также — что самое важное — способности контактировать с людьми. Каковы эти препятствия? Как их устранить? Я очень хочу отнять у актера, украсть у него то, что его тяготит; пусть в нем останется то, 95 что есть в нем творческого, пусть произойдет избавление. Если же не останется в нем ничего, то единственно потому, что он не творец.
Одна из самых больших опасностей, ограничивающих актера, — отсутствие дисциплины, хаос. Конечно, можно выразить себя и в формах анархии. Но в таком случае как раз и говорят, что «сказать, видимо, нечего». Думаю, однако, что спонтанность и дисциплина составляют две стороны одного и того же творческого процесса. Думаю, что у актера не может быть истинного творческого процесса как без дисциплины, так и в равной мере без спонтанности. Мейерхольд сделал осью своей работы дисциплину, разработку и тренировку внешних форм; Станиславский же — спонтанность каждодневной, обыденной жизни. По сути же это два взаимодополняющих аспекта творческого процесса.
Д. Б. Следовательно, формирование актера на практике должно быть приспособлено к каждому отдельному случаю?
Е. Г. Именно так, не может быть и речи ни о каких рецептах.
Д. Б. А значит, не существует обучения актера вообще, а есть обучение каждого актера в отдельности. Как же Вы поступаете в своей практике? Вы за ними наблюдаете? Расспрашиваете их? А что следует потом?
Е. Г. Есть тренирующие упражнения. А вот разговариваем мы очень мало; во время тренинга от каждого актера требуется одно — искать собственные варианты упражнений, исследовать границы своих возможностей и стараться их преодолеть. Когда актер технически уже овладел упражнениями и по-своему расширил круг их применения, он стремится к их «обактериванию», то есть к «игре» ими, к ассоциациям, к вариантам неожиданным, необычайным.
Д. Б. Тренинг проводится коллективно?
Е. Г. Исходный пункт тренинга для всех один и тот же, но… Возьмем пример физических упражнений: элементы упражнений одни и те же для всех, однако каждый должен в себе нащупать, изучить и преодолеть свои точки сопротивления. Даже сторонний наблюдатель легко замечает индивидуальную разницу в упражнениях, основанных, однако, на тщательно и точно освоенных общеобязательных элементах. Когда уже не существует препятствий на элементарном уровне, главной задачей для актера становится достижение «чувства безопасности» в тот момент, когда он находится в процессе творческого поиска «чернового» варианта. Работа актера всегда находится под угрозой: ведь он постоянно контролируем, за ним наблюдают. Нужно создать такую систему 96 работы, чтобы актер чувствовал: ничто из того, что он сделает, не станет объектом насмешек, даже если и не будет принято. Повторяю: это необходимо тогда, когда работа происходит уже на высоком уровне, когда сам факт самораскрытия актера не имеет уже ничего общего ни с бегством от технических трудностей, ни с нарциссизмом, ни с упоением собственными переживаниями.
Д. Б. Таким образом, должно существовать абсолютное доверие между актерами, между ними и Вами?
Е. Г. Не совсем так. Все основывается не на том, что актер должен делать, что ему предложит режиссер, а на том, что он должен знать: он может делать все, что хочет, но быть при этом человеком полностью ответственным, то есть серьезным и точным. Он должен знать и то, что, если даже в итоге его предложения не будут приняты, против него это использовано не будет.
Д. Б. Он будет судим, но не приговорен… Говоря об актерах в спектакле, Вы охотно прибегаете к термину «партитура», а не «роль» — по-видимому, этот нюанс очень существен для Вашей работы. Не могли бы Вы точно определить, что Вы понимаете под «партитурой» актера?
Е. Г. Что такое роль? В своем конечном виде — почти всегда текст персонажа, тот самый распечатанный на машинке текст, что вручается актеру. А также определенная концепция персонажа, содержащая в себе вдобавок некий стереотип: Гамлет — безвольный интеллектуал или же, напротив, революционер, рвущийся все изменить вокруг себя. Актер получает свой текст, и в результате должна произойти встреча. Неверно было бы сказать, что роль является поводом для актера или что актер — повод для роли. Это скорее вызов, брошенный ему. Я бы сказал, что здесь происходит «засасывание» актера в некое деяние, которое надлежит совершить, серьезное приглашение к испытанию.
Отвечая на него, примеряясь к роли, изучая возникшую возможность, пробуя, как бы понять ее организмом, всей своей целостностью, пытаясь совершить то человеческое деяние, которое от нас требует роль, актер доходит до экстериоризации, состояния, когда он должен, по существу, поднять неподъемное, превзойти самого себя. Если ограничиться объяснением роли, актер будет знать, что в одном ее месте он должен сесть, а в другом вскрикнуть; в начале репетиций нужные ассоциации будут возникать нормально, но после двадцатого представления не останется ничего, кроме совершенно механической игры.
Чтобы так не случилось, актер, как и музыкант, должен обладать своей партитурой. Партитура музыканта — ноты. Театр — это 97 встреча. Партитура актера — элементы межчеловеческих отношений: импульсы и реакции — дисциплинированные, точные. Во встречах между людьми всегда содержится необходимость воспринимать и реагировать, то есть импульсы от других и импульсы к другим. Процесс повторяется, но всегда hic et nunc, значит, он никогда не может быть в точности тем же самым, хотя все детали партитуры сохраняются.
Д. Б. Партитура спектакля постепенно фиксируется в Вашей совместной работе, в сотрудничестве с актерами?
Е. Г. Да, это своего рода сотрудничество.
Д. Б. Итак, актер свободен. Как он приходит (одна из важных проблем, поставленных Станиславским) к достижению в каждом своем выступлении творческого состояния, позволяющего ему сыграть партитуру, состояния, без которого она станет слишком жесткой, без которого воцарится чисто механическая дисциплина? Как сохранить одновременно обязательное присутствие партитуры и необходимую свободу актера?
Е. Г. Очень трудно ответить в нескольких словах, но если позволите, то ценой некоторых упрощений я отвечу. Если актер в процессе репетиций освоил партитуру как нечто естественное, органичное («брать — давать» = игра его импульсов), если перед выступлением он готов к совершению акта самовыявления, к служению (но не самому себе), тогда каждый спектакль достигнет своей полноты.
Д. Б. Брать — давать… Это касается и зрителя тоже?
Е. Г. Во время игры думать о зрителе не следует. Конечно, это деликатный вопрос. Первый этап: актер строит свою роль; второй этап: партитура. Именно в этот момент он ищет и своего рода чистоту (исключает все чрезмерное), и одновременно знаки, необходимые для актерского высказывания. Поэтому он думает: «Понятно ли то, что я делаю?» А ведь сам вопрос предполагает присутствие зрителя. Я являюсь этим зрителем, руководя работой, и я говорю актеру: «не понимаю» или «понимаю», «мне кажется, что не понимаю» или «понимаю, но не верю»… Есть вопрос, который охотно ставят психологи: в чем твоя религия? Не твои догматы и не твои философские воззрения, а твой ориентир. Если актер за ориентир примет для себя зрителя, он всегда в какой-то степени будет хуже этого зрителя. Иначе говоря, он захочет себя продать.
Д. Б. Это уже эксгибиционизм…
Е. Г. Да, что-то вроде проституции, дурного пошиба и тому подобного. Это неизбежно. Юлиуш Остэрва, великий польский актер 98 довоенного театра, назвал такое явление «публикотропностью». Я не считаю, однако, что актер прямо-таки обязан вообще не принимать зрителя во внимание и говорить себе: «Да здесь никого нет», потому что тогда он солжет. Словом, актер не должен относиться к публике как ориентиру, но и не должен пренебрегать самим фактом существования зрителей. Как Вы знаете, мы в наших спектаклях по-разному устанавливаем отношения между актерами и зрителями: в «Фаусте» зрители были гостями, в «Стойком принце» — соглядатаями. Но самое важное, я думаю, вот что: актер не должен играть для зрителей, он должен — сознательно — играть перед лицом зрителя, в присутствии зрителей. Совершать акт истины, предельного самовыявления, но точного и обладающего структурой. Отдавать себя, не щадя себя; выявлять себя, не копаясь в себе (иначе — нарциссизм).
Д. Б. Считаете ли Вы, что актер должен долго готовиться к каждому выступлению, чтобы достичь упомянутого, как его называют некоторые, «состояния благодати»?
Е. Г. Актер должен располагать достаточным временем, чтобы отдалиться от всех проблем, отрешиться от того рассредоточения, которое несет в себе наша повседневная жизнь. Обязательными у нас являются только полчаса тишины перед спектаклем — и это все; за это время актер может заняться собой, подготовить себе костюм или же припомнить какие-то сцены. Все это совершенно естественные вещи, тут нет ни таинственности, ни мистицизма.
Д. Б. Может ли Ваша техника применяться другими режиссерами, можно ли ее приспособить к иным, отличающимся от Ваших, художественным целям?
Е. Г. В моей работе также нужно отделять эстетику от метода. Безусловно, вроцлавскому Театру-Лаборатории присуща определенная эстетика, наша собственная эстетика, которая не должна копироваться другими, да и результат такого копирования не был бы ни органичным, ни попросту удачным. Но мы являемся также Институтом изучения актерского метода. Благодаря выработанной нами технике актер может говорить и петь в сильно расширенном диапазоне и регистре, и это объективный результат нашей работы. Преодоление трудностей с дыханием в процессе сценического поведения — это тоже объективная задача. Умение применять разные типы телесных и голосовых реакций, что, как правило, для множества актеров необычайно трудно, — тоже объективный результат наших исследований.
Д. Б. Следовательно, в настоящее время в Вашей работе существуют два аспекта: с одной стороны — осознанная эстетика 99 художника-творца, с другой же — исследования в области техники актера. Какой из двух аспектов для Вас главный?
Е. Г. Самое существенное для меня сегодня — постепенное открытие элементов, лежащих в основе актерской профессии, актерского действия. Первоначальное образование я получил как актер, потом как режиссер. В моих первых постановках в театрах Кракова и Познани я отказался от уступок в пользу театрального консерватизма. Постепенно я сделал открытие, что воплощение самого себя, самореализация менее плодотворны, чем изучение возможностей воплощения других. И, пожалуй, не в альтруизме тут дело, напротив, это мое жизненное приключение.
Но собственные режиссерские приключения в конце концов становятся легко осуществимыми, встречи же с человеческими существами являются труднейшей задачей, намного более плодотворной и вдохновляющей. Если я сумел завоевать актера, сотрудничая с ним, актера, способного выявиться так, как, например, Ришард Чесляк в «Стойком принце», то для меня этот процесс намного плодотворнее, чем самое изобретательное сочинение и комбинирование очередной постановки, и уж тем более, чем мое собственное личное творчество. Так постепенно я обратился к паранаучным исследованиям в области актерского мастерства. В исходном замысле их не было — они результат перемен, происшедших во мне самом.
1967
100 ТЕАТР И РИТУАЛ69
Тема нашей беседы — «Театр и ритуал» или, если хотите, «В поисках обряда в театре» — может показаться слишком научной. На самом деле то, чем я хотел бы поделиться, это скорее история мечтаний, иллюзий и искушений, встретившихся нам на пути поисков мифа в театре, поисков ритуала. Думаю, что история эта — очень личная, но думаю также, что из нее можно сделать и некоторые выводы объективного характера.
На заре артистической деятельности, когда я еще молодым режиссером работал в Кракове, у меня уже сложилось некоторое представление о возможностях театра, некий образ этих возможностей; он сформировался в определенной степени наперекор существующему театру, тому очень культурному, в расхожем смысле этого слова, театру, который является продуктом встречи просвещенных людей: одних, занимающихся сложением слов, компоновкой жестов, проектированием декораций, использованием софитов и т. п., и других людей, тоже просвещенных, знающих, что в театр полагается ходить, что посещение театра — своего рода моральная или культурная обязанность современного человека. В результате и те и другие выходят из этих встреч еще более просвещенными, однако ничего существенного между ними произойти не может. Каждый остается пленником определенного типа театральной условности, определенного типа мышления или идеи. В театр полагается ходить, потому что это принято, там «бывают», там делаются спектакли, играются роли, готовятся декорации, но в конечном итоге это просто еще один вид механизма, который функционирует сам по себе, вроде обязанности чтения докладов. Поэтому я считал, что путем, ведущим к живому театру, может стать изначальная театральная спонтанность. Мне кажется, что это искушение влечет к себе уже давно многих деятелей театра. Но одного искушения недостаточно.
И я решил, что коль скоро именно первобытные обряды вызвали театр к жизни, то, значит, через возвращение к ритуалу — в котором участвуют как бы две стороны: актеры, или корифеи, 101 и зрители, или собственно участники — и можно воссоздать такой церемониал участия: непосредственного, живого; своеобразный род взаимности (явление достаточно редкое в наше время), реакцию открытую, свободную, естественную.
Конечно, у меня были некоторые исходные замыслы: например, я считал, что нужно актеров и зрителей как бы сталкивать в пространстве лицом к лицу, вызывая обмен взаимной реакцией — в самом ли языке или в языке театра, то есть предлагая зрителям своеобразную со-игру. Но с точки зрения пространственных композиций здесь многое еще было нечетко и неточно, и только в 1960 году, уже после нескольких постановок, когда я встретил архитектора Ежи Гуравского, человека огромного воображения, стремившегося к тому же, к чему и я, мы вместе двинулись на бескомпромиссное завоевание пространства.
В чем же заключалась наша ведущая идея, довольно абстрактная вначале, но с течением времени обраставшая плотью? В том, чтобы для каждого спектакля пространство организовывать по-разному, ликвидировав сцену и зрительный зал, существующие отдельно друг от друга. В том, чтобы игру актера обратить в стимул, втягивающий зрителя в действие. К примеру, такой эпизод: монах в трапезной. Он обращается к зрителям: «Позвольте исповедаться перед вами», и с этой минуты зрителям навязана определенная ситуация; монах начинает свою исповедь, а зритель — хочет он того или нет — становится исповедником; так было в поставленном нами «Фаусте» Марло.
Иную ситуацию, возникающую из такого же понимания пространства, мы выстроили в «Кордиане» Словацкого. Весь театральный зал был превращен в палату психиатрической больницы, отношение к зрителям было подобно отношению к пациентам, каждый зритель расценивался как больной. Более того, даже врачи, то есть актеры, считались больными — все и вся оказалось охвачено великой хворью определенной эпохи, определенной цивилизации или, скорее, одержимо приверженностью к традиции. Но главным было то, что самый больной герой спектакля, Кордиан, был и в самом деле болен — болен благородством. Тот же, кто руководил всем лечением — полный здравого смысла Доктор, — был, конечно, здоров, но здоров самым ничтожным и низким образом. Может быть, это и парадокс, и противоречие, но нам приходится с ним часто сталкиваться в жизни: когда мы стремимся непосредственно воплощать великие ценности, мы вступаем на грань помешательства, становимся безумцами, хотя, быть может, и сохраняем здоровье; но если мы хотим быть совершенно 102 разумными, то оказываемся не в состоянии эти ценности воплощать, и тогда, со всем нашим здравым рассудком, следуя, казалось бы, верным путем, никоим образом не сходя с ума, — здоровы ли мы тогда? Возможно, здоровы… но ведь и корова — здорова. Итак, мне казалось, что если актер, совершая определенные действия по отношению к зрителю, стимулирует его, вовлекая в совместную игру, провоцируя на определенного рода поступки, движение или жест, напев или словесную реплику, то это должно сделать возможным восстановление, реконструкцию первобытной общности обряда.
В конечном счете это было вполне достижимо. Мы создали несколько спектаклей, в которых реакция зрителей была непосредственной: они как бы втягивались в роли, распевая песни, действуя почти по-актерски и заодно с актерами. Все это, однако, было заранее и хорошо подготовлено и по сути было далеко от того, что сегодня называется хэппенингом: актеры, например, во время репетиции искали разные варианты своего поведения, имея в виду разные варианты поведения зрителя. Зритель, оказавшись лицом к лицу со своеобразной агрессией со стороны актера, проявляет, скажем, пять или шесть видов реакции, поэтому мы подготавливали заранее несколько вариантов актерского поведения в отношении зрителя — в зависимости от его возможной реакции. Должен, однако, признаться, что в тот день, когда мы наконец добились соучастия зрителей в спектакле, нас охватили сомнения: естественно ли это? Есть ли в этом искомая подлинность?
Конечно, зрители принимали непосредственное участие в действии, но для большинства из них это было участие скорее «мозгового» характера. Реагировали они по-разному: для некоторых это было забавой или чудачеством, и они искали иронической реплики, стараясь продемонстрировать присущее им чувство юмора, что, возможно, само по себе было бы вовсе и не так плохо, если бы спектакль не тяготел в финале почти всегда к трагическому противоборству сил в главном герое, а это начинало их сковывать. Случалась и истерическая реакция: зрители поднимали крик, всхлипывали и дрожали… Казалось бы, состояние стихийной реакции овладевало ими. Состояние это, однако, не было состоянием первобытной, изначальной спонтанности. Единственное, о чем оно порой могло свидетельствовать, так это о некоем стереотипе, например, о существующем в нашем воображении стереотипе поведения дикаря, каким оно могло быть в обряде его подготовки к войне или охоте; зрители как бы демонстрировали, какие в таких случаях, по их мнению, надо издавать крики, какие производить 103 движения, какое испытывать возбуждение. Но в этом не было состояния подлинности, скорее была надуманность, все было как бы вычислено, было головной, искусственной реализацией стереотипного представления о поведении дикаря.
Иные зрители пытались сохранить интеллигентность восприятия, стремились постичь интеллектуальный смысл произведения, тот смысл, который в театре по-настоящему существует только тогда, когда остается скрытым, невидимым, ибо когда он становится явно видимым, то теряет всякое значение, выхолащивается. Эти зрители искали некий описательный или повествовательный ответ, стараясь прочесть его в жесте, в слове, в целой фразе; это было как бы интеллигентно, но не естественно, напоминало поведение интеллектуальной и художественной элиты на великосветском рауте, где много виски, чуть-чуть музыки и танцев и где каждый обязан быть умным.
Естественности явно недоставало, хотя со стороны все это производило впечатление толпы, втянутой в движение. Казалось, что в него вовлечены достаточно многочисленные человеческие группы, ведомые актерами; в этом актерском предводительстве были элементы борьбы со зрителем и элементы взаимопонимания; со стороны же зрителей — что-то вроде согласия на действие, но и моменты протеста или молчания. Со стороны, повторяю, это, вероятно, выглядело и неплохо. Если бы вообще можно было выстроить вокруг нашего зала второй зал, для зрителей, чтобы те могли наблюдать, что же происходит в спектакле между играющими актерами и играющими зрителями, результат мог получиться интересным. Но в реакциях зрителей, когда они действовали как со-актеры, высвобождая в себе некую стихийность, многое еще сохранялось от старого театра — старого не в смысле «архаичного», не в смысле старого — «благородной пробы», старого — «исконного», «укорененного», а в смысле театра штампа, театра банальной спонтанности. А значит, противоречило структуре спектакля, которая, смею думать, не была банальной и которая, как мне кажется, могла в определенные моменты служить вдохновляющим началом.
И вот, когда я разобрался в создавшемся положении, в нашем коллективе начались бесконечные споры, что в свою очередь способствовало изменению исходных позиций. Происходило это между «Кордианом» и «Акрополем» (в первой версии), а позднее — между «Акрополем» и «Доктором Фаустом». Что же мы заметили?
104 А то, что, когда мы хотим дать зрителю шанс эмоционального участия — непосредственного, но эмоционального, то есть возможность отождествить себя с кем-то, кто несет на себе ответственность за разыгрывающуюся трагедию, — то зрителя следует, вопреки видимости, отдалить от актеров. Зритель, отдаленный в пространстве, отодвинутый на дистанцию, поставленный в положение кого-то, кто выступает лишь наблюдателем и даже не принимается во внимание, такой зритель в состоянии действительно эмоционально соучаствовать в происходящем, ибо тогда-то он и может обнаружить в себе древнейшее призвание — призвание зрителя. На чем же основывается это призвание? Вопрос так же правомерен, как и вопрос — в чем призвание актера? Призвание зрителя — быть наблюдателем, более того — быть свидетелем. Свидетель — не тот, кто повсюду сует свой нос, кто стремится быть поближе к событиям и рад вмешиваться в чужие дела. Свидетель держится в стороне, он не желает вмешиваться, он хочет оставаться в здравом уме и твердой памяти, чтобы, увидев то, что происходит — от начала и до конца, — сохранить в памяти картину событий. Эта картина событий должна остаться в нем самом.
Когда-то я видел документальный фильм о буддийском монахе, совершившем самосожжение в Сайгоне. Другие монахи, стоя неподалеку, присматривались к происходящему. Некоторые подавали ему необходимые предметы, что-то приготовляли и подправляли, остальные держались в стороне, в некотором отдалении, почти в укрытии, пребывая в неподвижности и созерцая всю эту сцену так, что были слышны шелест огня и само молчание… Никто из них не дрогнул. Эти люди действительно соучаствовали. Они соучаствовали в церемониале, который был последним актом человека перед лицом жизни и смерти. А так как это был монах, буддист, то они «соучаствовали» и в религиозном смысле слова. Respicio22* — в этом латинском слове заключено высокое уважение к сути вещей. Вот назначение настоящего свидетеля: не вмешиваться с мелочными целями, с навязчивой демонстрацией своего «я тоже», но быть свидетелем, то есть запомнить, запомнить любой ценой и — не забыть.
Следовательно, отдалить зрителя — значит дать ему шанс соучастия по примеру тех свидетелей, которые участвовали в деянии монаха. В таком случае распределение пространства в существующем 105 театре несовершенно, поскольку для зрителя в нем всегда есть сцена и зрительный зал, и распределение это не подлежит изменению. А коль скоро оно не подлежит изменению, зритель оказывается не в состоянии обрести свое изначальное положение свидетеля: архитектура театрального здания определяет его стороннее положение.
Если же мы располагаем девственным пространством, тогда сам факт, что зритель либо встроен в спектакль, находясь с актером как бы в состоянии взаимопроникновения, либо отдален от актера, — сам этот факт приобретает значительность и облегчает зрителю обретение присущего ему врожденного состояния свидетеля.
А вот следующий вывод: если мы желаем погрузить зрителя в спектакль, в жестокую, если можно так сказать, партитуру спектакля, если мы хотим дать зрителям ощущение дистанции, «отъединенности» по отношению к актерам и, даже больше того, хотим навязать им это ощущение, то в таком случае их надо с актерами перемешать.
Когда я говорю «жестокую партитуру», я имею в виду не внешние формы жестокости, вроде избиения (если эта «ненатуральное» избиение, оно выглядит забавным, «натуральное» же избиение не входит в задачи театра), а ту жестокость, которая заключена единственно в том, чтобы не лгать. Ибо если мы не хотим лгать, если мы стараемся не лгать и если мы не лжем, то мы тут же, немедленно становимся жестокими — это неизбежно.
Смешения актеров со зрителями мы добились в «Акрополе». Если в случае со «Стойким принцем» Кальдерона — Словацкого мы имели дело с непосредственным эмоциональным соучастием, когда зрители были прямо поставлены в положение свидетелей, то в случае с «Акрополем», где зрители перемешаны с актерами, мы получили иной результат: между теми и другими разверзлась пропасть. Актеры вьются вокруг зрителей, они пересекаются со зрителями в пространстве, но они не замечают зрителей. А если даже и замечают, то это остается без последствий: нет возможности контакта, здесь два разных мира. В «Акрополе» действительно два мира, ибо актеры предстают здесь отребьем — это человеческие останки, люди из Освенцима, мертвецы; зрители же — живые, они пришли в театр после хорошего ужина, чтобы принять участие в культурном церемониале. Эмоциональное взаимопроникновение здесь невозможно, и, чтобы вырыть эту пропасть между двумя мирами, двумя действительностями, двумя типами человеческих 106 реакций, требуется именно смешение их — вопреки видимой логике. Вывод этот очень существен.
Проводя все эти наблюдения и исследования, мы, разумеется, старались установить, что могло бы послужить «осью» искомого ритуала. Это мог быть миф, а мог быть и архетип (согласно терминологии Юнга), или, если угодно, коллективное воображение, или первобытная мысль, здесь можно прибегнуть к самым различным определениям. Поскольку, напомним, мы не стремились к воскрешению религиозного театра, наш опыт был скорее опытом мирского ритуала. Но во всех этих поисках мы избегали одного — возможности сотворения оглупляющего церемониала.
В истории нашего коллектива были представления гротескные, не лишенные своеобразного юмора, но мы не играли спектаклей, вызывающих дешевую эйфорию, спектаклей, в которых каждый мог бы участвовать лишь своими наиболее примитивными, низменными инстинктами — не скажу «дикими», ибо это скорее понятие лестное, а хотелось бы сказать — инстинктами мелкими, то есть «постыдными», «конфузными» гранями соучастия. В конце концов, и по сей день существуют такие разновидности оглупляющего церемониала: что-то от этого есть в корриде, что-то — в боксерских матчах, наконец, что-то — в самом банальном, заурядном театре. Там можно достигнуть непосредственного участия благодаря своеобразному упрощению, и упрощение это фиксируется на столь низкой ступени, что мы уже имеем дело не со зрителем, а, что называется, с «публикой», то есть с толпой. Законы, управляющие поведением толпы, вовсе не определяются поведением самых умных индивидов в этой толпе — как раз наоборот, этому учит нас психология. Следовательно, обращаясь к инстинктам ничтожного формата, можно в любом спектакле добиться непосредственного участия зрителей. Однако все это уже было, и делать этого не стоит. Думалось: если мы хотим избежать религиозного ритуала и создать ритуал мирской, то, пожалуй, нужно выйти на очную ставку с опытом минувших поколений, иначе говоря, с мифом.
Итак, в этот начальный период мы в каждом случае искали архетипический образ (если уж пользоваться этой терминологией) в значении мифического образа вещей, или, точнее, их мифической формулы. К примеру, принесение в жертву личности ради других людей, как в «Кордиане» Словацкого, или крестный путь Христа (миф Голгофы), наложенный на эпизод Великой Импровизации, как мы делали в «Дзядах» Мицкевича. Но у нас было не 107 религиозное отношение к этим явлениям, а своего рода зачарованность мифом и вместе с тем — противопоставление себя ему, антиномия. Так мы стали прибегать к своего рода диалектике, которую один из польских критиков, Тадеуш Кудлинский, назвал «диалектикой апофеоза и осмеяния». Например, подлинное самопожертвование Кордиана и одновременно его безумие; он приносит настоящую жертву, он проливает свою кровь ради других, но проливает ее согласно предписаниям дедовской медицины: Доктор просто «пускает» ему кровь. Была в этом солидарность с Кордианом и грустная насмешка над неудачливостью борца-одиночки в любом деле; было обращение к корням и истокам, которые нас формируют, и — противоборство с ними.
Какие выводы можно было сделать на этой стадии поисков? Я имею в виду в данном случае не пространственные решения и не проблему соучастия зрителей, я говорю о структуре театрального произведения. Результат был следующим: спектакли, как правило, были ироничными, однако и в этой иронии, которая почти всегда имела свою трагическую сторону, зрители, так же, как и мы сами, солидаризировались с главным героем. Возникала, следовательно, особая ирония, по типу своему близкая анализу, расчленению, уроку анатомии. Вместе с тем в наших мыслях таилось: да, тут есть подлинность, есть некая живая полнокровная стихийность, она нас затрагивает, может быть, даже стимулирует, мы хотим «вызволиться», «высвободиться», и все же…
Эта позиция сама по себе внутренне достаточно противоречива. Но позже при ближайшем рассмотрении мы установили, что диалектика функционирует здесь вовсе не с той точностью, которой мы от нее ожидали. Зрители на каждом спектакле проявляли совершенно разное отношение: мы думали, что возникнет диалектика насмешки и апофеоза, а в результате часть зрителей воспринимала спектакль в целом как насмешку, а часть — в целом как апофеоз. В результате диалектика не выявляла себя полностью и до конца, ибо она не осуществлялась в двух аспектах в каждом зрителе.
Конечно, можно сказать, что многие зрители реагировали живо, со значительной долей стихийности — подлинной, ненаигранной, идущей из глубин, и что в них диалектика проявляла себя в полной мере. А у многих не проявляла. В положительных случаях это давало о себе знать на разных уровнях: в непосредственной реакции, когда зритель реагировал увлеченно, «зачарованно» переживая происходящее, активно действовало «крыло» апофеоза; на уровне же мыслительном, когда зритель анализировал 108 структуру спектакля, проявляло себя осмеяние. Потому этот опыт не был показателен, он был лишен монолитности, не давал картины полноты реакции, поскольку ответные движения зрителей проявлялись на разных уровнях и к тому же у разных зрителей по-разному.
С другой стороны, мы заметили, что нам начинает угрожать опасность подражания мифу, пассивного воплощения мифических образов, так что, по сути дела, хотя мы с этим и боролись, конечный результат тяготел к стилизации, а значит, был поражен бесплодием. В определенный момент я пришел к выводу, что следует распрощаться с концепцией ритуального театра. Он невозможен сегодня, ибо не существует сегодня каких-либо общих, единых для всех верований.
Людвик Фляшен, мой близкий сотрудник, когда-то прибег к метафоре Вавилонской башни; я хотел бы ее пояснить. Сегодня не только каждая традиционная общность людей стала Вавилоном, где смешались языки и исчезли общие верования, но в равной степени каждый человек сегодня — вавилонское столпотворение, потому что в основе его существа уже нет монолитной системы ценностей. Крайние формы этого явления вы можете наблюдать в себе самих. В каждом из вас, вероятно, сосуществуют разные верования: во-первых, традиционная религия, с которой вы, возможно, и порвали, но которая продолжает оставаться живой в глубинных слоях вашего существа, заставляя работать ваше воображение; во-вторых, вера (если мы не хотим называть ее религией, то давайте говорить о философии), к которой вы сознательно обращаетесь, стараясь убедить окружающих, а также себя, что уж этой-то верой вы обладаете на самом деле. Впрочем, это больше походит на попытки обладать верой, чем на реальное обладание ею — слишком мы все внутренне конфликтны. Затем у вас есть ваша жизнь, поделенная между разными общественными обязанностями, мелкими повседневными делами и мыслями, я бы сказал — полуверованиями, годными к употреблению в семье, в кругу друзей, на работе. А в глубине вашего существа притаилось некое подобие секретного тайника, где клубятся желания и стремления, где поднимают голос ваши естественные верования, ваша, покинутая вами, вера; вот оно — настоящее вавилонское столпотворение. Вы таковы, потому что никто из вас не хочет примириться с собственной сущностью. Старик хочет быть юношей, юноша хочет быть современным, а не самим собой (желание же быть современным приводит к подражанию другим). Каждый в свою очередь стремится к чему-то, чего чаще всего не 109 существует. Видимо, эта множественность верований и есть болезнь цивилизации; может быть, она имеет свои добрые стороны, тем более что «жесткость» в вере (особенно когда дело касается веры религиозной или парарелигиозной) легко может стать опасной, приводя к фанатизму. Рассматривать все это можно, однако, с разных точек зрения. С точки зрения театрального феномена следовало бы, пожалуй, прийти к выводу, что реконструкция ритуала сегодня — вещь совершенно невозможная. Ведь ритуал всегда обращался вокруг той оси, которую составляет акт веры — религиозный, исповедальный акт, понимаемый к тому же не только как мифический образ, но и как ряд принципов, связующих весь род человеческий. Вот я и считал, что воскрешение ритуала в театре ныне уже невозможно по той причине, что нет и не существует больше исключительной веры, нет единой системы мифических знаков, единой системы изначальных образов.
Мне уже приходилось говорить: каждый раз, когда в театре воскрешается ритуал, повторяются одни и те же ошибки. Если пытаться достигнуть первобытной спонтанности, то есть групповой реакции зрителей, их буквального соучастия, то волей-неволей приходится адресоваться к истерической спонтанности, от которой два шага до того, что мы называем «битьем головой о стену», до судорог, до хаоса, до игры, одновременно и глуповатой по форме, и начисто лишенной всякого содержания по сути. В конце концов все это приводит к полнейшему беспорядку. Поставленные перед лицом такой возможности, зрители либо хотят, либо не хотят включаться в соучастие, но когда хотят, их влечет погрузиться именно в этот хаос, ибо хаос не имеет значений, он лишен языка. С другой стороны, если в спектакле мы ищем мифический ритуал, который, допустим, существует как объективное явление (у древних или диких народов), то мы скатываемся к созданию «экуменичных»23* спектаклей, содержащих в себе массу аллюзий, цитат и фрагментов из всех возможных религий (немного индуизма, небольшая доля китайских ритуалов, здесь Христос, там Будда, а то и Кришна), то есть религий, давно переставших быть нашими — как тех, в которых мы в нашей части земного шара когда-то выросли, но уже от них отошли, так и тех, что принадлежат дальним странам, с которыми нас никогда ничего не связывало. Все это можно старательно скалькулировать, скомбинировать, выстроить и увенчать великой теософией в духе цивилизации 110 «Planète»24*. И получится великая мешанина. Считаю, что в конечном счете все это бесплодно — за некоторыми, однако, исключениями. Если поиски подобного рода предпринимает большой художник, он сможет преодолеть угрожающие ему опасности. Здесь я имею в виду некоторые начинания Мориса Бежара, который обращался к самым различным сферам воображения, ведущим свое начало от разных религиозных цивилизаций, и вместе с тем свободно выходил за их пределы благодаря тому материалу, которым он располагает, благодаря самой природе своего ремесла. Художественный успех его работ определяется не отдельными «религиозными» образами и мотивами, взятыми отовсюду, а его мастерством, его компетентностью в области техники танца как такового. Здесь решающую роль играет телесная, попросту чувственная сторона, связанная с человеческими реакциями, организованными в определенном ритме. Впрочем, я не считаю, что использование мотивов, почерпнутых в культурах далеких от нас континентов, абсолютно противопоказано нашему искусству. Не в этом дело. Я говорю о некоем искушении. Сегодня уже исчезла сама ось мифических представлений, нет и не может быть буквального соучастия, и следует поэтому распроститься с идеей ритуального театра. И постепенно, шаг за шагом, мы расставались с этой идеей.
Мы поставили «Акрополь» Выспянского, «Доктора Фауста» Марло, «Стойкого принца» Кальдерона — Словацкого, потом — новый вариант «Акрополя» и, наконец, «Apocalypsis cum figuris». В процессе работы, последовательно проходя ее этапы, мы пришли к убеждению, что с той минуты, как мы расстались с идеей ритуального театра, мы начали к нему приближаться.
Мы всегда брали в работу тексты, сохранившие для нас живое звучание, тексты, занявшие прочное место в иерархии художественных ценностей: они дышали жизнью, и не только для моих сотрудников и для меня, но и для большинства, если не для всех, поляков. Даже когда мы играли «Фауста» Марло, не имеющего в Польше сложившейся постановочной традиции, мы ощущали, как проявлялась эта живая связь — через особенности самой литературной материи, в своеобразном контексте поэтического мышления и поэтических образов, экзистенциальных намеков и мотивов, очень близких польскому романтизму. Мы не случайно выбрали для постановки «Стойкого принца» не самого Кальдерона, а именно Словацкого, великого поэта польского романтизма, 111 оставившего нам собственное переложение текста Кальдерона. Очень трудно объяснить, в чем для нас, поляков, и для меня в частности заключается всепокоряющая сила традиции польского романтизма. Это был романтизм, несомненно отличавшийся от французского; это было искусство неслыханной осязаемости, обладавшее невероятной силой непосредственного воздействия и вместе с тем своеобразным и мощным полетом философско-поэтической мысли. Оно стремилось выйти за пределы обыденных ситуаций, чтобы осветить более широкую экзистенциальную перспективу человеческого существования — оно содержало в себе поиск предназначения. В польской романтической драме нет декламационности и риторического пафоса, а в языке своем она очень сурова. Даже когда этот язык обнаруживает близость с польским барокко, не лишенным, в свою очередь, определенной картинности, даже и тогда остается все же великая суровость самой позиции романтизма в трактовке человеческой личности.
В польском романтизме мы находим также попытки вскрыть и осветить подспудные мотивы человеческого поведения. Можно было бы сказать, что польский романтизм уже несет в себе некий контур творчества Достоевского — исследование человеческой натуры через тайны ее побуждений и поступков, через ясновидящее безумие. Но парадоксально, что это происходило в совершенно иной литературной субстанции, несравненно более лирической.
Итак, работая над текстами, бывшими для нас своего рода «вызовом» и вместе с тем — побудительным стимулом, трамплином, мы вступали в конфронтацию с собственными корнями, вовсе, впрочем, об этом не думая, ничего специально не высчитывая, не ища той или иной формулы («вот это — жертва Кордиана» — он проливает свою кровь — «архетип крови» и т. п.), не прибегая ни к психологическим расчетам, ни к упражнениям в области традиционных идей. Мы ставили вопросы, обладавшие для нас полнотой жизненной силы, не очень заботясь о том, польские ли это будут тексты или тексты типа «Фауста», коренящиеся в чужой национальной традиции, лишь бы они сохраняли связь с живым ощущением нас самих; и, можно сказать, с традицией. Так выходили мы на встречу с собственными истоками. Мы удаляли из текста те его части, которые не сохранили этой жизненной силы, и в процессе отбора шаг за шагом искали нечто такое, что уже было не драматическим произведением, а как бы кристалликом «вызова», столь же существенным и важным, как опыт наших предков, как опыт других людей, обращенный к нам, подобно голосу из бездонных глубин. Этот голос замолкает, если 112 не встречает ответа, но эхо его еще можно услышать и благодаря ему отыскать свою реплику; этот опыт, этот голос может сообщить и нечто такое, на что мы не находим в себе согласия, но отзвук его все же проникает в нас, и нас пробирает дрожь. Так началась очная ставка с нашими подлинными истоками, а не с абстрактными понятиями относительно этих истоков. Постепенно мы отказались от всяких манипуляций со зрителем, перестали провоцировать зрительские реакции. Напротив, мы старались забыть о зрителе, забыть о его существовании. Все внимание и все формы нашей работы мы стали концентрировать прежде всего вокруг искусства актера.
С того момента, как мы оставили идею сознательного манипулирования зрителем, я почти тотчас же распростился с самим собой как с постановщиком. И принялся за изучение возможностей актера-творца. Сегодня я вижу, что результаты в очередной раз оказались парадоксальными: в тот момент, когда режиссер забывает о себе, тогда-то он и начинает существовать на самом деле. Но тут сразу же в полный рост встает проблема актера. Мы давно заметили, что можно и на нашей почве искать истоки ритуальной игры, аналогичной той, какая еще сохранилась в некоторых странах. Где именно она сохранилась? Главным образом в восточном театре; даже такой светский театр, каким была Пекинская опера, обладает ритуальной структурой, представляя собой церемониал особым образом артикулируемых знаков, детерминированных традицией, одинаковым образом повторяемых в каждом представлении. Это особая разновидность закрепленного языка, идеограммы жеста и поведения.
Мы поставили «Сакунталу» Калидасы и в ней исследовали возможность создания системы знаков в европейском театре, что делали не без подвоха: хотелось создать в спектакле картину восточного театра, но картину не подлинную, а такую, какую рисуют себе европейцы, то есть иронический образ представления о таинственном, загадочном Востоке. Но под покровом этих иронических (и нацеленных против зрителя) экспериментов скрывалось намерение открыть систему знаков, пригодных для европейского театра, приемлемых для нашей цивилизации. Мы так и сделали: спектакль действительно был построен на малых жестикуляционных и вокальных знаках. В будущем это принесло полезные плоды — именно тогда нам пришлось ввести голосовой тренинг, так как невозможно создавать музыкальные знаки, не обладая специальной подготовкой. Спектакль был осуществлен, в нем было 113 своеобразие, была своя доля убедительности. Но я заметил, что получился иронический перенос не просто знаков, а всех возможных стереотипов, всех возможных штампов; что каждый из этих жестов, из этих специально выстроенных идеограмм представлял собой то, что Станиславский называл «штампами жеста»; хотя это не было пресловутое «люблю» с рукой, прижатой к левой стороне груди, но, по сути, сводилось к чему-то подобному. Стало ясно, что не таким путем нужно идти.
В этот период мы много рассуждали об искусственности. Говорили, что «искусство» и «искусственность» произошли от одного и того же корня и что все, что органично и натурально, не может быть художественно, так как не является искусственным. А все, что поддается конструированию, что может быть сведено к кристаллику знака-формы, что обладает этой формой — холодной, выработанной, почти акробатической, — все это искусственность, или, иначе говоря, вполне приемлемая система поведения. И все-таки поиски знаков приводили в конечном результате к поискам стереотипов, и мы отказались от этой концепции.
Тогда мы стали доискиваться: каковы же возможности знаков сегодня? Может быть, не следует искать знаки, раз и навсегда пригодные для всех спектаклей, а надо для каждого спектакля найти свою, одному ему присущую и действенную систему? То, что делает актер, должно сохранять связи с окружающим миром, связи с контекстом культуры; но, с другой стороны, во избежание опасности стереотипов эту возможность для актера надо искать иначе, в чем-то другом, добывая знаки не откуда-нибудь, а из естественного процесса человеческого организма.
Тогда мы стали вести поиски в сфере органических человеческих реакций, с целью структурировать их впоследствии. С этого-то и начались самые плодотворные, на мой взгляд, работы нашего театра: исследования в области актерского поведения.
Известно, что актер способен имитировать жизнь — таков реалистический или натуралистический театр, где подражают действительности во всех формах ее ежедневной обыденности. Это одна возможность театра. Возможность другая: попытка создать впечатление, что существует иной мир — мир театра, мир «больших юпитеров», фантазии и праздника воображения, где действительность подвергается разного рода видоизменениям; в конечном счете его можно назвать миром иллюзии. Итак, либо повседневная жизнь, либо иллюзия — обе эти возможности давно существовали в театре. Во всей истории театра я прослеживал 114 их противоборство: возможность, более близкая фантастике (иллюзия), и возможность преимущественно реалистическая (имитация жизни). Это не такая уж точная терминология — вспомним, что в некоторых странах «иллюзией» называют как раз то, что воспроизводит обыденность жизни. Думаю, однако, что ясно, о каких различиях идет речь. Поэтому мы искали ситуацию, которая предполагала бы не имитацию жизни и не попытку сотворить фантастическую, воображаемую действительность; ситуацию, в которой можно было бы достичь такой человеческой реакции, которая возникала бы — буквально — одновременно со спектаклем. В рамках спектакля эти реакции должны были быть чем-то совершенно доподлинным, или, если угодно, совершенно органичным, полностью натуралистичным. Это аристотелев принцип: единство места, единство времени, единство действия, но hic et nunc.
К чему это приводило в результате? То, что актер рассказывает какую-то историю или что-то отыгрывает, нельзя признать действием, совершающимся в настоящем времени, это не «здесь и сейчас».
Безусловно, какое-то действие, какой-то акт актер должен совершить. Но этот акт должен иметь смысл полного раскрытия самого себя. Я бы прибег здесь к старомодному, но зато точному определению: акт исповеди. Этот акт достижим исключительно на почве собственной личной жизни — это тот акт, который сдирает с нас оболочку, обнажает нас, открывает, выявляет, выводит на свет… Актер тут должен не играть, а зондировать сферы своего опыта, как бы анализируя их телом и голосом. Он должен отыскивать в себе импульсы, всплывающие из глубины его тела, и с полной ясностью сознания направлять их к тому необходимому моменту, когда он должен совершить в спектакле эту исповедь, и к тому определенному сценическому пространству, где это должно произойти. В момент, когда актер достигает акта, он становится феноменом hic et nunc; это не рассказ и не творение иллюзии, это — время настоящее. Актер раскрывается, он отдает, вручает нам то, что совершается сейчас, и то, что еще должно совершиться; он открывает себя. Но он должен уметь делать это каждый раз заново. Возможно ли это? Невозможно без ясного видения, потому что иначе, как я уже говорил, бесформенность и хаос неизбежны. Невозможно без всесторонней и полной подготовки, иначе актеру пришлось бы беспрерывно задавать себе вопрос: «Что я должен делать?» А думая, «что я должен делать?», он утерял бы самого себя. Нужно, следовательно, это hic et nunc основательно подготовить. Именно это мы сегодня называем партитурой.
115 Но, двигаясь путем структурных построений, надо добиться непременной подлинности самого акта — в этом-то и заключается противоречие. Очень важно понять, что само существование этого противоречия логично. Не следует стремиться избегать противоречий — напротив, именно в противоречиях заключена суть вещей.
Что же мы видим, анализируя пресловутый первобытный ритуал, ритуал древних и диких народов? Что он в себе заключает? Для европейца, стороннего наблюдателя, это спонтанность, но для того, кто в нем участвует, это точная, выверенная структура: литургия. Здесь существует изначальный лад, определенная, заранее подготовленная линия, исходящая из коллективного опыта, — словом, весь тот порядок, который и является его основой; а уж вокруг этой выверенной литургии выстраиваются вариации; следовательно, все заранее подготовлено и вместе с тем — естественно-стихийно. Только предварительная подготовка позволяет избежать хаоса. Так что, если мы хотим провести определенную линию человеческого поведения, которая могла бы служить актеру стартовой площадкой, как говорил Станиславский, то надо овладеть морфемами этой театральной партитуры (подобно тому, как ноты служат морфемами партитуры музыкальной). Они не жесты и вообще не те элементы, которые можно зафиксировать извне (в последнем случае все всегда было бы неточно). Позвольте привести пример, достаточно обыденный, но, благодаря своей тривиальности, невероятно поучительный. Рядом со мной, на той же улице живет сосед, которого я встречаю каждое утро, мы оба спешим на работу. Я снимаю шляпу, говорю «здравствуйте», и каждый из нас идет дальше своей дорогой. И так ежедневно, и это уже стало фрагментом определенного рода партитуры. Она возникла автоматически, мы хорошо изучили наши жесты, мы знаем, что будет сказано именно «здравствуйте», и хотя в действительности детали и оттенки жестов, и слов, и тон, и голос будут каждый день разными, суть происходящего остается неизменной. Следовательно, не вокальные ноты, не внешние жесты составляют морфемы актерской партитуры, а что-то иное. Можно стремиться, как делал Станиславский, к открытию этих морфем в физических действиях, глубоко укоренившихся в мире чувствований человека. Под конец жизни Станиславский открыл, что фиксация чувств невозможна, потому что они не зависят от нашей воли: мы не хотим любить, но мы любим — тут уж ничего не поделаешь. Чувства не зависят от нашей воли, а значит, нельзя воспроизводить 116 их сознательно, можно только пыжиться и пытаться выдавить из себя необходимый «вид чувствования», что, в общем, и делает большинство актеров. Но в конечном счете не они суть подлинные чувства и не они суть морфемы.
Мы считаем, что морфемами являются импульсы, поднимающиеся из недр тела навстречу тому, что снаружи. Я сказал: «из недр тела». Речь здесь идет об определенной сфере, которую по аналогии с затаенной внутренней мыслью я определил бы как затаенное внутреннее существование, как нечто, обнимающее все побудительные мотивы внутренних недр тела и недр души. Но в практике мы говорим преимущественно о «недрах тела».
Существует импульс, который стремится «наружу», а жест — только его завершение, финальная точка. Обычно, когда актер хочет «вывести» какой-то жест, он его выводит по линии, начинающейся от ладони. Но в жизни, когда человек находится в живом общении с другими людьми, импульс зарождается в недрах тела, и только в последней фазе появляется жест руки, который и служит как бы конечной точкой: линия идет от внутреннего к внешнему. В живом общении с окружающими возникает импульс, мы его получаем, в ответ рождается отзыв. Это и есть импульсы — брать и отзываться; давать или, если хотите, реагировать.
Итак, вначале существует партитура живых импульсов, которую, в свою очередь, можно перевести в систему знаков; по сути дела, мы вовсе не отказались от идеи знаков в театре. Существует, однако, известная разница между поведением человека на улице и произведением искусства. В завершенной стадии произведение искусства должно избегать всего, что случайно, оно должно обладать определенной структурой, и в этом смысле поиск структуры неизбежно сводится к артикулированию, к обозначению наплывающих из жизни импульсов. Это объективная стадия. В чем заключается разница: объективный — субъективный? Путем расчетов нельзя прийти к пониманию этой разницы, но через систему поведения можно. Режиссируя, я могу сказать актеру: «верю» или «понимаю». В процессе поисков живых импульсов, этой линии, этого высвобождения «из себя» я чаще прибегаю к «верю» или «не верю». В свою очередь, когда на первый план выдвигается проблема структурирования, я пользуюсь чаще всего «понимаю» или «не понимаю». «Понимаю» или «не понимаю», само собой разумеется, касается вовсе не абстрактной стороны знаков. «Не понимаю» значит: может быть, это и существует, но только для тебя одного. Если же оно стало существовать также и для других, тогда оно стало значимым: сам не думая об этом, ты призвал знаки. 117 Если же я говорю «верю», значит: ты сохранил линию жизни — линию живых импульсов. Однако я заметил, что, когда актер действительно начинает искать на свой страх и риск, он ощущает потребность ввести эти поиски в некие рамки, определить им место в общей подготовке спектакля. В определенной фазе работы — а она достаточно длительна — все актеры выполняют наметки, эскизы действий, результаты которых могут быть сориентированы ими самими, не оставаясь вместе с тем без связи с будущим направлением спектакля; свою собственную жизнь, свой опыт актер сознательно направляет по определенному руслу, оперируя одновременно остальными актерами как неким подобием экрана, на который он проецирует образы — лики собственной жизни. Когда этот эскиз стал живым, в нем отыскиваются главные, принципиально существенные опорные точки, импульсы, которые можно было бы «записать», но, конечно, не карандашом, а телом. Когда они уже записаны, актер может повторить их множество раз, отбрасывая все, что несущественно; так возникает условный рефлекс, опирающийся на записанные опорные точки, а сам такой эскиз уже являет собой небольшой фрагмент спектакля. Как правило, это намного более интересно, чем разного рода постановочные изыски.
Однако работа, приостановленная в этой фазе, была бы бесплодна. Самое важное, чтобы актер на основе того, что им уже найдено, мог возобновить свой исповедальный акт — здесь и сейчас, в настоящем времени. В этом заключена самая большая трудность. Актер уже обрел нужную линию — партитуру живых импульсов, мощно укоренившуюся в его глубинном бытии; обрел то, что может служить исходным пунктом, стартовой площадкой, а затем, уже на этой почве, — теперь, здесь, сейчас — это должно исполниться: он должен совершить свою личную исповедь, идя до самой последней границы, вплоть до того, что может даже показаться неправдоподобным. Он должен исполнить то, что мы называем Актом, актом целостным. Очень трудно объяснить, где и в чем лежит путь к подобного рода Акту, к подобного рода актерскому действию; это очень сложно. В «Стойком принце» это происходит в исполнении Ришарда Чесляка, в «Акрополе» — в финальной сцене, когда узники чередой движутся в газовую камеру (в последнем случае Акт охватывает целую группу людей, но он несомненен). Если Акт происходит, то актер, дитя человеческое, преступает границу состояния той половинчатости, на которую все мы сами себя обрекли в повседневной жизни. Тогда исчезает барьер между мыслью и чувством, душой и телом, сознанием 118 и подсознанием, видением и инстинктом, сексом и мозгом; актер, совершив это, достигает полноты. И после того, как он оказывается способен воплотить этот акт до конца, он ощущает себя куда менее усталым, чем «до», потому что он весь обновился, обрел исконную неразделенность; и тогда в нем открываются новые истоки энергии.
Если актер сумеет достичь подобного рода Акта — и к тому же в контрапункте с текстом, полным для нас живого значения, — реакция, которая в нас тогда возникает, будет содержать специфическое единство индивидуального («мое») и коллективного («общее»). Текст может быть и современным. Если, конечно, он стал для нас «вызовом», если он затрагивает нас, а затронуть нас он может только тогда, когда содержит в себе мысли, равные нашим сегодняшним мыслям. Но и этого недостаточно. Он должен поражать нас иначе, достигая основ, самых глубин нашей натуры так, чтобы мы могли в соприкосновении с ним ощутить дрожь; тогда мы поверим, что есть в нем и корни, и нечто еще более существенное, самое простое, самое элементарное — «родовое». Актер, общаясь с чем-то подобным, общается как бы с истоками собственной натуры, находит себя — другого. Через этот мотив, этот призыв (как я уже говорил, текст очищается от всего, что не является кристалликом «вызова»), действующий на нас подобно голосу из бездны, голосу усопших, по ступеням кристалликов, сохраненных в себе, актер поднимется к своему исповедальному акту; коллективное («родовое») и личное сойдутся в этом пункте — это и есть один из основополагающих моментов Акта.
Может быть, именно тогда, когда мы расстались с идеей ритуального театра, мы этот театр обрели. Не существует в наше время религиозной общности веры, и как зрители вы все являете собой Вавилон. Разъедаемые внутренними противоречиями, в какую-то минуту вы сталкиваетесь лицом к лицу с феноменом, идущим из недр земли, вырастающим из чувствований, из инстинктов, из древних истоков, даже из реакций минувших поколений, но в то же время просветленным и индивидуальным, сознательным и управляющим собой. Этот человеческий феномен, актер, вы видите его перед собой, он переступил границу собственной разорванности. Это уже не игра, вот почему это уже Акт (вы же в повседневной жизни без устали «ведете игру»). Это феномен целостного действия (вот почему его хочется называть «тотальным Актом»). Актер уже не разделен, в эту минуту в нем уже не существует половинчатости и он сам существует уже не половинчато. 119 Он ведет партитуру и одновременно открывается до границ неправдоподобия, до того самого зерна своего существа, которое я называю «внутренним бытием», «бытием-нутром». Невозможное возможно. Зритель смотрит не анализируя и знает только одно: он оказался перед лицом феномена, несущего в себе неопровержимую подлинность. В глубине своего существа он знает, что присутствует при совершении Акта; вместе с тем на него действует и кристаллик «воззвания», действуют традиционные представления, обладающие высоким значением для нашей культуры, но действуют они, я бы сказал, самочинно, сталкиваясь с нашим современным опытом совершенно непредсказуемым образом, ибо родились не в холодном мозгу.
Если от спектакля идет излучение, то это возникает из столкновения противоречий (субъективное — объективное, партитура — Акт). Излучение в искусстве достигается не через пафос, не через излишества, а через многослойность произведения, через его структуру, выстроенную на многих уровнях, через одновременное выявление многих аспектов, остающихся связанными между собой, но не тождественных друг другу. Чтобы дать жизнь новому существу, нужны два разных существа: так возникает новое существо — им становится спектакль. Мы и наши истоки; то, что индивидуально, и то, что коллективно, — вот те два разных существа, которые вызывают к жизни третье.
Так, двигаясь на путях, вроде бы диаметрально противоположных, сознательно отказываясь от первоначально заданной концепции мирского ритуального театра, мы оказались перед лицом открывшейся нам возможности, о которой я говорил выше. И тут обнаружилось, что возник вовсе не тот ритуал в театре, о котором мы думали раньше. Когда-то Брехт с огромной проницательностью заметил, что театр хотя и начался с ритуала, но театром стал благодаря тому, что ритуалом быть перестал. В определенном смысле наше положение сходно: мы расстались с идеей ритуального театра, чтобы, как потом выяснилось, обновить ритуал, ритуал театральный, человеческий, а не религиозный — через Акт, а не через веру. А может быть, вообще следует создать иную терминологию, ибо когда «ритуал в театре» мы мыслим в категориях общепринятой терминологии, то пускаем в ход определенные стереотипы: стереотип буквально понятого соучастия, стереотип «расхристанности» и коллективных конвульсий, стереотип беспорядочной спонтанности, стереотип изображаемого, а не заново творимого мифа (а между тем это разные вещи — миф «изображаемый» сводится к стилизации); наконец, стереотип экуменизма, 120 возросший на конгломерате мотивов различных религий или различных культур. Может, следовало бы вообще расстаться с этой терминологией? Но само явление все же существует, и вопрос поставлен. Какой вопрос? Вопрос: «Что же существенно? Что наиболее существенно?» Может быть, это актер, но и актер не как актер, а как существо человеческое. Что же есть самое существенное? Преодолеть ту половинчатость игры, в которую человек сам себя заточает.
Читали ли вы когда-нибудь одну из версий легенды о Святом Граале — легенду о Парсифале? Однажды прибыл Парсифаль в замок Короля-рыбака. Король лежал разбитый параличом, королевство было в упадке, женщины не рожали, деревья не плодоносили, коровы не доились; бесплодие поразило страну. Сидя в трапезной, Парсифаль увидел процессию, впереди которой шла женщина с диковинным сосудом в руках; процессия двигалась через зал, уходила и возвращалась снова, и так повторялось несколько раз. Парсифаль ни о чем не спросил: вся атмосфера замка казалась ему необычной, таинственной, здесь в самом воздухе носилось что-то неясное, невыразимое. Утром он заметил, что замок пуст. Он решил, что все ушли на охоту, сел на коня и поскакал следом. В чаще леса он наткнулся на молодую женщину, державшую на коленях мертвое тело возлюбленного. Тогда он спросил: «Что происходит в этом замке?» «Ты видел процессию?» — услышал он в ответ. «Да». — «С женщиной, что несла необычный сосуд?» — «Да!» — «А ты спросил?» И Парсифаль ответил: «Нет, не спросил». — «Ты не спросил — и вот из-за твоего безразличия женщины не могут родить, деревья не плодоносят, коровы не дают молока, а Король лежит в параличе. Ты не спросил».
Думаю, что, когда мы ставим важнейшие вопросы или же какой-то один вопрос, — потому что по-настоящему существует, пожалуй, только один важнейший вопрос — легко кончить тем, что нас посчитают безумными, как это случилось с Кордианом в нашем спектакле. А может, мы и в самом деле станем безумцами, что тоже было уделом Кордиана, несмотря на всю его возвышенность. Но «не ставить вопросов» — это роль ничтожного Доктора. И тогда наша жизнь изничтожится шаг за шагом, и навяжется ей бог знает откуда какая-то «линия», ничего общего с нашими стремлениями не имеющая, и сами мы станем страдать и молчать, и будем мы одиноки. Вот почему, кажется мне, не следует повторять этой ошибки — ошибки Парсифаля.
1968
121 УПРАЖНЕНИЯ70
Обычно, говоря об упражнениях, имеют в виду некий набор парагимнастических элементов и движений, призванных натренировать ловкость актера. В пантомиме, например, считается, что надо постоянно повторять определенное число знаков — жестов и прочих «двигательных» знаков — таким образом, чтобы путем повторений присвоить их себе, заставив функционировать в качестве выразительности, присущей миму. Таков пример классической пантомимы.
В классическом восточном театре, например в Пекинской опере, в индийском театре Катхакали или в японском театре Но (хотя в последнем и в более ограниченной степени, чем в Пекинской опере), действительно существует определенный вид алфавита знаков, являющихся выразительными знаками тела. В Европе, впрочем, почти всегда говорится о «знаках-жестах», что неточно, потому что не только жесты входят в их число, но также и различные, полные значения движения и позиции тела, и определенное количество вокальных голосовых знаков. Именно в классическом восточном театре по-настоящему ставилась проблема: каким образом актер должен научиться набору знаков и каким образом он должен потом их совершенствовать. А ведь это не двадцать и не тридцать знаков, а сотни. Актерский тренинг в таком театре основывается на ежедневной работе, в которой отрабатываются знаки, а также совершенствуется естественная ловкость тела для того, чтобы в дальнейшем воплощать эти знаки уже без сопротивления; ищутся, наконец, способы снятия физических блокировок актера — в смысле некой вялости, энергетической энтропии. Выполняется целая серия так называемых акробатических упражнений, чтобы избавиться от естественных ограничений, создаваемых пространством, силой земного притяжения и т. п.
Восточный театр выступает как бы моделью театра алфавита. Европейская пантомима в определенной степени — тоже. Это те виды зрелищных искусств, где актеры достигли относительного профессионального совершенства и где великие актеры производят 122 впечатление магов. Они до такой степени являются мастерами своего тела — в смысле мастерства самой его профессиональной лексики, — что рождается впечатление чуда. Вместе с тем, с определенной точки зрения, это порой бывает бесплодно. Можно менять комбинации знаков, менять буквы этого алфавита, но таким способом не открыть человеческой личности; я хочу сказать — не открыть актера как бытие.
В восточном театре веками все «режиссировалось» временем и традициями, а не режиссером, которого там не было. Спектакли игрались целыми столетиями. Сын заступал на место отца и воспроизводил ту же самую роль в том же самом наборе знаков. Быть может, он вносил кое-какие модификации, изменив два-три знака, заменив их другими. Тогда пораженные зрители говорили: «Он совершил великий переворот». Несомненно, там существует личность актера в смысле его обаяния или его умелости, но — как бы сказать?.. там нет исповедальности. Восточные актеры — люди огромных достоинств. Европейским актерам надлежало бы видеть спектакли классического восточного театра, чтобы понять, что значит работать по-настоящему, быть по-настоящему подготовленным, по-настоящему проявлять свою профессиональность. Однако все это уходит корнями в совершенно иную цивилизацию, и то, что для нас является в искусстве существенным — а именно выражение интимности или выявление человеческой личности, — там не существует. Существует, возможно, выразительность целого рода, традиция народа или его элиты. Там можно найти типы (например, Великий Мандарин), но типы собирательные, а не индивидуальные.
На примере классического восточного театра роль тренинга достаточно очевидна. Чтобы не забыть знаки тела, чтобы их совершенствовать, надо развивать предельные возможности тела, преодолевать ограничения силы притяжения (гравитации) и ограничения пространства. Тот же вид упражнений существует и в пантомиме. Но мы можем поставить вопрос: развивают ли эти приемы и способы работы живые импульсы тела? Нет. Весьма любопытно, что многие поистине необычайные актеры пантомимы страдают тем, что их голос заблокирован, так как в их работе применение структурированного, «искусственного» движения блокирует естественные импульсы тела, а голос — продолжение импульсов тела. В классическом восточном театре актеры, правда, умеют оперировать голосом, к тому же с большим совершенством, но голос там — искусственный. Впрочем, в том типе театра, который они представляют, все это осознано, направлено на определенную 123 цель и отмечено огромной профессиональной добросовестностью.
Теперь о европейских актерах.
Что делают актеры в так называемом драматическом театре, готовясь к работе? Большей частью не делают ничего, то есть повторяют пройденное и включаются в проигрывание роли. Это пренебрежение к каждодневной тренировке критиковал Станиславский, который и предложил целую систему подготовительных упражнений, назвав ее тренингом. С одной стороны, это были актерские этюды, с другой — упражнения, развивающие некоторые возможности тела, голоса и артикуляции.
Станиславский был убежден, что актеру необходимы занятия гимнастикой, фехтованием и даже акробатикой. Тот, кто полон неуверенности в себе, кто трепещет перед выполнением трудного движения, всегда сопряженного в акробатике с определенной долей риска, будет точно так же мучиться неуверенностью и трепетать перед кульминационным моментом роли.
Упражнения для развития каждодневных, будничных действий — типа «писание воображаемого письма воображаемым пером на воображаемой бумаге» — были любимой идеей Станиславского, чрезвычайно ему дорогой. И для театра, который он создавал, это была разумная и эффективная идея. Однако, стремясь вести себя на сцене «как в жизни», актеры нередко имитируют лишь мелкие жизненные действия и, возможно, именно поэтому быстро теряют тонкость и точность. Станиславский заметил, что если изучать простые, элементарные движения, то внутри них можно обнаружить целую серию еще более мелких действий. Как брать перо тяжелое и как — легкое, как к нему притрагиваться, как и на чем сосредоточивать силы руки и пальцев, чтобы его не выронить, какие манипуляции сопровождают сам процесс писания, как опираться на стол и т. п. Все эти наблюдения развивают точность движений, точность каждодневного, обыденного действия. Таким образом, не теряется ни одна, даже самая микроскопическая деталь человеческого поведения, и в конечном счете все в целом начинает производить впечатление некоего выразительного действия, хотя в жизни оно и было этой выразительности лишено.
Станиславский, изучая какой-то конкретный аспект проблемы, стремился именно через точность достигнуть плодотворных результатов. Сейчас, прикрываясь его именем, нередко делают вещи, внешне соответствующие его исканиям, но именно — внешне. Подражают внешней видимости, избегая всей трудности, содержащейся 124 в глубине. (Это все равно что силиться испытать «высшие ощущения» при помощи наркотика LSD.) Станиславский, например, предлагал «чувствовать предмет». Актеры иногда готовы бесконечно долго трогать его, чтобы получить его «подлинное» ощущение. Я смотрю на руку актера, который это делает, и вижу сплошную неточность. Обычно этому не придают значения, так как считается, что достигнуто главное — «впечатление от предмета». Так происходит своеобразный самогипноз, психическое плутовство с самим собой, и это почему-то считается подготовкой актера. Сущность работы Станиславского, который действительно умел заставить своих актеров точно овладевать конкретными, дробными физическими действиями, утрачивается: она как бы проваливается в некую психическую плазму — во «впечатление» или «чувство» от предмета. «Чувствую», «не чувствую» — вот единственно остающиеся критерии. И все это совершается под прикрытием имени Станиславского.
Станиславский первым заметил, что почти у каждого «зажатого» актера всегда есть определенная точка в организме, в каждом случае иная, в которой как бы концентрируется это ощущение физической скованности, становясь центром напряжения, зажима. Это состояние может распространиться на все тело. Есть актеры, зажатые до такой степени, что они становятся почти не способными к действию. Станиславский заметил, что зажим начинается всегда в определенной точке: на лбу, например, существует несколько мускулов, обладающих способностью сжиматься; есть они и в спине; в каком-то случае они могут поразить бедра или икры. Следовательно, от актера требуется, чтобы он умел разжимать эту точку, которая в свою очередь может ослабить весь процесс зажима. Это положение Станиславского очень важно в профессиональном плане. В практике я расширил его только следующим наблюдением: существуют актеры, которые обладают определенной точкой расслабленности. Если они находятся в состоянии страха или профессиональной астении, они расслабляются вслепую и могут стать безвольными как тряпка.
Искания Станиславского были точны и направлены в ту точку, где зарождается зло. Он не раз приводил пример с кошкой. Кошка мягка и расслаблена, но этому всегда есть предел. Ее расслабленность всегда сохраняет в себе способность эффективного и быстрого движения, она постоянно мышечно мобилизована, но лишь до той степени, которая необходима, не более того. Поэтому Станиславский, предлагая актерам занять какое-нибудь положение на стуле, а потом расслабить мускулы, в которых нет необходимости 125 для поддержания этого положения (не менять позицию и не упасть) говорил: «Это в точности то, что вам необходимо в жизненных действиях, но, выходя на сцену, вы начинаете напрягаться намного больше, чем нужно. Следовательно, задача первостепенной важности: снять излишки напряжения, ненужные при данном типе движения, а потом искать точку, где возникает искусственное напряжение». Так актеры европейских или американских театров, покоряясь высокой репутации имени Станиславского, услышали о проблеме расслабления.
Еще до второй мировой войны — а после войны все больше и больше — в медицинской психотерапии начали применять разнообразные системы расслабления. Наиболее известна школа Шульца, называемая «аутогенной тренировкой». Эта школа опирается на наблюдения и опыт системы хатха-йоги. (Станиславский тоже немного занимался хатха-йогой и под ее влиянием изучал проблему расслабления. Однако он не применял хатха-йоги в тренировке актеров.) Аутогенная тренировка школы Шульца как система определенной психической гармонизации, то есть развития способности быть расслабленным, «разжатым» в психофизическом смысле этого слова, оказалась эффективной и в применении к людям современной европейской цивилизации, к людям, находящимся в постоянной зажатости, в чрезмерном напряжении беспрерывной спешки. Аутогенный тренинг не пытается имитировать хатха-йогу, да и всякая имитация в таких случаях была бы фальшивой — слишком уж велика разница между европейской и индийской цивилизациями. Это скорее европейский вариант хатха-йоги. Так как медицинское расслабление становится все более широко известным, а хатха-йога также стала модной в Европе, множество самозванных оракулов начали предлагать и предлагают по сей день актерам различные чудодейственные рецепты расслабления. И сегодня можно наблюдать во многих театральных школах Европы и Америки студентов-актеров, неподвижно распростершихся на полу и таким образом «расслабляющихся». Они особенно охотно принимают позицию, называемую в хатха-йоге «шавасана» (что означает «бездыханное тело»), не зная притом, что это — позиция трупа. Говоря откровенно, все это влечет за собой лишь неизбежное увядание тела актера, развивает астению. Я видел студентов, будущих актеров, замедленных в движениях, с полуоткрытыми ртами, с руками как плети, висящими вдоль тела; они слоняются таким образом, ожидая «высвобождения» экспрессивности; им кажется также, что таким путем достигается исключительное, из ряда вон выходящее психическое состояние. На 126 деле же лишь стимулируются различные типы астении. К тому моменту, когда надо начинать играть, одни из них оказываются снова зажатыми и должны опять возвращаться к расслаблению, другие остаются полностью расслабленными, астеничными, плавающими в полусонных ощущениях. И все это делается под прикрытием имени Станиславского…
Предложения Станиславского искать центры неестественного напряжения и ликвидировать его избыток (что было его точной профессиональной целью) вновь проваливаются, также как и в примере с упражнениями без предмета, в своего рода плазму, в некие аморфные «упражнения». Ведь каждый может расслабляться, лежа на полу, это приятно, но в этом нет ничего, кроме нарциссизма. Таким делом можно заниматься часами, это своего рода алиби. Но для профессии никакой пользы, напротив — много вреда. Конечно, чрезмерное напряжение должно быть ликвидировано. Может быть, Станиславский и не довел анализ этой проблемы до конца, но мне кажется, что он полностью осознавал жизнь в ее цикличности — как цепь волнообразных смен напряжения и расслабления, которые, кстати сказать, вполне естественны и взаимодействуют между собой. Поэтому их трудно заключить в рамки каких-то определений и совсем уж невозможно постоянно управлять ими.
Безусловно, избыток физического напряжения должен быть ликвидирован. Но избыток расслабленности — тоже. Ибо избыток расслабленности, тормозящий выразительность актера, является либо симптомом предрасположенности к игре истерической или астенической, либо попросту симптомом страха, блокирующего выразительность актера на сцене. Существует точно расположенная точка, для каждого своя, в которой возникают избытки напряжения или расслабления.
В процессе анализа этих двух элементарных примеров из «системы» Станиславского можно заметить и опасности тренинга. Состояние трудно достижимое, дающее результат лишь после длительной работы в области распознавания тайников своего ремесла, как было в практике самого Станиславского, превращается в руках шарлатанов в то, что я уже назвал подобием плазмы, в то, что может быть достигнуто, как им кажется, сейчас же, без особой затраты времени и к тому же облегченным путем с помощью чудодейственных рецептов: ощущения предмета, расслабления и других. Обманчивая надежда на рецепты, которые могут избавить нас от всех творческих затруднений и решить все проблемы. Но таких рецептов не существует.
127 Есть путь, требующий знаний и добросовестности, отваги и множества мелких действий. Я не хотел бы употреблять слово «усилий», речь идет именно о мелких действиях, направленных и обращенных прежде всего к нам самим. Но, с другой стороны, если мы станем думать, что существует только этот путь настоящего движения вперед, мы можем впасть в другую опасную крайность — в крайность бесконечного совершенствования самих себя. Дальше я это постараюсь объяснить.
А сейчас вернемся к проблеме тренировки актера. В условиях нашей культуры во всех областях творческой жизни существовало понятие того, что лично, индивидуально.
Я не согласен с теми видами тренинга, где развитие целостности актера считается возможным через развитие частей, различных «секторов»; что уроки дикции, вокала, занятия акробатикой, фехтованием, гимнастикой, классическим и современным танцем, элементами пантомимы могут обеспечить актеру целостное развитие, помочь ему обрести полноту. Такая философия тренинга очень популярна. Почти повсеместно существует убеждение, что можно таким образом подготовить актера к акту творчества. Это абсолютно ошибочно. Наиболее поразительное в нашей профессии заключается в том, что самые простые и существенные истины остаются незамеченными, и поэтому часто повторяются одни и те же весьма значительные ошибки. Правда, актер может исполнять на сцене классический или современный танец, но он не создает таким образом своего собственного танца; он выполняет танец, продиктованный ему кем-то другим. Постигая те или иные элементы пантомимы, обучаясь целой системе пантомимических знаков, актер, если понадобится, должен уметь воспроизвести их на сцене. Но — обратите внимание — во всех этих случаях актеры пользуются вещами, не являющимися результатом их творческого процесса, не являющимися индивидуальными элементами и вообще — принадлежащими другой сфере. Может ли он станцевать павану? Может. Показать пантомиму? Может. Вот только где во всем этом его творчество? Творчество самого актера? Занимаясь гимнастикой, актеры чуть больше развивают свое тело (что само по себе неплохо), но понаблюдайте за ними: какова жизненная, витальная, если хотите, биологическая выразительность актера, какова его выразительность как индивида? Актеры гибки в специфических движениях, но выразительны ли они во всех мельчайших оттенках того, что составляет приметы и проявления самой жизни — их собственной жизни? Нет, 128 именно это у них заблокировано. Потому-то они и производят впечатление тяжеловесности: гимнастика развивает всего лишь отдельные мышцы, отдельные силовые области тела, его мускульную подвижность. Эта мускульная подвижность может найти применение в специфических и достаточно локальных областях: в прыжке (вплоть до сальто), в беге, в поднятии тяжестей.
Актеры, тренированные таким образом, становятся своего рода «першеронами» (есть такая порода лошадей-тяжеловозов), с атлетически развитыми мышцами. Любопытно, что актеры-«першероны» в трудных ситуациях переживают чаще всего острый психический кризис и легко впадают в панику.
Есть актеры хоть и не «першероны», но зато типа акробатов-спортсменов. Они сильны, легки, мускулисты, «мужественны», но все их реакции носят резкий, отрывистый характер. При всей их силе и подвижности в них нет тока живых импульсов, иногда почти невидимых, которые и делают актера способным к излучению, способным говорить — ничего не говоря; и не потому, что он хочет говорить, а потому, что он — живет. Гимнастика сама по себе не высвобождает тело, напротив, она как бы замыкает тело внутри некоего количества определенным образом отработанных движений и реакций. Достаточно усовершенствованными оказываются лишь некоторые движения и реакции, все же другие — недоразвиты. Тело не освобождено, тело только выдрессировано. Огромная разница.
Итак, гимнастика, — невзирая на то, что актеры должны быть физически тренированными и ловкими, — дает лишь блокирующий эффект. Конечно, лучше избыток специально выработанной тренированности, чем тотальная неумелость. Но в конечном итоге не в дрессировке отдельных «секторов» тела — путь для актера. Надо освободить тело. Дать телу шанс. Дать ему возможность жизни.
Существуют упражнения, часто называемые «пластическими» или «упражнениями жеста». Здесь, правда, актеры не повторяют одних и тех же деталей движений (если бы повторяли, то, может, и разработали бы в конце концов какую-то их область), а тренируют эстетику жестов-движений, прекрасных, как цветы. В терминологии тренинга жестов часто употребляется определение «расцветать». Говорят: «Рука должна быть выразительна и прекрасна… Ее движения должны быть подобны волне и прекрасны…» Слова «прекрасно» и «эстетично» повторяются особенно часто. Что тренируется таким образом? В «Бане» Маяковского Победоносиков спрашивает режиссера, отчего он не поставил спектакля «с красивыми 129 людьми среди красивых пейзажей»? Победоносиков имеет в виду Большой театр, где можно увидеть «эльфов, цвельфов и сифилид». Вот это в точности то, чему можно научиться в упражнениях жеста. Можно научиться отсекать жест от тела, что само по себе очень опасно. Существует фальшивое понимание жеста: жесты — выразительные движения рук. Неверно представлять себе, что существуют какие-то движения рук, выразительные сами по себе. Если реакция начинается в руке, а не в недрах тела, она в результате и становится «жестом»: Актеры, впрочем, чаще всего так и делают, а это… фальшиво. Потому что, если реакция живая, она всегда начинается в недрах тела и только оканчивается в руке.
Думается, что во всех видах упражнений зло проистекает из того ошибочного представления, что можно якобы развить разные части тела и таким путем высвободить актера, его выразительность. Это неверно. Не следует «тренироваться». Само слово «тренинг» — неточное слово. Не следует тренироваться ни в гимнастике, ни в акробатике, ни в танце, ни в жесте. В работе, существенно отличающейся от обычных репетиций, следует дать возможность актеру соприкоснуться с тем, что является самой сутью, зерном творчества. Я мог бы долго рассказывать, каким образом мы искали для этого особые типы упражнений и занятий. Конечно, сначала наши поиски были связаны с немалым количеством заблуждений и ошибок, и мы сами еще находились под властью различных условностей и предрассудков. Был период, когда мы увлекались акробатикой, и наши актеры умели делать двойное сальто вперед и назад, и все же, думаю, что это не дало нам ничего существенного.
Для изображения цирка на сцене можно пригласить артистов цирка, они сделают все намного лучше; или самим дорасти до их уровня, что не так-то просто.
Были периоды, когда, репетируя «Акрополь», мы начали поиски такого выражения человеческих чувств, какое в трагической ситуации спектакля (действие происходило в Освенциме) не прозвучало бы сентиментально. В той ситуации игра на специфических эмоциональных нотах означала бы в равной степени и бесстыдство, и нарушение меры. Как же найти ту человеческую выразительность, которая могла бы служить базой спектакля, но базой, достаточно охлажденной? Мы прибегли к некоторым элементам пантомимы, изменив их настолько, что она уже не была классической пантомимой. Элементы пантомимы постоянно изменялись, как бы преодолеваясь изнутри и трансформируясь живыми импульсами актера. Возникла борьба между структурой и живыми 130 импульсами. Но для того, чтобы прийти к этому, мы долго работали над «присвоением» пантомимических упражнений. Мы отрабатывали их до тех пор, пока не стали отдавать себе отчет в том, что они начинают функционировать как стереотипы, блокирующие индивидуальные импульсы актера.
В практике мы применяли упражнения двух основных типов, отобранные из огромного множества других. По традиции они называются упражнениями «физическими» и «пластическими». Но это лишь терминологическая традиционность; суть здесь иная.
Вначале, когда под влиянием Дельсарта мы занимались так называемыми пластическими упражнениями, мы искали средства для дифференциации реакций, идущих от нас к другим и от других к нам, то есть реакций экстравертных и интравертных. Это не дало сколько-нибудь существенных результатов. В конце концов, пройдя через опыт различных пластических упражнений по хорошо известным системам Дельсарта, Далькроза и других, мы, двигаясь шаг за шагом, открыли для себя так называемые пластические упражнения как некое coniunctio oppositorum25* между структурой и спонтанностью.
Здесь в движениях тела зафиксированы детали, которые можно назвать формами. Первый момент заключается в том, чтобы закрепить определенное количество деталей и добиться их точности. Затем — найти индивидуальные импульсы, которые могли бы воплотиться в эти детали и, воплощаясь, изменять их. Изменять, но не разрушать. Возникает вопрос: как же вначале импровизировать только с порядком, ритмом зафиксированных деталей, а потом изменить порядок и ритмы, также как и саму композицию деталей? При этом изменить, что очень существенно, не заранее обдумав их, а так, как струится «поток», продиктованный нашим собственным телом? Как найти эту «спонтанную» линию поведения тела, которая, воплощаясь в деталях, охватывала бы их и объединяла, но в то же время сохраняла их точность? Это невозможно, если детали носят характер жестов, то есть воплощаются только в ногах или руках, а не укоренены в целостности тела.
На уроках классического танца плохим танцором называют того, кто прибегает к так называемой компенсации, то есть, выполняя тот или иной элемент танца, приноравливает к нему свое тело. Опытным путем мы открыли, что подобная «компенсация» не так уж плоха. Напротив. Плохая «компенсация» основывается на облегчении себе выполнения той или иной детали, элемента движения. 131 Например, движением головы влево вы должны коснуться плеча, и вы делаете ответное движение плечом, чтобы приблизить его к голове. Это облегчение уничтожает элемент движения. Напротив, в живой «компенсации» — ее можно назвать также адаптацией, приспособляемостью тела — первопричина движения исходит, в органическом смысле, из самого тела.
Существует ошибочное представление о том, что жест будто бы является выразительным движением руки. Это неверно. Не существует движения рук, которые сами по себе были бы выразительно экспрессивны. Если какая-то реакция начинается в моей руке, а не в глубинах тела, это и есть «жест», и только «жест», и это — фальшиво; здесь коренится «актерство». Если реакция живая, она всегда начинается не на поверхности, а внутри тела, в его недрах. Все, что внешне, все так называемые жесты являются лишь конечным выражением этого процесса. Если реакция не родилась внутри тела, она — обман. Она искусственна, окостенела, мертва. Но все-таки где начинается реакция! Ответ на этот вопрос может быть воспринят как своего рода рецепт. И в таком случае как рецепт фальшивый, а применение его на репетициях будет бесплодно. Но если понимать его в относительном смысле и трезво (не прибегая к нему на репетициях), то открытие это окажется очень существенным. Существенным для упражняющегося.
Так где же все-таки начинается этот процесс? В той точке тела, которую принято называть крестцом, то есть в нижней части позвоночного столба, включая всю опорную область тела, в том числе и брюшную. Именно там начинаются импульсы.
Достаточно относительно знать об этом, и можно будет эту область разблокировать, но не манипулировать ею во время репетиционных занятий, а уж тем более никогда во время действия (ведь это не абсолютная истина).
Все наше тело является памятью, и в нашем теле-памяти возникают различные точки выхода. Но если мы будем сознательно концентрироваться на крестце в творческом процессе, мы заблокируем всю память тела и тем самым все тело-память. А поскольку вся органическая база физических реакций в определенном смысле является объективной, то, если заблокировать ее во время упражнений, она в той же степени заблокируется во время действия. И тогда эта блокада охватит и все остальные побудительные точки тела-памяти.
Шаг за шагом мы выделили определенное количество так называемых пластических упражнений, которые давали нам возможность 132 выявить органическую реакцию, укорененную в теле и вместе с тем находившую свое окончательное завершение и воплощение в точных деталях. Спонтанный поток тела, воплощенный в деталях, которые необходимо сохранять, несмотря на спонтанность. Вот почему мы всегда искали, вместе с актерами, точности в деталях: когда этой точности нет, невозможно работать, все обращается в плазму и растворяется в ней. В жизни все наши реакции, как правило, точны до самой последней детали. Но как в жизни, так и в творчестве их количество, их множество не может и не должно быть заранее ограничено. Все, что делается, что совершается до конца, — точно. Например, неуклюжая юная девушка, почти подросток, неожиданно уронила какой-то предмет. Почему и как она его уронила? Одна юная девушка объяснила мне: «Я хотела выпить чаю, но, поднося чашку ко рту, почувствовала, что краснею, мне захотелось закрыть лицо руками, и я уронила чашку». Здесь все движения, даже проявившаяся в них «неуклюжесть» — отражение смущения — были точными. В жизненных действиях, в поступках существует множество элементов, возникающих лишь на одну секунду, но всегда точных. Поэтому, занимаясь разработкой упражнений и стараясь не впасть в плазматическое состояние, надо начинать с точности деталей.
Тело-память. Считается, что память есть нечто независимое от всего человеческого тела. В действительности же — по крайней мере для актера — это совсем не так. И не в том дело, что тело имеет память. Оно само и есть память. Нужно разблокировать тело-память. Однако если мы начинаем диктовать себе: «здесь изменить ритм», «здесь порядок деталей» — мы вовсе не высвобождаем тело-память. Напротив, именно потому, что мы себе это диктуем, мы его и блокируем. Действующей здесь становится сама мысль. Но если, сохраняя точность деталей, позволить телу диктовать различные ритмы, все время меняя ритм, меняя порядок, схватывая как бы на лету другие детали, — тогда кто нам все это диктует? Это не мысль. Но и не случай. Здесь есть связь с жизнью. Неизвестно даже — как, но это было именно тело-память. Или тело-жизнь? Ибо оно превышает память. Тело-жизнь или тело-память диктовало, что делать, и была в этом некая связь с опытом жизни, а может быть, даже с целыми циклами опыта жизни. Или — с ее возможностями?..
Вот он, маленький шаг к тому, чтобы воплотить нашу жизнь в импульсы. Каждый раз, даже на простейшем уровне, элементы и детали движений руки и пальцев, если они точные, трансформируются в воспоминание, в возвращение в прошлое, в память об 133 опыте прикосновения к кому-то, быть может, в любви, к какому-то важному событию-опыту, которое было или должно быть. Так проявляет себя тело-память и тело-жизнь. Деталь существует, но она уже пройдена и преодолена, она вступила на уровень импульсов, в тело-жизнь, на уровень, если хотите, мотивации (хотя «мотивация» предполагает некий вид обдуманности, диктат самому себе, заранее продуманный проект — здесь вовсе не нужный и даже порой вредный). Ритм, изменение ритма, порядка. А дальше тело-память «съедает» их, и все уже идет само собой — они существуют во внешней точности, но теперь уже как бы взрываемые изнутри нашим витальным импульсом. И что же мы получаем в результате? В том-то и дело, что мы не получаем — мы высвобождаем. А высвобождаем мы зачаток, росток, зерно. И теперь меж берегов деталей течет «река нашей жизни». Спонтанность и дисциплина одновременно. По сути дела — это и есть решающее.
Если это назвать противоречивым сопряжением спонтанности и дисциплины, или, если хотите, спонтанности и структуры, или, иначе, спонтанности и точности, формула может показаться слишком сухой, слишком вычисленной. Хотя объективно это точно.
Но в опытной, пережитой практике все выглядит несколько иначе. Тело-жизнь как бы струится по определенному каналу — по стезе, которая уже лишена плазматичности. В пластических упражнениях она точна на уровне деталей. Посредством ее проявляет себя тело-память. Тело-память, — полнота и целостность нашего существования — это и есть память. Но, говоря: целостность нашей жизни, мы склонны не развивать ее возможности, а погружаться в область воспоминаний и ностальгии. Поэтому точнее было бы говорить: тело-жизнь.
Несомненно, можно расширять круг и количество пластических элементов, можно шаг за шагом находить новые. Тот цикл пластических элементов-деталей, который создали мы, был результатом нашего собственного опыта. Эволюция происходила тут, как у Дарвина, путем естественного отбора, путем селекции. Но можно выбрать себе для опоры и другую базу. Можно отыскать совершенно иной цикл деталей, разумеется, в процессе не одного года работы. Однако во всех случаях предполагается длительное отсеивание элементов неорганичных, искусственных, излишне эстетизированных, блокирующих тело-жизнь. Тип деталей, побуждающих инициативу, не важен. Важен дух самой работы.
В так называемых физических упражнениях мы также прошли долгую эволюцию через подбор и отсеивание деталей; действительно, 134 некоторые наши упражнения базировались на хатха-йоге. Мы их преобразовали, придав им противоположный ритм (динамичность вместо статичности). Можно применять элементы и других типов.
У актеров есть множество блокирующих моментов не только в плане физическом, но и в еще большей степени в плане их взаимоотношений с собственным телом. Разговоры о том, что актеры легко впадают в эксгибиционизм, в нарциссизм, куда более правдивы в смысле психическом (психический эксгибиционизм, психический нарциссизм), чем в смысле физическом, кроме тех исключительных случаев, когда актриса или актер действительно занимаются своей профессией лишь ради самоутверждения, повышения самоценности как женщины или мужчины. На самом деле актеры испытывают не завидную легкость, а большие трудности в приятии собственного тела.
Дело здесь вовсе не в том, что собственного тела стыдятся. Здесь нечто гораздо большее. Тело функционирует двояко: и как нечто невероятно ценное, и одновременно — как своего рода интимный враг. Оно порождает трудности: либо его не хватает, либо его слишком много. Как будто все наши жизненные поражения и неудачи, отсутствие полноты жизни сфокусировались на теле, оставив в нем свой след и как бы сделав его за все ответственным. Хочется принять свое собственное тело, примириться с ним, но нет этого приятия. Пытаются его, может излишне, подчеркивать — возникает видимость некоторого нарциссизма. На деле же, однако, приятия нет.
Человеческое существование постоянно разделено на две разные сути: «я» и «мое тело». Большинству актеров тело не дает чувства безопасности. Актер, воплощенный в теле, выполняющий задание телесно, не чувствует себя в безопасности. Более того — он в самом деле находится в опасности. В результате к собственному телу возникает недостаток доверия, являющийся на самом деле выражением недостатка доверия к самому себе. Это недоверие и «разделяет» человека внутри себя.
Сколько же здесь парадоксов! Как часто повторяют евангельское «возлюби ближнего своего, как самого себя». При этом забывают, что для того, чтобы любить ближнего, надо — согласно этой же формуле — любить себя. Тот, кто слишком любит себя, в действительности не любит себя вовсе — он не доверяет себе. Чтобы жить и творить, надо себя принять. Но чтобы у нас возник шанс приятия себя, нам нужен другой, кто-то, кто может нас принять. Не быть разделенным — это и значит, по сути дела, принять 135 себя. Не доверять собственному телу — не иметь доверия к самому себе. Быть разделенным. Не быть разделенным — вот не только зерно творчества актера, но еще и зерно жизни, ее возможной полноты.
Все, что я сейчас скажу, покажется парадоксом, но парадоксом отнюдь не стилистическим. Все так и есть на самом деле, хотя с точки зрения формальной логики здесь трудно чему-либо найти подтверждение.
Ей-богу, не знаю почему, но преодоление себя, превышение себя возможно, если мы себя принимаем. Тут можно выдвигать разные гипотезы. Преодоление себя не является манипуляцией. Некоторые актеры во время физических упражнений терзают и замучивают себя вконец. Но это не преодоление себя, а манипулирование на основе чувства вины и само-репрессии. Преодоление себя — «пассивно»; оно означает не защищаться перед лицом преодоления. Вот и все. Существует нечто, что должно быть исполнено, но что нас превышает. Не будем же защищаться. Даже простой разворот или бросок в упражнениях — рискован (конечно, в ограниченном радиусе). Он рискован, сопряжен с возможностью боли, но этого достаточно, чтобы суметь не защищаться перед готовностью к риску.
Так называемые физические упражнения и являются той почвой, где принимается вызов преодоления себя. Для того, кто их выполняет, они должны быть почти невыполнимы. Однако он должен тем не менее их сделать. «Должен тем не менее их сделать», — сказано в двояком смысле: с одной стороны, внешне упражнение должно выглядеть невозможным для выполнения, но актер не должен защищаться перед его выполнением; с другой стороны, он должен объективно быть в состоянии его сделать: упражнение должно быть, несмотря на всю видимость нереальности, выполнимо. Тогда и начинает открываться доверие к собственной оболочке.
Когда-то в древности Феофил из Антиохии в ответ на слова некоего язычника, требовавшего: «Покажи мне твоего Бога», ответил: «Покажи мне твоего человека, и я покажу тебе моего Бога». Обратим внимание пока лишь на первую половину этого речения: твоего человека… Думается, что в этих словах, выходящих за пределы религиозных понятий, Феофил Антиохийский коснулся чего-то основополагающего в человеческой жизни. Покажи мне твоего человека… Это одновременно ты — «твой человек», и 136 не-ты — не-ты как образ, маска для других. Это ты — неповторимый, единственный, ты во всей полноте своей натуры; ты — телесный, ты — обнаженный. И вместе с тем: это ты — воплощающий всех других, все существа, всю историю.
Если от актера требуется сделать невозможное и если он это невозможное делает, то не он — актер — был тем, кто это мог совершить, потому что он — актер — мог совершить лишь нечто посильное, известное. Это совершил «его человек». В этот момент он касается самого важного, существенного: «твоего человека».
Если он начинает делать какие-то трудные вещи, он тем самым, выбрав путь не защищаться, обнаруживает элементарное доверие к своему телу, что значит — к самому себе. И тогда он менее «разделен». Не быть разделенным — вот суть, вот зерно.
В телесных упражнениях надо сохранять конкретность элементов, также как в пластических — точность. Без конкретности начинается самообман: катания по земле, метания в беспорядочных конвульсиях, и все это делается в убеждении, что это и есть упражнения.
Можно сказать, что некоторые аспекты нашей работы поддаются анализу с технической точки зрения, но само их решение никогда не бывает техническим. К примеру, проблема равновесия в позициях хатха-йоги. Актер пытается найти и сохранить равновесие — и падает. Он не «плутует», он пробует снова, и снова падает. Становится ясно, что сама природа диктует нам такой цикл движений. Почему он потерял равновесие? Потому, что начал действовать какой-то внешний фактор — наша ли мысль, рассчитанный ли самоконтроль, может быть, страх. «Я потерял в эту минуту доверие к себе и упал. Я не был послушным процессу и упал». Это симптом. Вы бы не упали, если бы вас действительно вела ваша природа. Когда мы вторгаемся в нее без надобности, мы падаем. Равновесие и есть симптом того доверия, которое мы находим в упражнениях.
Все элементы наших упражнений — заменимы. Мы их отбирали годами и отбросили гораздо больше, чем сохранили. Но, несомненно, можно принять в качестве базы какой-то другой набор элементов.
Каким же образом тело-память способно не только выполнять эти упражнения, но и управлять ими?
Если вы не отказываетесь его принять, вы находите, преодолевая его, то доверие к себе, которое ищете. Вы начинаете жить. И теперь уже само тело-память диктует ритмы, порядок элементов, их трансформацию, хотя сами элементы остаются конкретными. 137 Теперь они уже не растворяются в плазме. Дело здесь уже не во внешней точности, существующей в пластических деталях; здесь присутствуют все конкретные элементы, но мы уже не диктуем себе естественной пульсации в их изменениях. «Это» диктуется, «это» делается само.
Наша жизнь, наш опыт, живое содержание нашего прошлого (или будущего?) начинают вторгаться в этот процесс, принимать в нем участие, и в какую-то минуту нам самим становится трудно сказать, что это — упражнения или уже набросок, почти этюд творчества. А может быть, это и есть наше соприкосновение лицом к лицу и с кем-то другим, и с другими, и с нашей собственной жизнью, которая воплощается в эту минуту, реализуясь в движениях тела? Или, может быть, тело-жизнь желает и жаждет вести нас к другим горизонтам — к более глубокому бытию, в безгранично распахнутое пространство природы и неба, к солнцу, к свету, к образам, которые давно уже живут в нас? Или туда, где нет солнца, где нет света, в пределы, наглухо замкнутые?.. Этого нельзя рассчитать заранее. Все начинает быть телом-жизнью.
Но если воспринимать все это и реализовать как набор рецептов для упражнений, оно лишится всякого смысла. То, что выучено, то, чем вы овладели, не имеет уже никакой ценности. Если в нашей работе мы сохранили некоторые элементы, мы сохранили их скорее как потребность некой дисциплины, а не как средство защиты перед тем, что диктует нам тело-память или тело-жизнь, не как защиту перед тем, что делается само собой.
Можно увеличивать количество элементов, можно и даже нужно постоянно искать новые направления занятий и их перспективу, потому что сами занятия всегда должны быть своего рода вызовом нашей природе. Этот вызов тоже должен обновляться. Но какую-то область усвоенного надо сохранять всегда и всегда туда возвращаться. Без этого можно погрязнуть в хаосе.
Постепенно мы пришли к тому, что может быть названо «органичной акробатикой», которая диктуется нам какими-то сферами тела-памяти, какими-то предчувствиями тела-жизни. Это рождается в каждом только ему присущим образом и может быть принято другими тоже только по-своему. Так это происходит у детей, которые ищут пути к свободе, ищут радости освобождения от оков земного притяжения и пространства, никогда ничего не высчитывая заранее. Снова стать детьми невозможно, но можно найти источники, аналогичные детскому поведению, а может быть, идентичные, и, не играя детей, искать эту «органичную индивидуальную акробатику» (которая — не акробатика), обращенную 138 ко все еще живой и светящейся в нас потребности творчества. Можно, если мы еще не начали дюйм за дюймом, шаг за шагом умирать, отрекаясь от зова собственной нашей природы…
Чтобы сконцентрироваться на самом существенном, мы отказались от многих направлений тренировок. Вначале, например, мы вели поиск тренинга для мышц лица, «маски», во всем комплексе мускулов, во всей продуманности и заданности специальных тренировочных движений для частей лица: лба, бровей, век, губ. Здесь были движения центростремительные и центробежные, движения экстравертные («вовне направленные») и движения интравертные («внутрь направленные»), закрытые — открытые. Это дало нам возможность составить реестр различных типов лиц и масок, что, кстати, бесплодно. Однако мы подошли к открытию, сделанному, впрочем, уже Рильке в книге о Родене, что лицо каждого человека, черты его лица, его морщины являются следами жизни. Они охватывают целый цикл тех ключевых переживаний, которые неустанно повторялись в жизни, того опыта, который нам беспрестанно доставляла жизнь. Морщины — следы, трассы тех реакций и эмоций, с которыми мы встречаем жизнь лицом к лицу. Все наши: «Ах, я ошибся…», или «И все-таки я хочу жить…», или «В конце концов еще не все потеряно…» и другие подобные им мысли и фразы составляют наш несформулированный ответ «миру». Он прокладывает на нашем лице следы, а потом и морщины. Можно прочесть этот невысказанный ответ по лицу каждого человека. И если — работая над ролью — мы найдем ответ, постигнутый опытом нашей собственной жизни и вместе с тем соотносимый с «полем» роли, то лицо само собой создаст для себя нужную маску.
Это наблюдение не лишено опасностей; актер может увлечься поисками некой формулы, чтобы выразить ее в словах, а потом будет стараться торопясь ее повторить в некоем типе искусственных черт, искусственных морщин, искать маску, персонаж — формулу персонажа. То есть в один прекрасный день попробует высветлить перед зрителем свое лицо, а не всего себя — целостного. Мы отказались от этих поисков, тем не менее опыт у нас остался, и от него мы не отказываемся, черпая из него, когда необходимо. То же самое можно сказать и о множестве других наших упражнений.
Упражнения имеют и еще одну функцию, ее можно назвать «биологической». Если актер не живет, то есть не работает всей своей натурой, если он постоянно остается «разделенным», он — скажем так — стареет.
139 До какого-то определенного возраста в глубине нашего существа, под всеми напластованиями «разделенности» и «разорванности», внушенными и навязанными нам воспитанием и рутиной нашей собственной каждодневной жизни, все еще теплится драгоценный зародыш — росток жизни, ее зерно, сама природа. Но постепенно, с годами, мы начинаем уступать, отступать и опускаться, оседая на кладбище вещей. Это еще не окончательная смерть, но уже та, которой шаг за шагом мы отдаем себя. Если же работа в спектакле и на занятиях, если творчество охватывают актера во всей целостности его существа, если, творя, актер раскрывает всю свою полноту, — тогда он еще не опускается на кладбище вещей. Но в другие дни он туда опускается.
Поэтому именно тогда, когда нет репетиций и когда актеры не играют (я говорю о совершении Акта), упражнения необходимы. Упражнения утверждают ценности и одновременно утверждают нашу веру и доверие к самим себе. Это не лозунги, а что-то живое, что надо подтверждать каждый раз заново.
Почему же я против упражнений как средства «самосовершенствования»? Тот, кто исходит из идеи совершенствования, фактически задерживает истинный Акт. Ведь тот, кто говорит: «Я морально совершенствуюсь, каждый день я буду лгать меньше», — подтверждает, по существу, что он все же будет лгать. Если мы мыслим в категориях постепенного самосовершенствования, мы подтверждаем тем самым нашу сегодняшнюю вялость, наше прохладное ко всему отношение, желание избежать Акта, уклониться от того, что должно быть исполнено сегодня, сейчас.
Присутствие актерской техники не означает присутствия Акта. Техника может быть (в равной степени) симптомом суррогата Акта. Если Акт совершается полно, техника существует сама собой. Холодное техническое умение может быть развито, но холодное техническое умение служит уклонению от Акта, помогает спрятаться, скрыться от него. Отсутствие же техники, в свою очередь, — симптом нечестности, поскольку техника возникает из исполнения, совершения. Существуют поэтому лишь постоянные опыты, а не их совершенствование. Акт совершается hic et nunc. Если это свершение произошло, оно приведет нас к свидетельствованию. Потому что оно было истинно, полно, без самозащиты, без уклонения…
Вот другой пример. Допустим, идет репетиция. Начинается какая-то сцена. Выработаны достаточно точные элементы; благодаря общению, благодаря осязаемому присутствию тела-памяти актера, 140 в сцене все развивается взаимосвязанно. Режиссер наблюдает все это. Он замечает, что Акт осязаем, происходит во всей полноте, что то, что совершается, — действительно совершается… Однако режиссер понимает, что все это служить представлению не будет, так как движется не в ту сторону. Что же ему делать? Если он сам не несет в себе зерна творчества, он прервет действие, остановит актера; если же есть в нем зерно — не остановит. Быть может, потом, когда все уже кончится, он отыщет какие-то стыки, чтобы найденное актером «вмонтировать» в партитуру спектакля. А значит, оно будет принято и хоть так обретет свое место. Но допустим, что даже таким путем окажется невозможным его «использовать». Значит ли это, что оно пропало втуне? Нисколько. Напротив! Что репетировалось в тот день? Зерно творчества, истоки.
Безусловно, необходимо осознание конечной взаимосвязанности всей структуры: достигается оно в пути. Структура может быть выстроена, но процесс — никогда. Никогда Акт не может быть замкнут, закончен. Структура — да, организация произведения — да. Если нет способности взаимосвязанности и соотнесения — творить невозможно. Но это только условие творчества — не сущность. Сущностей же факт исполнения — в данный день и в каждый день, а не вечные приготовления ко дню следующему.
1969
141 ГОЛОС71
В том, что касается актерского тренинга, больше всего ошибок, думаю, совершается в области голосовых упражнений.
Недоразумения начинаются с проблемы дыхания. В конце XIX и начале XX века европейские специалисты, занимавшиеся проблемами голоса, почти повсеместно приняли положение, что полноту голосу сообщает так называемое брюшное дыхание (с доминантой диафрагмы). Существуют разные точки зрения в этой области. Одни теоретики и практики рекомендуют пользоваться исключительно брюшным дыханием. Это означает (цитирую соответствующий авторитет), что «во время дыхания живот должен выполнять движение вперед и назад», грудь же, напротив, оставаться неподвижной. Другие считают — и с практической точки зрения это более очевидно, так как более естественно, — что дыхание должно иметь брюшную доминанту, но к нему, как бы на втором плане, должна присоединяться грудная клетка. Возьмем, к примеру, детей, особенно маленьких, и людей, принадлежащих к так называемым примитивным культурам. У них процесс дыхания начинается с живота, но и грудь в это дело каким-то образом включена тоже. Это не то дыхание, которое можно воочию видеть на телекадрах физкультурников-культуристов, стоящих с выпяченной грудью. Это движение дробное, малозаметное, его можно обнаружить скорее прикосновением, чем наблюдением. Однако оно существует реально.
В нашей цивилизации многие искажения в дыхании вызваны как обычаями в одежде, так и навыками и условностями поведения. Именно поэтому женщины чаще дышат грудью, хотя это не является органическим дыханием. Это происходит не только потому, что они, предположим, носили лиф или корсет, но также потому, что такова принятая условность правил кокетства. Дыхание такого типа достаточно ограничено, так как используется только верхняя часть легких, а не все легкие целиком, вмещающие значительно больше воздуха.
Если ищется брюшное дыхание с диафрагмальной доминантой, то можно, ясное дело, обращать преимущественное внимание 142 на движения живота. Это и практикуется во множестве театральных школ. И мы тоже в начале нашей деятельности поступали именно так. Я заметил тогда, что некоторым актерам, обладавшим таким типом дыхания, не хватало воздуха. Они делали вдох, но достаточного количества воздуха не вдыхали. А все потому, что существует имитация подобного способа дыхания: мышцы двигательно имитируют диафрагмальное дыхание, а фактически — воздух не втягивается. Позже путем консультаций и тестов я нашел возможность более органичного контроля, при котором симуляция становится затруднительной. Вдох, включающий в действие диафрагму, раздвигает нижние ребра со стороны спины вбок и назад, и это можно проверить путем прикосновения. Имитировать это мышцами очень трудно, а если и возможна такая бессознательная имитация, то движение, о котором идет речь, становится очень ограниченным.
Поэтому, если ищется такое школьное, «общепринятое» дыхание, то лучше всего в этом случае нащупывать, касаясь пальцами, нижние ребра с боков, со стороны спины, как бы желая именно оттуда начинать дыхание. В результате дыхание будет не кончаться там, а «начинаться». Тогда нижние ребра расходятся назад и вбок (но скорее вбок, чем назад). Обнаружить это можно достаточно быстро, и, следовательно, можно корректировать линию дыхания, если она искажена. И одновременно таким образом можно избежать бессознательной симуляции у актера благодаря тому, что контролируется не живот, а именно ребра.
Однако это еще не решение проблемы. Потому что фактически неверно, что все люди дышат одинаково. Неправда также и то, что в разных положениях, при разных действиях и реакциях дыхание является одним и тем же.
Самый простой способ разобраться в этих проблемах — понаблюдать за младенцами, что не так трудно. Их дыхание меняется в зависимости от того положения тела, которое они принимают сами или которое им предлагается. Так же и спортсмены в действии: наблюдая их, можно заметить, что их дыхание меняется и даже «специализируется» или «окрашивается» в зависимости от вида спорта.
Во многих театральных школах искомое для актеров брюшное дыхание преподносится в качестве своего рода «среднестатистического дыхания». Обнаружено и установлено, что существует некое правильное «среднее» дыхание — и вот его и пытаются применять ко всем, неким всеобщим образом. Большинство же людей на самом деле не в состоянии дышать вот таким единым, «среднестатистическим» 143 образом, поскольку так или иначе известно, что именно различия в этой сфере и составляют одну из характерных черт жизни. В конце концов каждого молодого актера вынуждают пользоваться дыханием, которое ему не присуще. Вот здесь и начинаются всякие трудности.
Дыхание — вещь невероятно деликатная; конечно, его можно наблюдать, контролировать и даже можно им управлять, если кому-то этого хочется. Но если мы включились в действие, контролировать дыхание невозможно; тогда, по сути дела, дышит сам наш организм, а любые вторжения, любые вмешательства только нарушают и путают органический процесс. В этом случае, может быть, лучше ему не мешать. Надо наблюдать то, что происходит: если актер не испытывает трудностей с вдыханием воздуха и во время действий вдыхает его достаточно, то есть столько, сколько нужно, вмешиваться в это нельзя, даже если, согласно самым разным теориям, он и дышал неправильно. Если актер начнет вмешиваться в свой органический процесс, начнутся неприятности. Это — основополагающее наблюдение. Если что-то не в порядке — вмешиваться; если все идет как надо — оставить в покое. Надо довериться нашей собственной природе. Таков первый момент.
Второй момент следующий: во многих театральных школах выполняется множество упражнений для достижения долгого выдоха. Делается это таким образом: втягивают в себя воздух и громко считают — «раз, два, три, четыре» и так далее, вплоть до «двадцати, тридцати»… При этом основываются на убеждении, что таким способом актер наловчится удлинять вдох и оттягивать выдох и, следовательно, у него не будет затруднений с произнесением длинных фраз. Это ошибочное убеждение. Если студент ведет такой счет, то у него нет трудностей только до тех пор, пока ему легко, то есть пока ему хватает органического дыхания. Но потом бессознательно, чтобы сэкономить набранный воздух, он начинает закрывать, запирать гортань; именно вот такое полуприкрытие гортани послужит в будущем причиной целого ряда трудностей в его работе. Итак, первой причиной появления голосовых неприятностей обычно является вмешательство в процесс дыхания, второй — блокада гортани.
Существует и другой тип школьных упражнений, блокирующих гортань. Во многих театральных школах, например, выполняют упражнения с согласными, тренируя правильное произнесение согласных («п, б, д, т, с, ц» и так далее), а также произнесение слов с обязательным упором, с ударением именно на согласные. Но таким способом также запирается гортань. Потому 144 что в реальности гортань способна оставаться открытой, если, напротив, упор падает на гласные. Если же он падает на согласные, гортань замыкается. Чтобы выработать правильную артикуляцию, надо, действительно, как-то упражняться на согласных; однако делать это надо так, чтобы гласные сопутствовали согласным — предваряли их «до» и сопровождали «после»: «ата», а не «т-т-т».
В области дыхания существуют различные особенности, возникающие в связи с профессиональной принадлежностью. Таким особенным профессиональным дыханием пользуются, например, пловцы. Также прибегают к деформированному дыханию, но иного типа, некоторые актеры-любители, подражающие профессионалам: стремясь дышать «артистично», они делают упор не на живот, а на грудь и к тому же еще даже не «вперед», а «вверх». Существуют также и деформации, вызванные волнениями актера во время физического тренинга. К примеру, актерам, выполняющим физические упражнения, не хватает воздуха, и они начинают задыхаться. Почему? Здесь две причины: одни актеры, набрав воздух, на нем выполняют какое-то движение, задерживая дыхание, после чего, когда уже начинают задыхаться, делают резкий, жадный вдох и — принимаются терзать себя снова; другие стремятся дышать (вдыхать и выдыхать) в том самом ритме, в каком производят это движение, что ошибочно, ибо, если телодвижениям надлежит быть быстрыми, то им приходится нагнетать свои вдохи с той же самой скоростью, а это также приводит к удушью. Где тут ошибка? Без всякого сомнения, наша собственная природа сама регулирует это. Если мы выполняем быстрые движения, дыхание тоже будет ускоренным, но оно не будет иметь того же самого ритма. Если действия медленные, дыхание тоже будет замедленным, но не в том же самом ритме. Если начать дышать в том же самом ритме, что и ритм действий, и к тому же делать это сознательно, происходит слом органического процесса, он нарушается, а актер задыхается, как бы принося жертву на алтарь своего телесного труда. Так что если актер задыхается во время упражнений, то происходит это обычно по какой-либо из названных двух причин.
Ясно, что то же самое будет происходить во время игры, если в действиях актера нет живых импульсов и если он трактует свои действия как разновидность гимнастики, как нечто автоматическое. Тогда он «задохнется», совершая одну из упомянутых двух ошибок. Или же, вдобавок, еще и от волнения, от того, что нервы сдали.
145 Нельзя контролировать процесс своего дыхания; но надо знать, в связи с чем возникают ваши блокады и ваши препоны, а это нечто совсем иное. Надо наблюдать актера извне, со стороны: говоря так, я имею в виду режиссера или преподавателя. Первый вопрос, каким следует в этом плане задаться: есть ли у актера трудности с дыханием во время работы? Если у него есть трудности — и к тому же очевидные — и мы видим, что они возникли по какой-либо из вышеназванных причин, следует ему об этом сказать. Он должен следить за тем, чтобы не вмешиваться в свое дыхание, не стараться его подчинять ритму и скорости движений и тому подобное.
И все же это не единственные возможные ошибки. Можно заметить, как актеры совершают ошибки почти «классические», например, поднимая вверх и опуская вниз плечи во время вдоха и выдоха. Но если преподаватель захочет устранить эту ошибку, то студент в ответ весь напряжется и подавит движение живота — и тем самым, вторгаясь в органический процесс, нарушит и разрушит его. Очень легко можно обнаружить другую «классическую» ошибку — неполное дыхание, когда живот остается в бездействии, а активна только верхняя часть груди. Чаще всего это происходит у женщин. В таком случае надо искать, найти и создать такую ситуацию, при которой актер начнет дышать нормально. Тут существуют разные возможности: можно актера попросту уложить на пол и пусть дышит, вот и все. А затем надо указать ему, в какой именно момент он начал дышать нормально. Тут очень важны слова, к которым мы прибегаем. Надо сказать ему: «Вот сейчас ты не стесняешь естественного процесса», а не: «Вот сейчас ты дышишь хорошо, а до этого дышал плохо». Потому что если он будет стараться сознательно регулировать дыхание, то сведет на нет всю естественность процесса. Поэтому, если сказать ему: «Теперь ты не блокируешь процесса» — это будет не только другая формулировка, но также прежде всего другой вид воздействия. Ведь все дело в том, чтобы дыхание дышало само.
Нередко эту проблему невозможно разрешить и даже отрегулировать сразу. Можно проделать с актером и такое упражнение: он должен попробовать затыкать себе ноздри попеременно — одну на вдох, другую — на выдох. Порой в таких случаях дыхание нормализуется, особенно если актер лежит на спине. Но и это не является каким-то правилом, да к тому же… даже если это и оправдает себя, смотришь, через минуту снова могут вернуться все те же трудности. Можно открыть нормальное дыхание актеру в позициях, всецело поглощающих его внимание и не позволяющих 146 ему в этот момент вторгаться в естественный процесс. Если, например, актер пытается, не будучи подготовленным, сделать стойку на голове, то он слишком поглощен задачей, чтобы в этот момент думать о дыхании. Вот тут-то в нем и высвобождается процесс и начинается нормальное дыхание. Но чаще лучше просто подождать той минуты, когда действенное участие в этюдах, в импровизациях или в работе над спектаклем высвободит в актере органические реакции, живые импульсы. Когда высвобождается процесс жизни, он захватывает, поглощает его целиком, и… актер начинает дышать присущим ему врожденным дыханием. А иногда нужно попросту намучиться, порой специально проделывая такие упражнения, которые нас вконец измотают физически, чтобы уж потом и не вмешиваться в органические процессы. Это может оказаться небезопасным, особенно если навязывается путем давления извне, по-фельдфебельски, и может стать причиной обид, зажимов и тому подобного. И все же есть случаи, когда только благодаря усталости можно освободиться от манипуляции дыханием.
В конечном итоге — рецептов не существует. Для каждого актера в отдельности надо отыскать ту причину, которая его стесняет, мешает ему, а потом создать такую ситуацию, где эта причина может быть устранена и где сам процесс станет свободным.
Повторю еще раз, что прежде всего надо выжидать, не торопиться с вмешательством, ждать и искать — искать, каким образом высвободить органический процесс, высвободить его посредством действий, потому что тогда — и так бывает почти всегда — процесс дыхания высвободится сам собой. Благодаря этому может вообще не понадобиться вторжение в актера, и он сам не будет ни направлять, ни насиловать своего дыхания и тем самым блокировать его.
Очень важна, опять повторю, сфера языка, тех слов, с которыми вы обращаетесь к актеру. Всегда лучше прибегать к негативным формулировкам («не так»), чем к позитивным («именно так»).
Дыхание — проблема индивидуальная, у каждого актера — свои блокады. Несомненно также, что и высвобожденное дыхание тоже хоть немного, хоть в чем-то, но у каждого — иное. Но вот именно эта маленькая разница — даже совсем крошечная — является решающей для достижения органичности. А значит (и это самое существенное), модели идеального, «среднестатистического» дыхания не существует, но зато существует нечто такое, что можно назвать разблокировкой естественного дыхания.
С другой стороны, очень редко, но все же случается, что актер не в состоянии дышать с видимой диафрагмальной доминантой. 147 Не знаю отчего. Возможно, если бы провести анализ с фониатрической26* точки зрения, кое-что прояснилось бы. Если у женщины очень длинная и очень узкая грудная клетка, она зачастую не в состоянии дышать с диафрагмальной доминантой. И вот в этом случае, пожалуй, ей следует искать, каким образом можно включить во вдох и выдох позвоночник. Искать, но не в качестве подчеркнуто сознательного приема, а скорее в качестве своего рода жизненного приспособления: включить позвоночник в реагирование, как если бы он был изгибающимся «змеевиком», — тогда дыхание высвободится (позвоночник, кстати, не должен быть жестким, как палка, что у актеров нередко встречается).
Перейдем к голосу. Если оставить в стороне серьезные — органические, а не функциональные — пороки голосового аппарата (органические, то есть такие, например, как бугристость голосовых связок или физические дефекты гортани), то все рассказы, все легенды о том, что якобы существует голос широкий, сильный и голос узкий, слабый, во всех случаях фальшивы: этого не существует. Существует только способ действия голосом. Вот и все.
Многие актеры испытывают трудности с голосом именно потому, что наблюдают за своим голосовым аппаратом. Все внимание актера, занятого собственным голосом, сосредоточено на голосовом аппарате; значит, во время работы актер наблюдает сам себя, вслушивается в свой голос, теряется в сомнениях, а если даже и нет, то все равно он совершает что-то вроде насилия над собой. Он все время путем наблюдения вмешивается в свой голосовой аппарат. Тут можно выдвигать разные гипотезы, искать разные причины. Объективно же, однако, результат оказывается следующим: если во время работы актер наблюдает за своим голосовым аппаратом, то гортань замыкается — не целиком, лишь слегка, возникает что-то вроде полу прикрытия. Но это полуприкрытие вскоре начнет нарастать, поскольку актер начнет в свою очередь бороться за силу голоса. В результате возникает форсирование голоса, и тут-то и начинаются трудности. Актер хрипнет, а охрипнув, в еще большей степени насилует сам себя. Появляются пороки гортани, голосовых струн, правда, еще не физиологические, а только функциональные. Но после длительного периода работы в таком духе, как ее следствие, они могут перерасти в пороки физиологические.
Самое важное в работе голосом — не наблюдать за голосовым аппаратом. Это прямая противоположность тому, что прививается 148 студентам многих театральных школ. Это также и противоположность тому, что потом делается в театре. Ведь актер со своими голосовыми неприятностями идет к врачу. Врач прописывает ему, к примеру, ингаляцию. Если дело происходит летом, еще полбеды, но если зимой, то теплые ингаляции становятся опасными. Зимние ингаляции приводят к тому, что, разогревшись, голосовой аппарат утончается. Между тем разница между ингаляционной кабиной и улицей немалая. Актер получает хрипоту. С каждым днем нервничая все больше, он все пристальнее приглядывается, прислушивается к своему голосовому аппарату: прежде чем вымолвить слово, прежде чем произнести фразу, он колеблется, боясь, что потеряет голос. Дело становится все хуже. Самонаблюдение усиливается и все сильнее воздействует на актера — уже вся его природа нарушена. Прибавьте волнение. Органические, естественные импульсы, идущие через голос, теперь уже заблокированы, и актер или актриса (с актрисами это чаще случается) начинает страдать болезнями голоса, которые, если их не остановить, могут перерасти в физиологические нарушения. А почему это случается чаще у актрис, чем у актеров? Потому что в отношении актрис господствует мнение, что голос их должен быть красивым, чистым, нежным и сильным и что в этом его решающее достоинство. Это вздор. Еще сегодня в некоторых кругах говорят, что у актрисы голос должен быть «подобен колокольчику». В отношении актеров действует тот же самый механизм, хотя распространено иное мнение: будучи мужчинами, они как бы могут позволить себе быть пожестче, посуровее. И даже если они хрипят, это не вызывает серьезных возражений. Таким образом, причины всех неприятностей лежат на уровне детского сада, а вот последствия — отнюдь нет. Заметьте, у актеров подобные затруднения встречаются часто, а у прохожих на улице — намного реже. Крестьяне поют даже в холод, поют в открытом поле, и хотя, казалось бы, легко могут надорвать голос, поют себе и не жалуются. Вы скажете, что и у лекторов, учителей, педагогов часты подобные затруднения. А почему? Достаточно внимательно присмотреться к лектору-профессору во время его работы: он все время стремится контролировать свои движения, считая, что его жестикуляция должна быть упорядочена. Он старается говорить выразительно и с этой целью, что мне не раз приходилось наблюдать на разных конференциях, особо акцентирует согласные: стремится произносить все фразы образцово правильно, жаждет быть услышанным, а посему напирает на согласные. И поэтому его гортань полуприкрыта. С другой стороны, люди подобной профессии часто 149 бывают физически слабо развиты, тут мы имеем дело как бы с цветущим мозгом в хилом теле. Их тело подобно ростку, тонкому или толстому, но изнеженному ростку, вроде белого картофельного ростка, проклюнувшегося в погребе. Вся энергия организма сосредоточивается в области головы и голосового аппарата. К тому же еще они обязательно стремятся сохранять спокойствие, самообладание и самоконтроль, блокируя тем самым импульсы. Таким образом, неосознанно они произносят свои речи лишь голосовым аппаратом, а не — собой. И долго произносят, часами. И наносят вред голосовому аппарату. А вот крестьяне в поле не знают подобных забот; они поют, занимаясь каким-нибудь делом.
Как-то, находясь в кабинете, в театре, я услышал, что в коридоре уборщица принялась петь. Не могу сказать, что пела она «хорошо», но зато без затруднений. Она что-то делала в эту минуту и не контролировала того, как пела, не следила за своим способом пения, гортань ее была открыта, голос проходил абсолютно свободно. Я вышел в коридор, чтобы увидеть, как она дышит. У нее было нормальное дыхание с диафрагмальной доминантой. Все дело в том, что она находилась в состоянии естественного действия. Вот так поют и крестьяне в деревне.
Конечно, могут быть неприятности с голосом из-за какой-нибудь болезни, а часто и из-за наложившейся на болезнь некой социально-психологической ситуации (либо наоборот). Так, например, у проституток чаще всего голос хриплый. Их голос не является чистым по двум причинам: с одной стороны — алкоголь, порой злоупотребление курением, а также необходимость стоять подолгу на улице в условиях перепадов температуры. Но это не все. Существует еще причина, которая, может быть, недостаточно научна, но я в нее верю. Есть в этих женщинах нечто такое, что можно назвать нелюбовью к собственному телу, специфически окрашенное отношение к нему. И вот тут, в голосе, и проступает подобная нелюбовь, отсутствие доверия к телу (или же, напротив, доверие чрезмерное, а значит — все равно искаженное), проступает разделение себя.
Наблюдая актеров, обладающих органичным дыханием, вызванным органичными, живыми импульсами, то есть актеров здоровых, я заметил, что даже обильное курение не вызывает у них большей частью затруднений с голосом. Я сам много курю, но не испытываю никаких затруднений. Разумеется, если мне случалось переходить границу допустимого, выкуривая, к примеру, 60 сигарет в день, то на следующий день с горлом творилось что-то неладное. Разумеется, курение опасно для всего организма в целом. 150 Но его воздействие непосредственно на голос преувеличено. Впрочем, актеру рекомендуется за час-два до спектакля ограничить себя в курении, и большинство актеров просто обязательно должны это делать… Но если уж жажда курения донимает вас столь же сильно, как Святого Антония жажда женщины, то лучше выкурить сигаретку перед спектаклем, чем создавать в себе болезненные комплексы. Тут все дело в разумной мере: надо себя попросту ограничить, выкуривая одну сигарету вместо пяти. Не следует слишком преувеличивать то, что называют «выработкой сильной воли». Наш путь совершается не благодаря жесткой воле, что «сильна как смерть», а благодаря отношению к целостности жизни.
Если внимательно приглядеться к актерам, страдающим голосовыми затруднениями, довольно скоро можно обнаружить по определенным симптомам, что все дело здесь в проблеме гортани. На уровне симптомов это важнейшая вещь. В свое время я изучал схему строения гортани и подобные весьма ученые вещи, но вот никакого практического вывода из названных занятий извлечь не мог. Зато в Шанхае у меня была возможность ознакомиться с научной школой доктора Линя. Он был одновременно и профессором Медицинской Академии, и профессором Пекинской оперы. Сам он происходил из семьи актеров классической китайской оперы и в молодости работал актером. Отсюда его интерес к работе голосом в практическом аспекте. Именно у него я впервые понял, чем является гортань. Уже раньше я знал, что тут имеет значение, открыта или закрыта гортань, но как это быстро распознать, понял только у него.
Можно исследовать гортань пальцами. По обе стороны от адамова яблока есть что-то вроде двух холмиков, их можно легко найти. Но они как бы слегка углублены, находятся в глубине и сзади, и надо ухватить с двух сторон гортань пальцами там, где они кончаются (углублениями по обе стороны адамова яблока). Тогда можно глотнуть слюну и путем прикосновения почувствовать, как меняется их расположение. Когда мы глотаем, гортань закрыта, — это просто. А можно наблюдать такое состояние и во время речи. Вы что-то произносите — и вот она открыта, или же произносите — но она закрыта, не полностью, но все же закрыта. Ученики доктора Линя часто производили над самими собой наблюдения и учились распознавать подобные вещи. Не думаю, чтоб такое самонаблюдение было чем-то обязательным. Скорее это должен делать педагог или режиссер, если он хочет выяснить, какая у актера гортань — закрытая или открытая. Имея уже значительную, наработанную практику, это можно установить и без прикосновения — 151 это попросту слышно. Я сам пользовался таким приемом прикосновения к гортани актеров; однако операция эта небезопасна, если не обладаешь достаточной практикой и знаниями. Можно также открыть гортань извне пальцами, можно таким способом создавать различные типы вибраций голоса… что, однако, очень опасно, если руки, проделывающие все это, не обладают хирургической точностью. Не рекомендую подобного типа манипуляции.
Существует более простое средство. Дотроньтесь до места в нижней челюсти под языком и глотните слюну. Рукой держите подбородок, а большим пальцем касайтесь мышцы под подбородком, под языком. Эта мышца в момент глотания напряжена. Вот тут и заключена мудрость доктора Линя. Если гортань закрыта, мышца напряжена. А теперь — говорите. Стала ли она мягче? Или по-прежнему напряжена? Если мышца мягкая — гортань открыта, если напряжена — гортань по меньшей мере полуприкрыта. Это очень просто. Когда ученики доктора Линя поют, они касаются своей гортани вот таким образом. Хорошо ли это? Не сказал бы. Думаю, что техника эта была великим открытием, но она же может стать причиной разных заболеваний или же вызвать рецидив старых профессиональных заболеваний. Потому что тут вновь направляется внимание актера на голосовой аппарат.
Но прежде чем перейти к другому этапу наших исканий, хочу проанализировать одно упражнение доктора Линя. С точки зрения форсированной работы голосом оно весьма результативно. Надо принять следующую позицию: ноги расставлены, туловище должно быть наклонено вперед. Зачем? Если туловище хоть немного подано вперед, то, чтобы удержать эту позицию, надо опереться на нижнюю часть позвоночника, на крестец. Это важно. Далее надо проследить за тем, чтобы от крестца до затылка выдержать прямую линию. Все должно быть по прямой линии. Указательным пальцем надо держать подбородок, а большим касаться мышцы под языком, которая напрягается или расслабляется в зависимости от того, закрыта ли гортань или открыта. А теперь другой рукой, занеся ее над головой, надо коснуться бровных дуг и вдавливающим движением толкнуть их вверх-назад, чтобы таким приемом открыть рот за счет подъема всего черепа, но так, чтобы подбородок остался на месте. Он должен оставаться неподвижным в неизменном положении. Череп надо толкать вверх и назад (одновременно), лоб собран в морщины кверху. Таким образом, рот остается открытым, а нижняя челюсть — без движения. Чтобы суметь так удержаться, надо напрячь подзатылочную часть шеи. 152 Рот открыт, подбородок неподвижен, подзатылочная часть шеи напряжена, но мышца под языком должна быть расслаблена. Мышцы задней части головы напряжены, а передней части шеи и головы расслаблены. Гортань открыта, и голос будет исходить из нее со своего рода подголоском. Несомненно, что в этом упражнении создаются все естественные условия для открытого голоса. Нижняя часть позвоночника находится в действии под нагрузкой и должна поддерживать тело, а именно это и регулирует дыхание. В этой позиции — благодаря действию крестца — дыхание чаще всего бывает брюшным. Кроме того, возникает отражение, создаваемое затылком, и одновременно, поскольку большим пальцем контролируется мышца под языком, гортань остается открытой.
И вот случается, что актер, никогда не пользовавшийся открытым голосом, подлинным, естественным своим голосом, может в этих условиях его впервые услышать. Но сказав это, я сразу же должен предупредить об опасности: актер начинает вслушиваться в себя. Вновь возникает опасность, что актер, повторяя это упражнение, начнет наблюдать за собой и манипулировать своим голосовым аппаратом. Тем самым гортань его, быть может, и будет оставаться открытой, но голос его органичным не будет. Разница весьма тонкая, но обнаружить ее можно достаточно быстро. Голос — даже открытый и сильный — становится механическим и тяжелым, обнаруживая в себе как бы некий автоматизм. Если педагог или режиссер хочет услышать открытый голос актера, заметив, что тот не использует свой естественный голос, то он может повторить с ним этот опыт еще раз, но не более. Я считаю, что многократное применение упражнений подобного типа в большей степени угрожает актеру неприятностями, чем помогает ему. Школа доктора Линя тоже имеет свои ограничения. Однако само упражнение является открытием, так как, проделывая его, можно услышать подлинный голос актера.
Возможность эта не единственная. Можно найти и другие ситуации, которые сами по себе дадут тот же эффект. К примеру, уже ранее упоминавшаяся ситуация, когда актер стоит на голове. Тогда, с одной стороны, создается сильный напор всей тяжестью тела на череп, а с другой — все внимание актера поглощено необходимостью удержать равновесие. А значит, если в этом положении он запоет или заговорит, то может случиться, что он сделает это своим подлинным, своим собственным, присущим ему голосом.
Существует немало актеров, которые, из снобизма или из кокетства, предпочитают избегать естественного голоса. Скажем, у 153 актера высокий регистр голоса, и это его естественный регистр; но чтобы соответствовать стереотипу «мужественности», ему хочется иметь голос более низкий; он и в жизни прибегает к более низкому голосу. Так он упражняет, тренирует свой голос: с дополнительной натугой и неорганичным образом. То же самое явление можно заметить и у актрис или певиц, желающих обладать более высоким голосом, чем им дала природа. Напомню случай с одной великой певицей, весьма известной и почитаемой: у нее особенно часто случались как голосовые, так и нервные кризисы. А причина в том, что она прибегала к более высокому голосу, чем тот, что был ей присущ от природы. Я имел случай не раз убедиться: если актеры прибегают и в работе, и в жизни к более высокой либо более низкой шкале, чем та, что соответствует их подлинному голосовому регистру, у них возникают не только голосовые, но и нервные срывы. Не исключено, что ежедневное, в каждом спектакле совершаемое над собой насилие разрушительно воздействует на всю нервную систему. Не хочу сказать тем самым, что актер должен пользоваться своим голосом исключительно на базовом уровне. Но на базе своего органичного, естественного голоса он может применять любые голоса, самые высокие и самые низкие. Однако при этом он должен опираться на базу, а не вступать с ней в конфликт, не выступать против нее.
Такое самое высокое или самое низкое звучание можно скорее отыскать, пользуясь разными вибраторами или же разными видами эха. Почти каждый актер или актриса способны производить те же самые голосовые эффекты, что и знаменитая Има Сумак, прославившаяся в свое время тем, что прибегала к любым — мужским или женским — голосам, пользовалась голосами звериными или птичьими. Каждый актер может это сделать. Но в качестве исходного пункта, а также, что очень важно, и в обычной жизни он должен обладать своим собственным голосом с естественным, органичным базовым регистром. Наша природа все равно отомстит нам, если мы будем совершать над ней насилие, насилие над тем, чем мы являемся в действительности. Преодолевать себя, превышать себя? Да. Но нельзя при этом делать вид, что мы не то, что мы есть на самом деле, что мы какие-то иные. Потому что в последнем случае природа — или организм — пошлют нам в ответ лишь болезни и страдания.
Вся наша работа, вся многолетняя практика нашей группы происходили не в пустоте. Мы совместно изучали разные явления в области голоса. Я проводил беседы и консультации с разными специалистами, наблюдал актеров в разных странах. Прослеживал 154 также то, какими способами люди, относящиеся к разным цивилизациям, культурам и языкам, оперируют телом в тот момент, когда оперируют голосом.
Я расспрашивал разных знатоков, профессоров в области вокала и вообще голоса, и встречался с большими неожиданностями. Некоторые сведения мне удавалось получить опосредованным путем. Так, например, дошли до меня сведения от человека, бывшего великим знатоком-профессором и открывшего некоторые важные органичные вещи в природе голоса. Через его учеников (которые, кстати, почти полностью уничтожили его открытие), идя как бы по его следам, по своего рода руинам, обломкам, я приближался к тому, что он знал, и извлекал то, что его учениками было забыто. Какие-то вещи я открывал благодаря скромным преподавателям-«голосовикам», мало известным в театральной среде столиц или попросту работавшим на периферии, в провинции. Учительница музыкальной школы в Ополе, например, заметила важные вещи в связи с употреблением гласных, а также резонаторов (хотя в последнем случае она считала, что существует только два традиционных вида: резонатор «маски» и «грудной» резонатор). Но и это было немаловажно, тем более что она знала: можно парадоксальным образом менять местами их доминанту и благодаря этому достигать их симультанности.
Потом наступила пора наблюдений в других странах, прибавились материалы. Например, я наблюдал способы работы китайцев в классической опере: они изучают голос не каким-то сознательным образом (доктор Линь был исключением), а повторяют изо дня в день одни и те же типы движений и голоса, уже вписанные в традицию роли. Но и там тоже случались вещи поразительные. Например, однажды кто-то из них сказал мне: «Рот, пожалуй, следовало бы иметь вот тут», указав этой странной фразой на возможность существования самых различных резонаторов, что, впрочем, более детально и точно определить или сформулировать он не сумел…
Какие-то сведения мы почерпнули с граммофонных пластинок. Например, манера пения у Армстронга. Слушая его, я пришел к убеждению: считать, что ключ характерности его пения был только в хрипе, — ошибочно; у жителей Африки можно заметить тот же тип пения. Возможно, это очень старая традиция. Как он пел? Его пение подобно «напеву» тигра. Тот же самый тип пения я слышал в некоторых восточных театрах, там, где играли одни только женщины (исполняя также и мужские роли) и где все они прибегали исключительно вот к такому голосу со звериными резонаторами. 155 Когда я их спросил: «Что послужило образцом для вашего голоса?» — они ответили: «Так поют все дикие звери».
Такими путями шаг за шагом я смог собрать основательный материал, а также кое-что открыть. Каков же результат этих исканий?
Вероятно, надо начать с того, что называется поддержкой голоса в разных оперных школах, а в особенности в так называемой итальянской опере. Принято говорить, что во время пения надо иметь «поддержку». До сегодняшнего дня на разных европейских оперных площадках не редкость певцы и певицы, любящие держать в руке платочек, а сами руки — на середине живота. Этот платочек — дань давней условности, а также реквизит. За этим стоит определенная традиция, идущая от певцов итальянской оперы, веривших в то, что во время пения следует пользоваться брюшным дыханием и после вдоха, захватив воздух, следует сомкнуть брюшные мышцы. В тот момент, когда в брюшную область вошел уже максимальный объем воздуха, ее следует подпереть руками, «сомкнуть», если мы собираемся петь или произносить речи. Тогда воздух будет с силой нестись оттуда, и эта сила будет нести голос. Чтобы закамуфлировать эту чисто техническую операцию, использовали маскирующий прием — платочек. Впрочем, большинство певиц уже давно позабыло, по какой причине они держат руки с платочком на животе.
В Пекинской опере я мог наблюдать, как актеры — даже самые юные, восьми- и девятилетние дети — работают с сильно затянутыми на животе поясами. Когда я спросил, зачем это нужно, мне ответили, что так лучше работается. Думаю, что в конечном счете причина та же самая: стиснуть брюшные мышцы призван пояс. Когда вдох уже сделан, то этот напор воздуха изнутри наружу, это сокращение и это напряжение брюшных мышц производятся сами собой. Однако здесь это более органично, чем сознательная манипуляция, практикуемая в итальянской опере. В общем же и те и другие исходят из того, что существуют возможности «подпорки» голоса. Но обязательно ли это?
Мне часто приходилось слышать утверждение, что актерам следует практиковать дыхательные упражнения, почерпнутые из хатха-йоги. Мы уже знаем, что вмешательство в дыхание небезопасно. Но так как в подобных вопросах все лучше проверять на практике, изучать и тестировать, и не верить на слово даже самим себе, то мы пробовали и это тоже. Не хотел бы тут слишком подробно описывать все эти упражнения, хочу только сделать выводы. Дыхательные упражнения в йоге ставят своей целью уничтожение 156 дыхания. Здесь то же самое, что и во всех упражнениях хатха-йоги: в текстах, поясняющих и трактующих хатха-йогу, повторяется постоянно, что ее целью является задержание процессов дыхания, мышления, некоторых других процессов. И в самом деле, люди, занимающиеся под контролем специалистов, следуя старым техникам и длительное время тренируя дыхание, могут его замедлить. Нельзя сказать, чтоб они не дышали вообще, но они дышат намного медленнее, чем обычно. Процессы жизни не прекращаются, но в значительной степени замедляются.
Но вот только каков же конечный аспект этих упражнений? Органичный результат очень близок зимней спячке животных. Наблюдение за животным в состоянии такой спячки обнаруживает, что оно дышит, но дыхание его сильно замедлено; оно почти не шевелится и, если так можно сказать, почти лишено всякого восприятия. Какой же цели может служить приложение этих упражнений к актерам, коль скоро сама материя их работы полярно противоположна «спячке»?
Каким образом упражняются в хатха-йоге? Начинается с контроля длительности вдоха и выдоха. Ищут возможности вдыхать медленно, а выдыхать еще медленней. Но чтобы выдыхать намного медленней, надо наполовину сомкнуть гортань. А потом ищется пауза между вдохом и выдохом; эта пауза с каждым днем должна все удлиняться и удлиняться. И чтобы сделать ее еще более долгой, гортань надо уже совсем, по-настоящему закрыть — не наполовину, а полностью. После чего ее открывают наполовину, чтобы медленно впустить воздух. Потихоньку считают, стремясь удержать точный ритм между вдохом, паузой и выдохом. Идя таким путем, приходят к предельному контролю всего процесса. У актера все это может привести только к блокированию. Я не отвергаю техники хатха-йоги, если ее применяют в каких-то иных целях, но применение ее актерами — абсурдно. Не могу понять, как некоторые специалисты готовы применять к кому бы то ни было совершенно безответственным образом технику, вызывающую блокады и заболевания, не изучив предварительно ее возможных последствий. Известно, чтобы оперировать голосом, надо иметь дыхание широкое, открытое, естественное. Можно обращаться к разным техникам. К тому же распространено мнение, что вообще необходимо тренироваться. Но так как в этой области точно выработанных упражнений не существует, то склонны брать и берут что угодно, лишь бы готовенькое, хотя бы это и была психофизическая техника, принадлежащая совершенно иной культуре, служащая совершенно иным целям. Это безответственно. 157 Польза от подобных голосовых упражнений — всего лишь миф.
Нет сомнения, выдох несет голос. И несомненно, это — действие материальное, а не какая-то метафора или что-то неуловимое. Именно выдох несет голос, без сомнения. Но чтобы он мог нести голос, выдох должен быть органичным и открытым. Гортань должна быть открыта. И достичь этого посредством тех или иных технических манипуляций с голосовым аппаратом — невозможно. Тут, вероятно, есть только один совет, который можно дать актерам: не экономить воздуха. А тем временем то, что им прививается, что им рекомендуется в школах — нечто противоположное. Их учат, как надо, задерживая, сберегать воздух, как достигать долгого выдоха; учат разным упражнениям со счетом и тому подобному. Практикуется такой тип обучения актеров, который вызывает затруднения с голосом.
Воздух надо набирать тогда, когда его не хватает. Есть актеры, которые — по причине ли чрезмерной нервной возбудимости или увлеченные тренингом — без устали производят вдох. Им надо сказать: «Зачем делать вдох, если это не нужно? Так ведь можно только задохнуться. Зачем вмешиваться в свое дыхание?» С другой стороны, есть актеры, которые в процессе речи выдыхают лишь малую часть воздуха; таким путем они закрывают свою гортань наполовину и тоже начинают «задыхаться». Им надо сказать: «Именно воздух несет голос. Пользуйтесь воздухом. Не экономьте его. Вдыхайте воздух тогда, когда это нужно, а потом не экономьте его. Это он, воздух, работает, это не голосовой аппарат, а ваш выдох. Если хотите донести свой голос как можно дальше, пользуйтесь воздухом, выдыхая его как можно “дальше”, вот до того самого места, до которого вы хотите его донести, до того самого места — воображаемого, неправдоподобно далекого, фантастического, вот так, выталкивайте из себя воздух голосом, выдыхайте! Не экономьте его».
Огромным событием в наших исканиях на этом поприще стало открытие резонаторов. Возможно, слово «вибраторы» было бы точнее, поскольку с научной точки зрения это, пожалуй, не резонаторы.
Уже в театральном институте, будучи на актерском факультете, я научился тому, что актеру надо уметь применять «маску». Что такое «маска»? Это та часть лица, которая охватывает лоб, виски, череп и скулы (щеки), вся та часть, на которую когда-то актеры накладывали маску. (Кстати, античная маска усиливала голос.) 158 В современном драматическом театре актер пользуется этой частью головы — «маской» — как своего рода естественным резонатором; и в самом деле, когда актер говорит, посылая голос через эту часть головы и лица, то слышна какая-то вибрация, которая также ощущается, если на голову ему положить руку (но не на скулы, не на лоб, а именно на голову). «Маска» связана с довольно старой традицией европейского театра, но актеры, пользующиеся этим резонатором, в целом никаким иным не пользуются. Тем самым сложилась и существует некая достаточно определенная окраска, некий характерный вид вибрации голоса драматического актера. Эта вибрация обладает одновременно и чертами некоего как бы повышенного благородства (что невероятно забавно), и некой повышенной звучностью. Этот вид голоса, резонирующего «в маску», легко заметить, к примеру, у тех английских актеров, что и до сегодняшнего дня стараются играть Шекспира в манере XIX века.
В некоторых вокальных школах (более близких оперным) можно наблюдать, как применяется также и другой тип резонатора — грудной. Он приводится в движение тогда, когда певец обладает низким голосом, и поэтому пользуются им преимущественно басы. Обладатели теноров прибегают скорее к «маске».
С первых шагов работы в театре я ощущал неприязнь к такому, типично актерскому, голосу. Мне в нем чувствовалось именно «актерство».
Давайте приглядимся к тому, каким образом говорят люди в разных странах, из этих наблюдений можно вывести интересные заключения… Как, например, говорят китайцы? Порой они издают очень резкие звуки, способные производить на нас впечатление чего-то искусственного. Однако и в их случае можно обнаружить естественный вибратор — тут скорее вибрируют затылок и подзатылочная точка. Существует, следовательно, и такая возможность. Можно искать, какими способами ввести в состояние вибрации эту точку. Это доступно также и европейцу, так как эта точка является деталью и его анатомического строения. Я искал этот вибратор посредством слов, звучавших для меня особенно «по-китайски»: «Кинг, кинг». Искал, как бы забраться голосом как можно выше, намного выше, чем это вообще возможно. Сначала: как произносить это губами, потом — носом, потом — лбом, в конце концов — предельно высоко, настолько, насколько это возможно, верхом черепа, чтобы в конечном итоге «атаковать» затылок: как бы наколоть его иглой изнутри и проколоть эту затылочную точку. И тогда получалось высоким напевом: «Ки, 159 ки». Голова при этом находится не просто в обычном, прямом положении, а скорее так: затылочная часть шеи напрягается и вытягивается — вверх и вперед. Возникает вибрация сзади черепа — ее можно проверить прикосновением.
В восточнославянских языках чаще пользуются животом. И можно предполагать, что именно он и дает вибрацию. Вибрацию животом можно заметить и у полных, тучных людей (или у японцев, тренирующих «харе» — живот как центр тяжести), которые как бы базируются на животе, как бы опираются на него. Вспомним и Будду с его большим животом… Такие люди «располагаются» на животе, пользуясь им как вибратором. Похожим голосом пользуются коровы. Я искал достижения этого эффекта с актерами следующим образом. Предложенная позиция: принять положение коровы (но не на четвереньках), то есть на расставленных ногах, с тяжелым животом («брюхом»), поданным вперед. И исторгать из себя голос, направленно идущий вниз, по ассоциации с протяжным мычанием коровы. Вот тогда они прибегали к брюшному вибратору.
А как говорят немцы? Может быть, я не совсем объективен, но мне хотелось бы прежде всего нащупать путь к поиску. Немецкий язык у меня ассоциируется с зубами. Именно зубы произносят все звуки в «Auf Wiedersehen». Ассоциация из животного мира — пес, волк. Мы разрабатывали упражнения для речи зубами. Так, как если бы пес или волк заговорил по-человечески. Кладя руку на челюсти, на губы актеров, пользовавшихся таким резонатором, я заметил, что даже зубы находятся в состоянии вибрации — очень тонкой, но очевидной. Возможно, если быть еще точнее, это не зубы, а челюстные кости.
Следующий — кот. Каким образом кот издает звуки, какими путями проходит его голос? Кот, когда он мяучит, находится в движении, двигается его позвоночник. Я выработал и выполнял вместе с актерами упражнение «говорения позвоночником» — так, как это делает кот. И оказалось, что и в самом деле здесь не просто движение. Позвоночник говорит.
Я изучал, каким образом можно пользоваться разными частями грудной клетки, способными быть вибраторами. Впоследствии, когда уже освоено использование грудной клетки, можно научиться посылать импульс назад, в верхнюю часть позвоночника, и тогда вы начнете говорить так, как если бы ваш рот был расположен поблизости шейного круга. Вот и еще один, совсем иной, вид голоса. Положив руку в том месте, я убеждался, что там вырабатывается вибрация. Тогда я задался вопросом: нельзя ли создать 160 ее также и в средней части позвоночника! Я пел так, как если бы мои поющие уста были расположены именно там. И тогда я заметил, что это возможно. У актера, который искал того же, я рукой почувствовал вибрацию. И вместе с тем голос снова был иным. Я искал того же эффекта в крестце, начиная с области живота и идя к крестцу. Результат: рот на этот раз находился как будто бы именно там. Там существует какая-то материальная вибрация кости.
Почти повсюду в теле, там, где мы начинаем пользоваться вибраторами, начинается вот такая материальная вибрация. Нередко люди, слышавшие кое-что о наших вибраторах — в форме ли легенд или в виде сплетен, — считают, что здесь все дело в каком-то субъективном феномене. Вовсе нет. Материальная вибрация существует фактически. Даже в брюшной области. Именно поэтому и следует, быть может, говорить о «вибраторах», а не о «резонаторах», поскольку в брюшной области резонатор (с научной точки зрения) невозможен, там нет кости. Однако вибрация там существует. Если применять брюшной вибратор, то можно в этом месте ощутить вибрацию.
В поисках разного типа вибраторов я когда-то обнаружил их в собственном теле двадцать четыре. Дело обстоит таким образом, что при возникновении каждого вибратора одновременно создается вибрация всего тела, но ее центр совпадает с определенным вибратором; там дрожь сильнее всего. Однако, по правде говоря, все тело должно быть одним огромным вибратором. Актер, вовлеченный в действие полностью и целостно, становится, не думая об этом, одним огромным вибратором.
Когда-то мне казалось, что достичь этого можно механическим путем.
Каким образом можно объединять вибраторы? Парадоксальным. Например, если пользоваться низким голосом, включая при этом черепной вибратор, то одновременно будут действовать вибраторы черепа и грудной клетки. Если же прибегать к высокому голосу и пускать в ход грудной вибратор, то тоже будут одновременно действовать два резонатора: грудной и черепной.
Мы применяли вибраторы со всей возможной предварительной продуманностью. Актеры ощупывали самих себя и искали способы достижения материальности вибрации. Найти их можно достаточно быстро. Шаг за шагом вместе с актерами мы открывали все больше и больше резонаторов. Но потом у меня появились сомнения. С одной стороны, я заметил, что благодаря всему этому голос актера становится сильнее, что актер способен достигать 161 таких же эффектов, как Има Сумак: добиваться голоса очень высокого и очень низкого; голоса чрезвычайно разнообразного, как бы издаваемого различными людьми и животными. И вместе с тем была во всем этом какая-то тяжесть, механичность, даже какой-то холод, хоть и не хотелось бы так говорить, но уж во всяком случае — какая-то автоматичность; в нем не было жизни. Я заметил, что актеры могли применять в работе, ища те или иные вокальные формы, заранее обдуманную окраску голоса. Но когда они начинали действовать всем своим существом, возникало нечто совершенно иное, это не были уже сознательно применяемые вибраторы. Даже случалось порой и так, что из-за вибраторов, которыми они хотели в тот момент сознательно воспользоваться, блокировались органические процессы.
На этом этапе исканий я задавался вопросом о причинах: почему их голос, хоть и был сильным, звучал как бы искусственно? В один прекрасный день я понял, что — совсем на других путях — они совершают все ту же старую ошибку. Наблюдают за самими собой. Начинают вторгаться в органический процесс. Правда, все было более естественным, чем в случае, когда они наблюдали за голосовым аппаратом: теперь наблюдение шло за всем телом или за какой-то его областью, поэтому, кстати, голос и был сильнее. Не только сами вибраторы раскрыли разные типы голоса, но и то, что актеры отказались от наблюдений за голосовым аппаратом, от контроля над ним, сыграло свою роль. Контроль над телом здесь оказывается более естествен, но тем не менее это все же самонаблюдение.
Стремясь воспользоваться голосом диких животных, «голосом Армстронга», мы пускали в ход вибратор гортани. Гортань тоже может служить вибратором, но лишь при условии, что она работает как бы сама собой, органично. Если же актер силится вызвать в себе действие этого вибратора с заранее обдуманным намерением, как мы поступали с другими вибраторами, он начинает хрипнуть. И вот, чтобы пустить в ход вибратор гортани, мы стали разыгрывать этюды, выполняя в них роли самых различных зверей. Тогда я заметил, что и актеры, и я сам способны применять этот вибратор без всякого труда. И вместе с тем этот «дикий» резонатор, названный нами «звериным» вибратором, вибратором тигра, был не так тяжел и автоматичен, как другие.
Тогда я задал себе вопрос: отчего так происходит? Несомненно, оттого, что применять этот вибратор с заранее обдуманным намерением нельзя. К примеру, я просил двоих актеров в паре поискать, каким путем они могли бы вызволить в себе «тигров» и тому 162 подобных «диких зверей», вызволить в состоянии игры или борьбы, или еще какого-нибудь действия, происходящего «перед лицом» чего-то или кого-то. То есть им надо было глубинные импульсы вывести наружу.
И было это началом исканий в совершенно ином направлении. Я заметил, что если постараться создать вовне эхо, то можно без всякой предварительной обдуманности и подготовки пускать в ход вибраторы. Если вы начинаете свою речь, обращаясь к потолку (не поднимая головы вверх), то сам по себе освобождается черепной вибратор. Однако действие это не должно быть чем-то субъективным; эхо должно возникнуть объективно, его надо услышать. В таком случае позиция, которую мы занимаем, и наше внимание направлены не на нас самих, а вовне: мы слушаем эхо. Это эхо должно быть совершенно реальным, а голос вместе с тем должен быть обращен к потолку. Если этого оказывалось недостаточно, я еще помогал актеру тем, что говорил ему: «Губы у тебя на голове».
Потом я заметил, что если хочешь услышать эхо, идущее от пола, из-под собственного тела, то надо искать всем своим телом определенную специфическую позицию: ноги слегка расставлены, живот активен. Если актеру еще подсказать, что губы у него на животе или под животом, самопроизвольно включается брюшной вибратор.
Если же, в свою очередь, искать эхо, отдающееся от стены, расположенной впереди и достаточно отдаленной, то начинают функционировать резонаторы грудной клетки. Тогда можно сказать актеру: «Твои губы в груди». А если тот же импульс искать и посылать назад, чтобы создать эхо, отдающееся от стены, расположенной достаточно далеко позади, и эхо будет реально, то в качестве резонатора начнет работать часть позвоночного столба и спины.
Самим фактом, что действия производятся в разных направлениях в реальном пространстве, создаются условия, при которых разные вибраторы начинают работать сами собой. Голос уже не является автоматическим, жестким, тяжелым. Он — живой. Все внимание актера обращено вовне, он слушает эхо извне, а это так естественно. Ведь актер не может полностью избежать этой склонности — вслушиваться. А тут он таким образом может слушать свое эхо. И в этом случае процесс может быть органичным. Конечно, в двух моментах опасность остается. Желая вызвать эхо со стороны потолка, обычно задирают голову вверх, и таким образом напрягаются 163 все мышцы горла: в этой позиции очень легко закрыть гортань. Актеру тогда надо сказать: «Нет-нет, говори не обычными твоими губами, а теми, что у тебя на макушке».
Однако я заметил, что и достигнув умения слышать эхо, актеры склонны и способны все же делать кое-что автоматически. Во время стажировок, которые я проводил в разных странах, мне приходилось наблюдать такое явление: стажеры начинали твердить одни и те же слова. В случае упражнения с потолком — «потолок, потолок», в случае упражнения с полом — «пол, пол…». Возникал автоматизм. Состояние, в которое впадал актер, становилось бесплодным. Как избежать этой тенденции, этого греха? Путем поиска живых ассоциаций. Надо сказать ему: «Там, в глубине, там, в пропасти, — там твой друг…»
Большое значение имеют те выводы, которые можно сделать, наблюдая и слушая пение или призывные крики людей, выросших и воспитанных в разных пространственных условиях. Я обратил на это внимание. К примеру, крестьяне-горцы, переговариваясь на дальнем расстоянии, высвобождают свой голос самопроизвольно. Но когда я говорил актеру: «Говори по направлению к той стене, но намного дальше. Это гора. Говори в сторону стены, но кому-то, кто находится далеко за ней, как за горой», — актер начинал кричать. Нет! Горцы не кричат, они переговариваются через долины.
Я искал разные ассоциации в мире зверей: собак, коров, кошек, в мире птиц и других живых существ. И тогда я заметил, что актеры не столько склонны высвобождать, «выпуская на волю» из своего человеческого тела разнообразных животных, сколько попросту изображать их, играя на четвереньках. А значит, снова возникает своего рода поиск убежища, бегство от задания, его заменитель. Можно создавать для актеров и какие-то другие ситуации. С одним актером, например, я вел поиск через ассоциацию с птицей, сидящей на его теле. «Вот сейчас она прогуливается по твоей груди. Пой ей. А сейчас она клюнула тебя в голову, под затылком…». И тому подобное.
Потом, например, был такой этюд, где актер искал и нашел некий род связи, сближения — не сексуального, но все же телесного — с женщиной из своей подлинной жизни, которую здесь он отыскал как воображаемую партнершу. Я говорил ему: «Пой для нее, вот сейчас она положила руку тебе на голову». Тогда его голос высвобождался и звучал через черепной вибратор. Я говорил ему далее: «Она коснулась твоей груди…» — высвобождались грудные резонаторы. Так, точка за точкой, органически включались 164 разные резонаторы. И не было тут автоматизма. Все происходило только благодаря живым ассоциациям.
Оставалась еще одна важнейшая проблема — проблема физических импульсов. Нередко мне приходилось наблюдать у актера, обладающего достаточно естественными голосовыми реакциями, что в каких-то конкретных условиях они, эти реакции, оказываются опережающими по отношению к импульсам тела; а ведь импульсы с точки зрения органического порядка, как это случается в жизни, должны предшествовать голосу. Самый простой пример: кто-то вознамерился стукнуть кулаком по столу и крикнуть: «Хватит!» В жизни человек сначала ударяет по столу, потом кричит. Интервал между действием и криком может быть малым, очень малым, но порядок именно таков. Актеры поступают наоборот: сначала кричат, потом стучат (реагируют телом). Я обратил внимание, что в таком случае голос заблокирован. Попросил, чтобы поступали в обратном порядке, и заметил, что, когда физическая реакция опережает голосовую, все органично. Но даже в этом упражнении заложено немало опасностей: актеры кричат, даже орут, им кажется, что крик высвобождает голос, они совершают резкие движения, колотят кулаками и т. п. Искать надо без нажима, без напряжения.
Можно достигнуть вибрирующего голоса, вызывающего эхо во всем пространстве, — по ассоциации с растениями в поле, по ассоциации с ветром… Этюды могут быть разными, но — в пространстве.
Можно воздействовать на актера «извне», «снаружи»; можно извне производить разные манипуляции с его горлом, диафрагмой, позвоночником и так далее и вызвать таким путем реакции тела, несущие голос. Так можно высвободить его абсолютно органичные импульсы. Но можно таким путем причинить много зла. Считаю своим долгом об этом сказать, потому что это факт объективный. Голос можно открыть снаружи. Это небезопасно, но это возможно. Почему возможно? Потому, что через различные телесные стимулы, применяемые снаружи, можно вызвать реакции всего тела. Возникают импульсы, идущие изнутри тела, из его недр, и предваряющие реакцию голоса, даже неартикулированную. Именно эти импульсы несут голос.
Можно освобождать все самые разнообразные типы голоса посредством различных ассоциаций, порой очень и очень личных, даже интимных. Однако, чтобы не опустошиться, не подойти к грани бесплодности, мы не должны в упражнениях заходить 165 слишком далеко, в область излишне интимных исканий Потому что тогда можно как бы спровоцировать некую разновидность лицемерия. В принципе, интимное признание бывает нужно только в творческом процессе. Во время упражнений не следует углубляться в интимные области, если они, конечно, не выявятся сами собой. Ассоциациями, высвобождающими импульсы, являются обширные амплификационные27* поля с животными, растениями, с почти фантастическими образами, картинами. (Например: ты становишься длинным-предлинным, или — крошечным, или — гигантом и тому подобное.) Все, что вызывает ассоциации и направлено в пространство, — все это высвобождает голос. Высвобождает — особенно в этюдах — не какие-то холодные импульсы, а искания в поле наших собственных, личных воспоминаний, нашего тела-памяти. Вот что создает голос. Поэтому существует фактически только одна проблема: каким образом высвободить эти импульсы тела-памяти? Или более того — тела-жизни? Невозможно работать голосом, не работая телом-жизнью.
Поэтому теперь я знаю гораздо больше о том, чего не следует делать с голосом, чем о том, что с ним следует делать. Но это знание — чего не следует делать, — по-моему, намного важнее. А именно: не следует производить голосовых упражнений, голос следует применять в упражнениях, вовлекающих в действие и охватывающих все наше существо. В таких упражнениях голос высвобождался бы сам по себе. Возможно, надо говорить и петь, когда работаешь самым обычным образом — физически. Не надо работать голосом. Надо работать телом. Знаю также, что не следует работать голосом (и «над голосом») ни в одной из жестко установленных позиций: все исходные и ключевые позиции актеров, работающих над голосом, блокируют его. Все эти симметричные, геометричные, неподвижные или снабженные автоматическими движениями позиции — бесплодны.
В так называемой итальянской опере все вышеназванное как раз задействовано, ибо ее певцы почти неподвижны, они, как правило, принимают одни и те же позы и посему могут придерживаться определенной автоматической, внешней «подпорки» для голоса. Они могут также пользоваться определенными типами дыхания, так как все происходит по принятым правилам: и сам голос соответствует принятым правилам, и все остальное тоже. Все там геометрично, подогнано под симметрию, и голос также оказывается, если так можно сказать, геометрическим, в нем 166 нет непредсказуемости, в нем не найти этой естественной, непредугадываемой линии.
Понял я также, что, когда от актеров требуется работа всем телом, они, пользуясь в этом случае голосом, легко начинают прибегать к предварительно обдуманным движениям. Существуют вообще голосовые школы, базирующиеся на этом принципе. В некоторых театральных школах и в центрах вокального обучения применяется, к примеру, во время голосового тренинга нечто вроде гимнастики. Но это упражнения для глухих. В подлинном смысле слова! Так в школах для глухонемых ищут разные способы, как научить их пользоваться голосом; для различных гласных и согласных ищутся различные телодвижения, чтобы посредством таких движений помочь им высвободить голос. Но прислушайтесь, каков голос глухих: он искусствен. И вот такой именно голос стремятся привить актерам. Что за абсурд! Все, что автоматично, все, что механично, рождает лишь затруднения у актера.
Если вы хотите высвободить голос, не следует работать над голосовым аппаратом, то есть не следует фиксировать своего внимания на его работе. Надо работать так, как если бы пело само тело, как если бы говорило само тело.
Ибо чем, по сути, является голосовой аппарат? Это всего лишь место, через которое «нечто» должно пройти, всего лишь коридор. Не более того. Мы не должны фиксировать своего внимания на своем теле, уже это ошибочно. Голос является продолжением нашего тела в том же самом смысле, что и наши глаза или уши, или наши руки: это орган, часть нас самих, продолжающий нас вовне, наружу, и который, по сути, является органом абсолютно материальным, им можно коснуться кого-то или чего-то…
Можно путем определенных ассоциаций — возможно, и не слишком интеллектуальных, но зато и не надуманных, а совершенно простых, существующих на уровне тела — найти голос-шпагу, голос-трубу, голос-тромбон. И тогда он будет острым, как шпага, длинно-долгим, как труба, или широким, как тромбон. Это и в самом деле материальная сила. Вот я и заметил в конце концов, что попытки выполнять голосовые упражнения лишь множат затруднения и сложности. Актеры не должны выполнять голосовые упражнения, также как не должны выполнять и упражнения дыхательные.
Но в таком случае, надо ли им вообще работать в этой области? Несомненно. Но как? Существует формула Гиппократа: «Primurn non nocere»28*. Они должны петь, но при этом должны вести 167 себя так, как ведут себя на селе крестьяне, когда поют. Актеры должны петь, занимаясь уборкой помещения или чем-то, что их забавляет. Они должны, кроме того, играть разными звуками. Как, например, создавать пением различные пространства, как создать пением собор, или коридор, или пустыню, или лес? Они должны голосом продолжать свое существование, продлевать его, но без технических манипуляций.
Я заметил также, что в определенные периоды следует производить проверку, проводить своего рода тестирование, чтобы выявить, где актер блокирует свои голосовые реакции и каким образом он это делает. Надо искать, как высвободить органический голос, голос с открытой гортанью и т. п. Но вслед за этим уже не следует работать по линии выполнения намеренно, специально запрограммированных упражнений. Надо искать такие этюды, где тело-жизнь способно продлиться, продолжиться в голосе. Вот и все. А значит, надо выполнять этюды, включающие в себя воспоминания, мечты, фантазии, взаимоотношения и связи с партнерами (одновременно — и «по жизни», и «в мечтаниях», и с партнерами-коллегами в группе), этюды, высвобождающие тело-память, получающие свое продолжение в пространстве через голос. То есть этюды с телом-жизнью, где поется само собой, где что-то говорится — тоже само собой и где вы ищете общения.
Надо всегда избегать таких опасных вещей, как крики и визги; надо избегать самообмана, возникающего в автоматическом повторении слов или движений, имитирующих живые импульсы, но фактически являющихся лишь движениями (а не импульсами), заранее обдуманными, вызываемыми внешним образом, контролируемыми мозгом (контролируемыми не в том смысле, что должен быть исключен хаос, а в том самом смысле, в каком разум делит нас, «располовинивает» на ведущую мысль и на тело — его марионетку).
Пойте, делая домашнюю работу, пойте, делая уборку или втянувшись в игру, когда ваше тело занято чем-то. Пойте, чтобы лучше проделать какие-то действия чисто физически.
В работе (в теле-жизни, в этюдах) продлевайте себя речью, обращенной к кому-то, кто находится перед вами, к какому-то воображаемому партнеру или к товарищу по вашей игре — он будет действовать подобно экрану, на который проецируются партнеры из жизни. Те, которые были, и те, которые будут. Партнер тут неизбежен. Без него продолжения себя в пространстве не существует.
Может показаться, что все это легче, чем упражнения с голосом. Нет. Это намного труднее, потому что тут нет рецептов. Каждый 168 работает индивидуально. У каждого совершенно иные, свои проблемы, совершенно другая натура, совершенно другое тело-память, другое тело-жизнь и другие возможности.
Кроме того, найденное сегодня — преодолимо завтра. И не по формуле: «не повторяться». Скорее — чтобы двигаться собственным путем, оставляя позади себя то, что уже найдено и познано. Сильнейшим искушением для актеров, как, впрочем, и для всех людей, является поиск рецепта. Такого рецепта не существует.
Хочу ответить на некоторые вопросы: мне регулярно задают их во время стажировок, рабочих встреч и тому подобного. Вопросы эти касаются практической работы, которая к тому же только лишь началась, а следовательно, не дошла еще до той стадии, где «это» уже происходит или где «это» уже найдено и существует. То есть здесь еще действует опасное стремление «узнать, как это делается».
Первый же вопрос, который я слышу почти каждый раз, следующий: «Как применять вибраторы в спектакле?» Ответ таков: не думать о вибраторах, когда вы находитесь уже в процессе «творения» или когда начинаете его. Потому что тогда существуют всякие иные проблемы: исповедь, тело-память, тело-жизнь. Неизведанные проблемы. Но не технические проблемы. Если искать формальные эффекты, можно с полной сознательностью применять разные вибраторы. Но только для того, чтобы создать некий, в высшей степени точный эффект, являющийся исключением в органическом потоке. Я убежден, что в творческой работе обо всем этом лучше забыть.
Второй вопрос близок первому: «Как работать голосом в спектакле?» Не работать голосом в спектакле — это же так просто. Работать собой, а значит — исповедью, телом, прорывом в жизнь, которая еще не наступила, потоком живых импульсов в русле «партитуры». А все остальное придет как дополнение.
Вся эта работа с вибраторами имеет, по сути, лишь одну цель: сделать так, чтобы актер понял, что его голос, что наш голос не имеет границ и что голосом действительно можно делать все. Можно постичь и доказать им, что невозможное — возможно. А все остальное лежит в сфере импульсов.
Когда актер становится потоком импульсов, он применяет одновременно различные вибраторы в разных взаимосвязях, которые к тому же неустанно, самопроизвольно меняются. Часто возникают почти парадоксальные связи между вибраторами, прямо-таки непредсказуемые и недосягаемые сознательным путем.
169 Это и есть огромное богатство, намного большее, чем все возможные и мыслимые техники. Тело в своей полноте и целостности действует как огромный вибратор, перемещающий свои узловые центры и даже направления в пространстве. Техника всегда намного более ограничена, чем Акт. Техника нужна только для понимания, что возможности открыты, а затем только — как сознание, призывающее к дисциплине и точности.
В любом ином значении следует от техники отказаться. Подлинная техника является противоположностью техники в обычном понимании. Она существует для того, чтобы не впасть в дилетантизм, не провалиться в «плазму». Она существует для тех, кто от нее отказался.
1969
170 ОТВЕТ СТАНИСЛАВСКОМУ72
1
Бывают вопросы, лишенные смысла. «Имеет ли Станиславский значение для нового театра?» Не знаю. Есть вещи новые, наподобие журналов мод. И есть вещи новые, которые столь же стары, как источники жизни. К чему ты спрашиваешь, имеет ли Станиславский значение для нового театра? Дай собственный ОТВЕТ СТАНИСЛАВСКОМУ — ответ, основанный не на незнании сути дела, а на практическом его познании. Открой себя как бытие. Либо ты человек творческий, либо нет. Если да, то ты как-то и в чем-то его превышаешь; если нет, ты ему верен, но ты бесплоден.
Нельзя мыслить категориями: «имеет ли что-то значение сегодня или нет?» Если для тебя нечто имеет значение, спроси — почему? Не спрашивай, важно ли оно для других или для театра вообще. Актуальна ли сегодня книга «Работа актера над собой»? Этот вопрос лишен смысла по той же самой причине. Что такое работа сегодня? Вопрос означает, что существует какая-то работа сегодня, которая в силу ряда причин отличается от работы, бывшей вчера. А разве работа сегодня для всех одна и та же? Существует твоя собственная работа. Вот ты и можешь спросить себя, важна ли эта книга для тебя в твоей работе. Но не спрашивай об этом меня. Невозможно давать ответы за другого.
2
Одно из исходных недоразумений, касающихся всей этой проблематики, проистекает из того, что многим людям трудно провести различия между техникой и эстетикой. Итак, я считаю, что метод Станиславского был одним из величайших стимулов для европейского театра, в особенности в области воспитания актера. И вместе с тем я чувствую себя далеким от его эстетики. Эстетика Станиславского была рождена его временем, его страной и его личностью. Все мы являемся продуктом соотнесения наших традиций и наших потребностей. И все это вещи, которые нельзя привить просто так, перенося из одного места в другое, не опасаясь 171 угодить в штампы, в нечто мертворожденное уже в самом моменте его появления. Так происходит и в случае со Станиславским, и в случае с нашей работой, и в любом другом случае.
3
В профессиональном смысле я был воспитан на «системе» Станиславского. По-своему я тогда верил в профессионализм. Теперь уже не верю. Существуют два вида «ширм», «прикрытий», два вида возможного бегства. Можно искать убежища в дилетантизме, называя это «свободой». Можно также искать укрытия в профессионализме, в технике. Обе эти вещи могут послужить основанием для отпущения грехов. Когда-то я верил в профессию. В этой области Станиславский служил мне примером. Начиная свою работу, я шел от его техники. Но своеобразной основой был для меня также его принцип: открывать заново каждый этап жизни.
Станиславский всегда был в пути. В области режиссерской и актерской профессии он поставил вопросы ключевого значения. Что же касается ответов, то я вижу между нами скорее разницу. Но уважение мое к нему велико. И я часто думаю о нем, когда вижу, какие недоразумения могут порой возникнуть, какую смуту порой можно посеять. Ученики… Думаю, что и меня это не миновало.
Подлинные ученики никогда не бывают учениками. Подлинным учеником Станиславского был Мейерхольд. Он не применял «системы» схоластически. Он дал ответ — свой собственный. Он был соперником, а не угодником, который время от времени поднимает крик, что, дескать, он не согласен. У него были свои убеждения, он оставался самим собой. И за все это он расплатился немалой ценой. Подлинным учеником Станиславского был Вахтангов. Он не противоречил Станиславскому. Однако когда он применил «систему» на практике, получилось нечто настолько его личное и настолько обусловленное связью между ним и его актерами (а также влиянием эпохи, происходившими тогда переменами, взглядами нового поколения), что результаты оказались весьма отличными от спектаклей Станиславского.
Станиславский был старым мудрецом. Среди своих учеников он более всего признавал Вахтангова. Когда на премьере «Принцессы Турандот» многим показалось, что он-то, во всяком случае, не сможет принять этот спектакль, столь отличавшийся от его собственных работ и столь ему чуждый, Станиславский занял позицию абсолютного, полного одобрения. Он знал, что Вахтангов 172 сделал то же, что когда-то, много раньше, сделал он сам — дал собственный ответ на вопросы, какие перед ним выдвигало призвание, на вопросы, которые он имел смелость перед собой поставить, избегая при этом любых стереотипов, даже стереотипов Станиславского.
Поэтому всегда, когда представляется случай, я повторяю, что не хотел бы иметь учеников. Хочу иметь товарищей по оружию. Хочу иметь братство по оружию, хочу иметь соратников, даже таких, что от меня далеки, таких, что, может быть, и получают импульсы с моей стороны, но стимулирует их работу их собственная натура. Всякие иные взаимоотношения бесплодны: они порождают либо тип режиссера-«погромщика», укрощающего актеров моим именем, либо тип дилетанта, прикрывающегося моим именем.
4
По сути, единственное, что я могу сделать, как делали до меня и другие, — приоткрыть мой собственный миф о Станиславском. Притом я не знаю, насколько те, другие мифы были построены в соответствии с действительностью. Когда я начинал учиться в театральном институте на актерском отделении, я все свои знания о театре основал на принципах Станиславского, это была моя база. Как актер я был одержим Станиславским. Я был фанатиком. Я думал, что в нем — ключи, способные отомкнуть все двери к творчеству. Я хотел понять его лучше, чем кто бы то ни было, лучше, чем все остальные. Я много трудился, стремясь постичь и освоить все, что только было возможно: и то, что говорил сам Станиславский, и то, что было сказано о нем. А это привело меня, согласно законам психоанализа, от периода подражания к периоду бунта, то есть к попытке определить свое собственное место, чтобы сыграть в профессии ту же роль по отношению к другим, какую он сыграл по отношению ко мне… Потом я понял, насколько это было и небезопасно, и неистинно. Мне пришло в голову, что, возможно, все это было лишь новой мифологией.
Когда я пришел к выводу, что создание моей собственной системы иллюзорно и что не существует никакой идеальной системы, способной служить ключом к творчеству, тогда само слово «метод» изменилось для меня в своем значении.
Существует вызов, на который каждый должен дать собственный ответ. Каждый должен быть верен своей жизни. У меня все было 173 направлено не на исключение из моей жизни других, нет, а, напротив, на то, чтобы их в нее включить. Наша жизнь основана на связях с другими, и именно они, другие, являются областью проявления жизни. И еще — живой мир. В нас заложены разного рода потребности и разного рода жизненный опыт. Мы силимся толковать накопления опыта как некое веление, ниспосланное нам судьбой, жизнью, историей, родом человеческим или же чем-то запредельным… (Впрочем, все эти дефиниции не имеют значения.) Во всяком случае, опыт жизни является вопросом, а творение «не по лжи» — попросту ответом. Все начинается с усилия не скрывать себя и не лгать. Тогда метод — в значении системы — не существует. Существовать он может только как воззвание или вызов, и никак иначе. И никогда и никак невозможно предугадать, каковы будут ответы других. Очень важно быть готовым к тому, что ответы других будут разниться с нашими ответами. Если ответ тот же самый, то почти наверняка он фальшив. Это надо понять, это момент решающий.
Понятие «профессионализм» также весьма ограничено. Быть может, в глубине театра и есть место для какой-то чистой деятельности. Но настолько ли она существенна, чтобы посвятить ей всю свою жизнь? Ну а если уж вы жаждете ею заниматься, то надо отдаться такой работе полностью, целиком. Но вот только является ли театр делом настолько существенным, чтобы отдавать ему всю свою жизнь? Думаю, что театр надо воспринимать как дом, уже опустевший, покинутый дом, как что-то, что в самом деле не так уж насущно… Еще нам не верится, что перед нами только руины; вот потому-то театр и может еще функционировать. Но уже существуют иные области человеческой деятельности, заступающие место театра. И не только кино и телевидение.
Дело в том, что исчезает очевидная в прошлом функция театра. Сегодня больше действует культурный автоматизм, чем подлинная потребность. Культурные люди знают, что в театр надо ходить. И большей частью ходят туда не ради театра, а ради культурной обязанности. Повсюду царит озабоченность, какими путями и способами привлечь к себе зрителей, как бы так поуспешнее их завлечь, заманить, затащить. Где-то системой абонементов, а где-то — и порнографией. Лишь бы любой ценой обеспечить себе полный зрительный зал. Вот я и думаю, что о театре разумнее всего говорить как о доме разрушенном, доме покинутом, почти опустевшем.
На заре нашей эры люди, взалкавшие истины, искали места пустынные или заброшенные, дабы именно там исполнить призвание 174 жизни. Они удалялись либо в пустыню (что не очень естественно, хотя в какие-то периоды жизни необходимо отдалиться, чтобы снова вернуться), либо искали разрушенные дома — искали, порой обреченные на неудачу, а порой — будучи просто безумцами в обыденном смысле этого слова.
Понятие «профессионализм» становится мне все более чуждым. В первый период самостоятельной режиссерской работы я понял, что ширмой, за которой актер норовит скрыться, чтоб избежать осязаемой и конкретной искренности, является дилетантизм. Не делая ничего, можно легко пребывать в убеждении, что все-таки что-то делается. С тех пор мое мнение на этот счет не изменилось. Но ширмой может служить и техника. Можно разрабатывать, тренируясь, различные системы приемов, средств и способов, можно достичь в них огромного мастерства и жонглировать ими, демонстрируя технику, и все только затем, чтоб себя не открыть, не обнажить. Парадоксально, но надо преодолеть и дилетантизм, и технику. Дилетантизм означает отсутствие строгости, порядка. Строгость означает усилие ради того, чтобы избежать иллюзии. Когда мы не искренни, внушая себе, что доподлинно совершаем какое-то действие, тогда все, что мы делаем, становится неотчетливым и размытым. Из техники следует заимствовать только то, что раскрепощает человеческие процессы.
5
Я испытываю к Станиславскому огромное, глубокое и разностороннее уважение. Это уважение базируется на двух основах. Одна из них — его непрерывное самообновление, постоянная способность в работе подвергать сомнению предыдущий этап. Заключалось это вовсе не в желании казаться и быть современным, а в последовательном продолжении все того же, по сути, поиска правды. В результате он подвергал сомнению как раз «новинки». Если его искания остановились на методе физических действий, то не потому, что он нашел в них высшую правду своей профессии, а потому, что смерть прервала его дальнейшие поиски. Второе, за что я уважаю Станиславского, — его стремление мыслить практически и конкретно. Как прикоснуться к тому, что неприкасаемо! К процессам глубоко скрытым? К процессам секретным, процессам таинственным он хотел отыскать конкретные пути. Не средства, не приемы — с ними он боролся, называя их «штампами», — но пути.
175 6
Метод физических действий — новый и одновременно последний этап, на котором Станиславский подверг сомнению многие собственные открытия предшествующих периодов. Безусловно, без той предшествующей работы он не смог бы найти метода физических действий. Но только в период этой работы он совершил открытие, которое я считаю своего рода откровением: что чувства не подчиняются нашей воле. На предыдущем этапе это еще не было ему вполне ясно. Он искал ту, знаменитую, «эмоциональную память».
Он еще думал, что возврат к воспоминаниям о различных чувствах может явиться, по сути, возможностью возвращения к самим чувствам. Тут была ошибка — была вера, что чувства подчиняются воле. А ведь в жизни, что легко проверяется и подтверждается, чувства независимы от воли. Мы не хотим любить кого-то, но любим. Или наоборот: искренне хотим кого-то полюбить и не можем. Чувства независимы от воли, и именно поэтому в последний период деятельности Станиславский предпочитал сосредоточиваться в своей работе на том, что подчиняется воле. К примеру, на первом этапе он спрашивал актера о чувствах, обуревавших его в различных сценах. И о так называемых хотениях. Но ведь, хотя нам и хочется «хотеть», это совсем не то же самое, что подлинный факт, когда мы на самом деле «хотим». На втором этапе он отдавал предпочтение тому, что можно сделать, потому что то, что делается, зависит от воли.
Но чем же является то, что делается, что такое действие? Те, кто лишь поверхностно ознакомились с терминологией метода физических действий, считают, что к действиям относятся, к примеру, гуляние, курение сигареты и тому подобное. То есть для них физическими действиями являются мелкие поступки и действия обыденной жизни. Более чем наивно. Другие же — те, кто предпочитая Станиславского предыдущего периода, — постоянно повторяли его положения о физических действиях в терминологии эмоций, к примеру: «А сейчас он его совсем не любит, а значит, настроен против него. Возникло напряжение. Что надо делать?» Но это не физические действия.
Были и такие, кто путал физические действия с игрой.
В понимании Станиславского физические действия были элементами поведения; это были мелкие, дробные физические действия, связанные с реакцией на других людей. «Смотрю и смотрю ему в глаза, пытаюсь собой овладеть. Слежу, кто тут — за, а кто — 176 против». А сейчас — «Не смотрю, потому что не могу найти себе оправдания». Все мельчайшие силы, пронизывающие тело, направленные к кому-либо или же к самому себе: слушать, смотреть, действовать с предметом, искать опорные точки — все это и есть физические действия. Если смотришь, то и видишь, а не так, как плохой актер в плохом спектакле: смотрит и не видит. Он слеп и глух к другим, к своим партнерам, и обладает лишь всякими «штучками» и «приемчиками», чтобы успешно все это скрыть. Его можно вывести, пользуясь результативностью метода Станиславского — от искренности показной к искренности полуправдивой. С точки зрения концепции спектакля — не так уж и мало. Если режиссер — мастер результативности, он может актеру в этом помочь. Но хочу сказать, что, все больше отдаляясь от преклонения перед профессионализмом, я изменил также понимание результативности.
7
Всей своей жизнью в искусстве Станиславский подал важнейший пример: к работе надо быть подготовленным. И именно он сформулировал необходимость студийной работы и репетиций как творческих процессов без зрителей. Он сформулировал также обязательность тренинга для актера. Это великие заслуги.
Однако в тренинге актера, в самих упражнениях можно обнаружить ложное удовлетворение, позволяющее уклониться от акта личной искренности. Можно терзать себя годами. Можно верить, что упражнения сами по себе имеют невероятную ценность. Можно относиться к упражнениям как к своего рода индульгенции, к свидетельству отпущения грехов, если в своем действии не идешь до конца. В некоторых культурных традициях упор, в свою очередь, часто делается на обычной дрессуре.
В нашу эпоху во всем этом ищется как бы некое извращенное удовольствие. Не хочу сказать, что упражнения должны быть неприятны. Но совершенно разные вещи: нарциссизм, ведущий к поискам более чем субъективного удовольствия в одиночестве (даже если оно и достигается в результате работы в группе), и совсем другое дело — нечто, что не может быть неприятным, поскольку базируется на подлинном, страстном призвании нашей натуры. В последнем случае, впрочем, разговор о том, что приятно и что неприятно, лишается смысла. Быть может, несчастье современного человека и состоит в том, что он отрекся от искания счастья в пользу поисков разного рода удовольствий.
177 Упражнения как духовный комфорт… У вас возникает чудесное ощущение, что время не потеряно даром. Вы глубоко проникаетесь убеждением, что вот-вот, совсем близко — и откроются новые горизонты. И столько разговоров о душе, и о духе, и о психике… Не фарисейство ли?
Станиславский верил, что позитивный, необходимый актеру тренинг должен складываться из специально отобранных, разных по типу упражнений, связанных между собой лишь общей целью. Считаю это правильным и точным с точки зрения его опыта и его понимания результативности. Но в том, что касается преодоления результативности в профессионализме, существует только одно: деяние, охватывающее всю целостность человека.
Если мы будем основываться в преодолении «профессионализма» на человеческой полноте и целостности, то не избежим, должен признать, некоего противоречия. Потому что нам часто кажется, что мы делаем что-то одно, а на деле мы делаем что-то другое. Точный анализ подобного типа действий начался с Фрейда, но, к примеру, уже в «Идиоте» Достоевского мы встречаем историю человека, рассматривающего витрину магазина, а в ней — нож. Он делал не то, что ему казалось, а нечто совсем другое. Бессознательно его натура уже готовилась к чему-то совсем иному, чем то, что анализировало его сознание. Так что сознательное понимание того, что делаешь, еще не все, так как не охватывает всей целостности. Согласно самому определению, то, что бессознательно, не является сознательным. Станиславский, впрочем, понимал, что эта дилемма существует, и искал по-своему, как можно было бы опосредованно прикоснуться к бессознательному.
8
Надо искать, каким образом можно высвободить наше собственное, присущее нам бытие, обращенное к кому-то другому. И тогда оно начнет действовать также и в так называемой технической области — например, в области голоса. Вкратце рассказать, как это происходит, невозможно. Здесь могли бы только возникнуть недоразумения. Это тяжелая и долгая работа. Тяжелая не столько в смысле вложенных усилий, сколько в смысле отваги или решительности.
Все без исключения упражнения, отобранные и сохраненные нами, были направлены на уничтожение внутренних препятствий, блокад, стереотипов — индивидуальных или групповых. Это 178 были упражнения-препятствия, упражнения-препоны. Чтобы перешагнуть через такие, подобные ловушке, упражнения, надо выявить собственный зажим. По сути, все эти упражнения носили негативный характер, то есть служили тому, чтобы сделать явственным то, чего не надо делать. И никогда — что и как надо делать. И всегда они были связаны с нашим собственным, присущим нам путем. Если упражнения были уже достаточно освоены, мы их или отвергали совсем, или изменяли. Если бы мы их продолжали, возникала бы техника ради техники, набор знаний, как «это» делать. Когда мы чувствовали, что внутренние источники в нас (или на нас) не действуют, что внутреннее сопротивление блокирует нас, что якобы «творческий процесс подвигается вперед», но на деле он бесплоден, тогда мы вновь возвращались к упражнениям. И отыскивали причины. Не решения, а причины.
Бывали периоды, когда ежедневные упражнения были необходимы. Но бывали и такие времена, когда следовало сосредоточиться только на процессах. И вовсе не потому, что близка премьера. Премьера будет тогда, когда будет. А по сути дела, ее не будет никогда. Что касается нас, мы играем один и тот же спектакль пятьсот раз и все время еще над ним работаем. Нередко случалось, что репетиции после сотен представлений были самые захватывающие, самые существенные. Итак, мы или возвращались к упражнениям, или расставались с ними всегда в зависимости от того, что было самым существенным в работе.
Нет такого понимания упражнений, при котором они были бы важны сами по себе. Часто упражнения бывают очень важны. Например, если кто-то из актеров ощущает себя во время представления — в отношении зрителей — властелином душ. Или если возникает выспренность, готовая стать наместницей точности. Тогда немедленно надо возвращаться к упражнениям: чтобы отработать солидный кусок; чтобы почувствовать под ногами землю, родящую вещи, быть может, и не слишком возвышенные, но зато основополагающие. Упражнения сами были подвержены непрерывной эволюции.
Нередко мне приходилось наблюдать актеров, пытавшихся упростить для себя некоторые упражнения под предлогом, что таким путем они сделают их более индивидуальными. Тем самым они только лишали упражнения всякого смысла, приспосабливая их к своим собственным страхам и самообману, к собственной лени, говоря при этом: «Да, вот теперь это мой индивидуальный стиль упражнений». Индивидуальный стиль упражнений в истинном 179 значении этого понятия возникает тогда, когда отыскиваются и выбираются наиболее трудные упражнения, способные подвести нас к моменту отказа от всяческих ширм, от любых эрзацев, услужливо подкидываемых нам снисходительностью к самим себе. Вот такие упражнения индивидуальны, их функция — тестировать личные, индивидуальные торможения. А следовательно, они намного труднее для нас, чем для кого-то другого.
9
Если упражнения устремлены к непрерывной атаке на эрзацы, на подделки, на ширмы и хитрости перед самими собой, то они заключают в себе то же противоречие, что и представление в целом, — противоречие между точностью и спонтанностью. Когда в том, что мы делали во время спектакля, мы теряли точность, надо было искать ее в упражнениях. В упражнениях от актера требовалось такое владение деталями, при котором выявляется личная реакция. Если кто-нибудь из актеров начинал прятаться за ширму автоматизма реакций или любования совершенством деталей, мы тут же искали, каким бы образом, сохраняя детали, вместе с тем их преодолеть, то есть преобразовать в реакции, присущие только этому актеру, ему одному. И всегда, таким образом, возникало подобие пересечений того, что было точно найдено еще на предыдущем этапе работы, и того, что уже тяготело к спонтанности. Или наоборот: пересечение того, что еще «текло» в потоке личных реакций, и того, что уже поворачивалось к точности. Когда возникало это пересечение, возникал и момент творчества.
Это противоречие спонтанности и точности естественно и органично. И поскольку оба эти аспекта являются двумя полюсами человеческой натуры, постольку, когда они пересекаются, мы обретаем полноту. В каком-то определенном смысле точность является областью сознания, а спонтанность, напротив, — сферой инстинкта. В каком-то ином смысле, наоборот, точность — это секс, а спонтанность — сердце. Если секс и сердце оказываются двумя разъединенными качествами-ценностями, то и мы оказываемся рассеченными. Только когда они существуют вместе, не как единство двух вещей, а как одна единая вещь — только тогда мы целостны. В минуты полноты то, что в нас от животного, является уже не только животным, а всей нашей натурой, всей нашей природой. Не человеческой природой — а полной природой в человеке. Тогда одновременно воплощается и наша социально 180 наследуемая природа: человек как homo sapiens. Но это не двойственность. Это единство человека. И тогда не «я» действую — действует «это». Не «я» совершаю деяние — «мой человек» совершает деяние. Одновременно — я сам и род человеческий (genus humanus). Весь контекст людского бытия: и социальный, и любой другой, вписанный в меня, в мою память, в мои мысли, в мой опыт, в мое воспитание, в мой сложившийся облик, в мой потенциал.
В разговоре о спонтанности и точности, в самой формулировке остаются еще два противостоящих друг другу понятия, которые нас разделяют. Неверно.
10
На репетициях я этого не искал в словах, в терминологии. Между актером и мной происходила своего рода интимная драма. Мы искали искренности и самораскрытия, не нуждающихся в применении слов. По сути дела, это возможно только перед лицом другого. Для меня стало возможным перед лицом актера как человека. Со своей стороны я искал условия, в которых это было бы возможно для актера — передо мной. Но это возможно только по отношению к каждому человеку в отдельности, даже если людей несколько и если они действуют одновременно. Но никогда — как отношения с группой. Это взаимоотношения каждого с каждым: отношение к одному, к другому и к третьему. Но не к вам многим. Потому что, стремясь искать такие отношения с группой, неизбежно идешь на компромиссы.
И потому-то актер, желающий достичь этого по отношению к зрителям, скатывается к стереотипам. Когда-то я прибегал к слову «исповедь» — исповедь телом. Исповедь, в которой я не скрываюсь ни за общепринятыми стереотипами, ни за обыденными деталями, ни вообще за каким-либо укрытием, в том числе и в самом дословном его понимании. Обыденная жизнь приучает нас к скрытности, ухищрениям и лжи. Кто из нас в этом не убеждался? В каждой культуре набор стереотипов функционирует по-разному. Возьмем Америку. Здесь существует «дух братства»: все делают вид, что они закадычные друзья, чуть ли не братья. Но если, не дай бог, несчастье — на кого можно рассчитывать? Сколько подлинных друзей наберется? Дружественная игра друг перед другом, не более. Но случаются в жизни минуты, когда люди становятся подлинными, настоящими. Когда их по-настоящему захватывает любовь, переставая быть лишь сексуальной гимнастикой. 181 Когда их по-настоящему охватывает радость, и их собственные реакции становятся неведомыми им самим. Когда их по-настоящему ломает несчастье, хотя порой — оно ломает не столько их самих, сколько присущую им маску межчеловеческого общения. И тогда понимание, что несчастье ломает не их самих, а их приемы игры, и может стать переломным моментом.
11
Когда актер, уже находясь на пути к деянию-действию (в спектакле, к примеру), не знает, что должен делать, он беспрерывно об этом думает, потому что чувствует, что за ним наблюдают. Вот поэтому Станиславский — справедливо и дельно — требовал, чтобы актер обладал подготовленной линией действий, способной избавить его от подобных проблем. Он считал, что эта линия должна быть партитурой физических действий. Лично я предпочитаю партитуру, основанную на потоке импульсов, с одной стороны, и на принципе организации — с другой. Это значит, что должно существовать как бы русло реки. Берега реки.
Легче всего понять это на примере пространства. Твое пространство находится ведь не просто в каком-то данном месте, оно — между одним и другим местом. Оно вовсе не зафиксировано намертво — тебе в данной сцене, в данный момент принадлежит пространство «между». Вот это «между», оттуда и досюда, и пролегло подобно берегам. Однако пространство всегда непредсказуемо: река, в которую входишь, всегда нова. Пример этот, само собой разумеется, почти тривиален. Однако в действительности он касается всех элементов поведения человека в роли. Надо очертить «оттуда-досюда», очертить те берега, которые создают то самое «между».
Это и есть партитура. Тогда актер уже не обречен на постоянную мысль: «Что я должен сделать?» Он оказывается более свободным, так как не выпал из организации.
Работая над физическими действиями, Станиславский перешагнул через свою старую идею «эмоциональной памяти», но, перешагнув, продолжил ее. Он спрашивал актера: «Что бы ты сделал, если бы был в предлагаемых обстоятельствах?» Все эти обстоятельства являются обстоятельствами роли: возраст, тип, внешний облик, определенный род жизненного опыта. В перспективе его работы это было логично и очень результативно.
В работе с актером я не задумывался ни над «если бы», ни над «предлагаемыми обстоятельствами». Существуют какие-то причины 182 или отправные точки-трамплины, создающие событие спектакля. Актер обращается к своей собственной жизни, а не ищет что-то в области «эмоциональной памяти» или «если бы». Он обращается к телу-памяти. И телу-жизни. А значит, обращается к опыту переживаний, бывших для него поистине важными, но также и к тем переживаниям, которые мы еще ждем, которые еще не наступили. Порой — к воспоминаниям о единственном в нашей жизни мгновении или к целой их череде, в них ведь многое остается неизменным. Например, ключевая ситуация по отношению к женщине. Лицо этой женщины меняется (в отдельных жизненных эпизодах — и в реальной жизни, и в том, что еще не пережито), вся ее личность может меняться, но во всех ее существованиях и воплощениях что-то остается неизменным — как разные кадры, которые накладываются один на другой. Эти воспоминания (из прошлого и из будущего) можно распознать или открыть посредством тела и всего остального, то есть тела-жизни. Там все записано. Но когда что-либо делается, есть то, что делается, то, что непосредственно — сегодня, hic et nunc.
И всегда в таком случае высвобождается то, что сознательно не зафиксировано, что менее уловимо, но как-то более существенно, чем физическое действие. Оно еще пред-физическое и уже физическое. Я называю это «импульсом». Каждому физическому действию предшествует подспудное движение, поднимающееся волной из недр тела, неведомое, но осязаемое. Импульс не существует без партнера. Не в значении партнера для игры, а в значении другого человеческого бытия. Ибо для кого-то таким бытием может быть и бытие, отличное от человеческого: Бог, Огонь, Дерево. Когда Гамлет говорит о своем отце, он произносит монолог, но монолог перед лицом отца. Импульс всегда существует перед лицом (кого-то или чего-то).
Например, бытие, являющееся целью моего импульса, я проецирую на партнера, как на экран. Скажем, женщина или женщины моей жизни (женщины, которых я встречал или не встречал и, может быть, встречу) отражаются в актрисе, с которой я действую. Здесь нет ничего интимного между ней и мной, хотя есть нечто личное. Мои импульсы направляются к партнеру. В моей жизни я когда-то встретился с какой-то конкретной реакцией, но сейчас я не могу ничего ни предугадать, ни предвидеть. В своем действии я отвечаю «образу», который проецирую, и отвечаю партнеру. И снова этот ответ не будет чем-то частным, не будет он также и повторением ответа, взятого «из жизни». Он будет чем-то неведомым и — непосредственным. Существует такая 183 вещь, как подключение моего опыта переживаний, моего потенциала, но главное — существует то, что завязывается и происходит здесь и сейчас. Это факт, и он буквален. Следовательно, с одной стороны — здесь и сейчас, с другой — материя происходящего может быть из других времен и мест — и прошедших, и возможных в будущем.
12
Не следует вслушиваться в имена и названия, навязываемые вещам, следует вслушиваться в сами вещи. Если слушать имена и названия, то сущность может исчезнуть и останется только терминология. В прошлом я употреблял слово «сопоставление» (ассоциация). Сопоставления являются действиями, «цепляющими» нашу жизнь, наш опыт, наш потенциал. Следовательно, они не игра подтекстов, не игра мысли. Они вообще не являются чем-то, что можно определить словами. Они не похожи на ситуацию, когда, например, говоришь даме: «Здравствуйте!» (фрагмент роли), а думаешь: «Отчего она сегодня такая печальная?» Вот этот подтекст, это «думаешь» — глупость. Бесплодность. Разновидность дрессуры мысли, не более. Невозможно думать об этом. Надо постигать телом-памятью, телом-жизнью. Не называя.
13
Станиславский верил, что театр является воплощением драмы. Станиславский был, вероятно, величайшим — чистым и несомненным — профессионалом во всей истории театра. Театр был для него целью. Не чувствую, чтобы театр был для меня целью. Существует только Акт; в нашей работе могло случиться и так, что он оказывался достаточно близок тексту драмы как основе. Но был ли он или не был реализацией текста? — такого вопроса я поставить себе не могу. Я не знаю. Не знаю, была ли верность тексту или ее не было. Меня не интересует театр слова, ибо он основывается на ложном видении человеческого существования. Не интересует меня также и «физический» театр. Ибо что он, собственно, такое есть? Акробатика на сцене? Крики? Судорожное катание по полу? Насилие? Ни театр слова, ни «физический» театр — вообще не театр, а живое бытие в своем выявлении. Когда-то Станиславский сказал: «Слова — лишь верхушки физических действий». Бывает и так, что слово изреченное служит лишь отправной точкой.
184 14
Думаю, что в каких-то определенных границах мы обречены на чувство тревоги. Существуют, однако, границы и самой тревоги, которую мы способны выдержать. Если мы ищем, как спрятаться за интеллектуальными формулами, идеями, лозунгами, то есть если мы со всей изощренностью ежеминутно лжем, мы обречены на несчастье. Если все, что мы хотим сделать, делается только вполсилы, «с прохладцей», только от сих и до сих, всегда «так, как другие», всегда для того лишь, чтобы понравиться, мы обречены на несчастье. А если наши усилия устремлены в противоположном направлении, то парадоксальным образом на определенном уровне появляется спокойствие.
Бывают минуты, когда мы не половинчаты, когда мы обретаем согласие с самими собой. И не в области интеллекта, а в целом, всеохватно. Если все происходит в работе, то потом нам снова, конечно, придется прибегнуть к житейской обыденной маске, так как полностью ее избежать не удастся. Нам придется, может быть, в чем-то идти на компромиссы, но нашей работы это уже не коснется. Слишком далеко в таких компромиссах мы уже не зайдем. Подобным же образом уменьшится наш страх, ибо страх — проявление нашей «прохладности», нашей готовности лгать. И возникает он оттого, что мы боимся встретиться лицом к лицу с нашей жизнью. Бывают опасности воистину смертельные, но им можно сопротивляться. Связь между тревогой, половинчатостью и страхом — самая непосредственная. Потому что ответить на угрозу опасности можно только обратившись к источникам жизни, а источники жизни начинают функционировать по-настоящему только тогда, когда покончено с работой вполсилы, с нашей «прохладностью» и ложью.
15
Часто приходится слышать, что актер должен действовать от первого лица: «я», а не «роль». Таков был тезис Станиславского. Он говорил: «Я — в обстоятельствах роли». Так или иначе, чаще всего думая: «я», — актер думает о своем автопортрете, о том образе, который ему хотелось бы навязать и самому себе, и другим. Но если он слышит призыв: «Покажи мне твоего человека», — и это оказывается свыше его обыденных сил, — наступает слом того светского, гладкого образа. Он жаждет всего и добивается всего. И если на услышанный призыв он ответит деянием, то он уже 185 даже не может сказать: «я действую», — потому что оно «делается Само» (не следует эти «оно» и «Само» путать с фрейдовским «id» — «Оно»29*).
16
В начале я говорил, что Мейерхольд и Вахтангов были лучшими учениками Станиславского. Можно задаться вопросом, не был ли Мейерхольд мерилом величия Станиславского? Его ответ мастеру был доказательством великой и оплодотворяющей силы Станиславского. В конце жизни Мейерхольд говорил, что разница между Театром имени Мейерхольда и МХАТом в том, что МХАТ имел свою Первую студию, а Театр имени Мейерхольда является 999-й студией МХАТа. В чем Станиславскому более всего можно позавидовать — в неслыханном разнообразии его учеников, из которых многие сумели найти собственный путь, порой через разрыв, «прыжок» на дальнюю дистанцию, а порой оставаясь в близкой с ним связи. А ведь любые иные отношения с учителями фальшивы. Бесчисленные ученики Станиславского повторяют лишь термины из его словаря, говоря о «сверхзадаче» и «сквозном действии». Это явственно и здесь, в Америке, где повсеместно злоупотребляют его терминологией. Впрочем, и еще кое-где встречались эти ужасающие ученики Станиславского… Они убили Станиславского после смерти. Это великий урок.
17
Когда-то я высказал убеждение (оно, кстати, не так уж оригинально), что истинный ученик возвышенно предает учителя. Так вот, если я и искал истинных учеников, то в таких людях, что возвышенно изменили бы мне.
Низкая измена означает: оплевать того, с кем вместе ты был. Низкой изменой считаю также возврат к тому, что фальшиво, что не сохраняет верности нашей натуре и больше согласуется с тем, чего другие — скажем, театральное окружение — ожидают от нас, чем с нами самими. В последнем случае вновь погрязаешь во всем, что отдаляет нас от «зерна». Но существует измена высокая — в деянии, не в словах. Она проистекает из верности собственному пути. Пути этого нельзя никому предписать, невозможно его вычислить, высчитать. Его можно только открыть — огромным усилием.
186 Сознаю, что подобные утверждения могут показаться упрощенными, но за ними стоит определенная реальность, определенный опыт.
Если когда-то я говорил, что техника, которой я следую, является техникой создания индивидуальных, собственных техник, то здесь заключался, по сути дела, тот самый постулат «высокой измены». Если ученик дойдет до предчувствия собственной техники, он отойдет от меня; он отойдет от потребностей, свойственных мне, которые я воплощаю своим путем, в своем процессе. Он будет иным. Он от меня отдалится.
Думаю, что только техника создания своей собственной техники имеет подлинный вес. Всякая прочая техника или метод — бесплодны.
Однако сейчас все эти проблемы далеки от меня так же, как и проблема учителя и ученика. Мне кажется, что уже сама эта мысль, сама необходимость быть учителем представляет собой — как это часто происходит в случае слишком рационального отношения к делу — слабость, ибо является поиском воплощения себя в обладании учениками.
18
Не думаю, что мою работу в театре можно было бы окрестить термином «новый метод». Можно назвать ее методом, но ведь в самом этом слове есть ограниченность. Не думаю также, что мой труд является чем-то новым. Думаю, что искания подобного рода существовали чаще всего вне пределов театра, хотя иногда возникали и в некоторых театрах. Суть — в поиске пути жизни и познания. Этот поиск не нов, он очень стар. Проявляется он и формулируется по-разному в зависимости от эпохи, времени, характера общества. Не уверен, что те, кто чертил свои наскальные рисунки в пещере «Трех Братьев» в Арьене, во Франции, стремились лишь одолеть свои тотемные страхи. Возможно, что было и так, но ведь не только так… И думаю, что рисунок не был там целью. Рисунок там был путем. В этом смысле я ощущаю себя намного ближе к тому, кто чертил тот наскальный рисунок, чем к тем артистам, которым кажется, что они создают авангард нового театра.
1969
187 О РОМАНТИЗМЕ73
Польский романтизм невозможно сравнить ни с каким другим романтизмом. Думаю, что его надо сравнивать не столько с романтическими течениями, развивавшимися в других странах, сколько с такими явлениями, как, скажем, Данте в Италии, Шекспир в Англии, Достоевский в России. Только это может дать надлежащую перспективу соотнесения.
Что такое романтическая позиция! В Польше она всегда означала собственный ответ жизни и истории. И это самый основной, принципиальный вопрос. Поэтому для меня не важно, создал ли наш романтизм, скажем, ту или иную теорию драмы. По моему мнению, самое важное в нем именно позиция в отношении жизни и в отношении истории.
Для меня (тут я следую за Мицкевичем) история не тождественна тому, что можно было бы назвать историей историков или историей журналистов. История — что-то в высшей степени осязаемое, что-то, что происходит, что делается. Конечно, это игра общественных сил: насилия и свободы, войны и мира, реальности и мечтаний. Но она не имеет ничего общего с теми или иными «формами», например, с формами эстетическими. Все ее ситуации конкретны. На историю можно смотреть глазами историка или журналиста, но можно на нее посмотреть также и как на вызов, брошенный жизнью. Вызов перед лицом жизни, брошенный каждой личности, а через личность — вызов общественным силам. Это — воззвание.
С какого-то момента польский романтизм начал функционировать в нашей культуре на правах канонических текстов. Но это, на мой взгляд, мертвый романтизм. Романтизм как канонические тексты — вот это и есть ответ на историю историков. Между тем история в Польше все время была, что называется, в наличности, она в Польше присутствовала. И мы все тоже в Польше присутствовали, мы в ней были — со всей нашей жизнью. Поэтому на протяжении всего времени живая романтическая позиция не переставала быть пересечением этих двух векторов. Романтическая позиция означала собственный ответ на жизненный вызов истории. 188 А значит, ею не могла быть та или иная теория драмы. Живой ответ мог быть дан только в том порядке, о котором я говорил ordo temporanus и ordo aeternus30*.
Какая это традиция — религиозная или, может быть, дорелигиозная? И что такое «ритуальный аспект романтизма»? Ситуация, способная проявлять себя как нечто действительно более живое, чем типичная театральная ситуация — с разделением на действующих актеров и наблюдающих зрителей? Не важно, какие слова тут употреблять. Во времена соборных действ появлялись различные формы особым образом кодированных встреч, и они-то и были, как мне представляется, ритуалом. Но дело не в том, чтобы сейчас эти формы реконструировать, дело в том, чтобы найти такую человеческую ситуацию, которая дышала бы жизнью, была бы живой.
Мицкевич, цитирую по памяти, сформулировал это так: «Жажда быть полным человеком», «целостным человеком», то есть таким, какой в одно и то же время участвовал бы как воитель в истории и — в собственной жизни, в своем бытии, словом, целостно отдавался бы тому, что делает. Такой человек должен располагать чем-то таким, что Мицкевич называл «органом чувствования истории».
Меня нередко спрашивают, спросили и сейчас: «Была ли постановка “Акрополя” авангардной?» Объективно она могла функционировать как авангардное произведение. Но для нас решающим было нечто другое. Действие драмы Выспянского разыгрывается на Вавельском холме, в Вавельском соборе. А ведь это место особенное. В нефах и нишах этого собора похоронены не только короли, там погребен прах великих польских поэтов — Мицкевича и Словацкого, названных «вещунами», «пророками». На этом примере как раз и видно, насколько разнится польское понятие культуры от того, какое присуще народам Западной Европы. Целое столетие, весь XIX век, Польша была лишена независимости. Она была колонизирована в не меньшей степени, чем, скажем, Конго. На большей территории Польши польский язык был запрещен. В той части, что находилась под прусским владычеством, еще в начале нашего века могли до крови отхлестать ребенка, если он в школе осмеливался говорить по-польски. При таком положении вещей подлинным бытованием, подлинным воплощением существования народа стала культура. Когда на Вавеле 189 погребали поэтов-пророков, их погребали «равными королям». Они и были королями нации в эпоху мрака. По тем же причинам наша культура не связана в столь неразрывной степени, как в других странах, с проблемой элиты. И во всем этом совершенно нет национализма, потому что национализм начинается там, где один народ подавляет свободу другого народа, а там, где народ колонизирован, там возникает проблема человеческого достоинства. Польский романтизм стал воплощением этого достоинства и силы сопротивления. Поэтому я и считаю его феноменом в огромной степени историческим, а не только эстетическим.
Так вот, действие драмы «Акрополь» разыгрывается именно на Вавельском холме, в историческом Вавельском соборе. И все-таки в то время, когда мы работали над драмой, место ее действия уже не имело того значения, какое оно имело для ее автора, Выспянского, в 1904 году. В нашей ситуации театральное воплощение этой драмы на Вавеле, как об этом мечтал Выспянский, было бы уже лишь разновидностью «сакрального танца». Нам же действительно хотелось дать перед лицом современников тот самый, наш собственный, ответ жизни и истории.
Каким образом мы, люди, постигаем историю? У нас у всех для этого есть только один «орган» — собственная биография: наша собственная жизнь, наш непосредственный опыт. Впрочем, существуют, разумеется, еще и другие возможности — например, научно-интеллектуальное постижение истории. Но основой является все же то, что пережито лично. Чем же было мое детство? Приведу один пример: в годы оккупации к каждому немцу мы были обязаны относиться как к сверхчеловеку. Не было семьи в Польше, которая не потеряла бы близких, а некоторые семьи были целиком уничтожены; проводились кампании усмирения целых деревень. Вот почему «орган постижения истории» пробудился и у меня, и у моих друзей-ровесников так рано. Биография каждого из нас или наших родителей глубоко погружена в историю.
Вот так и родилась идея перенесения действия драмы Выспянского «Акрополь» из Вавельского собора в Освенцим, в концентрационный лагерь. Совсем не трудно было бы при этом срежиссировать нечто вроде волнующей истории о концлагере в эпизодах, полных контрастов. Конечно, палачи были дьявольским порождением, а жертвы бывали всякими: людьми святыми и — людьми, потерявшими человеческий облик. В общей же массе узники Освенцима были людьми, находившимися в состоянии страшнейшей подавленности. Среди них были и герои, и святые, 190 но к тому времени, когда мы в 1962 году принялись за «Акрополь», литература и кино раньше нас уже успели все это показать, а порой и приукрасить, отдалив от реалий жизни само явление утраты человеческого облика. Мы же, напротив, хотели выявить автоматизм исторической ситуации. Мы хотели показать, как узники строят крематории — для себя. Выспянский называл Акрополь и Вавель «кладбищем племен». Так вот Освенцим — Вавель и Акрополь нашей эпохи. В финале драмы Выспянского появляется Спаситель: Христос-Аполлон. У нас он был растерзанным телом, телом растоптанным, бездыханным, безличным, без человеческих черт.
Была ли та постановка авангардной или она была верным воплощением неоромантической драмы? Связь с романтической традицией — то есть романтическая позиция — это то, что вы делаете. Делаете в качестве ответа вашей собственной жизни и в качестве ответа истории. Поэтому-то и не важны, не существенны вопросы подобного рода. Принципиально важен только сам ответ. Однако ответ не на словах. Потому что нет ничего более легкого, чем давать ответы на словах.
Так что же такое история, которая не является историей историков? Историки могут быть всякие: великие, гениальные, лживые, глупые и, наконец, просто опасные. Их «продуктом» являются толстые тома разной степени ценности. Но история как субстанция нашей жизни вышла не из этих книг. Наоборот, они, книги, вышли из нее. История существует до всех и всяческих книг историков. Она является чем-то потрясающе осязаемым, она — присутствует в нас и вокруг нас, она потрясающе практическая субстанция. Но, следовательно, жизнь и история выступают в качестве оппозиции друг другу? Нет, это просто аспекты. Потому что и жизнь принадлежит каждому, и история тоже.
Но значит ли это, что, говоря о жизни, мы тем самым каким-то образом аннулируем историю? Напротив. Мне кажется, что даже такой особенный опыт, как опыт переживания сейчас, обладает своим историческим фоном. Или иначе: история является и фоном, и поводом. Но она не является мыслимой историей, она — история делаемая, история в действии. Бывают минуты, когда история уже «в действии», но пока не спешит. Не знаю, может быть, я удивлю собравшихся и особенно тех, кто задавал вопросы, но для меня то, что является «базой» исторического материализма, а именно: игра действительно существующих общественных сил, борьба разного рода отношений и интересов, классов 191 и кланов — весь этот динамизм, который не поддается полному овладению сознанием, все это — точные вещи. Но, видимо, проблема лежит в том, что история — вообще не вопрос веры в точные вещи, не вопрос «правильной» веры. Она то, что происходит, что делается. Поэтому было бы лучше, если бы мы, говоря об искусстве, говорили бы и об истории каждый по-своему, сквозь призму личного опыта. Потому что она — не абстракция. Она потрясающе осязаема и потрясающе осязаемо присутствует — ежедневно, ежечасно, в любой ситуации.
Кто-то задал вопрос, который меня несколько озадачил: рациональна ли история?
Бывают такие периоды истории, когда она становится совершенно иррациональной. Но в таком случае, если вы оказываетесь рационалистом в иррациональной истории, хорошо это или плохо? По моему мнению — хорошо. Во времена Брехта, например, история Германии приняла иррациональное направление (я имею в виду приход к власти нацистов). Брехт как бы выровнял — в культуре — эту ситуацию, создав для нее контрапункт. Такова естественная функция культуры: не в том ее призвание, чтобы создавать аналогию действующим силам, а в том, чтобы вызвать к жизни какую-то компенсацию. Ну что ж, браво, Брехт! В годы, когда во Франции по-настоящему начинал свою деятельность Арто, «средний француз» из его окружения был более чем рационалистичен, впрочем, это был рационализм комфорта, «бифштекса и красного вина»: все было разумно, умеренно, прилично, прохладно, буржуазно и по-мещански. Арто подал на все это свою иррациональную реплику. Браво, Арто!
Прозвучал и такой вопрос: можно ли считать, что если кто-то создает театральное искусство, то его участие в истории должно выражаться в «показе жизни масс»? Странный вопрос. Допустим, какие-то массы и показаны на сцене, но ведь массы на сцене это всего лишь, если можно так выразиться, актерские массы… Можно ли приравнивать желание участвовать в общественных событиях к склонности выступать на спортивной арене? Не в этом же дело. Во Вроцлаве есть огромный зрительный зал (Народный зал), вмещающий тысячи и тысячи зрителей, где время от времени устраиваются гигантские развлекательные шоу и где зрителей — несметные толпы, тьмы и тьмы… Но, хотя такие шоу нужны, и я их не осуждаю, остается ли после них что-либо фундаментальное в жизни народов? Количество людей значения не имеет. Не важно, 192 сопровождают ли какое-то явление огромные массы людей или всего несколько человек. Дерево познают по плодам. Вошли ли вы в общество своими действиями? Вызвали ли вы к жизни какие-то факты, которые уже невозможно будет из жизни «вымарать»? Повлияли ли вы на что-нибудь, хотя бы косвенно? Вот в чем вопросы.
Но могут возникнуть и вопросы иного характера. Наше ли это влияние — то влияние, которое, как нам кажется, мы оказали? Ведь мы и сами оказываемся под влиянием множества факторов нашей страны, нашей истории. Тем самым я — всего лишь орудие. И такой вопрос здесь прозвучал: что означает быть орудием в руках истории?
Театр сам по себе может быть вещью сущностной или не очень сущностной. Поэтому самое важное (когда уж что-то делаешь в театре или в какой-либо другой области) хорошо понять: орудие ли ты? В чьих руках ты орудие? Это — во-первых. А во-вторых: как делать то, что ты делаешь, не кое-как, не рутинно, не автоматически и механически? Быть орудием — это ответственность. Как быть орудием особой точности и тонкости, подобно ланцету?
Когда мы только начинаем что-то делать, мы можем ошибаться. Но когда мы уже находимся на траектории делания, тогда уже реально возникает и свобода корректировки. Это важный принцип, в одно и то же время творческий и технический. То же самое, конечно, происходит и в театре. Стефан Ярач, крупный актер довоенной польской сцены, говаривал, что в театре артист чаще всего оказывается орудием в руках плантатора, то есть предпринимателя.
Но ведь справедливо и то, что говорилось и критиками, и зрителями о режиссере Конраде Свинарском: даже работая в условиях государственного театра, можно создавать великие спектакли.
Вместе с тем остается фактом, что театр нередко обретал новое дыхание благодаря вхождению в него дилетантов. Антуан и Станиславский вначале были дилетантами. Самым плодотворным периодом деятельности любого театра-«института» является тот период, когда он, возникнув, начинает бороться с собственным дилетантизмом, то есть когда он только начинает превращаться в «общественный институт», но еще, скажем так, не окончательно профессионален. Точнее сказать: тогда он даже более чем профессионален, то есть в сфере профессии он уже вполне компетентен, но как «предприятие», «учреждение» пока жестко не зафиксирован. 193 Тогда в нем существует группа людей, полных интереса и к себе, и к театру (а потом, что случается нередко, начинается период актера-«служаки»). К тому же именно тогда еще можно ставить вопросы о «точности» инструмента. На почве театра это означает борьбу за личный профессионализм.
Нетрудно прибегнуть к утверждению самого общего характера: дескать, мы все и всегда оказываемся «инструментом», «орудием». Намного труднее разобраться — в чьих руках. Но давайте поставим вопрос следующим образом: когда вы делаете что-то мощное — независимо от того, хорошее или плохое, — тогда вы тоже являетесь орудием? Несомненно. Ведь что-то «мощное» вовсе не означает что-то «доброе». Существуют сильные и даже мощные вещи, являющиеся в то же время очень плохими, «злыми» вещами. Нацистские партийные съезды были мощными спектаклями, а в то же время они были воплощениями зла. Эти нацистские ритуалы были, наверное, потрясающими. Но сомневаюсь, чтобы в них была хоть крупица творческого зерна. Может быть, кто-то скажет, что я полон предубеждения, но я искренне сомневаюсь. Мне приходилось видеть документальные фильмы о таких съездах, на меня они произвели впечатление чего-то в высшей степени банального, даже пошлого. Это замечание не снимает, однако, вопроса об объекте деятельности.
Для меня не проблема — является ли наш Театр-Лаборатория «орудием». Потому что и я сам, и каждый из моих коллег являемся орудиями. Проблема в другом — орудием в чьих руках?
Вопрос, мог ли я быть орудием в руках какого-либо так называемого Высокого Учреждения, для меня никогда не существовал. Разумеется, не мог бы. Существует некая разновидность, особый сорт политической мифологии. На ее волне порой возникает вопрос: является ли Гротовский орудием в руках государства или в руках партии? Я никогда не делал того, чего не хотел делать, — и это хорошо известно. А Учреждения?.. Разного рода Институты?.. Что ж, в один прекрасный день я почувствовал в этом отношении опасность даже со стороны собственного «института».
Что делать, чтобы не стать орудием Театра-Лаборатории? Его прошлого с его наследием, с его общим балансом трудов и «показов», с его престижем, с наплывающей возможностью застыть и закрыться в нем, как в некоем микросообществе?.. Но хотя такая проблема вполне возможна, она все же вторична.
Бывало другое: в какой-то определенный период я становился орудием в руках собственных амбиций. Не скажу, что это так уж решительно плохо, хотя порой отравляло мои отношения и связи 194 с людьми. Но, с другой стороны, давало плоды. Да и не было у меня тогда другого выхода. У меня было настолько сильное ощущение, что я — лишь объект моей судьбы, я настолько не принимал себя ни физически, ни эмоционально, ни интеллектуально, что быть орудием в руках амбиций являлось хоть какой ни на есть, но все же определенной ценностью. Если бы мне не удалось тогда засыпать ту пропасть, которую я ощущал между собой и жизнью, я ничего не смог бы сделать. Все, что я бы ни сделал, было бы в каком-то смысле ложью. Не хотелось бы защищать свои амбиции, хочу только признать факт их существования. Считаю, что самое важное — не лгать себе. Даже когда мы лжем другим, это не так опасно, как лгать себе.
Таким образом, исходный пункт моей траектории был, я бы сказал, достаточно подозрительным: комплексы, амбиции, жажда силы и одновременно — бессилие. Хуже некуда. Но именно в той точке я и начал свой путь. И было до крайности нужно, чтобы я его начал. Каждый должен начать свой путь. Что же было в моем случае? Хотя путешествие в жизнь и началось для меня с амбиций, довольно быстро обнаружилось, что их самих далеко не достаточно. Я уже говорил, что только тогда, когда вы уже вышли на траекторию, вы получаете реальную возможность начать действовать реально — путем корректировки своей колеи. Можно сказать, что в момент старта мы являемся лишь объектом неясных сил. Зачастую они иррациональны — в значении ли игры сил социальных, в значении ли психоаналитическом; думаю, что здесь присутствует и то и другое. Но когда мы уже на траектории, тогда мы способны отдавать себе отчет в том, что с нами происходит. И вот, когда оказалось, что амбиций недостаточно, тогда ясно и даже как-то помимо моей воли встал тот вопрос: в чьих руках?
Когда я работал с актерами, обдумывая режиссуру и всю постановку, когда строил спектакль, думая о цели, тогда еще довольно долгое время во всем этом господствовали амбиции: создать что-то солидное, результативное, «огромное» — словом, как бы его ни называть, оно было ребячеством, но ребячеством «с когтями», «загребущим» ребячеством.
Но вот однажды, во время какой-то репетиции, кто-то из актеров неожиданно сделал при мне что-то такое, что не стремилось ни к какой определенной цели и в нашем спектакле ничему не могло послужить. Во всяком случае, в том смысле, в каком я тогда себе спектакль представлял. И это буквально меня поглотило.
195 Я спрашивал себя: что он делает? И отчего это так живо? Отчего оно живет? Я не знал. Не знал я и как мне быть, что сделать, чтобы оно продлилось и дальше. Я знал только, что когда оно будет в нем, в актере, угасать, я должен буду от себя чего-то потребовать — в своем сердце, — чтобы его подтолкнуть далее. Но — чего? Слова, движения, напева? Я должен был узнать, «докопаться», какие во всем этом крылись возможности. И, вопреки всем моим тогдашним проектам, именно из таких минут и брали свое начало некоторые самые сущностные вещи в наших представлениях. Я был тогда орудием. Однако — в чьих руках? Говорили, что в руках дьявола или Бога… Если даже и признать подобное высказывание удачным, то это все равно — ignotum per ignotius31*.
В какой-то момент я спросил себя: может быть, это вопрос приоритета ценностей? Юнг заметил, что для каждого человека его наивысшая ценность и выступает его Богом. Говорят же о ком-то: «Его брюхо и есть его божество». Брюхо — его божество… А что было наивысшей ценностью для Че Гевары? Во всяком случае — не «брюхо».
Мне ясно, что я должен быть орудием в руках чего-то Живого, чего-то личного, но к тому же — куда более важного, намного более широкого, чем я сам.
Возможно, ключ в том, чтобы быть в истории и быть сейчас. В одно и то же время. В реальной истории, то есть не в истории историков или журналистов, а в том, что фактически делается между людьми. Сейчас — то есть там, где мы присутствуем реально. Так, как тогда, на репетиции — когда я присутствовал перед актером. В тот момент было важно живое присутствие. И все же я чувствую, что все эти определения, с одной стороны, слишком сухи, а с другой — недостаточно точны. У меня, правда, есть свои слова для выражения всего этого, но, высказанные публично, они могли бы казаться, пожалуй, искусственными.
Тут прозвучал и такой вопрос: а где во всем вашем поиске — он, актер? Любопытный вопрос. Давайте спросим себя о человеке как бытии и о человеке как роли. Знаю, что это достаточно общее и даже жесткое разделение. Если актер все еще способен забавляться масками — забавляться, как ребенок, как жонглер, — то, может быть, здесь заключена для него своеобразная инстинктивная приятность? Игра — невинная забава зверушек? Игра — забава безумцев? Это может быть плодотворно. Вот в этом случае мы 196 имеем дело с воплощением актера. Но это весьма далеко отстоит оттого, что я всегда искал. Значит ли это, что первая возможность для меня — фикция? Нисколько. Такое воплощение в высшей степени реально. Я принимаю и такую возможность. В мире вполне достаточно места для самых разнообразных практик.
Однако существует и та, вторая, возможность, которая близка мне. Тогда поиск идет в обратном направлении: поиск человека как бытия. Как «раз-актерить актера», «от-актерить» его? Как разбить стереотипы? Как избавиться от маски? Все это весьма относительно: как только мы избавились от одной маски, мы тут же незамедлительно надеваем другую, новую, например, такую: «я целиком и полностью сбросил маску». Но между этими двумя точками — но в переходе, но в промежутке — и есть чудо, что-то живое. Вот такова она, эта вторая возможность. Навязывать ее другим нельзя. На почве выбранной вами личной работы следует принять за исходную точку одну из двух возможностей. Потому что здесь дело не столько в агитации за какую-то из них, сколько вопрос собственной, личной склонности.
В той, второй, возможности кроется много ловушек. Часто, к примеру, говорится о «спонтанности» и «импровизации». Но если кто-то воображает себе, что он «спонтанен», то разве он на самом деле спонтанен? Первое, что он станет делать в такой ситуации, — множить стереотипы. Смешение того, что легко и дешево, с тем, что спонтанно, — один из самых простых и легких приемов поведения на сцене. А самое легкое — делать то, что нам привычно. А значит, он — тот, кто считает себя спонтанным, — начнет со стереотипов или же, наоборот, постарается «быть диким». Мы все поразительно европоцентричны, поэтому в нас живет совершенно ошибочный образ того, что принято считать «примитивным», «диким». Так вот, этот спонтанный будет «спонтанно» кататься по земле, толкаться и «прилипать» к окружающим, издавать дикие крики, истерически рыдать — и все для того, чтобы в конце концов перейти к некой противоположности: к воплощению своего рода Аркадии, то есть чувствительно брать всех вокруг себя за руки, обниматься и тому подобное. Все это — сплошные стереотипы.
Можно ли начинать без стереотипов? Вот в чем вопрос. До сих пор я в своей жизни ничего подобного не достиг. Всегда впадаешь в тот или иной стереотип. Но когда ты уже на траектории, то неизбежной вещью становится «вычищение» стереотипов. И — быстро. Скорее! Прежде, чем они автоматизируются, потому что 197 иначе все придется потом долго переделывать и переделывать. Люди будут множить и множить стереотипы и уверять, что у них все «спонтанно» и «импровизационно», и тогда ничего уже не удастся сделать. Надо как можно быстрее пресекать и отсекать такого типа вранье, потому что иначе каждое последующее будет уже проявлять себя на более высоком уровне, более высокой ступеньке. По сути же, коснуться чего-то подлинного можно, лишь находясь как бы в промежутке, в переходе.
Когда-то мы искали человека-актера., искали, как расстаться с игрой. Это отразилось и в тренинге. Тренинг может быть очень полезен хотя бы для здоровья: необходимо какое-то движение, нужны занятия, чреватые неожиданностями. Но идеальной системы тренинга не существует. И если вовремя не преодолеть того «превосходного», «совершенного», чего вы достигли в тренинге, можно впасть в автоматизм. Из книги «К Бедному Театру» видно, как эволюционировали все наши упражнения, как они не застывали в ортодоксальности, а всегда были «переходом» к чему-то следующему и всегда были индивидуализированы. Если в каких-то упражнениях актер доходил до совершенства, то необходимо было либо преодолевать это, переходя к высшему уровню, либо возвращаться к чему-то простейшему: бегу, танцу, игре.
Когда доходишь до раскалывания того, что великий французский ученый-этнолог Марсель Мосс называл врожденными «техниками тела», доходишь до своего рода полной текучести — до чего-то, что уже совсем лишено следов автоматизма в теле. Я это называю «ряз-дрессурой». Лично я считаю это намного более интересным, чем тренинг. Но есть и такие люди (и некоторыми из них я искренне восхищаюсь, как, например, звездой театра Но Хисао Кандзе), которые используют тренинг как исходный пункт.
А теперь давайте спросим: существует ли спонтанность? Для меня — да. Несмотря на то, что, начиная ее искать, вы впадаете в стереотипы, до спонтанности все же можно добраться. Спонтанность — это очевидность. Сутью спонтанного сейчас является очевидность. Не только для того, кто совершает актерское действие, но и для того, кто присутствует. Вот это и есть «сейчас» — «ordo aeternus». Оно может длиться несколько секунд, но оно важнее целых часов иной работы. А порой случается, что длится несколько часов, но впечатление такое, что прошло несколько секунд…
Теперь о разнице между «временем линеарным» и «временем вечным». Когда я говорю о траектории, я говорю о неустанном движении. Его можно, конечно, придерживать, тормозить. Тогда 198 это будет либо стагнация, либо регресс, рожденный силой инерции. Но представьте, что вы на траектории. В таком случае можно иметь самые разные представления о цели, разные устремления. И вовсе не обязательно они должны быть «истинными», потому что и наши устремления не всегда реальны, и траектория не обязательно должна стремиться к цели. Похоже на то, как Колумб плыл в Индию… Траектория, несомненно, пролегает во «времени линеарном», то есть — «ordo temporarius».
А когда мы погружены во время истории и находимся в нем, то неизбежно находимся в том, что одновременно и чисто, и грязно. Если кто-то уверяет вас, что руки его «чисты как снег», будьте уверены: перед вами преступник. Если участвуешь в жизни, принимаешь какую-то точку зрения, выбираешь какую-то «оптику», то крайне редко удается осознать и предвидеть все аспекты ситуации, — можно ли надеяться на бескорыстие? Вы вброшены в море, вы ищете света — вот это и есть историческое сознание. Ищете света, делая при этом массу ошибок. Вы впутаны во все, что происходит, вы во все вплетены.
Я привел пример из репетиции с живым актером, из непредвиденной встречи с ним. И тут же прозвучал вопрос: а существует ли в практике противоречие между режиссерским замыслом и такой встречей? Если вы отбрасываете свой замысел, если вы отбрасываете личную волю — пресловутое «я так хочу», — то вы перестаете быть и субъектом, и объектом ситуации. Тогда вы — вне этой проблемы. Но не следуют забывать и о такой вещи: чтобы что-то отбросить, надо сначала это «что-то» иметь.
Кто-то спросил: «Вот такая минута — это экстаз?» Я ничего не говорил об экстазе. А почему? Не случайно. Мне подозрительны поиски экстаза. Очень легко впасть в этакую разновидность истерии, внушая себе при этом, что ты полон эмоций, что на тебя снизошла благодать, но все это лишь окольные и путаные пути приятного поиска удовольствия. Кривые пути. Нет ничего плохого в том, что кто-то ищет удовольствия; плохо, что выбраны для этого кривые пути… Оставим экстаз.
Когда я говорил о том, что было спонтанно, и о том, что было сейчас, я не имел в виду ничего специально возвышенного, напротив, что-то совсем простое. Каждый из нас испытывал такое состояние, будучи ребенком. Есть в детстве минуты, когда никуда не надо спешить, ничего не надо принудительно делать и даже нет никаких вопросов, мол, что собираешься делать? Когда ты счастлив — 199 какие могут тут быть вопросы? Делаешь то, что очевидно. И, может быть, что-то совсем не сложное, совсем простое, совсем не сакральное, без всякой выспренности.
А кто-то спросил: «Такая минута — это аутопенетрация?» Слово «аутопенетрация» может быть плохо понято: смахивает на «интериоризацию»32*. Все наши поиски шли в контексте непосредственного контакта между людьми, были связаны с ситуацией между «я» и «ты». А значит, не могли замыкаться ни в чем, хоть отдаленно похожем на эмотивный нарциссизм. В слове «аутопенетрация» — за все те годы, что оно кружит по свету, я успел это заметить — кроется такая же опасность, какую скрывает в себе слово «экстаз», несмотря на то, что этимологически они находятся в оппозиции друг другу: «экстаз» означает «выход из себя», а «аутопенетрация» — «проникновение в себя».
В делании можно дойти до такой точки, в которой заметно, что делающий не является единственным субъектом события, не является, я бы сказал, его истинным субъектом… Он является как бы «переходом», посредником, орудием. Вот тогда именно и надо ставить перед собой вопрос о точности. Видим ли мы то, что к нам прикасается, в действии?
Субъективное ли это ощущение или объективное? Если бы оно было субъективно — то не было бы важно для других. Если бы было объективно — не было бы личным, не обладало бы конкретной жизнью. То есть — либо оно одновременно и объективно, и субъективно, либо же находится вообще вне подобных различий.
Но вот что существенно. Можно ли сказать, что самая интенсивная минута наступает как раз тогда, когда раскалываются стереотипы? Допускаю, что именно так и есть. Хотя, вероятно, существуют еще и другие возможности…
Хочу подчеркнуть, что то сейчас и то присутствие, о котором я говорил, может длиться много часов; но совсем не обязательно оно происходит так, будто вы разбиваете длинную цепь стереотипов. Случается, что, разбив стереотип, сразу выходишь в полет, и он длится долго.
Присутствует ли во всем этом история? Она всегда фон. Единственное, чего не нужно делать, — совершенно не нужно ею в этих целях заниматься. Занятия историей — скорее проблема 200 терминологии. Возьмем, к примеру, шекспировского Калибана. Кто он? Персонаж, лишенный имущества и прав, употребляемый в качестве предмета, сведенный на уровень «объекта» и к тому же загнанный в тяжкий физический труд. Существо, полное сомнений и комплексов по отношению к самому себе. В счет идет, в инструментальном значении, только тело Калибана. Все остальное — оторвано. Таким образом, проблема Калибана — классовая проблема в самом каноническом значении этого слова. Но если постановщик «Бури» начнет работу над спектаклем с беседы с актерами на тему «Калибан и классовая борьба», то, уверяю вас, работа пойдет из рук вон плохо. Искать надо скорее в собственной жизни. Вот это и будет исторический опыт. А терминология тут не важна.
Но кто-то тем не менее спросил буквально: «То, что вы назвали сейчас ordo aeternus, — принадлежит истории?» Здесь, думается, проблема кажущаяся. И стоит ли ставить себе такие вопросы? Разве, чтобы съесть кусочек хлеба, нужна особая философия?
Но поскольку такие вопросы все же возникают, то я тоже хотел бы задать вам два вопроса. Первый: тело — вот это тело — оно исторично? Второй: тело — оно врожденное или продукт истории?
И еще проблема. Не могу понять, почему меня постоянно противопоставляют Брехту? Не вижу оснований. Все спектакли Брехта, какие я видел, были необычайны. Честное слово, я храню их в памяти в числе лучшего, что довелось видеть в жизни. Сам Брехт произвел на меня впечатление человека, полного юмора, забавного, со «злинкой» и весьма, я бы сказал, вдохновляющего к действию и творчеству. Ничего от жесткого догматизма. А между Еленой Вайгель и мной установилась своеобразная симпатия: как будто встретились два взаимно небезопасных зверька, которые, однако, находят в общении какое-то удовольствие. Скорее всего, в противопоставлении Брехт — Гротовский дело заключается в доктринах. Но ведь я не верю ни одной из тех доктрин, что мне приписываются. С моей стороны конфронтация в подобном духе, «поединок на доктринах» — невозможны.
Похоже обстоят дела и с вопросом о «дионисийском» и «аполлоническом» началах. Знаю об этих принятых среди критиков разграничениях, но не испытываю к ним никакого эмотивного отношения. Что такое «дионисийская стихия»? Выход за пределы 201 установленных норм? Однако мы знаем, до какой степени этот «выход» может быть и бывает кодифицирован, скажем, в латиноамериканском карнавале… А когда говорится об «аполлоническом начале», имеется в виду, вероятно, нечто гармоническое. Я же с настороженностью отношусь к вещам слишком «благостным», «вычищенным», как бы «гигиеническим»… Таким образом, для кого-то «аполлоническое начало» — это попросту начало эстетическое, а «дионисийская стихия» — стихия биологическая. Мне же такие разграничения представляются подозрительными и искусственными.
Особенно часто и особенно настойчиво меня спрашивают о моем отношении к Христу, о первых переживаниях инициации, связанных с религией. О моей внутренней сложности отношения к христианству.
Во время войны я ходил в сельскую школу. Уроки по основам религии у нас проводил местный ксендз. Если мы недостаточно хорошо выучивали урок или если были недостаточно послушны, нас били тростью. Как-то раз я был недостаточно послушен и задал ксендзу какой-то вопрос на тему Евангелия33*. Ксендз велел мне выйти из-за парты. Он сказал, что сейчас повторит чудо, совершенное Моисеем, исторгнувшим воду из скалы, и начал бить меня тростью по голове. Но чуда никакого не произошло, потому что слезы из меня не исторглись. Когда я вышел после уроков, оказалось, что меня искал молодой викарий из того же костела. Он дал мне небольшую книжицу в коричневой кожаной обложке и тихо сказал: «Вот Евангелие, но никому не говори, что я его тебе дал, никто об этом знать не должен». Я вернулся домой. В нашем дворе был хлев. Я влез на чердачок хлева, втянул за собой лестницу, чтобы никто не мог меня разыскать. Все происходило ранней весной, чердак был доверху залит светом, солнце было ярким и сильным. Снизу, ни на минуту не затихая, доносилось негромкое сопение, блеяние, похрюкивание. Я открыл книжечку и начал читать историю Иисуса. Для меня она была историей человека. Этот человек был моим другом. Я уже знал, что он встал бы на мою сторону в случае с ксендзом, а может быть, и в каких-то других случаях тоже. Все, что можно было увидеть с чердачка того хлева, было пейзажем той, тогдашней истории. Напротив виднелся 202 холм, заросший деревьями, — это была Гора Распятия. Неподалеку жил крестьянин, затерзавший побоями собственную лошадь, у лошади был один глаз. Та замученная одноглазая лошадь была другом Иисуса. Вся Евангельская история происходила в нашей деревеньке. И как же было важно, что я прочел ее потаенно… Могу сказать, что чтение Евангелия на чердачке под несмолкавшее тихое сопение животных, втайне от ксендза и в безмолвном сговоре с молодым викарием и было моим первым инициальным переживанием, связанным с христианством.
Однажды во время моего путешествия по Индии я добрался до места, где находился ашрам34* йогов-католиков. В джунглях жило всего три человека. Настоятелем там был очень старый монах. Меня ни о чем не спросили, когда я пришел: ни о национальности, ни о вероисповедании. Но когда я собрался уже уходить, старый монах-настоятель, его звали Гриффит, спросил меня, христианин ли я. Я ответил, что семья моя — католическая, но сам я… О себе я не мог бы сказать: «Верю, что Иисус — Бог». Сам о себе я этого сказать не могу, не имею права сказать так. Тогда он ответил мне: «А знаешь, когда Иисус задавал вопросы Петру, он ведь не спрашивал его: “Петр, считаешь ли ты Меня Богом?” Он спросил: “Петр, любишь ли ты Меня?”» Тогда что-то толкнулось во мне, заставило вернуться к тому дню в далеком детстве, увидеть снова того, кто ходил по нашей деревне, кто был мне другом и другом той полуслепой лошади… Вот она, внутренняя психологическая сложность во мне, мое борение с моим детством, если хотите.
Последнее, о чем хотел бы сказать: каким я ощущаю нынешний, актуально существующий исторический контекст.
В настоящее время контекст деятельности Театра-Лаборатории — год 1979-й. Думаю, что каждый этап нашей деятельности следовало бы рассматривать в присущем ему историческом контексте.
Знак нашего времени, его знамение — неустойчивость. Не-длительность, не-протяженность, кратковременность всего и вся. Возникают самые разнообразные разновидности фанатизма. Некоторые из них на редкость жестоки, безжалостны, бесчеловечны. За всем этим стоит сомнение и неуверенность. То, что на практике для одних еще является ценностью, для многих стало уже всего лишь чем-то подозрительным. Каждый подозревает каждого и 203 всех остальных в том, что они неискренни, хитры и коварны, стремятся манипулировать людьми. За всем этим стоит еще большее сомнение: сомнение охватывает и собственные стремления. А не хотим ли мы, не стремимся ли мы манипулировать самими собой? Не хотим ли мы сами относиться к другим инструментально? Верим ли мы еще хоть во что-нибудь на самом деле?
Присмотритесь к семье. В последнее время наступает что-то вроде укрепления частной, личной жизни. Семья — одно из немногих мест, где можно прикоснуться к чему-то реальному. Но в то же время нынешняя семья находится в явной опасности. И то же самое происходит со всякой «семьей» в более широком метафорическом смысле слова: группой людей, связанных общим поиском. Люди еще продолжают искать друг друга, они создают, они вызывают к жизни такие группы, но все уже очень хрупко.
В такой исторический момент, во времена всеобщей неустойчивости, первое, чему обязательно надо научиться, — сосуществование. Надо научиться понимать, что дело не в том, чтобы быть идентичным с другими или обладать той же точкой зрения. Во времена, когда равновесие — любое равновесие — находится под угрозой, надо научиться воспринимать и принимать различия. Разумеется, если кем-то владеет жажда убивать, это принять невозможно. Но скажем себе так: я должен научиться тому, что другие могут от меня отличаться, могут иметь другой образ жизни, другие стремления. Я должен всему этому научиться. Но я должен сделать также какое-то усилие для того, чтобы другие могли принять меня, могли научиться принимать мое бытие и мой способ существования, не считая его угрожающим.
Может быть, я в чем-то ошибаюсь. Но я говорю, как чувствую. Если вы считаете, что в моих словах много противоречий, вы правы. Я сознаю, что говорю противоречивые вещи, но прошу помнить, что в основе моей работы лежит практика, которой я и занимаюсь. А практика противоречива — такова ее субстанция. Следовательно, я противоречив, как всякий практик. Я не умею теоретизировать на тему своей работы. Могу лишь рассказать о ней, поделиться с вами моим жизненным «приключением» со всеми входящими в него противоречиями — и теми, какие там были, и теми, какие там есть. Когда я что-то называю «нелогичным», то имею в виду одно: оно не есть результат применения логики. Я всегда высказываюсь о чем-то практически, если хотите, «прагматически». Но можно ли обо всем этом сказать, что оно — алогично? Когда ты в действии, когда ты в делании, — о логике не 204 думаешь. Я бы даже сказал, что и в мыслях не ставишь себе вопросов словами, и не даешь сам себе вербальных ответов.
Так в чем же мое «прагматическое» предназначение? Я убежден, что для каждого исторического времени существует совершенно иной, свой собственный, соответствующий способ коррекции траектории. Я убежден, что цель коррекции не в том, чтобы быть «признанным», «принятым», «прославленным» и тому подобное, а чтобы вновь возвращать нарушившееся равновесие. Если мир слишком уж кренится в какую-то одну сторону, надо выбрать курс в противоположную — в такой степени, в какой это нам по силам, в пределах наших возможностей, нашей способности это осуществить. Ибо только в такой степени мы в состоянии сделать что-то реальное. Остальное — миражи.
1980
205 РЕЖИССЕР КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗРИТЕЛЬ74
Поговорим о труде профессионального зрителя.
… Почти семнадцать лет назад я впервые приехал в Скандинавию. Тогда, на границе, меня спросили, какова моя профессия, и я ответил, что являюсь профессиональным зрителем (что и было зафиксировано чиновником в документах). Для меня очевидно, что работа режиссера — быть профессиональным зрителем. Это вполне определенное ремесло. К примеру, многие великие актеры оказывались плохими режиссерами в первую очередь не в своих постановочных замыслах, а в работе с другими актерами. Почему? Потому что связь актера со зрителем совершенно особая связь. Актер — не зритель, а режиссер обязан быть зрителем. Существуют такие традиции актерского искусства, в которых актер является одновременно и актером, и зрителем: к примеру, в некоторых формах классического восточного театра. Актер, достигший высокой ступени мастерства в своем искусстве (и обладающий, следовательно, полным и точным представлением о мельчайших элементах своего искусства), может начать смещать акценты в ритме действия, переставлять их, менять порядок небольших деталей, устраивать всяческие неожиданности: таков большой актер восточного театра. В этом случае актер одновременно и действует, и следит за своим телом, наблюдает за своими руками. Словом, получается, что актер смотрит на себя со стороны: «Вот это удачно, а вот то неудачно, а на это надо бы обратить внимание».
Величайшими актерами этого типа в Италии можно назвать тех, кто, следуя традиции комедии дель арте, способны создавать в спектакле индивидуальный образ и одновременно вовлекать зрителей в игру, держа их в своей власти. По крайней мере, некоторые из них, из тех, кого я видел, обладают этой способностью: умением действовать и одновременно наблюдать за своим действием. Получается двойная игра, захватывающая и требующая высочайшего мастерства.
Если же мы посмотрим на обычный театр, или театр условный, или театр авангарда, или какой-то студийный театр, мы обнаружим 206 большую разницу между работой актера и режиссера. Само собой разумеется, я не утверждаю, что любой человек, чьей профессией является режиссура, способен стать настоящим профессиональным зрителем. Но суть проблемы именно в этом.
Почему я решил затронуть эту абсолютно ремесленническую сторону профессии? По-моему, находясь на футбольном поле, не следует играть в регби. Мы же сейчас во всем мире находимся в той ситуации, когда люди, чувствуя непрочность «вещной» реальности, предпринимают отчаянные усилия, чтобы создать реальность условную. Но дело не в том, чтобы вместе со зрителями заниматься созданием условности, а в том, чтобы говорить с ними на понятном им языке.
Допустим, я оказался в положении человека, жившего в античной Греции и очутившегося в Греции сегодняшней. Я не могу разговаривать с людьми на древнегреческом языке: свои мысли я должен выражать на современном греческом, хоть и сознаю, что он настолько же «разрушенный» древнегреческий язык, насколько итальянский — «испорченная» латынь.
В наше время, когда вера колеблется, а в людях появляется чувство неуверенности, преобладает желание учиться тому, что может быть выражено простым и точным языком. Если я кому-нибудь скажу: «Я научу тебя прекрасно, удобно и ловко ходить только на левой ноге», — он будет очень стараться, он будет работать со мной и достигнет определенного совершенства. Но лишь постольку, поскольку будет заботиться об отработке движений левой ноги.
Итак, в нашем новом мире следует говорить на техническом языке. Это новый язык. По этой причине я и решил поговорить с вами о технических деталях профессии наблюдателя. Я убежден, что среди присутствующих здесь есть современники лучшей поры 60-х годов, своего рода «Belle epoque 60-х», и вы сейчас чувствуете себя в своей же стране неуютно, как бы динозаврами, существами из другого мира и времени. Хочу поделиться мыслью: важно отдавать себе отчет в том, что ваше сознание динозавров, по-своему бесценное, может быть передано другим поколениям только посредством технического языка. Вы не в состоянии перевести его на язык философский, идеологический, социальный, а также — осмелюсь предположить — на язык межчеловеческих отношений. В технической же манере вы это сделать можете. Это значит, что вы должны приложить усилия, чтобы стать динозаврами, в высшей степени компетентными в своем ремесле.
На нашей встрече речь идет о дебюте, о начале.
207 Ведь режиссер, стоящий в начале работы, только-только принимающийся за нее, почти всегда большой дилетант. Если же он актер, пусть и известный, то ему постоянно угрожает опасность навязать свою специфическую технику актерского исполнения другим актерам. Факт, не представляющий опасности в рамках классических театральных форм (скажем, восточных, поскольку там персонаж не создается, а принимается как бы по наследству), в ныне существующем западном театре оказывается своего рода опасностью.
Режиссер — это человек, который учит других тому, чего сам делать не умеет. Однако только в том случае, когда он говорит себе: «Я этого делать не умею, но я — зритель», — только тогда обеспечена плодотворность. И он может в итоге стать профессионалом, потому что уже в одном этом признании содержится точная и полноценная техника. Просто этой технике невозможно научиться в театральной школе, она достигается в процессе работы.
Есть режиссеры, которые, следуя своему представлению о пьесе, создают концепцию постановки. Они в уме конструируют тот образ, который должен быть осуществлен. Нередко в таком варианте мы имеем дело с «театром филолога» или с чем-то таким, что в лучшем случае достигает уровня продуманного трактата. Предположим: «“Гамлет” как трагедия». Здесь давно существует великое недоразумение, поскольку, несмотря на огромное количество книг и исследований о «Гамлете», объясняющих нам, что представляет собой истинный Гамлет, в них нет ни одного суждения, которое можно было бы счесть объективным. Происходит это прежде всего потому, что в театре невозможно отделить Гамлета от актера, исполняющего его роль. Но каким образом может режиссер выявить потенциал актера? На основании его успешных работ в других спектаклях. И вот тогда режиссер подобного типа заставляет актера повторять то, что тот играл прежде. В рамках отвлеченной, придуманной структуры, которую режиссер представляет как свою концепцию, он полагает таким путем навязать что-то актерам и зрителям. Ведь он-то лучше, чем кто-либо другой, знает, кто такой Гамлет; и притом — не его собственный Гамлет и не Гамлет определенного актера, а Гамлет как таковой. Он спешит поделиться своими откровениями со зрителями и надеется, что в случае, если они воспримут его идеи, то непременно постараются воплотить их в жизнь, и это изменит общество к лучшему.
С другой стороны, режиссер может подойти к тексту, пусть даже литературно оформленному, с позиции человека, желающего 208 увидеть, в конце концов, просто увлекательное зрелище; ему и в самом деле не хочется скучать ни на репетициях, ни во время спектакля, а искренне хочется чего-то необычайного. Уже на стадии чтения текста он видит своего рода внутренний фильм, подобный захватывающему сну. Этот сон не богат деталями: что-то в нем относится к актерам, которые смогут, с его дозволения, достаточно вольно играть свои роли; что-то — к пространству, где развернется спектакль, а что-то к нему самому, к его собственной жизни, предъявляющей счета, которые пришло время оплачивать. И в то же самое время он думает о зрителях, похожих на него самого. (Вы скажете, что не пристало судить о зрителях по себе, что это эгоистично. Что ж, будьте по-своему эгоистами. Чтобы творить, будьте «эгоистами», делайте же что-нибудь для ваших зрителей, для людей, с которыми у вас прочные связи! И — против остальных!..) Режиссер представляет себе также, каким образом он заманит в ловушку тех зрителей, которых не любит. В связи с этим мне вспоминается великий польский режиссер Конрад Свинарский. В 1968 году он готовил к постановке совсем небольшую драму Выспянского «Судьи». Это было невероятно интересное время… Я вспоминаю о нем с волнением. Всем казалось, что мы с Конрадом недруги, что мы соперники и в польском искусстве, и в международном масштабе. На самом же деле мы с ним были лучшими друзьями. Несколько раз в году мы находили время для спокойных встреч и обменивались мыслями и информацией. Я говорил ему: «Конрад, кое-кто из тех, кого я близко знаю, сообщил мне, что ты большая шельма, и это более чем справедливо; кроме того, они что-то готовят против тебя и приглашают меня в этом участвовать». И он мне платил тем же. Обычно мы встречались у него в квартире, которую он снимал у людей, уехавших работать за границу. В тиши уединенного жилища ему никто не мешал, и он работал над будущими постановками, подробности которых мы иногда обсуждали. Так вот, в пьесе Выспянского был момент, когда героиня, несчастная девушка, осеняет себя крестным знамением. Конрад сделал несколько этюдных набросков ее движений, ее жестов, а затем показал мне и сам жест: он встал и перекрестился, но руки держал не на уровне груди, а то, что называется ниже пояса. И при этом сказал: «Для них я это сделаю вот так». Я был поражен. О чем он подумал в том эпизоде? О тех зрителях, которых не любил, о тех, что были, возможно, сверх всякой меры, натужно, ханжески набожны? (Именно натужно и ханжески, потому что «легкая», естественная набожность прекрасна.)
209 Кто-то из критиков заметил по поводу спектакля «Дзяды», поставленного в нашем Театре-Лаборатории, что я применяю по отношению к зрителям «психомахию»35*, разного рода психологические хитрости, то есть крайне сомнительные действия, одновременно и привлекающие, и шокирующие. Я и в самом деле нападаю на зрителя, но не в физическом смысле, а как-то иначе: разрушая, хотя и с известной долей сдержанности, любимые им стереотипы. Те, кто видели наш «Апокалипсис», могут вспомнить фрагмент спектакля, в котором между персонажем, названным нами Темным (а в итальянской прессе — Непорочным) и в чем-то приближенным к образу Христа-мученика, и Марией Магдалиной происходит любовная сцена. Этот момент их соединения, слияния в любовном акте многим кажется скандально-шокирующим. Но для меня в нем не было ничего скандального прежде всего потому, что мой пиетет к великому евангельскому образу огромен.
Как была поставлена эта сцена? Любовная игра двух людей была представлена в следующей форме: Мария Магдалина изгибалась «аркой», из-под ее гибкого свода Темный-Непорочный метал «стрелы». Они содержали в себе определенный намек, они летели к актеру, игравшему Иоанна, и он, уязвленный, начинал бег на месте. Он бежал, как раненный стрелой олень, но одновременно шум его шагов совпадал с ритмом любовного акта. Когда страсть достигала вершины, летела стрела… Здесь мы имеем несколько элементов: почти натуралистический акт любви между Темным и Магдалиной, но представленный в форме арки и стрелы; и другой элемент, способный привлечь внимание зрителя, — бегущий олень. В нем отражался ритм кульминации любовного акта.
Прежде чем приступить к этой сцене, я, сам будучи зрителем, решил рассредоточить внимание других зрителей. Я сказал себе: «Как будет хорошо, если я увижу все это — не видя. А для пришедших зрителей это будет еще важнее, дабы не возникло недоразумений: ведь они могут решить, что присутствуют при самой обычной заурядной хуле — не при великом богохульстве, способном обрести свою ценность, нет, — при самой мелкой, подлой хуле». А ведь я этого не хотел. Тогда я сказал себе: «Действие должно быть неустойчиво, должно ускользать». Я как бы вижу момент любовного слияния, но когда я спрашиваю себя, что делают актеры, я уже вижу гибкую арку. И я уже не могу с уверенностью 210 сказать, что же видел я долей секунды раньше. Повторяясь и повторясь, это уже начинает воздействовать на меня, но тут я вижу бегущего оленя. Да нет же! Я слышу звучащий ритм, отбрасывающий меня к прежней натуралистической картине! Когда же я вновь оказываюсь во власти этой аллюзии, передо мной опять возникает изгиб арки или остановившийся в беге олень. Чеканные формы, неожиданно производящие эстетическое впечатление.
Посмотрев всю сцену, я так до конца и не понял, видел я эротическую игру или нет. В глубине души я сознавал (и каждый видевший сознавал), что мне показали любовную сцену между Мужчиной и Женщиной. Но я не уверен, что само «действие» имело место. Действие ускользало, менялось. Сцена фиксировала нечто полусознательное.
Это особенный и довольно редкий случай, трудный для режиссуры. Однако он выявляет одну из главных проблем профессии зрителя, то есть смотрящего режиссера: способность направлять внимание. Внимание — как собственное, так и других зрителей, которые придут на спектакль. В вышеописанном случае речь шла только о способности рассредоточить внимание зрителя. Но чаще приходится направлять, сосредоточивать его внимание. Многие режиссеры, особенно начинающие, с трудом это понимают.
Быть может, для лучшего понимания этого вопроса нужно просмотреть две документальные записи одного и того же спектакля: одну — сделанную неподвижной камерой, другую — снятую более хитроумно, с фиксацией деталей. Можно было бы также просмотреть театральный спектакль, а затем — хороший документальный фильм о той же постановке, подробный и полный. Когда вы делаете документальную запись, вы сразу сталкиваетесь с проблемой выбора деталей. Сначала вы снимаете сцену общим планом, потом — часть сцены, одного, двух персонажей или простейшую деталь — руку или иную часть тела актера, по ходу действия объединенную с телом другого актера и т. д. Это означает, что, будучи зрителем документального фильма, вы осязаете нить зрительского внимания и идете по ее пути.
Вот она, нить внимания: общий план, деталь, персонаж, часть фигуры одного актера, часть фигуры другого, вновь общий план… Без всего этого фильм получится беспорядочным по многим причинам: потому что экран, в отличие от реальности, плоский и маленький и потому что действия живых актеров полностью отличаются от того, что зафиксировано на экране. Делая документальный фильм, вы волей-неволей следуете по путеводной нити зрительского внимания. И абсолютно то же самое вы должны 211 делать, создавая спектакль. Должны четко сознавать, что помимо конкретных случаев — подобных сцене с Темным и Марией Магдалиной, где существует цель рассредоточить зрительское внимание, — есть случаи, где необходимо по ходу действия это внимание по-разному направлять. Вы властвуете над зрителем, как фокусник, который, чтобы скрыть основную манипуляцию, неотступно управляет вниманием публики.
Приведу простой пример. На переднем плане сцены актер читает нечто вроде вступления, дает какие-то разъяснения, но по-настоящему не является участником спектакля. Тем не менее зрителям необходимо эту информацию передать.
На втором плане уже начинается действие. Режиссер думает про себя: «Неплохое соотношение: здесь — монолог актера, а в глубине — идет сцена». На самом деле он ошибается. Когда зритель видит на втором плане действие, он больше не слушает, не воспринимает информацию первого плана; если же он сосредоточен на ней, то он уже не видит происходящего на втором плане. Возможны различные выходы из подобной ситуации, в том числе следующий.
Необходимо привлечь внимание зрителя к монологу актера. Позади него происходит действие. Оно должно восприниматься, должно существовать, но не должно концентрировать на себе зрительское внимание. Чтобы достичь этой цели, вы приглушаете свет и… терпите поражение, поскольку все стремятся увидеть то, что происходит в полутьме. Поэтому предпочтительнее простое и повторяющееся действие: без неожиданностей. Актеры же на заднем плане должны начинать действие либо прежде чем вступает актер с информацией, либо, что лучше, после его появления, поскольку момент появления привлекает внимание. Действие может иметь достаточно развитую формальную и ритмическую структуру, но обязательно однородную и простую. Затем, после первой фразы, актер останавливается в нерешительности, словно пытается вспомнить продолжение; тогда зритель осознает, что что-то разворачивается в глубине сцены. Видя это, зрители сразу понимают, что происходит. Когда же актер возобновляет речь, внимание зрителя вновь переключается на него, а затем лишь ненадолго переносится в глубину сцены с тем, чтобы проверить, повторяется ли все еще прежнее действие.
Другой выход — чередование. Оно означает, что, когда внимание должно быть сосредоточено на переднем плане, актеры в глубине сцены создают лишь намек на действие — так, что кажется, будто актеры ждут, а не играют. Затем актер перестает говорить, 212 и действие на заднем плане возобновляется. Но в следующий момент действие в глубине сцены не то чтобы останавливается, а словно затихает. В эту секунду актер на первом плане вновь начинает монолог…
Все это неплохие решения проблемы. Жаль, что они банальны. Почему банальны? Если режиссер, желавший создать и увидеть зрелище захватывающее, во время репетиции внимательно посмотрит на им содеянное, он скажет себе: «Все понятно, но в этом нет откровений». Почему же нет откровений? Потому что увиденное им лишено тайны, загадки. Дело не в изобретении чудес: когда стараешься придумать чудеса, они производят впечатление просто-напросто глупого оригинальничанья; здесь же должен быть intermundus36* — между ви́дением зримого и — не-ви́дением. Так, например, вместо простого следования эпизодов друг за другом можно работать частями. Например, актер еще владеет инициативой, а на втором плане уже что-то возникает. Действие в глубине сцены еще разворачивается, а актер первого плана вновь принимается говорить и т. д. Такое решение в корне отлично от предыдущих.
Естественно, я не утверждаю, что это единственное или наилучшее решение. Я только хочу сказать, что от нашего мастерства зависит та нить и тот путь, по которому пойдет зрительское внимание. Если ты режиссер и работаешь с актерами, у тебя должен быть в руках невидимый съемочный аппарат, постоянно фиксирующий, постоянно направляющий внимание зрителя: в одном случае, чтобы, подобно фокуснику, отвлечь внимание, в другом, наоборот, — сфокусировать его. Иногда режиссер направляет внимание зрителя таким образом, что оно совершает скачок. Разворачивается конкретное действие с двумя актерами: в определенный момент тушат свет, внимание зрителя перескакивает на освещенный участок сцены. Но вот свет зажигается, и пространство, где были актеры, либо оказывается пустым, либо в нем начинается совершенно другое действие, либо то же действие, но… три года спустя.
Один из видов монтажа, к сожалению, во всей полноте незнакомый режиссерам, — монтаж, идущий сквозь все действие по путеводной нити зрительского внимания. Монтаж эпизодов, подобный кинематографическому монтажу, о котором говорил Эйзенштейн, можно увидеть в театре только сведущего режиссера. Сначала вы вместе с актерами отрабатываете определенные 213 действия, затем отсекаете кусок от первого действия и сцепляете его с фрагментом из другого действия. Такой монтаж эпизодов происходит по законам, предложенным Эйзенштейном.
Это важно прежде всего в момент перехода от импровизации к спектаклю. Сразу возникает первое препятствие: суметь закрепить импровизацию. Впрочем, тут слишком обширная тема, чтоб говорить о ней вскользь. Во всяком случае, необходимо следить за телом во время импровизации. Под телом я подразумеваю и голос, и интонацию, и пение, и все действия, которые актер выполняет. Сюда относятся и душа, и дух. Все сюда относится. Поскольку душа принадлежит только вам, то для меня она во время работы — дым, я не могу ваять вас в дыме. Мне не дано узнать вашу душу; что же касается духа, то лишь в некоторых случаях я могу предполагать, что он существует. Таким образом, я должен сосредоточиться на том, что можно физически зафиксировать с большой точностью, не потеряв ни одной актерской мотивировки. Не потеряв также душу и дух, если они существуют.
Итак, в первую очередь необходимо закрепить импровизацию. Нередко работа над импровизацией для постановки спектакля длится годами. А зафиксированный материал может занять двадцать-сорок часов. Затем вы переходите к монтажу — режете, режете, режете. И часто сознательно идете на парадоксальные соединения, как в «благородном» киномонтаже. И снова встает вопрос, что делать с этим фильмом, который вы можете по своему желанию резать на монтажном столе. Вы просто обязаны резать фрагменты актерской игры таким образом, чтобы она не потеряла мотивации, чтобы не было нарушено внутреннее течение эпизодов.
Есть несколько вспомогательных технических приемов для осуществления этого. К примеру, у вас есть фрагмент, родившийся в импровизации и имеющий свой конец и начало. Вам же необходим маленький кусочек из середины. Тогда, несколько раз проигрывая эпизод, предшествующий тому фрагменту, который вы хотите вырезать, вы вместе с актерами придаете ему подготовительный характер.
Например, в необязательном эпизоде актер обращается с прочувствованной речью к своему сыну, наделавшему глупостей. В этом эпизоде он встает, передвигается, стучит кулаком по столу, машет руками и т. д. Вы просите его делать то же самое, но почти без движения, пытаясь лишь начать изнутри тела маленькие толчки-импульсы к этим движениям. Тогда вместо ударов кулаком по столу вы видите только маленький импульс плеча. Актер начинает эти маленькие толчки почти не двигаясь. Если в 214 этом эпизоде актер должен был что-то говорить, то теперь он сначала завершает маленькие толчки-импульсы, оставляя текст без внимания. Затем начинает в уме проговаривать некоторые фразы, не произнося их вслух. Когда же он подходит к нужному фрагменту, то уже действует в полную силу. Подобная подготовка, на самом деле почти статичная, характеризуется, я бы сказал, удержанием импульсов или сдержанными импульсами, но не является сложной для начала действия. Наоборот, она подобна катапульте, которая выбрасывает актера. Парадокс в том, что, закончив выбранный фрагмент, актер должен, постоянно сдерживая импульсы, завершить и тот остаток эпизода, который оказался за пределами выбранного куска. Он должен это сделать, ибо, остановившись первый раз в конце нужного фрагмента, он сделает это хорошо. Во второй же раз, зная, что продолжения не будет, он это сделает так, что весь фрагмент изменит перспективу. Если я знаю, что после определенных движений должен побежать, то я уже двигаюсь, исходя из того, что затем побегу. Если же я знаю, что потом бежать не придется, меняется перспектива и даже — первое движение. Но это всего лишь один из вспомогательных технических приемов, полезный в случае необходимости выделить кусок из импровизации.
Для соединения этого фрагмента с другим и притом без потери его жизненности нужна специальная техника, редко встречающаяся в театре, несмотря на то, что это монтаж самого простейшего уровня: монтаж эпизодов. Но существует намного более хитроумный монтаж. Тот, который идет только по нити зрительского внимания. Вернемся к примеру, который я вам привел ранее. Вспоминаю, как я подобным образом поставил концовку «Сакунталы» в Театре-Лаборатории. В сцене участвуют двое молодых влюбленных, показанных в тот момент, когда вся история уже получила счастливое разрешение. Но теперь перед нами пожилые люди: уже нет очарования молодости, уже нет той страсти, которую приносил с собой Эрос. Все постарело. Та же пара влюбленных, то же действие, та же позиция и тот же текст, но произносимый старческими голосами. Применяя монтаж первого типа, мы легко осуществим эту сцену: действие с участием молодой пары кончается, остановившись в определенной позиции, и актеры начинают сцену уже стариками, соответственно преобразуя тело, жесты, голос, но сохраняя исходную позу. Я считаю, что подобный монтаж ни к чему не ведет, он банален.
Но представим, что действие с участием влюбленных разворачивается, подходит к середине, и тут с другой стороны появляется 215 свет. Это должно произойти по какому-либо естественному поводу, без бессмысленных эффектов. Например, зажигают керосиновую лампу — этого достаточно: появляется источник, притягивающий внимание. Зритель смотрит на свет, одновременно слушая продолжающийся диалог; да, он убеждается, что это просто-напросто лампа. Он переводит взгляд обратно и видит двух стариков, продолжающих ту же фразу, первая половина которой была сказана молодыми в момент появления света. Именно так происходит в народных сказках. Девушка вышла из дома, заблудилась в лесу, повстречала колдунью, была перенесена обратно домой. Она возвращается, но ее никто не узнает: вокруг незнакомые люди, она их расспрашивает, называет имена своих родителей, никто ничего не знает. Она рассказывает о своем брате, сестре, — услышав их имена, кто-то говорит: «Ах да! Они тут жили лет пятьдесят назад…» Вот так в короткий миг, когда внимание зрителя было отвлечено, действие перенеслось на пятьдесят лет вперед. Это монтаж второго типа. Монтаж по путеводной нити внимания зрителя — в этом искусство сцены.
Не всем режиссерам дано обучать актера. Великий режиссер, великолепно владеющий мизансценой, может не уметь, например, преподать актеру технику голоса, если он этим не интересовался специально. Так было, скажем, с Конрадом Свинарским. Он превосходно умел взаимодействовать с актерами на психологическом уровне, на уровне воображения; умел во время репетиции сплести сложнейший «заговор» с любым из актеров. Но он никогда не пытался предложить им упражнения для развития голоса; этим ремеслом он не владел. Но как режиссер — профессиональный зритель он был гений. Сейчас я говорю именно об этой стороне вопроса, а не о методологии воспитания актера.
Впервые образ спектакля возникает у режиссера, когда он читает текст. При этом надо учитывать, что он, режиссер, хочет быть зрителем восхищенным. И он пребывает в положении между зрителями-друзьями и зрителями-недругами (вспомним, как Свинарский что-то готовил для зрителей-друзей, а что-то — например, то ужасное «осенение крестом» — для зрителей-недругов, да и для меня тоже, как он мне признался). Итак, режиссер должен определить некоторые первоначальные пласты работы, исходя из первого, еще неясного образа, который пока не есть замысел, а лишь сновидение о некоем спектакле. Он обязательно должен перевести этот образ на язык конкретных терминов: актеры, сценическое пространство. У него должен появиться план, это неизбежно. Этот план, даже если он и бестолковый — потом вы сможете 216 его отбросить, — необходим, чтобы дать толчок работе. И только позже приходят неожиданные образы, актеры преподносят сюрпризы, у самого режиссера возникают новые ассоциации, даже предметы обнаруживают свои скрытые возможности.
В этой связи есть еще одна проблема. В традиционном театре актерское пространство, в отличие от сценического, не так уж хорошо оснащено. Если на сцене и находятся механизмы, то они работают только для публики. Актеры же в основном играют в жалких условиях, часто даже не имея реквизита, который понадобится во время спектакля. Только в самом конце, на генеральной репетиции, они его получают. Это же полнейший идиотизм. Все было бы иначе, если бы они получали эти предметы с момента первоначального плана-замысла режиссера. Приведу пример: мне вспомнился стол из «Трагедии доктора Фауста» Марло, спектакля, который мы поставили еще в Ополе. Все зрители сидели за двумя длинными столами. Это был последний ужин Фауста, на котором он представлял события своей жизни, словно поднося гостям блюда на банкете, пока не был низвергнут в руки того господина, что и поныне властвует над миром. Итак, перед нами стол. Я смотрю на стол, смотрю на монаха в капюшоне, призывающего Фауста исповедаться. Исповедальни нет, но в силу воспитания и общего смысла происходящего я понимаю, что исповедь совершается в исповедальне, в противном случае это было бы большое нарушение. Исповедальни у нас нет, но мы можем приспособить для этого стол, поставив его вертикально. По одну сторону — монах, по другую — Фауст. Таким образом, стол превращается в исповедальню, или — если понадобится — в корабль, или в тропинку в лесу и тому подобное. Такие вещи невозможно предугадать заранее. Мы смотрим на предметы, и они начинают проявлять свою сущность… То же относится и к костюмам: при малейшем изменении они превращаются в свою противоположность. Преобразование предметов или функций предметов — очень важный элемент работы. Это то, что, появившись, видоизменяет первоначальный план.
Но в еще большей степени влияет на первоначальный замысел то, что исходит от актеров.
Профессиональный зритель (режиссер) смотрит: как же сделать так, чтобы актер довершил начатое вами? Да, есть исповедь и нет исповедальни, но с помощью того, чем вы располагаете на сцене, все меняется. Все может появиться. Есть партикулярное платье, которое превращается в монашеское облачение лишь путем легкого смещения деталей. Почему же я, профессиональный 217 зритель, смотрю и нахожу плоским то, что происходит, почему это меня не завораживает (если придать этому выражению магический смысл)? Что я могу изменить? Как сделать убедительным? Как я могу подтолкнуть актера? Первоначальный план начинает развертываться… и в конце концов ваш замысел отдаляется от его первоначального вида, постепенно утрачивая его окончательно.
Давайте посмотрим. Если складывается впечатление, что все закончено и находится в том состоянии, когда уже пора как можно скорее собрать людей (то есть обычных зрителей), тогда не следует перегружать себя сомнениями, ведь материал подвижен, подобно тесту, которое поднимается, «бродит». Теперь нужно начинать монтаж. А для этого надо хорошенько собраться с мыслями. Чтобы сделать первый монтаж, нужно выбрать куски, от которых зависит, обретет ли нарождающийся план логику или рухнет. Для того же, чтобы приступить ко второму типу монтажа — монтажа по путеводной нити зрительского внимания, — необходимо завершить первый и знать, что с ним все более или менее в порядке. Теперь предстоит настоящее дело. У нас наконец есть материал, мы не бродим в потемках, мы подошли к основному. Теперь малейший последующий импульс становится важным. Если же у одного из нас возникает один импульс, у другого — другой, то как же будет выстроен путь внимания? Вот тут мы и оказались лицом к лицу с необходимостью безупречного владения ремеслом.
Но что делать, если вы еще не готовы к приходу других зрителей? В таком случае режиссер вновь просматривает материал и говорит себе: «То, что я вижу, это лишь намек на нечто возможное, на то, что еще не родилось». Словно все действие было ширмой, которую теперь необходимо убрать, чтобы увидеть истинное действие. И вы снова вступаете на дорогу бдящего сознания и сознательного сна и со всем имеющимся у вас материалом начинаете осуществлять замысел заново. Что же тут должно еще быть?
Для разговора о различных элементах ремесла нам понадобилось бы слишком много времени. Прежде чем закончить, хочу вам сказать одну вещь, которой вы, конечно же, не поверите, хотя это чистая правда. Во все периоды моей работы в Театре Спектакля, в Театре Соучастия и в Театре Истоков, собственно во всей моей работе, самые важные вещи появлялись лишь тогда, когда я становился зрящим свидетелем — и только свидетелем — рождения некой новой возможности, некоего открытия неизведанного.
Чтобы было понятней, поясню на примере, взятом из периода Театра Спектакля. Вот ты работаешь как режиссер с несколькими 218 актерами. Ищешь какой-нибудь фрагмент: следишь, получается или, может быть, не получается? Тогда ты говоришь себе, что надо начать сначала, еще и еще раз. Тут необходимо спокойствие. Страшно важно то, как режиссер смотрит и слушает. Часто режиссер мешает актеру, прерывая его на середине действия. Прежде, чем актер доводит дело до конца, его уже прервали. Почему режиссер это делает? Потому что действия актера не соответствуют его, режиссера, представлениям. Но так можно лишь убить возможности актера.
Вспоминаю период работы над «Самуэлем Зборовским», пьесой, которая имела несколько воплощений до «Апокалипсиса». Это была кропотливая и длительная работа, она длилась три года. Больше пяти месяцев я провел, сидя на стуле и смотря на моих коллег, не произнося ни слова. Но они очень хорошо чувствовали, как я на них смотрю. Они понимали, что я смотрю на них, ожидая от каждого из них его вершины и не желая видеть того, что они уже умеют делать. Не стоило говорить им, что «это еще не то». Лучше не говорить ничего и — смотреть. До того момента, пока Оно не приходит. И вот сейчас — пришло… Среди нас был молодой стажер из парижского Центра научных исследований. Он писал диссертацию о «Стойком принце» и видел в свое время уже готовый спектакль. А в то время, о котором я говорю, он присутствовал на репетициях нашей новой работы. Незадолго до того, как я должен был прервать мое пятимесячное молчание, этот симпатичный и умный юноша уезжал во Францию. Тогда он отвел меня в сторону и спросил: «Простите, не могли бы вы мне сказать, как же вы в конце концов режиссируете?» Я посмотрел на него и ответил: «Я смотрю». Он возразил: «Но вы же ничего не делаете». Тогда я ответил: «Да, я жду, что “сделается” спектакль». Он уехал и через некоторое время вернулся в Польшу, чтобы повидать меня и увидеть «Апокалипсис». Потом он опять спросил меня: «Когда же вы сделали спектакль?» — «Но вы же присутствовали на репетициях», — ответил я. Он повторил: «Вы ничего не делали». — «Я же вам сказал, я жду, что спектакль “сделается”».
На репетициях я жду, не прерываю актера, никогда не объясняю, каким бы я хотел видеть действие. Слова режиссера волшебным образом становятся словами власти. Они должны подталкивать. Проблема не в том, чтобы объяснять теоретически или описательно — ведь взгляд на самого себя отличается от взгляда со стороны (потому-то мы и не узнаем свой голос, записанный на магнитофон). Необходимо как-то по-другому делать замечания: замечания, которые подталкивали бы. Например, я всматриваюсь 219 в новый эпизод, который репетируют актеры, и выясняется, что то, что они делают, не имеет никакого отношения к замыслу спектакля. Я смотрю и говорю себе: «Это великолепно!» Однако тихий внутренний голос мне подсказывает: «Послушай, это тебе не пригодится; это не связано с тем, что вы делаете. Да, это необыкновенно, но абсолютно вне вашего замысла!» Тогда я говорю этому тихому голосу: «Замолчи! Я хочу досмотреть до конца».
И вот тут Оно может наконец проявиться; вот тут наша работа может развернуться hic et nunc в любой момент репетиции. И в этом ценность. Если сегодня, в пятницу, в такой-то час, возникает чудо актера, если Оно возникает, тогда я, зритель, и смотрю, и захвачен. И дело не в том, послужит ли это чему-то или нет. Сегодня Оно существует, вот что важно. Что произойдет потом? Может, забудется. Забудется, но оставит в нас след. Разве мы работали не ради поиска истины в искусстве и жизни? Это может изменить всю перспективу спектакля, пусть даже развернув ее в противоположную сторону.
Так произошло с «Апокалипсисом», когда однажды, во время предыдущей работы над «Самуэлем Зборовским», актер Антоний Яхолковский сделал нечто абсолютно вне контекста репетиций. Я был захвачен происходящим, и мне хотелось понять только одно: что же он делает?.. да ведь передо мной священник! православный священник, и к тому же русский! Так ко мне пришел «Великий Инквизитор» Достоевского в образе русского священника, в то время как сам Пришелец-Темный-Христос еще даже не существовал. В те дни актер Яхолковский, подталкиваемый мною, стал воплощать наш «заговор» и работать с партнерами так, чтобы один из них оказался в положении отвергнутого Спасителя.
В иных случаях то, что Оно может найти место в спектакле, прорисовывается более четко и даже, оказывается, было в нем предусмотрено. Однако это не столь уж и важно, поскольку здесь был момент соприкосновения с настоящей тайной игры. Так выявляется высший смысл созидательности нашего ремесла. И это не может не оставить следов, пусть даже я точно не знаю, каких именно. В этом и есть hic et nunc нашей профессии. Режиссер должен уметь смотреть так, будто он целиком захвачен возможностью неизвестного — пусть на день, пусть на миг. В противном случае он навсегда останется на плоском, ограниченном и банальном уровне придуманных им концепций.
1984
220 ТЫ — ЧЕЙ-ТО СЫН75
I
Всякий раз, прибегая к тем или иным определенным терминам и ограничивая себя ими, мы начинаем барахтаться в мире идей, в мире абстракций. Мы даже можем таким путем подыскать несколько формул, в высшей степени оригинальных, но все равно они будут принадлежать царству мыслей, а не царству реальности. Не помню, говорил ли я когда-нибудь в прошлом, что театр является производным от социальной действительности и тем самым ее дополнением. Вероятно, говорил. Но для меня театр — нечто, что невозможно «разложить по полочкам». Как я могу отделить театр от литературы? Для меня, как для любого доброго европейца, связи между театром и литературой — в высшей степени сильные связи (что совсем не касается определенного типа классического восточного театра). Для меня великие драматические писатели прошлого всегда были полны огромной значительности, даже если я и вел с ними борьбу. Я всматривался пристально в Словацкого или Кальдерона, и это походило на борьбу между Иаковом и ангелом: «Открой мне свою тайну!» Но знание твоей тайны мне ничего не дает. В расчет идет только наша тайна, тайна живущих сегодня. Однако если я пойму твою тайну, Кальдерон, я смогу понять и свою тайну. Я веду разговор с тобой не как с писателем, чью пьесу я должен поставить на сцене; я говорю с тобой как с моим далеким предком, моим пра-пра-праде-дом. Это свидетельствует о том, что я вполне могу беседовать с моими далекими предками. И, разумеется, я с ними, с моими предками, не согласен. Но в то же время я не могу их отрицать. Они — моя основа; они — мой источник и исток. Этот разговор между мной и моими предками — дело сугубо личное. В работе над драматической литературой я, хочу это подчеркнуть, почти всегда предпочитаю авторов прошлого, да-да, потому что в их произведениях — дела предков, события минувших поколений.
В сражении всегда находятся союзники, находятся и враги. Ты стоишь перед лицом социальной системы, в высшей степени жесткой, непреклонной, окостеневшей. Ты должен выпутываться из множества затруднений, ты должен искать и найти 221 твою подлинную свободу; ты должен найти твоих союзников. Быть может, они — в прошлом. Ну что ж, я веду разговор с Мицкевичем. Но это разговор о проблемах сегодняшнего дня, о социальной системе, в которой я жил в Польше в течение почти всей моей жизни. Вот какова была моя позиция. Я работаю не ради выступлений и деклараций, а ради того, чтобы расширить ту зону свободы, тот остров свободы, который я ношу в себе; мой долг не в том, чтобы произносить политические заявления, а в том, чтобы пробивать брешь в стене. Вещи, запретные для меня, могут стать доступными после меня. Двери, закрытые для меня наглухо, могут открыться. Я должен решать проблемы свободы и тирании практическими средствами; тем самым я хочу сказать, что моя деятельность должна оставлять следы, наглядные примеры свободы. А это совсем не то, что причитать по поводу свободы, взывая: «Свобода так прекрасна! Надо бороться за свободу!» (И, разумеется, чаще всего оказывается, что бороться должен кто-то другой.) Нужно, чтобы совершился факт. Никогда, ни за что не отступать, но всегда делать на один шаг больше, всего на один шаг — больше. Вот в чем проблема социальной активности, рассматриваемая сквозь призму культуры.
Тот, кто склонен анализировать, легко может заметить, что именно в эпоху развития железных дорог и фабричного производства появляется романтический иррационализм. Зависимость одного от другого здесь очевидна. Ошибкой футуристов, конечно же, была попытка создания образов машин в обществе, где господствуют машины. Посреди царства машин искать надо «душу живу». Вся жизнь — это сложный феномен восстановления равновесия. Но дело не в том, чтобы из всего этого вывести некий концептуальный образ, а в том, чтобы задаться вопросом: жизнь, которую вы ведете, — это все, что вам нужно? Вы в ней, в этой жизни, счастливы? Вы испытываете удовлетворение от всего того, что вас окружает? Искусство, или культура, или религия (в смысле ее живых источников, а не в смысле церкви-учреждения, часто этим живым источникам противоположного) — все это разные способы быть неудовлетворенным. Нет, эта жизнь — недостаточна. И тогда что-то делают, что-то предлагают, что-то совершают — все для того, чтобы на эту «недостаточность» чем-то ответить. И дело вовсе не в тех недостатках, которые мы видим в образе нашего общества; речь идет о недостаточности в самом способе проживания жизни.
222 II
Искусство глубоко мятежно.
Плохие артисты говорят о мятеже, подлинные артисты мятеж совершают. Они отвечают освященному порядку вещей — действием. Вот здесь и находится точка, очень опасная и очень важная. Можно, следуя этим путем, прийти к мятежу уже не только словесному, прийти к анархии, представляющей собой отказ от нашей собственной ответственности. В художественной сфере анархия проявляется в форме дилетантизма: несостоятельности в своем ремесле, отсутствии необходимых данных и способностей, отсутствии самообладания. И вот перед нами дилетант в самом худшем смысле этого слова, который к тому же еще бунтует. Нет, не о такой мятежности я говорю. Искусство как мятеж означает свершение факта, который ломает преграды, поставленные обществом или — в тиранических системах — поставленные властью. Однако вам не удастся сломить эти преграды, если вы несостоятельны в своем ремесле. Совершенный вами факт окажется не более чем дымовой завесой, если сам этот факт совершен без достаточной компетентности. Да-да! Это звучит кощунственно? Но зато — точно. И если вы хорошо знаете то, что вы делаете, если вы разработали арсенал своих средств, если вы обладаете состоятельностью в своем ремесле и совершаете факт на основе полного обладания этими средствами и такого самообладания, что даже ваши противники не могут его отрицать, — вот тогда это основа.
Если же вы в вашей мятежности не располагаете столь необходимой компетентностью и самообладанием в своем ремесле — вы все в борьбе потеряете. Даже если вы вполне искренни. Все развеется, напоминая историю с американской контркультурой 60-х годов: ее больше нет, она испарилась. И вовсе не потому, что ей не хватало искренности, или потому, что там не было большого мужества, больших достоинств. А потому, что ей не хватало компетентности, «владения предметом», знания о самой себе; не хватало точности, отсутствовала ясность. Вспоминается название одного давнего шведского фильма: «Она танцевала одно лето». Да, таковы были американские 60-е годы: они проплясали только одно лето, а потом их все покинули, и они всех покинули, даже не поставив вопроса о том, имело ли все, с ними связанное, хоть какую-то ценность. Большой фейерверк: все пляшут, все в экстазе, а потом не остается и следа. Истинная мятежность в искусстве — упорна и настойчива, она полна выдержки и самообладания и никогда — дилетантизма. Искусство всегда было в силах сразиться с несовершенством, «недостаточностью» жизни, и не в последнюю 223 очередь благодаря именно этому обстоятельству оно и является производным от социальной реальности и дополняет ее. Не надо сосредоточиваться на вещах, слишком узко определенных, например, на театре. Театр — это все те явления, которые театр окружают, которые охватывают и дополняют его, это вся культура. Можно употреблять слово «театр», но можно также и упразднить его, от него отказаться.
III
Поговорим об импровизации в группе… Прежде всего надо уметь видеть банальности, распознавать появляющиеся клише. Банальности могут возникнуть и в работе над импровизацией, они могут проступить и в работе над формами и структурами. Вот несколько примеров клише групповой импровизации: изображать «одичание»; имитировать транс; преувеличенно работать руками, изображая процессию, несущую кого-то над собой; также изображать «козла отпущения» и его гонителей37*; утешать жертву; изображать простодушие, смешанное, впрочем, с безответственностью, и, наконец, предлагать на обозрение зрителю свои собственные штампы обыденного социального поведения в качестве поведения естественного (так называемая будничная манера вести себя, скажем, в бистро). Итак, чтобы достичь импровизации, которая чего-нибудь да стоит, нужно начать с устранения и этих, и множества других банальностей. Советую также избегать конвульсий, не надо колотить ногами по полу, валиться на землю и ползать по ней без необходимости, не надо изображать чудовищ. Не практикуйте этого, не советую! Вот тогда-то, возможно, и обнаружатся некоторые стоящие вещи. Обнаружится, например, что контакт невозможен, если мы не умеем отказываться от контакта. Это проблема узнавания: сближения и не-сближения.
В современном обществе, в особенности — западном, люди настолько надоели друг другу, что мечтают о каком-то естественном, искреннем знакомстве с другими людьми. Но на самом деле они ни на какое такое естественное знакомство не способны; они способны только навязываться другим. Представьте себе, например, что два человека разыгрывают импровизацию, а третий в это время возьмет и прицепится: он ведь непременно все разрушит. Это — поведение бульдога с его реакциями: раз уж вцепится, то больше не может разомкнуть челюсти и отвязаться. Вот он, ваш 224 контакт, вот оно, ваше знакомство. Поэтому, если вы ищете знакомства, если вы хотите узнавания и сближения, то начать надо с не-знакомства, не-узнавания. То есть я больше не ищу контакта с тобой; я скорее ищу другое — как использовать наше общее пространство таким образом, чтобы каждый мог действовать в нем отдельно и самостоятельно, не терзая других. Но, предположим, мы стали действовать, не терзая друг друга; тогда, если мы оба начнем петь, это не должно привести к дисгармонии. Если стараться избежать дисгармонии, то, значит, когда я пою, я должен тебя обязательно слышать, я должен деликатным образом гармонизировать свою мелодию с твоей. Однако не только тебя должен я слышать и не только с тобой и с твоей мелодией должен гармонизировать свою мелодию, потому что там, снаружи — далеко за пределами нашего места работы — в небе проносится реактивный самолет. И вот оказывается, что ты с твоей песней, с твоей мелодией не одинок, ты вообще не один в мире: таков факт, и этот факт — в небе. Шум от реактивного мотора — в небе. Ты поешь так, как если бы там ничего не было? Но тогда можно сказать, что ты вовсе не сгармонизировал себя с миром. Ты должен найти звуковое равновесие с реактивным самолетом и сохранять его, невзирая на особенность твоей мелодии.
Вы смотрели наши занятия, вы убедились: чтобы все это уметь делать, надо быть хорошо натренированным в движении, в пении, в ритме и тому подобном. Я хочу сказать: для того, чтобы прикоснуться к не-знакомству, не-соприкосновению, еще даже не посягая на соприкосновение и знакомство, уже необходима настоящая профессиональная состоятельность. Но чаще всего люди, практикующие то, что они сами называют «импровизацией», погружаются в дилетантизм, безответственность. Чтобы работать в импровизации, нужна своего рода святая осведомленность, нужно священноведение. Здесь, в этой работе, не может спасти одна лишь добрая воля, а может спасти только самообладание в ремесле. Разумеется, когда присутствует самообладание, тогда можно затрагивать и вопрос о сердце. Разговоры же о сердце там, где вы не достигли самообладания в ремесле, — обман. Когда самообладание достигнуто, тогда мы можем встретиться лицом к лицу и с сердцем, и с душой, — тогда мы можем принять этот вызов.
IV
Почему и африканский охотник из пустыни Калахари, и охотник-француз из Сантонжа, и охотник-бенгалец, и мексиканский 225 охотник «гуичоль» принимают в момент охоты определенную позицию тела, в которой позвоночник слегка наклонен вперед, колени немного согнуты, — позицию, создаваемую с точки зрения анатомии тела крестцово-тазовым поясом? И почему эта позиция не может использоваться для тренировок в качестве единственного типа ритмического движения? И каково может быть более широкое применение этой манеры ходьбы, манеры движения? Существует очень простой и легкий способ отгадки: если вес тела лежит на одной ноге, то в момент переноса другой ноги вы не производите шума, к тому же вы перемещаетесь непрерывно, протяженно, очень замедленно. Тогда наверняка животные в момент выстрела не смогут вас обнаружить.
Но самое главное заключено не в этом. Самое главное в том, что существует некая исходная первичная, первоначальная позиция человеческого тела. Эта позиция настолько стара, она уходит в такую древность, что, возможно, она была присуща не только «homo sapiens», но еще «homo erectus»38* — она-то и имеет некоторое отношение к появлению человеческого вида. Истоки этой позиции теряются во тьме веков, и связана она с тем, что тибетцы называют иногда позицией рептилии, позицией пресмыкающегося. В афро-караибской культуре эта позиция более определенно связывается с поведением ужа, а индусская культура, соответственно, производит ее от Тантры: перед вами змея, которая замерла, опираясь на позвоночный столб.
Вы скажете мне: все это предрассудки, владевшие людьми иной эпохи. Однако не обязательно людьми иной традиции, — отвечу я вам, поскольку и в Европе мы также встречаем образ змеи, заглатывающей себя самое, не говоря уже о тех двух сплетенных змеях, что составляют древний символ медицины. Вполне допускаю, что специалист по физиологии мозга смог бы также упомянуть о наличии у человека такого явления, как «рептильный мозг»39*, то есть мозг наиболее древнего происхождения, начинающийся в задней части черепа и спускающийся по всей длине позвоночного столба.
Обо всем этом я говорю предположительно, без научных претензий. Мы несем в нашем теле — тело «прошлое», тело древнее, можно сказать, тело рептилии. С другой стороны, наблюдая развитие человеческого зародыша, можно представить себе появление 226 рептилии на одной из первоначальных стадий развития. Скажем так: эта рептилия, появившаяся на очень ранней стадии эмбриона, подготовила базу для формирования «мозга рептилии».
Я спрашивал себя: каким образом могла использоваться и использовалась эта первоначальная энергия; каким образом — посредством различных техник, выработанных в разных традициях, — искался доступ к тому «прошлому», тому древнему телу человека. Я проделал множество путешествий, я прочел множество книг, я нашел множество следов того, что искал. Некоторые из этих следов оказались столь же потрясающими, как и сами явления; например, в Черной Африке техника жителей пустыни Калахари заключается в том, чтобы — как они сами говорят — заставить «вскипеть энергию». Они это делают посредством танца, исполняемого с исключительной точностью. Этот танец, очень сложный, даже запутанный (к тому же он длится долгими часами), не мог быть использован в качестве инструмента в моей работе: во-первых, он слишком сложен; во-вторых, он слишком связан со структурой мышления жителей пустыни Калахари; в-третьих, для людей Запада было бы просто немыслимо продержаться столь долгое время без угрозы потерять психическое равновесие. Однако не вызывало сомнения, что в танце Калахари в действие приходило именно «тело рептилии». Где можно было найти еще несколько похожих явлений? В области Зар в Эфиопии, например; и в празднествах «вуду» африканского племени йоруба, или еще в некоторых техниках — к примеру, практикуемых народом бауле. Но все упомянутое чрезмерно усложнено, находится на грани с «заумью», из него невозможно извлечь простой инструмент.
Теперь давайте взглянем на то, что происходит с явлениями, производными от традиций. В районах проживания караибов, а в еще большей степени на Гаити существует тип танца (он называется «yanvalou» — «янвалу»), который можно связать, скажем, с мистерией, с божественностью; под влиянием христианизации этих племен его называют также танцем покаяния. Тут все проще, тут мы имеем образ действия, более просто и непосредственно связанный с «рептильным телом». И тут ничего нет странного. Можно сказать, и даже совершенно определенно, что в нем все происходит артистично: тут есть точный шаг и даже точные па, есть свой особенный темпоритм, а корпус пронизывается волнами движения — весь корпус, а не только позвоночник. И если вы танцуете его, скажем, вместе с теми песнями, что посвящены змее Дамбалла, то сама манера петь и передавать вибрации голоса помогает движениям корпуса. Мы тем самым присутствуем при 227 проявлении нескольких вещей, которыми мы и в самом деле можем полностью овладеть в артистическом смысле — как элементами танца и пения.
Теперь давайте все сказанное рассмотрим подробнее. Приходит кто-то извне и хочет вступить в подобного типа работу, хочет в ней участвовать. В таком случае он вступает во взаимодействие с техникой предельно точной, техникой артистичной: он оказывается перед лицом необходимости быть сведущим в своем деле. Надо уметь петь и плясать органическим образом и в то же время образом структурированным. Не будем говорить об уровне «рептильного мозга», будем говорить только об артистическом аспекте, иными словами, о том, чтобы быть одновременно и органичным, и структурированным. Есть тест, который помогает непосредственно обнаружить дилетантизм. Успешнее всего он приложим к людям западной цивилизации (для людей с Востока существуют другие тесты), потому что именно они не в состоянии обнаружить разницу между шагом, па и танцем. Они бьют по земле ногами, думая, что они танцуют. Однако танец — это то, что происходит, когда ваша нога находится в воздухе, а не тогда, когда она касается земли. И то же происходит с пением. Западный человек, поскольку он воспитан на фиксированной знаковой системе в смысле письменности (нот) или магнитофонной записи, не слишком разбирается в особенностях устной передачи звука. Западный человек путает песнь и мелодию. Как правило, он способен спеть лишь то, что зафиксировано в «знаках», записано. Однако всего того, что имеет отношение к качеству вибраций, пространствам резонанса, что связано с хранилищами (своеобразными «депо») резонанса в теле, со способом, каким возникает и переносится вибрация, — всего этого западные люди, особенно вначале, уловить не в состоянии. Можно сказать, что человек Запада поет, не слыша разницы между звуком рояля и звуком скрипки. А ведь эти два «хранилища резонансов» очень сильно различаются между собой, но он, человек Запада, ищет только мелодическую линию, не улавливая различий в резонансах. Это, разумеется, не касается великих мастеров, а касается только дилетантов. Так вот, в танцевальной манере ноги, которая бьет в землю в ритме стаккато, или в самой манере выстраивать мелодию без учета вибрационных качеств голоса вы можете тут же обнаружить дилетантизм. Сейчас не буду говорить о «мозге рептилии» или о «древнем теле»; сначала надо верно разрешить упомянутый первый вопрос — вопрос технический и артистический. Перед нами проблема базы, основы танца и пения. Потом, проявив 228 бóльшую или меньшую решительность, вы сможете начать работать над тем, что представляют собой на самом деле ритм и волны «старого», «прежнего» тела — в теле сегодняшнем. Однако на этой стадии можно заблудиться, сбившись к своего рода примитивизму: начинают работать над «инстинктивными» элементами тела, теряя контроль над собой.
В обществах, основанных на давних традициях, сами ритуальные структуры исполняют функции необходимого контроля, поэтому нет такой уж ощутимой опасности потерять контроль. В современном же обществе эта структура контроля полностью отсутствует, и каждый должен сам для себя решать эту проблему. В чем проблема? А в том, чтобы не спровоцировать своего рода кораблекрушение или, изъясняясь на «западном» языке, — половодье бессознательного; половодье того бессознательного содержимого нашего «я», в котором так легко потонуть. Я хочу сказать: нужно всегда сохранять достоинство человека — именно то наше достоинство и свойство, которое в большинстве традиционных древних языков связано с вертикальной осью, «to stand». В некоторых языках, чтобы сказать «человек», говорят «тот, кто стоит». В современной психологии говорят о человеке: l’homme axial. В этом заключено что-то, что пристально смотрит, что-то, что наблюдает, в этом есть какое-то качество бодрствования, бдительности. В Евангелии не раз повторяется: «Бодрствуйте! Бодрствуйте! Смотрите на то, что происходит. Бодрствуйте и бдите о себе!». «Рептильный мозг» и «рептильное тело» — это твое животное. Оно принадлежит тебе, но проблема заключена в человеке, и решать надо ее. Смотрите на то, что происходит! Бодрствуйте о себе!
Итак, вот некая данность настоящего времени: вы существуете на двух противоположных концах одного и того же регистра, на двух различных полюсах — на полюсе инстинкта и на полюсе сознания. В обычной, «нормальной» жизни наше повседневное безразличие, наша вялость и прохладца приводят к тому, что мы как бы зависаем между ними обоими, не являясь ни во всей полноте животным, ни во всей полноте человеком, как бы онемев от смущения между ними обоими. Однако в подлинных традиционных техниках и в подлинных обрядных «performing arts» они выступают как два крайних полюса, которые участник ритуала держит одновременно. Это называется «быть в начале», «быть стоящим в начале». Начало — это ваша истинная природа, которая выявляется сейчас, здесь. Начало — это ваша подлинная природа со всеми ее гранями — божественными или животными, инстинктивными или возвышенно страстными. Но в то же время вы должны бодрствовать 229 в единстве со своим сознанием. И чем больше вы будете «в начале», тем больше вы будете становиться тем, кого я назвал «быть стоящим». Это оно, бодрствующее сознание, сделало человека человеком. Это она, напряженность между двумя полюсами, дает ему противоречивую и таинственную полноту.
V
Я вам рассказал об одном элементе работы (одном среди десятков других), и этот небольшой элемент вновь приводит нас к проблеме древнего тела и к проблеме сознания. Я обратил также ваше внимание на то, что разрешение проблемы приходит только с овладением техническими средствами, а также средствами артистическими, то есть — с не-дилетантизмом. Но именно когда мы выходим на уровень не-дилетантизма, перед нами открывается подлинная бездна: мы сразу оказываемся перед лицом и архаичного, и сознательного. В этой области существует «рабочий инструмент», который я называю органон или янтра. «Органон» по-гречески означает: инструмент. То же самое в Индии на санскрите означает «янтра». В обоих случаях подразумевается в высшей степени тонкий инструмент. В словарях древнего санскрита, приводя пример янтры, говорят о скальпеле хирурга или об аппарате астрономического наблюдения. Итак, янтра — это некая вещь, которая может вас объединить с законами вселенной, законами природы, подобно инструменту астрономического наблюдения. В Индии в древности храмы строились как янтры, иными словами, так, чтобы архитектура здания и все устройство пространства становились инструментом, который вас ведет и проводит от чувственного возбуждения к эмоциональной «пустоте», от эротических скульптур внешнего декора здания — к пустому, сквозному центру купола, который и вас делает «пустым», «сквозным», заставляя исторгать из себя все ваше содержимое. Та же инструментальная точность воплощалась в мастерстве создателей конструкций средневековых соборов (здесь она была больше связана с проблемой освещения и звучания). И в сфере «performing arts», и в ритуальных искусствах на самом деле то же самое: янтры или органоны. Эти инструменты — результат очень долгой практики. Нужно не только уметь их конструировать — также как и определенные типы танцев и песен, способных оказывать на вас объективно обусловленное и оправданное воздействие, — но нужно также знать, как их применять, чтобы они не выродились, чтобы они помогли достичь цельности, полноты.
230 Я уже привел один пример янтры: «рептильное тело», танец и песня, которые надо исполнить структурированным и органическим образом и в то же время прослеживать их действие, наблюдая бодрствующим сознанием. В нашем ремесле существует необычайное множество возможных янтр. Проблема здесь не в нехватке возможностей, но, напротив, в том, что их слишком много, и в том, что эти инструменты настолько тонки, что следует постепенно преодолевать уровень дилетантизма, и после того, как вы перейдете от него на уровень компетентности, уловить, в чем же заключены и каковы опасности. И лишь тогда со всей точностью двинуться в сторону контрмер, позволяющих избежать опасностей. Но вот, внимание! Абсолютно разные вещи: янтра и трюк. Можно ли с тем или иным типом янтры вести торговлю артистическими ценностями? Нет, есть вещи, которые не должны продаваться. Это все равно, что рассуждать так: если с помощью этой янтры можно построить храм, то нельзя ли заодно построить и веселенький бордельчик? Увы, нельзя. Впрочем, это могло бы иметь и кое-какие любопытные аспекты, но, согласитесь, какие-то вещи оказались бы не на своем месте. (Вот в этом и заключена проблема.) Не менее жгучий вопрос возникает в кругу западных, а еще точнее — евро-американских театральных деятелей. Некоторые театральные постановщики, преподаватели, прокатчики зрелищных художественных «продуктов», из тех, что занимаются шоу-бизнесом, интересуются нашими исканиями с одной целью: а не удастся ли все это применить для создания «шоу». Нет, не удастся! Инструмент и в самом деле очень тонок. Превысить уровень дилетантизма — задача посильная, цель достижимая; но однажды наступит день, когда вам придется выйти на уровень более высокий, уровень не-дилетантизма; и вот тогда-то и встанет перед вами самый существенный и человеческий вопрос: он будет касаться вашего собственного развития, поскольку вы — человек. Такого рода вещами манипулировать невозможно. Либо у вас будут получаться снова и снова какие-то фальшивые штуки, либо соберется действительно немалое количество эффектов, но эффектов второстепенных и патологических. Ибо с точки зрения циркуляции энергии янтры (органоны) являются очень сильными инструментами.
VI
Перед нами «инструменты», которые на какое-то первое время сосредоточивают в себе все технические и артистические аспекты работы. Только на какое-то первое время, но это начало 231 является необходимым условием, без него ничто не сможет функционировать. И вот, потеряв, если можно так сказать, огромное количество времени на такое начало, можно оказаться перед лицом множества важнейших элементов артистической работы. Например, можно столкнуться с различием между импровизацией, проявляющейся беспорядочно, и импровизацией, выступающей как повторное приспособление (реадаптация) к той или иной структуре, то есть гармоничной импровизацией. Разумеется, я затрагиваю эти вопросы только частично, имея в виду их сложность. Во всех случаях следует прояснить одно обстоятельство: невозможно по-настоящему стать не-дилетантом, сведущим в своей работе, обладая сознанием туриста. Под сознанием туриста я подразумеваю любовь громоздить друг на друга режиссерские «находки» и предложения, ни одного из них на самом деле не завершая.
Одним из тестов в этой области (для наших участников) выступает некая разновидность индивидуальной этнодрамы, в которой исходным моментом служит старая песня, связанная с этнорелигиозной традицией лиц, участвующих в действии. Начинают работать над этой песней так, как если бы в ней — в движении, действии, ритме — была закодирована некая сумма, итог. (Это напоминает этнодраму в традиционном, коллективном смысле слова, но здесь существует и выступает один человек, который действует, имея дело с одной песней.) Таким образом, для людей сегодняшнего дня возникает следующая проблема: они ищут и находят несколько вещей, создавая небольшую структуру вокруг песни, потом выстраивают параллельно новую версию, затем параллельно ей еще одну версию и еще потом одну. Так и проявились признаки того, что вы по-прежнему остаетесь все на том же, первом уровне вашего замысла, и хотя некое свежее предложение и способно возбудить нервы и создать какую-то иллюзию — его можно назвать только поверхностным. А это и является, в свою очередь, признаком того, что человек работает горизонтально, нарабатывая что-то «по сторонам», а не вертикально — как тот, кто выдалбливает колодец. Вот она, разница между дилетантом и не-дилетантом. Дилетант может сделать прелестную вещь более или менее поверхностно при помощи вот такого возбуждения нервов на уровне первой импровизации. Но ваять он будет… в тумане. И, как туман, все рассеется. Дилетант ищет «по сторонам».
В известном смысле множество форм современного индустриального развития не только послушно повинуются этой модели, но и впрямую служат ей; такова, например, знаменитая «Силиконовая долина», огромный американский электронный комплекс, 232 где расположено множество конструкций, стоящих «бок о бок» с другими конструкциями, «по сторонам» от них, и весь комплекс таким образом развивается горизонтально и в конце концов становится неуправляемым. Ничего общего с конструкцией древних или средневековых храмов здесь усмотреть невозможно, ибо храмы всегда являются ключом к своду небесному. Вертикально-осевая концепция — вот то, что точно обусловливает их ценность, их достоинства. Однако внутри индивидуальной этнодрамы такая осевая вертикаль — вещь трудно осуществимая, потому что в работе, ориентированной вертикально, в работе, которая погружается в глубину и поднимается вверх, в вышину, вы должны будете неизбежно и постоянно проходить через кризисы.
Вот пример: ваше первое предложение — вы нашли «ход», вы двинулись. Сначала надо исключить все, что не является в этом «ходе» необходимым, затем то же самое реконструировать более компактным образом. Вы пройдете через фазы работы, лишенные жизненной силы, фазы «без жизни». Это своего рода кризис, «фаза тоски». Вам придется решить множество технических проблем: например, монтаж, как в фильме. Вам необходимо реконструировать и восстановить в памяти первое предложение (линия мелких физических действий), но исключив при этом все те действия, которые не являются абсолютно необходимыми. Вы должны, таким образом, произвести купюры, а потом суметь объединить разрозненные фрагменты. К примеру, вы можете применить следующий принцип: линия физических действий — стоп — исключение одного фрагмента — стоп — линия физических действий. Как в фильме, эпизод в движении останавливается на каком-то фиксированном образе-«картинке» — вырезка — другой фиксированный образ отмечает начало нового эпизода в движении. И вот что вам в результате дано: физическое действие — стоп — стоп — физическое действие.
Но что же делать с купюрой, с «дырой»? В первый «стоп» может встать некто, стоящий с поднятыми руками, а во второй «стоп» — сидящий с опущенными руками. Одно из решений, таким образом, заключается в том, чтобы осуществить переход от одной позиции к другой в виде технической демонстрации ловкости, умения игры в ловкость, вплоть до балетных па и акробатики. Но это лишь одна возможность среди многих. Во всех случаях на то, чтобы это воплотить, уходит много времени. Вам надо будет решить также и другую проблему: остановка не должна быть механической. В некотором роде она должна быть подобна замерзшему водопаду в горах, когда весь порыв движения в нем сохраняется, он в нем 233 по-прежнему есть, но — остановленный. То же самое касается и момента «стоп» в начале того или иного нового фрагмента действия: на этот раз действие, еще невидимое, уже должно содержаться внутри тела, иначе в работе будет что-то не в порядке.
Далее у вас возникает проблема неточности соотношения между звуком и зрительным образом. Если в момент, когда вы делали «вырезку», купюру, у вас была песня, должна ли песня быть вырезана или нет? Тут вы должны для себя решить: что для вас — поток, а что — корабль. Если песня — поток, а физические действия — корабль, тогда очевидно, что поток не может быть прерван: таким образом, песня не должна останавливаться, она должна моделировать физические действия. Чаще, однако, встречается обратное, оно же и более приемлемое: физические действия являются потоком и моделируют образ и манеру пения. Надо знать, что ищешь.
И все эти примеры по поводу монтажа касаются лишь одного-единственного фрагмента; а ведь существует еще проблема такого включения, когда вы берете фрагмент из другого места вашего замысла, чтобы вставить его между двумя остановками.
Как я уже ранее упоминал, такой тип работы проходит через моменты кризиса. Вы доходите до элементов, все более и более компактных. Затем вам надо все это полностью впитать вашим телом и найти органические реакции. Затем вам надо вернуться назад, к зерну, к самому началу вашей работы, и найти то, что с точки зрения той, первоначальной мотивировки требует некой новой реструктуризации целого. Таким образом, работа развивается не по принципу «по сторонам» и «по бокам», а осевым образом, и всегда — через фазы органичности, кризиса, органичности — и так далее. Скажем так: каждая фаза спонтанной жизни всегда сопровождается фазой технического «впитывания».
VII
Вот мы и столкнулись со всеми классическими проблемами «performing arts». К примеру: кто же тот человек, та личность, которая поет старую, архаичную песню? Ты ли это? Но если допустить, что звучит песня твоей прапрабабушки, то что же, и тогда это по-прежнему ты? Но если ты находишься в процессе постижения, исследования твоего предка импульсами твоего собственного тела, то в таком случае это уже не «ты», но это и не твоя «прапрабабушка, которая поет»; это — ты, исследующий твою поющую прапрабабушку. Но, быть может, ты, углубившись еще 234 дальше, достигнешь каких-то таких областей, каких-то таких времен (какие даже трудно себе представить!), где впервые кто-то пропел эту песню. Речь идет о подлинной традиционной песне, то есть песне анонимной. Мы привыкли говорить: архаичную песню сложил народ, народ ее и поет. Но среди этого народа был кто-то первый, кто-то, кто начал. У тебя есть песня; ты должен спросить себя: откуда, с чего эта песня началась? Может, это произошло в момент разжигания костра на вершине горы, где были овцы и кто-то их пас? И чтобы заставить огонь зажечься, кто-то начал многократно повторять какие-то первые слова? Это была еще не песня, это был лишь напев, как в мантре. Лишь первоначальный напев, но кто-то другой его повторил. Ты вглядываешься, вслушиваешься в свою песню, и ты спрашиваешь себя: где таится этот первоначальный напев? В каких словах? Могло случиться, что эти слова уже давно исчезли. Могло быть и так: этот «кто-то» искал совсем другие слова или другие фразы для песни, которую ты поешь; а могло быть и так, что какой-то другой человек развил этот напев, его первичное «зерно». Но если ты способен идти в этой песне вглубь, к первоначалу, то, значит, сейчас поет уже не твоя прапрабабушка, но кто-то еще более дальний, кто-то с твоей прародины, из твоей страны, из твоего села, из тех мест, где лежало твое село, поет кто-то из твоих родителей, из твоих прародителей. В самом способе пения заключено закодированное пространство. По-разному поют в горах и в долинах. В горах поют от одного возвышенного места в направлении к другому возвышенному месту, поэтому голос перебрасывается подобно дуге, арке, изгибу лука. Постепенно ты находишь этот первоначальный напев. Ты находишь пейзаж, огонь костра, сгрудившихся возле него овец; может, ты начинаешь петь оттого, что боишься одиночества? Искал ли ты других людей? Происходило ли это в горах? Если ты был в горах, то, наверное, и другие люди тоже были в горах?.. Так вот, кто же он был, тот человек, который пел? Был ли он стар, был ли он молод? В конце концов ты должен открыть для себя то, что ты откуда-то происходишь. Есть такое французское выражение: «Ты все же чей-нибудь да сын…» Ты не городской «маргинал» или босяк, ты происходишь из какой-то стороны света, из какой-то страны, из каких-то долин или гор, из какого-то земного ландшафта, из какой-то природы… Вокруг тебя были реальные люди, близко ли, далеко ли, но были… Это — ты, хотя прошло уже двести, триста, четыреста, тысяча лет, но это — ты. Потому что тот, кто начал напевать свои первые слова в своем первом напеве, был чей-то сын, сын каких-то краев, каких-то земель, и 235 поэтому, если ты это найдешь, ты — чей-то сын. Если же ты этого не найдешь — ты не сын никому, ты отрезан, стерилен, бесплоден.
VIII
Приведенный пример показывает, каким образом, исходя из одного маленького элемента — песни, — можно выйти на множество важных проблем: появления и принадлежности песни, напева; зарождения наших человеческих связей, нашей родовой линии. Все это появляется, проявляется, и вместе с этим появляются и проявляются классические вопросы нашей профессии. Что такое персонаж? Это — ты? То есть — тот, кто первым запел песню? Но если ты сын того, кто в первый раз запел эту песню, то тогда — да, ты на верном пути к персонажу. Ты принадлежишь многим, нескольким временам и многим, нескольким местностям. И дело вовсе не в том, чтобы играть роль кого-то, кем ты не являешься. Главное то, что во всей этой работе выявляется вертикальный аспект, все время устремленный к началу; все время и все больше к тому, чтобы «быть стоящим в начале». И когда в твоих руках уже не-дилетантизм, тогда встает проблема тебя — человека. Тебя — человека, себя открывающего.
Этот вопрос о человеке… Он — как огромные распахивающиеся врата: за тобой — твоя артистическая состоятельность, а впереди тебя — несколько таких вещей, которые требуют уже не технической компетентности, но твоего знания, ведения о тебе самом.
Гамлет, рассказывая Горацио о своем отце, мертвом короле, говорит: «Он человеком был… Ему подобных мне уже не встретить».
Вот он, подлинный вопрос: «Ты — человек?» И вот каков этот образ в Евангелии: по пути в Эммаус, в маленькое поселение, идут два ученика Иисуса — испуганные, отчаявшиеся. К ним присоединяется незнакомец. В крайнем волнении рассказывают они ему о потрясшем их событии, смерти Иисуса: «Произошло страшное событие, ты не слышал?» И они рассказывают ему всю ту историю. Какую историю они рассказывают? Мы знаем эту историю. Первые слова в этой истории (не в каноническом латинском переводе, а в греческой версии) звучали так: «Это был человек». Вот какие первые слова выбрали они, чтобы обрисовать своего героя. «Это был человек». Вот в чем заключен вопрос, встающий вслед за вопросом о не-дилетантизме: «Ты — человек?»
1985
236 PERFORMER76
Performer — с большой буквы — человек действия. А не тот человек, что играет другого человека. Он танцовщик, священнослужитель, воитель и воин, он вне разделения на роды и виды искусства. Ритуал — это performance, действие совершённое, акт. Выродившийся ритуал и есть зрелище. Я стремлюсь открывать не то, что ново, а то, что забыто. И настолько старо, что не удается тут обнаружить разделения на роды и виды искусства.
Я учитель Performer’а (употребляю единственное число: Performer’а). Учитель — как и в ремеслах — это тот, через кого обучение передается: обучение, конечно же, получить нужно, но сам факт, как именно практикант заново его для себя открывает и как в нем себя вспоминает, — этот факт может быть только личным. А каким образом сам учитель познал обучение? Путем посвящения или же похищения. Performer — состояние существования. Он человек познания: можно его видеть похожим на дона Хуана из повестей Кастанеды, если кому-то нравятся романтические мотивы. Я предпочитаю думать о Пьере де Комба. Или даже о том Дон Жуане, что описан у Ницше: бунтарь, перед которым познание встает как повинность и который должен им овладеть. Если даже другие его и не прокляли, все равно он себя чувствует чужаком, отщепенцем, чувствует аутсайдером. В индусском предании говорится о vratias (бунтовщических ордах). Vratia — некто, стоящий на пути к добыче познания. Человек познания распоряжается действием, деланием, doing, а не мыслями или теориями. Что делает для ученика настоящий учитель? Он говорит ему: сделай вот это. Ученик борется за то, чтобы понять, свести неизвестное к известному, чтобы избежать совершения действием. Силясь понять, он уже самим этим фактом сопротивляется, упирается. Он поймет, но только тогда, когда сделает это. Сделает или не сделает. Познание — проблема деяния.
УГРОЗА И ШАНС
Произнеся слово воитель, я снова, быть может, кому-то напомнил сочинения Кастанеды, но ведь все Священные Книги тоже 237 говорят о воителе, воине. Его можно найти и в индусских, и в негритянских преданиях. Воитель — человек, сознающий собственную смертность. Если надо принять на себя смертный бой, убивая, — он принимает его, но если нет нужды убивать, — убивать не станет. Среди индейцев принято говорить, что между сражениями сердце воителя-воина подобно нежному сердцу юной девушки. Он сражается ради познания, ибо пульсация жизни становится намного сильнее и намного отчетливее в минуты интенсивности угрозы, опасности. Угроза и шанс шествуют в паре. Невозможно достичь высокого класса иначе, как только перед лицом угрозы. Перед лицом вызова человеческие импульсы одаряются ритмом. Ритуал — время великой интенсивности; интенсивности, намеренно вызванной. Жизнь в такие моменты становится ритмом. Performer умеет связывать импульсы тела с песнью. (Поток жизни должен артикулироваться в формах.) Свидетели вступают тогда в состояние интенсивности, потому что — как они утверждают — чувствуют присутствие «чего-то». А все благодаря Performer’у, ставшему мостом между свидетелем и тем «чем-то». В этом смысле Performer — это pontifex: тот, кто наводит мосты.
Сущность: этимологически речь идет о естестве, о ест-естве. Меня потому и интересует сущность, что в ней нет ничего социологичного. Она то, что невозможно получить от других, то, что не извне приходит к нам, то, чего нельзя выучить. К примеру, совесть является чем-то, внутриположным сущности, и — чем-то, отличным от морального кодекса, принадлежащего к тому, что «общественно». Нарушив моральный кодекс, ощущаешь чувство вины: так в тебе подает голос «общественное». Совершив же поступок против совести, испытываешь муки совести, а это уже происходит между тобой и тобой, а не между тобой и обществом. Поскольку почти все, чем мы обладаем, является социологичным, сущность кажется вещью совсем невеликой, однако она — твоя. В 70-е годы в деревушках племени Кау в Судане еще можно было увидеть молодых воинов. У воина, обладающего полной органичностью, тело и сущность могут войти в состояние осмоса40*, и кажется, что их разделить невозможно. Но состояние это отнюдь не перманентное, и длится оно недолго. Оно являет собой, как сказал бы Дзэами, «цветение юности». Однако с годами можно перейти от тела-и-сущности к телу сущности. Происходит это 238 вследствие трудной эволюции, личностной перемены, которая, по сути, является заданием, встающим перед каждым из нас. Ключевой вопрос звучит так: каков процесс, идущий в тебе? верен ли ты своему процессу или ты борешься против него? Процесс — он как бы предназначение любого из нас, он как бы твое собственное предназначение, развивающееся во времени (или же только раскрученное в нем, не более). А значит: каково качество твоего повиновения собственному предназначению? Процесс можно уловить, если то, что мы делаем, находится в связи с нами самими, если в нас нет ненависти к тому, что мы делаем. Процесс связан с сущностью и — потенциально — ведет к телу сущности. В тот краткий период, когда еще возможен осмос тело-и-сущность, воин должен уловить свой процесс. Тело, приспособленное к процессу, уже не оказывает сопротивления, оно почти прозрачно. Все тогда легко, все имеет свою очевидность. У Performer’а performing может стать чем-то, очень близким процессу.
Я — Я
В очень старых текстах Писаний можно прочесть: «Нас двое. Птица — та, что клюет, и та птица, что смотрит. Одна умрет, одна останется жить». Опьяненные существованием во времени, озабоченные клеванием, мы забываем дать жить той части себя, которая смотрит. А значит, нам грозит существование только во времени и никоим образом — вне времени. Чувствование же себя под взглядом той, другой, части самого себя (той, что существует как бы вне времени) дает измерение совершенно иное. Существует Я — Я. Второе Я — квазивиртуально; оно не является в нас ни чьим-то сторонним глазом, ни осуждающим взглядом; оно — как неколебимый взор: немое присутствие, подобное солнцу, все освещает вокруг, но и только. Процесс любого из нас может совершиться лишь в контексте этого неколебимого присутствия. Я — Я: в практике, в опыте эта двойня, эта двоичность предстает не разделенной, а единой и полной.
На пути Performer’а сущность можно обнаружить во время ее осмоса с телом; затем ведется работа над процессом, развивающим Я — Я. Взгляд учителя иногда может воздействовать, служа как бы зеркалом для связи Я — Я (когда это соединение еще не прочерчено). Когда соединение Я — Я уже прочертилось, учитель может исчезнуть, а Performer продолжить движение к телу сущности. К тому телу сущности, что угадывается на фотографии 239 Гурджиева в старости (сидящего на скамейке, в Париже). От облика молодого воина из Кау до облика Гурджиева в старости лежит путь от тела-и-сущности до тела сущности. Я — Я не означает быть расчлененным, разъятым надвое, а означает быть удвоенным, быть «вдвойне». Дело заключается в том, чтобы в действии быть пассивным, а в видении — активным (в противоположность тому, что диктуют нам навыки). Пассивным — значит быть поглощающим, быть «емким». Активным — значит присутствовать. Чтобы питать жизнь Я — Я, Performer должен развивать не организм-массу (мускульный, атлетический организм), а организм-канал, путепроводный организм, через который Энергии проплывают. Performer должен работать на почве точных структур. Работать, прилагая большие усилия, потому что из выносливости, терпения и уважения к частностям слагается правило, позволяющее воплотить ощутимое присутствие Я — Я. То, что делается, должно быть точным. Don’t improvise, please!41*
Искомые действия должны быть простыми, учитывая, что их надо тщательно усвоить и что овладение ими должно быть устойчивым, прочным. Иначе это не простота, а банальность, общее место.
ЧТО Я ВСПОМИНАЮ
Одна из возможностей вступления на творческий путь основывается на открытии в себе давней телесности, с которой мы связаны сильной родовой связью. В такие моменты мы находимся и не в образе (в образотворении), и не в не-образе (в не-образотворении). Исходя из какой-то детали, из частности, можно открыть в себе другого: деда, мать. Фотография, воспоминание о морщинках, отдаленное эхо оттенка в звучании голоса позволяют воссоздать телесность. Сначала телесность кого-то, известного нам, а затем, двигаясь все дальше и дальше, телесность кого-то, кого мы никогда и не знали, — прадеда, праотца, предка. Воссоздать, но буквально ли ту же самую телесность? Может, и не буквально ту самую, но ведь все-таки ту, какой она могла быть. Ты можешь пойти так далеко вспять, в глубину, как будто в тебе пробуждается память. Это — явление реминисценции, как если бы мы припоминали (в) себе Performer’а — исполнителя очень давнего ритуала. Каждый раз, когда я что-либо открываю, у меня возникает такое чувство, как будто я что-то припоминаю. Открытия — они 240 находятся далеко позади нас, и надо проделать путь вспять, пройти дорогой назад, чтобы до них дотянуться.
Через пролом, через брешь и прорыв — как бы путем возвращения беженца, беглеца и скитальца — можно ли прикоснуться к тому, что уже связано не столько с началами, сколько, осмелюсь сказать, с самим и самым началом! Верю, что можно. Является ли сущность скрытым, потаенным фоном памяти? Я ничего об этом не знаю. Когда я веду работу вплотную, на предельном приближении к сущности, мне кажется, что память становится реальностью. Когда сущность воплощается в действие, то как бы воплощаются в действие очень сильные наши потенции. Реминисценция и есть, возможно, одна из таких потенций.
ВНУТРЕННИЙ ЧЕЛОВЕК
Цитирую42*: Между человеком внутренним и человеком внешним существует та же самая бесконечная разница, что и между небом и землей.
Когда пребывал я в моей первооснове, в первопричине моей, не было во мне Бога, я был причиной себя самого. Не спрашивал меня там никто, куда я стремился, что делал; не было там никого, чтобы спросить. Тем, чего я хотел, тем я и был, а тем, чем я был, — я хотел быть; я был свободен от Бога и от чего бы то ни было.
Когда изошел я (когда проистек я) оттуда, все сотворенное сущее говорило о Боге. Если бы кто-то меня спросил: Брат Экхарт, когда ты вышел из дома? — Я был там, и минуты еще не прошло; и был я там самим собой, там хотел я себя самого, и видел себя самого, как того, кто создал вот этого человека (такого, каков я тут, в юдоли земной). Вот почему я — не-рожден, и в моем состоянии не-рожденного я не могу умереть. То, что я представляю собой по рождению, — умрет, изничтожившись, ибо оно отдано времени и вместе со временем будет оно разлагаться. Но в рождении моем родились также и все создания, все тварные существа. И все они ощущают потребность подняться из их жизни — к их сущности.
241 Когда возвращаюсь я, тот пролом, тот прорыв стал намного более благородным, высоким, нежели был при моем исходе; «и устье мое прекраснее моего истока». В нем, в том прорыве, я — над тварными существами, я не Бог и не тварь. Я то, чем я был и чем должен остаться теперь и навек, чем пребуду во все времена. Когда я возвращаюсь, когда прибываю оттуда, никто не спрашивает меня, откуда я прихожу. Там я есмь то, чем я был, не расту я и не умаляюсь, ибо я сам и есмь та недвижимая первопричина, что движет всеми созданиями.
1987 – 1989
242 СТОЙКИЙ ПРИНЦ РИШАРДА ЧЕСЛЯКА77
Дорогие мои, я буду говорить с вами о чем-то очень личном, стараясь, однако, не жертвовать точностью.
Когда я думаю о Ришарде Чесляке, я думаю об актере творящем. Мне кажется, что он был самим воплощением актера творящего в том самом смысле, в каком великий поэт творит стихи, а великий Ван Гог творил картины.
О нем невозможно сказать, что он был кем-то, кто попросту играл порученные ему роли, создавая образы с заранее обусловленной структурой (по крайней мере, с литературной точки зрения), потому что, даже придерживаясь в точности литературного текста драмы, он создавал совершенно новое его качество. Понимание именно этого аспекта его работы имеет фундаментальное значение.
До Стойкого принца Ришард сыграл целую плеяду ролей. Одной из важнейших была роль Бенволио в «Трагической истории доктора Фауста» Марло: в ней он преображался в существо, становившееся по мере развития действия все более и более разрушающим, потому что — не было ему дано любви. Он не чувствовал себя любимым. Это было подобно извержению ненависти против всего света и против самого себя, извержению, происходившему от отсутствия, от «нехватки» любви — той любви, что мы надеемся и хотим получить. Персонаж, в пьесе Марло второстепенный, получал в спектакле особую весомость, и думаю, что с точки зрения актерской работы он был первым подлинным достижением Чесляка.
В Театре-Лаборатории его последней ролью был Темный в «Апокалипсисе». Вместе с этим спектаклем он стал знаменитым, его слава прошла по всему миру, больше всего он был прославлен в Америке. Но для меня особой и личной привязанностью была его работа над «Стойким принцем», а также то, что возникло между ним и мной в этой работе.
Случается, что симбиоз между так называемым режиссером и так называемым актером преодолевает все и всяческие препятствия техники, мировоззрения, общепринятых представлений; случается, 243 но исключительно редко. Тут этот симбиоз проникал в такие глубины, что порой трудно было понять, были ли мы с ним те два человеческих существа, что трудятся вместе, или же трудится кто-то один — но в двух лицах.
Над «Стойким принцем» мы работали годы и годы. Началось все в 1963 году. Официальная премьера состоялась спустя два года. Но в действительности работа длилась еще очень долго и после официальной премьеры, собственно говоря — все время, пока игрался спектакль. Большую часть этого времени наша работа проходила в полном уединении, никто другой не принимал в ней участия: ни остальные актеры нашей группы, ни зрители. Свидетелей не было.
Для постановки в Театре-Лаборатории мы выбрали не просто пьесу Кальдерона, но ее польский парафраз, написанный Юлиушем Словацким, великим польским поэтом первой половины XIX века, и во многом отличавшийся от текста Кальдерона, хотя сюжетные нити были сохранены. Во время войны Испании с маврами, в бою между христианами-испанцами и мусульманами-маврами, в плен захвачен наследный принц, христианин; он подвергается грубому насилию, бесконечным пыткам и мучениям, он должен быть сломлен. То есть по смыслу перед нами история мученика.
Работая над текстом, мы знали, что в спектакле должна появиться повествовательная структура — «повесть» о мученичестве.
Так оно впоследствии и произошло.
Несколько слов о том, как возникла запись «Стойкого принца» на киноленте43*. История очень поучительная. Как-то, кажется в 1965 году (и, кажется, это было в Скандинавии), мы разрешили радиожурналистам записать звуковую часть всего спектакля — разрешили потому, что радиооператоры и техники обещали установить скрытые микрофоны и произвести запись представления особо деликатным образом, нисколько не мешая нормальному течению спектакля.
Через несколько лет в Италии, а может быть в какой-то другой стране, где мы играли «Стойкого принца», какой-то неизвестный нам человек, пользуясь скрытой любительской кинокамерой, через отверстие под потолком в стене заснял полностью весь спектакль, но без звука, только его визуальную часть. Поскольку он все проделал тайком, мы так никогда и не узнали, кем он был и каким образом ему все это удалось. Картина спектакля оказалась 244 зафиксирована исключительно с одной точки в пространстве, к тому же неподвижной камерой, так что порой один актер заслоняет другого в поле зрения объектива. Этот документальный фильм (то есть подлинный документ спектакля) оказался в конце концов в Римском университете, и там решились смонтировать звук, записанный ранее, с той «пиратской» записью визуальной картины спектакля. Произошло это уже через несколько лет после того, как мы совсем перестали его играть. Хочу обратить ваше внимание на особенно важную деталь в этом факте: между временем записи звука спектакля и его кинозаписью прошло несколько лет. А между тем звук и образ, наложившись друг на друга, совпали синхронно. Целостный образ спектакля без труда восстановился. О чем это говорит? О том, что степень структуризации спектакля была почти абсолютной. В долгих монологах Чесляка особенно явственным становилось до какой степени все, что зрители когда-то воспринимали как импровизацию, было на самом деле точнейшей структурой.
Вместе с тем все было полностью подключено к источнику жизни. Жило.
А теперь о том, что составляло особенность Ришарда. Ни в коем случае нельзя было его «погонять». В нем было что-то от вырвавшегося на волю зверя, существа «природного», части природы. Когда он избавлялся от страха, от зажима, можно даже сказать — от чувства стыда перед тем, что будет увиден, он был в состоянии двигаться вперед безостановочно, и так — из месяца в месяц — в полнейшей открытости, в абсолютной свободе, «на воле», стряхнув с себя все, что нас сковывает в обычной жизни, а тем более в работе актера. Эта открытость несла в себе необычайно сильное чувство. Он хотел доверить себя. И когда он уже был в состоянии так работать, месяц за месяцем (и сам, и с режиссером), то потом был в состоянии так действовать и в присутствии партнеров, а позже и в присутствии зрителей, потому что уже входил в ту структуру, которая обеспечивала ему безопасность.
Почему же я думаю, что он был актером столь же великим, сколь в другой сфере искусства был велик Ван Гог? Потому что он был в состоянии установить единство между отдачей себя и — точностью. Овладев партитурой игры, он мог уже дальше придерживаться ее вплоть до малейшей детали. Вот она, точность.
Но было в его работе что-то таинственное и помимо той необычной точности; что-то, что, проявляясь в доверии, было с ним тесно связано. Отдача себя, и в этом смысле — принесение себя в жертву. Дар. Это был дар. Но это не было принесением себя 245 в дар зрителям. Потому что принесение себя в дар зрителям мы оба считали чуть ли не проституцией. Нет, это была отдача себя чему-то несравненно более высокому, тому, что нас превосходит, что существует над нами. А также, можно сказать, было даром, приносимым собственному труду, даром нам обоим.
Актеры, обладающие хоть частицей способности дара, возможностью даровать себя, отдавать себя, существуют — хотя и встречаются редко. Но из-за того, что они не умеют достичь настоящей точности и сурово ее соблюдать, они не умеют достичь настоящей структуры: они каждый раз «опадают», соскальзывая на элементарный уровень, подобно тому, как опадает на землю курица, пробующая взлететь. Тут попросту не хватает стартовой полосы — структуры. В свою очередь, существуют актеры, несомненно способные либо самостоятельно создать структуру, либо успешно овладеть ею, однако в ней, в такой структуре, не хватает тайны жизни: все превращается или в технику, или в продукт. Не хватает чего-то. И чрезвычайно редко удается стать свидетелями такого актерского действия, в котором дар и точность составляют нечто единое.
Поэтому я и прошу вас обратить внимание на тот факт, что в двух великих монологах Ришарда Чесляка из кинофильма «Стойкий принц» визуальная картина и звук разделены дистанцией в несколько лет: только таким путем вы сможете почти осязаемо измерить степень суровой точности его работы.
А теперь коснусь некоторых проблем, связанных с самой сущностью этой работы. Драма повествует о пытках, о боли, об агонии. Драма повествует о мученике, отказавшемся подчиниться неприемлемым для него законам. Таким образом, драма, а вместе с ней и вся постановка, как кажется зрителю, служат выражением очевидных страданий, тьмы и печали. Но в моей режиссерской работе с Ришардом мы ни разу даже не прикоснулись к тому, что можно было бы назвать темным, мрачным, печальным. Вся его роль целиком возникла на основе радостного воспоминания, на основе совершенно особенного момента в его жизни, глубоко личного, интимного факта, запечатленного в его памяти, относящегося к годам его ранней молодости, даже юности, когда он познал свое первое, огромное, высшее переживание в любви.
Все было связано с этим опытом-переживанием. А относилось оно к тому роду любви, что — как это случается только в юности — до краев наполнена чувственностью и всем, что телесно, но в то же время стоит за ней что-то совсем другое — то, что совсем не телесно или уж, во всяком случае, если оно и телесно, то совершенно 246 иначе: телесно молитвенно. Так, будто между двумя аспектами этой любви перекинулся мост — молитва страстей.
Вся работа была связана с тем переживанием, о котором мы никогда «на людях», в присутствии других не говорили. И даже то, о чем я сейчас рассказал, составляет лишь часть информации (думаю, что могу приоткрыть ее, ведь сам Ришард рассказывал об этом некоторым из своих студентов). Две вещи тут нужно заметить: да, все было телесно, но — не «на самом деле». Существует что-то, что проявляет себя подобно жизни, протекающей в теле — сквозь тело; но само тело служит лишь «взлетным полем», не более. Истинный взлет с физической телесностью не связан.
Поскольку о материи нашей работы мы никогда и ни с кем (в том числе и с другими актерами нашей труппы) не говорили, вокруг роли Чесляка возникло немало ошибочных толкований. Некоторые посчитали его труд «импровизацией». Но ничего подобного ни в спектаклях, ни в репетициях не было! Было возвращение к самым доподлинным, самым потаенным импульсам его прошлого переживания и потрясения, но не затем, чтобы их в себе попросту повторить, а затем, чтобы взлететь — к той давней и, казалось бы, уже невозможной молитве. Искались все, даже самые мельчайшие, импульсы, все то, что Станиславский назвал бы физическими действиями (даже если учесть, что его понимание относилось к другому жизненному контексту, выступающему в форме межчеловеческой социальной игры, а ведь в нашем случае было нечто совсем иное). Но даже тогда, когда все уже было и найдено, и обретено, оставалась подлинная тайна действий Ришарда. Этой подлинной тайной было освобождение: от страха самого себя, от стыда самого себя, выход из всего того круга и — вступление в огромное свободное пространство, где можно ничего не бояться и себя не скрывать.
Появились и другие толкования роли, столь же, впрочем, ошибочные, как и мнение об импровизации. Говорили, например, что спектакль был похож на балет (а режиссер выступал в роли хореографа), что режиссер сам придумал и выстроил для актера структуру физических действий, движений, жестов, ритма, а актер же всем этим сценарием овладел в совершенстве и выполнил его досконально. Это полнейшее недоразумение. В нашей работе с Чесляком никогда ничего похожего на хореографию не возникало. Партитура была точной, потому что партитура связывалась с точным и подлинным воспоминанием, с чем-то, что в жизни Ришарда-человека на самом деле произошло, с реальным переживанием.
247 Первым же шагом в этой работе был вот какой факт: Ришард полностью овладел текстом, словом. Выучив наизусть, он настолько впитал его, что мог произносить с любого места и в любой момент без малейшего колебания, не нуждаясь в поиске слов и при этом со всей точностью соблюдая его. И вот когда текст уже был им освоен полностью и целиком, мы создали такие условия, что он смог наслоить этот «ручей» слов, «ручей» текста на интенсивный поток воспоминаний: импульсов и действий, связанных с воспоминаниями — и взлететь вместе с ними так, как он взлетел тогда в своем первом переживании.
То впервые данное ему в юности переживание, его личное, человеческое переживание, было не просто светлым; оно все было пронизано неописуемой лучистостью. И вот из этой светлой лучистости, путем монтажа с поэтическим текстом Кальдерона — Словацкого, из Христовой набедренной повязки на теле Ришарда, из образности композиций, созданных остальными актерами, действовавшими вокруг Стойкого принца — а эти композиции также рождали ассоциации с крестной мукой Христа, — в восприятии зрителя возникала история мученика. На самом же деле страдания и мучения отнюдь не служили исходным пунктом в нашей работе с Ришардом. Напротив.
В том-то и дело, что движение личных ассоциаций, волнующих актера, может принимать свое собственное, совершенно особенное направление, а логика событий, возникающая в восприятии зрителя, — свое собственное, и порой совершенно иное. Однако между этими двумя достаточно разными качествами должна существовать реальная связь, что-то вроде глубокого общего корня, пусть даже и совершенно скрытого. Иначе все может стать произвольным, случайным. В работе с Чесляком над Стойким принцем такой корень был. Его «завязь» возникла еще до начала репетиций из чтения «Духовной песни» Св. Хуана де ла Крус, а его песнь, в свою очередь, связана с библейской традицией «Песни Песней». В потаенной связи, объединяющей их, отношения между душой и Истинным или, если хотите, — между человеком и Богом являются отношениями между Возлюбленной и Возлюбленным.
Вот это, можно сказать, и вернуло Ришарда к давнему и настолько уникальному воспоминанию о пережитом опыте любви, что оно само было подобно молитве — молитве страстей.
Прошли многие месяцы уединенной работы, прежде чем линия действий Ришарда стала наконец для него безопасной, получила свою полноту. Только после этого мы начали репетиции с 248 привлечением других участников нашей труппы, и вот только тогда встретились впервые в работе он и его коллеги-актеры, только тогда.
В первый период таких репетиций Чесляк пока еще полностью не вступал в поток собственной партитуры. Окруженный партнерами, он только чуть-чуть касался мотивов, возможных или необходимых его партнерам в их действиях, я бы сказал, слегка намечал эти мотивы и стимулы. Во время этих первых репетиций, проходивших вместе с другими актерами, Ришард как бы затормозил свой процесс, он даже пробовал идти по линии партитуры чуть ли не чисто технически, произнося текст потихоньку, деликатно и лишь слегка, едва уловимо прикасаясь к действиям и интонациям других актеров. У него могли появляться и свои наброски ситуации, но в полный процесс он не входил. Таков был, пожалуй, самый верный путь, и мы вместе с ним оговорили его: привыкнуть к партнерам и не чувствовать себя ими связанным. В тот период я систематически работал с другими актерами группы над партитурами их ролей (в присутствии Ришарда или без него), выстраивая композиции из таких визуальных и звуковых намеков-аллюзий, которые могли бы — путем импульсов, атакующих восприятие зрителя, — создать сюжетную линию «Стойкого принца». Позже, в последовательной череде репетиций такого рода, Ришард начал входить в свой процесс — тогда, когда его партнеры уже нашли свои собственные структуры действия в спектакле. Так что, по сути дела, работа шла как бы с двумя группами, причем одну «группу» составлял только один человек, Ришард, а вторую группу — его коллеги из Театра-Лаборатории. Постепенно наступили встреча и объединение обеих групп. Как видите, для того, чтобы подойти к этой встрече, Ришарду было необходимо какое-то время.
Надо было дать ему это время; его нельзя было торопить, понукать и, не дай бог, — испугать; от него можно было требовать всего, чего угодно, только не спешки. И действительно, могу признаться, я требовал от него именно «всего», требовал порой отваги и смелости в известном смысле нечеловеческой, но я никогда не требовал от него результата, а тем более результата каких-либо «эффектов производства». Сколько времени нужно было ему для работы? Пять месяцев? Он их получал. Еще десять месяцев? Никаких возражений. Еще пятнадцать месяцев? Прекрасно. Вот так мы и работали, медленно, неспешно. В таком симбиозе возникало очень важное для Ришарда всеохватывающее ощущение безопасности: не было страха, и было видно, что раз 249 нет страха, то «и невозможное возможно»… Но зато и он сам ни разу не солгал, ни разу не «изобразил» чего-то, чего на самом деле не было, потому что ни разу не встала перед ним такая необходимость.
Можно заметить по фильму, как под конец, после всех уже отзвучавших монологов, у исполнителя появляется очень своеобразная реакция (что-то вроде судороги ног); ее источник лежал в области pleksus’а («солнечного сплетения»). Мы никогда в работе не искали ничего подобного, это никогда не подразумевалось как часть партитуры, как результат действий. Это была реакция психофизическая, автономная, связанная не только с работой тела, но и со всей нервной системой организма. Впечатление же, которое возникало, было впечатлением органичного состояния, состояния явственного. Потому что акт актера был подлинным. Таким же было мнение и психиатра, видевшего спектакль и анализировавшего его: «Вы достигли того, — сказал он, — что мне всегда казалось невозможным: акт актера здесь подлинный». Могу сказать, что в каждом спектакле повторялись некоторые симптомы этой реакции, даже если мы их и не искали, — поскольку каждый раз в движение приходили определенные энергетические центры. Почему же они приходили в движение? Для Чесляка, также как и для меня, было совершенно немыслимым делом вообразить даже на минуту, что можно «изображать» нечто подобное. Его дар мог быть только подлинным — и так каждый раз. Сотни раз, если считать только репетиции, сотни и сотни спектаклей — но его акт был подлинным каждый раз.
Вот почему я сказал, что то, чем обладал Чесляк, было не просто acting в привычном значении этого английского слова. Все было иначе, и суть была иной. Все было другое, а вместе с тем в этом и заключается наивысший смысл искусства, быть может, его зерно, сама его субстанция. И вновь и вновь я повторяю: нечто подобное становится возможным только при условии соединения в каждом случае строгой структуры и дара.
Стоит ли сегодня показывать кинофильм с записью упражнений Ришарда Чесляка? Сомневаюсь. Зритель, просмотрев кинозапись, мог бы подумать, что упражнения — а Ришард был в них превосходным и исполнителем, и инструктором — являлись основой, базой его творчества. А между тем это было не так. Должен сказать, что абсолютно не верю в то, что упражнения могут привести к творческому акту. Упражнения подобны чистке зубов: они нужны для того, чтобы «промыть аппарат», прочистить машину, но не они открывают дорогу к взлету.
250 Но все же я хотел бы показать вам финальный монолог Чесляка, заснятый на другой киноленте. В свое время мы согласились предоставить норвежскому телевидению в Осло в порядке исключения и при условии полных гарантий «охраны труда» для Ришарда (скрытая камера, невидимые операторы) возможность заснять во время спектакля короткий фрагмент его финального монолога. Но позже пришлось от демонстрации этого фрагмента отказаться, так как лента в самом конце оборвалась: не хватало почти минуты проекции. Лента исчезла в архивах (а должен заметить, что этот фильм был снят намного более профессионально, чем «пиратский»). Прошли годы, и недавно лента неожиданно обнаружилась.
В конце монолога вы услышите аплодисменты. Но это не аплодисменты зрителей — зрители никогда не аплодировали на наших спектаклях, даже в конце. Это мучители Дона Фернандо бьют в ладоши в минуты его агонии. Возможно, у вас возникнет вопрос: каким же образом ассоциации, относящиеся к самому светлому воспоминанию в жизни Ришарда, могли соотноситься с тем эпизодом и с той минутой в финале, когда он отчаянно сам себя бьет по лицу?
Так вот, эта деталь была внесена позже, в самый последний период репетиций. Все, что в действиях Ришарда было связано с ситуацией мученика, было внесено в последний период коллективных репетиций. Тайна его работы была в монологах. А монтаж добавленных (и дополняющих) действий с действиями всех других участников спектакля, с их костюмами и текстом, пробуждал в зрителе ассоциации с мукой мученической. В последний период репетиций дополнения подобного рода уже не представляли собой опасности. Актер Чесляк находился уже в потоке, «в струе» сил настолько свободных, что мог в ту же минуту включить посторонний для его базовой партитуры элемент, если это не нарушало действий, связанных с тем особенным, небывалым по силе юношеским воспоминанием — с его взлетом в потоке этих воспоминаний-монологов. В потоке того, что мы монологами называли.
1990
251 ОТ ТЕАТРАЛЬНОЙ ТРУППЫ К ИСКУССТВУ-ПРОВОДНИКУ78
I
Говоря о театральной труппе, театральном коллективе, я подразумеваю ту или иную долгосрочную работу одной группы. С концепциями авангарда все это никоим образом не связано. Речь идет об основной базе профессионального театра нашего времени, чье начало относится к концу прошлого века. Скажу, что человеком, развившим понятие театрального коллектива, театрального ансамбля как основы профессиональной работы, был Станиславский. Думаю, что начать со Станиславского вполне уместно, поскольку, независимо от того, какой бы ни была наша эстетическая ориентация в области театра, все мы так или иначе сознаем, кем был Станиславский. Станиславский не занимался ни экспериментальным, ни авангардным театром; он вел систематическую и необычайно солидную работу над ремеслом.
А что существовало до труппы, до коллектива? В Европе, особенно в Средней и Восточной Европе, в XIX веке существовали и играли в числе прочих актерские семьи. В такой семье, к примеру, отец и мать были актерами, а старый дядюшка — режиссером, хоть его роль на деле ограничивалась такими указаниями актерам: «войдешь вон в те двери и сядешь вот на тот стул»; кроме того, когда было нужно, он заботился о деталях костюмов и реквизите. Внук также вырастал актером, а если женился, то жена его становилась актрисой. Порой приезжал кто-нибудь из друзей и тоже присоединялся к актерской семье.
В такой труппе репетициям новой пьесы отводилось весьма ограниченное время, примерно пять дней, а готовый спектакль игрался всего лишь несколько дней подряд. Тогдашние актеры развивали небывалую память. Текст они выучивали невероятно быстро, за пару дней уже знали все наизусть. Но порой терялись; отсюда и возникла потребность в суфлере.
Оглядываясь на то далекое время, я думаю, что труд этих людей был не так уж и плох. Хотя они не были в состоянии проработать все детали и подробности, они все-таки знали, что эти детали, эти подробности должны возникнуть в спектакле. Во-первых, они хорошо понимали ту драматическую ситуацию, которая 252 должна была проявиться на сцене, но, главное, они оказывались лицом к лицу с подлинной необходимостью тем или иным способом быть живыми в своем сценическом поведении. С этой точки зрения, я считаю: то, что они делали, намного лучше того, что делается сейчас, когда репетиции проходят в течение четырех-пяти недель. Потому что четыре-пять недель слишком мало, чтобы создать настоящую партитуру игры, и слишком много, чтобы сделать попытку уловить жизнь исключительно в импровизации.
Каково же время, необходимое для репетиций?
Смотря по обстоятельствам. Станиславский нередко проводил репетиции в течение года и даже до того дошел, что работал над одной вещью почти три года. Брехт также работал долгими периодами. Однако существует что-то, что можно назвать средним временем репетиций. Например, в Польше в 50-е годы нормальный срок репетиций равнялся трем месяцам. Для молодых режиссеров, готовящих свою первую или вторую премьеру, такая необходимость поспеть к определенной дате, скажем через два с половиной месяца, может оказаться полезной, иначе они могут забуксовать и попусту растранжирить время. Ведь стоя на пороге самостоятельной работы, они переполнены материалом, скопившимся в предшествующей жизни, но материалом, пока еще не направленным в определенное русло их спектаклей.
С другой стороны, некоторые так называемые опытные режиссеры признаются, что к концу означенного четырехнедельного периода уже не знают, чем заняться. Вот и проблема. Нет знаний о том, чем же все-таки является работа с актером и работа над постановкой. Если кому-то хочется получить в течение месяца те же результаты, какие актерские семьи давным-давно получали за пять дней, то совершенно логично, что, начав репетицию, через месяц не знаешь, над чем дальше работать. Репетиции становятся все более и более «проходными». В чем же причина? В коммерциализации. Театральные ансамбли исчезают, уступая место индустрии зрелищ. Особенно в Соединенных Штатах, впрочем и в Европе тоже, создается чем дальше, тем больше специальных контор по найму: привлекаются режиссеры, а они в свою очередь набирают среди десятков и сотен актеров группу для постановки запланированной пьесы, и начинаются репетиции в несколько недель. Что же все это означает?
С экологической точки зрения это все равно, что вырубать лес, не производя посадок молодняка. У актеров нет возможности добиться хоть чего-то, что можно было бы счесть своим открытием — и художественным, и личным. Они этого попросту не могут 253 сделать. А значит, чтобы как-то одолеть ситуацию, они вынуждены использовать то, что уже знают и умеют делать, то, что уже принесло им успех. Это, однако, противоречит самому понятию творчества, потому что творчество есть открытие того, что неведомо. Вот тут и лежит ключевая причина, по которой нужны театральные труппы. Они дают возможность повторения и обновления художественного открытия. В работе театральной труппы надо искать определенную протяженность; на протяжении каждой очередной пьесы, в пространстве долгого времени, при возможности перехода от одного типа роли к другому актеры должны иметь время на поиск. И тогда это будет не вырубка леса, а насаждение зерен креативности, творческой созидательности. Вот это и начал Станиславский.
Сообразно с природными законами, творческая жизнь театральной труппы или коллектива длится недолго. Десять, может быть, четырнадцать лет, не более. Если дольше, то коллектив неизбежно высыхает, разве что сумеет реорганизоваться и напитаться новыми силами, иначе — смерть. Но театральная труппа — не самоцель. Если такой коллектив превратился в «теплое местечко», он начинает действовать по инерции; и тогда уж не будет иметь никакого значения, есть ли у него творческие достижения или их нет. Все сложится на манер бюрократической конторы: дело будет тянуться, тянуться и в какой-то момент увязнет. Вот где кроется опасность.
II
В университетах Соединенных Штатов существуют сотни театральных факультетов; некоторые из них весьма обширны. И почти на каждом из этих факультетов людей обучают Станиславскому. Множество преподавателей работает здесь от имени Станиславского, выискивая соразмерный себе набор предписаний и утверждая, что они-то как раз и являются «продолжателями» его принципов. Вот мы и стоим перед абсурдом. Как можно два-три года изучать Станиславского, а готовить премьеру за четыре недели (как делается на этих факультетах)? Станиславский никогда не согласился бы на это. Кратчайший период работы над одним спектаклем достигал у него нескольких месяцев; премьеру же выпускали только тогда, когда коллектив, работавший над спектаклем, был готов к этому.
Для театров, существующих вне университетского круга, можно найти некоторое оправдание: нет денег. Но на всех театральных 254 факультетах денег как раз вполне достаточно, и более того — достаточно времени, можно работать четыре месяца, можно девять, можно год, времени хватает. Театральные факультеты в качестве актеров располагают студентами отделения драматического искусства (то есть им не надо платить). А значит, можно проводить репетиции как угодно долго, столько, сколько нужно. Но никто таких репетиций не проводит.
В пределах учебных программ североамериканских театральных факультетов существует прекрасная возможность: создать нечто, способное функционировать как театральная труппа, — и не ради политических игр или философических упражнений, а из профессиональных соображений. Не транжирить зря время с каждой новой пьесой, претендуя на великие открытия, а самым обычным образом попросту искать, какие же тут заложены профессиональные возможности и каким образом можно раздвинуть их границы; как двинуться вперед. Кончив один спектакль, быть уже готовым к следующему. В 1964 году в Театре-Лаборатории мы подготовили спектакль «Гамлет», который критика посчитала нашим провалом. Однако для меня этот спектакль провалом не был. Для меня он был подготовкой к весьма существенной работе, и в результате спустя несколько лет я сделал «Апокалипсис». Но чтобы до него дойти, нужны были те же самые люди, что в «Гамлете», та же труппа. Первый шаг («Гамлет») оказался неполным. Спектакль не был плох, но он не воплотился до конца. Однако же он был близок к открытиям чрезвычайно существенных возможностей. Позже, работая уже над другим произведением, мы смогли сделать следующий шаг. Есть множество моментов, связанных с профессиональным ремеслом и требующих долговременной работы. А это возможно только тогда, когда существует актерский коллектив, труппа.
Если работа ведется под прикрытием авторитета Станиславского и от его имени, то начинать надо с того минимума, какого он сам требовал: достаточное время для репетиций, выработка партитуры роли и работа в ансамбле. Или же надо вернуться к модели актерской семьи давних времен и ставить пьесы за пять дней. Все лучше, пожалуй, чем ваши жалкие четыре недели.
III
Перехожу к следующей теме. В performing arts44* существует целая цепь, состоящая из множества разных звеньев. В театре имеется звено 255 видимое — представление и звенья почти невидимые — репетиции. Репетиции это не только подготовка к премьере; репетиции — территория открытий: здесь происходит «открывание» нас самих, наших возможностей; это поле преодоления наших границ, наших пределов. Репетиции — это великое приключение, если работать серьезно. Возьмем, к примеру, такую важную книжку, как «Станиславский на репетиции», написанную Топорковым. Там мы видим, что самые интересные вещи происходили во время репетиций «Тартюфа», когда Станиславский даже не помышлял о создании из него спектакля для зрителя. Работа над текстом пьесы была для него работой только внутренней, предназначенной актерам, к которым он относился как к будущим мастерам исполнительского искусства или будущим режиссерам. Вот он и показывал им, в чем же заключается великое приключение репетиций.
Флеминг искал вовсе не пенициллин; он и его сотрудники искали что-то совсем другое. Но его поиск был систематичен, и появился пенициллин. Нечто подобное можно сказать и о репетициях. Мы ищем что-то, о чем имеем только первоначальное представление, некую концепцию. Если мы ищем что-то интенсивно и добросовестно, то, кто знает, может, именно этого мы и не найдем, но появится что-то другое, и оно-то и придаст совершенно иное направление всей работе. Такая ситуация, помню, сложилась в Театре-Лаборатории перед «Апокалипсисом», когда мы начали работу над «Самуэлем Зборовским» Словацкого и, не отдавая себе в том отчета, в процессе репетиций изменили направление поисков. Сначала появились какие-то элементы в самом «Самуэле»; они были интересны, полны жизни. Но они не слишком-то вязались с пьесой. Как режиссер я их принял: они были по-настоящему живые. Я не искал, каким образом их можно включить в структуру запланированного спектакля, а скорее наблюдал за тем, что может случиться, если мы станем их развивать. Прошло какое-то время, и, все более углубляясь, мы стали намного точнее. Продолжая работу, мы пришли к Достоевскому, пришли к тексту «Великого Инквизитора». И в конечном итоге из всего этого появился «Апокалипсис». Появился на полпути, в середине, можно сказать, совершенно другой пьесы; я бы даже сказал — в сердцевине наших репетиций, в их зерне.
Таким образом, репетиции — что-то совершенно особенное. Присутствует на них единственный зритель — тот, кого я называю профессиональным зрителем, — режиссер. Существуют репетиции к спектаклю и репетиции не совсем к спектаклю; они-то и нацелены в гораздо большей степени на раскрытие возможностей актеров.
256 Мы уже говорили о трех звеньях очень длинной цепи: звено-спектакль, звено-репетиция к спектаклю и звено-репетиция не совсем к спектаклю… Это один конец цепи; а на другом конце цепи находится что-то очень давнее и, по существу, неизвестное в нашей современной культуре: Искусство как проводник — термин, предложенный Питером Бруком для определения нынешнего этапа моей работы. Обычно в театре (то есть в Театре Спектаклей, в Искусстве как представлении) работа ведется над тем образом произведения, что должен возникнуть в восприятии зрителя. Если все элементы спектакля проработаны и безошибочно смонтированы (монтаж), в восприятии зрителя появится результат, некий образ, некая история; в какой-то мере представление возникает не на сцене — оно возникает в восприятии зрителя. Такова особенность Искусства как представления. На другом конце длинной цепи performing arts находится Искусство как проводник; оно не пытается создать монтаж в восприятии зрителей, а пытается создать его в тех артистах, которые творят это искусство. Такое явление существовало уже в далеком прошлом, в мистериях античности.
IV
В моей жизни я прошел через разные этапы работы. В Театре Спектаклей (Искусство как представление) — а я считаю его очень важным, необычным этапом, давшим результаты долгосрочного характера, — я дошел до определенного пункта, в котором создание новых спектаклей перестало меня интересовать.
Тогда я оставил работу в качестве конструктора спектаклей, но продолжал ее, сосредоточившись на познании дальнейшей протяженности цепи, дальнейших ее звеньев, следующих после таких звеньев, как спектакли и репетиции. Так возник паратеатр или Театр Соучастия (то есть с действенным участием людей, пришедших извне). То был праздник совершенно особого свойства: он был связан с полным взаимным «разоружением». Достичь этого в высшей степени трудно. Какие из всего этого следовали выводы? В первые годы, когда вместе со мной углубленно, долгими месяцами работала малая группа и когда впоследствии к ним извне присоединялись лишь немногочисленные новые участники, случались вещи, граничившие с чудом. Однако позднее, когда мы работали с уже бóльшим количеством людей или когда основная группа ранее не прошла через длительный период существенной и отважной подготовки, оказывалось, что функционировали лишь некоторые элементы; целое же достаточно легко впадало в 257 некое подобие эмоционального «меланжа», теплого «компотика» в отношениях между людьми, то есть в неточность и неопределенность, и в конечном итоге все кончалось попыткой гальванизации происходящего, то есть попыткой оживления неживого. Из паратеатра в качестве звена, следующего после него, родился Театр Истоков, в котором нас привлекали поиски самих источников различных традиционных техник; нас интересовало то, «что предшествовало различиям»; и все же, откровенно говоря, кое-что в этих поисках было почти любительским.
Теперешняя работа, которую я считаю для себя завершающей, считаю конечным пунктом моих исканий, это Искусство как проводник. Я очертил долгую траекторию на моем пути — сквозь всю длину цепи performing arts, как бы стартуя от Искусства как представления и приземляясь на «полосе» Искусства как проводника (что, в свою очередь, так или иначе было связано с кругом моих очень давних интересов). Паратеатр и Театр Истоков оказались на линии перелета. Паратеатр позволил проверить самую сущность готовности к отваге: решающую готовность самораскрытия, готовность не скрывать себя ни в чем. Однако моя теперешняя работа не является Театром Соучастия; в ней нет никакого действенного участия людей со стороны. Единственно, что позволил Театр Истоков: увидеть возможности. Но стало ясным, что мы не сумеем осуществить эти возможности, если не перейдем с уровня «impromptu»45*, связанного со своего рода любительщиной, на уровень работы над деталями, подробностями. Не порывая с тем особым голодом познания, который лежал у основ Театра Истоков, Искусство как проводник стремится к деятельности совершенно иного рода: к работе, сосредоточенной на дисциплине и тщательности проработки, на подробностях и деталях, на той предельной точности, которую, безусловно, можно сравнить со спектаклями Театра-Лаборатории. Однако — внимание! Здесь мы на повороте, но не в сторону Искусства как представления; здесь — иной конец той же самой цепи.
V
Уточню с этой точки зрения кое-какие вещи, касающиеся деятельности моей Мастерской в Понтедере, в Италии.
Один полюс работы в Центре посвящен инструктажу (в смысле перманентного воспитания) в области песни, дикции, текста, 258 физических действий (аналогичных тем, что были у Станиславского), «пластических» и «физических» упражнений для актеров.
Другой полюс работы охватывает то, что стремится в направлении к Искусству-проводнику. Все, что я скажу далее, будет посвящено этому направлению исканий; надо во все это вникнуть, потому что здесь мы сталкиваемся с кое-какими неизвестными явлениями или, скажем так, явлениями, забытыми в современном мире.
Можно сказать: «Искусство как проводник», или же «объективность ритуала», или, наконец, «Ритуальные искусства». Когда я говорю о ритуале, я имею в виду не какую-то церемонию, не какие-то празднества, не тем более какие-то импровизационные «действа» с участием людей посторонних, людей, пришедших извне. Я говорю не о каком-либо подобии «синтеза» различных ритуальных форм, ведущих свою родословную из самых различных мест земного шара. Ссылаясь на ритуал, я говорю о его объективности; а это значит, что элементы Действия (Акции) служат здесь инструментами работы над телом, сердцем и мыслью действующих людей.
С точки зрения технических элементов в Искусстве-проводнике все существует почти как в театральном искусстве: мы работаем над песнями, импульсами, формами движения; могут даже возникнуть повествовательные мотивы. Но сводится все к строго необходимому — вплоть до создания структуры, столь же точной и законченной, как и структура в спектакле-Действии (Акции).
Следовательно, можно поставить вопрос: в чем разница между объективностью ритуала и спектаклем? Не заключается ли она, случайно, единственно в том, что сюда попросту не приглашаются зрители?
Вполне закономерный вопрос, потому я и хочу привести несколько примеров, объясняющих разницу между спектаклем и Искусством-проводником.
Кроме всего прочего разница заключается в том, что я называю «жилищем», средоточием (а может быть, «гнездовьем») монтажа.
В спектакле «жилище» монтажа находится в зрителе; в Искусстве-проводнике «обиталище», «гнездовье» монтажа находится в действующих людях, в самих артистах.
Хочу привести пример «гнездовья» монтажа, находящегося в зрителе: Стойкий принц Ришарда Чесляка в Театре-Лаборатории. Приглядимся к нему. Прежде чем Чесляк встретился в работе над ролью со своими партнерами, он очень долгое время работал только со мной. Ничто в его работе не было связано с той темой 259 мученичества, которая в пьесе Кальдерона — Словацкого составляет сущность роли. Весь поток жизни в актере был связан с воспоминанием о счастье и с теми действиями, что относились к тому конкретному воспоминанию из его жизни, с действиями мельчайшими, с физическими и голосовыми импульсами того далекого, вспоминаемого им мгновения. В его жизни этот момент длился, вероятно, недолго — скажем, тридцать-сорок минут — время любви, воспоминание ранней молодости, связанное с той ничейной землей между чувственностью и молитвой. Момент, о котором я говорю, был, следовательно, свободен от какой бы то ни было мрачной окраски. Все было так, как если бы тот, припомнившийся ему юнец высвобождался своим телом из-под власти самого тела, как бы высвобождался — шаг за шагом — от тяжести тела, от какой бы то ни было боли. Посредством множества деталей, мелких импульсов и действий, связанных с тем давним моментом его жизни, актер отыскал поток жизни в тексте Кальдерона — Словацкого.
Однако содержание литературного произведения, логика текста, другие персонажи, структура спектакля вокруг героя и в соотношении с ним, а также повествовательные элементы — все это настойчиво внушало впечатление, что он был узником и мучеником, которого пытаются сломить и который продолжает держаться до самого конца лишь верностью собственной правде. И в этой агонии мученичества достигает высочайшей вершины.
Такой была эта история для зрителя, но не такой — для актера. Окружавшие его персонажи, одетые в плащи военных прокуроров, вызывали ассоциации с Польшей тех лет (спектакль создавался в 1965 году). Но, конечно же, не тут лежал ключ к происходящему. Фундаментом монтажа было то повествование (вокруг актера, играющего Стойкого принца), которое и сотворяло историю мученика: мизансцены, структура литературного текста и, что, безусловно, было важнейшим, действия других актеров, имевших собственные мотивы поведения. Никто не пытался играть, к примеру, военного прокурора; каждый проигрывал сложности собственной жизни, точно вылепленные и впаянные в форму той истории, что мы взяли за основу, «по мотивам Кальдерона — Словацкого».
Так вот, где же возник спектакль?
В определенном смысле целое (монтаж) возникло не на сцене, а в восприятии зрителя. «Жилищем» монтажа было восприятие зрителя. То, что зритель воспринимал, было искомым монтажом, а то, что делали актеры, — это иная история.
260 Создание монтажа в восприятии зрителя является задачей не актера, а режиссера. Актер скорее должен искать высвобождения из-под гнета зависимости от зрителя, если он не хочет потерять в себе, скажем так, само зерно творения. Создание монтажа в восприятии зрителя — обязанность режиссера и один из важнейших элементов его ремесла.
Как режиссер я намеренно стремился создать в «Стойком принце» монтаж именно такого типа, создать его таким образом, чтобы большинство зрителей «прониклось» тем же самым монтажом: историей мученика, узника, окруженного преследователями, пытающимися его сломить, но в то же время завороженными им. Все это было создано почти математическим способом для того, чтобы монтаж функционировал и воплощался в восприятии зрителя.
Когда я говорю об Искусстве-проводнике, я имею в виду монтаж, «обиталище» которого находится не в восприятии зрителя, а в том, кто действует. И дело вовсе не в том, чтобы участники действия согласовали между собой, каким будет общий монтаж; и не в том, чтобы они приняли некое общее, единое для всех определение их действий. Нет никакого вербального договора, никакой словесной дефиниции; исключительно посредством действий и только действий нужно открыть, как — шаг за шагом — приближаться к содержанию, которое и будет общим. В этом случае «обиталище» монтажа заключено в самих действующих людях.
Можно прибегнуть и к другому языку, дать другое название: подъемник. Спектакль — что-то вроде большого лифта-подъемника, оператором которого является актер. В подъемнике находятся зрители; спектакль везет их от одной формы сценических событий к другой. Если этот подъемник функционален для зрителей, значит, монтаж сработан хорошо.
Искусство как проводник подобно подъемнику архаичного свойства, первобытному подъемнику, напоминающему по форме корзину на веревке, с помощью которой люди, включенные в действие, поднимаются к уровням более утонченной энергии, чтобы затем вместе с ней спуститься в глубины нашего инстинктивного тела. Это и есть объективность ритуала.
Когда функционирует Искусство как проводник, тогда и существует эта объективность, и «корзина» движется для тех, кто совершает Действие, Акцию.
Различные элементы работы аналогичны во всех performing arts. Но именно в разнице между «подъемниками» (один — для зрителей, а другой, первобытный, — для действующих в Акции), а тем самым также и в разнице между монтажом в восприятии зрителя 261 и монтажом в действующих артистах — и кроется различие между Искусством как представлением и Искусством как проводником.
В Искусстве-проводнике результатом является impact46* — касающееся того, кто действует. Но результат не выражает содержания; содержание заключено в переходе от тяжести к утонченности. И всегда через детали простые, но очень точные.
Рисуя образ первобытного подъемника, говоря о нем и об Искусстве-проводнике, я пользуюсь понятием вертикали; можно видеть эту вертикаль и в категориях энергетических: энергии тяжелые, но органические (связанные с силами жизни, с инстинктами, с чувственностью) и энергии иные, более утонченные. Дело вовсе не в том, чтобы просто изменить уровень, а в том, чтобы поднимать плотное к тонкому, и в том, чтобы вновь свести тонкое к реальности более обыденной, связанной с «плотностью», «тяжестью» тела. Это подобно попытке войти в higher connection47*.
Речь идет не о том, чтобы отречься от части нашей природы; все должно быть на своем естественном месте: тело, сердце, голова, и то, что находится «у нас под ногами», и то, что находится «над нами, над головой». Все — будто вертикальная линия, и эта вертикаль должна быть растянута между органичностью и the awareness. Awareness означает сознание, которое связано не с речью (ментальная машина), а связано с присутствием.
Все это можно сравнить с лестницей Иакова. Библия повествует об истории Иакова, заснувшего на земле, положивши голову на камень, и осененного видением-сном. А увидел он огромную лестницу, стоявшую между землей и небом. И увидел он силы, или, если кто-то предпочитает, ангелов, которые восходили по лестнице и нисходили по ней.
Да, очень важно уметь выстроить в Искусстве-проводнике лестницу Иакова; но для того, чтобы эта лестница функционировала, каждая ее ступенька, каждый уровень должны быть выполнены тщательно и добросовестно. В противном случае лестница рухнет. Все зависит от профессиональности, с которой вы работаете, от качества деталей и подробностей, качества действий и ритма, последовательности элементов-слагаемых; с точки зрения ремесла все должно быть сделано безупречно. Обычно же, если ищут искусства как лестницы Иакова, то воображают, что ее постройка связана попросту с благими намерениями; и ищут тем самым что-то бесформенное, все тот же невнятный супик-пюре, и растекаются, и тонут в самообмане. Повторяю, лестница 262 Иакова должна быть выстроена с великой ремесленной достоверностью.
VI
Ритуальные песни с очень древней традицией — вот что дает опору при конструировании ступеней и уровней этой лестницы-вертикали. Не в том только дело, что надо уловить мелодию со всей ее точностью, хотя без такой точности ничто не возможно. Но в том, чтобы найти также и темпоритм со всеми его случайными отклонениями, колебаниями и переливами внутри мелодии, в особенности же — найти нечто такое, что и составляет подлинную звучность: настолько осязаемые вибрационные качества, что в некотором смысле они и становятся значением песни. Иначе говоря, песнь обретает значение благодаря вибрационным качествам; даже если слова непонятны, достаточно восприятия вибрационных качеств. Говоря о таком «значении» вибрационных качеств, я одновременно говорю об импульсах тела; это значит, что и само звучание, и сами импульсы тела являются значением в прямом и непосредственном смысле. Чтобы открыть вибрационные качества давней, древней песни, надо открыть разницу между мелодией и вибрационными качествами. Это особенно важно в обществах, где уже исчезла традиция устной передачи. Следовательно, это особенно важно для нас. В знакомом нам мире, в рамках нашей культуры мелодия известна, к примеру, в форме определенной последовательности нот, нотной записи. Это мелодия. Но мелодия — не то же самое, что вибрационные качества, хотя для того, чтобы открыть вибрационные качества старых песен, надо быть абсолютно точным в мелодии. Невозможно открыть вибрационные качества, если начинать, скажем, с импровизации. Не скажу, что импровизаторы обязательно фальшивят; но если уж пять раз подряд поется одна и та же песня и каждый раз она звучит по-разному, то, значит, мелодия не была зафиксирована. Мелодия должна быть полностью зафиксирована, чтобы появилась возможность по-настоящему развить работу над вибрационными качествами. О современном человеке можно сказать, что он поет, не чувствуя разницы между звуком пианино и скрипки. А ведь обе эти разновидности резонансов сильно разнятся между собой; современный же человек ищет только мелодическую линию, не улавливая разницы между резонансами. Вибрационные качества песни должны уходить корнями в действия тела и их темпоритм.
263 Песнь предания — она как человек. Когда начинается режиссирование так называемого ритуала, это похоже — по примитивности идеи и аналогий — на поиск состояний одержимости или пресловутого транса, и все сводится к хаосу и импровизации, внутри которых делается кое-что и кое-как. О разного рода подобной «экзотике» лучше забыть, открыть же для себя надо вот что: древняя песнь вместе со связанными с ней импульсами похожа на человека. Она — «личность». Как это открыть? Только в работе; могу, однако, дать некоторые пояснения, исключительно ради того, чтобы стало понятнее, о чем идет речь. Есть древние песни, в которых легко угадывается, что они женщины, и есть иные песни — песни мужские; есть песни, в которых нетрудно обнаружить, что они песни-юноши или даже дети. Вот эта песнь — песнь-дитя; иные же — совсем старики, встречаются песни — дряхлые старцы. Значит, вполне возможно поставить вопрос: кто эта песня — женщина или мужчина? А может быть, старец, дитя или юноша? Число возможностей велико. Однако, задаваясь такими вопросами, не надо превращать это в метод. Если же это превратить в метод, то все может стать банальным и плоским. Ведь песнь — живое существо, да-да, живое существо, и к тому же не каждая песнь — существо человеческое; есть и песнь-животное, есть и песнь-сила.
Когда же начинаешь улавливать вибрационные качества посредством огромной дисциплины и точности ремесла, тогда все получает свою укорененность в импульсах и действиях. И тогда эта песнь сама начинает нас петь. Вот эта старая-престарая песня меня поет; и я уже не знаю, я ли открываю для себя эту песнь или же я сам стал этой песнью. Обратите внимание! Наступает минута, когда надо быть особенно бдительным, не дать песне себя поглотить, не превратиться в ее собственность, да-да, «стоять твердо».
Песнь давней традиции, будучи инструментом вертикальности, может быть сравнима с мантрой в индуистской или буддийской культуре. Мантра — звуковая форма, основательно разработанная, охватывающая позиции тела и дыхание и вызывающая появление определенной вибрации в настолько точном темпоритме, что происходит воздействие на темпоритм сознания. Мантра — это короткий напев; для своих целей она вполне результативный инструмент; она служит не зрителям, а тем, кто ее совершает. Древние песни, песни предания, также служат тем, кто их совершает. Некоторые песни, складывавшиеся на протяжении очень длительного времени и звучавшие в сакральных или обрядовых целях (я бы сказал, что они использовались как своего рода разновидность «проводника»), приносят разного рода результаты: либо результат, 264 усиливающий энергию, либо результат, несущий успокоение (замечу, что такое разделение возможностей достаточно упрощено, так как на деле их существует великое множество).
Почему я сначала привожу пример мантры, а потом все же возвращаюсь к песням преданий? Потому что в работе, которая меня интересует, мантра имеет меньшее применение; она далека от органического подхода. Песни же преданий, напротив, глубоко уходят корнями в органическое. Они всегда «песнь-тело», а не песнь отделенная — отделенная от импульсов жизни, пронизывающих тело волнами. В древней песне, в песни предания, дело уже вовсе не в позициях тела и не в манипуляциях дыханием, а в импульсах и в детальных подробнейших действиях. Потому что именно импульсы, плывущие сквозь тело, несут старую песнь.
Существуют различия попадания в цель между различными старыми песнями. С точки зрения вертикальности, подъема к «утонченности» и нисхождения этой «утонченности» на уровень реальности более обыденной, существует потребность «логической» структуры: по отношению к другим песням какая-то определенная песнь не может находиться ни чуть раньше, ни чуть позже — ее место должно быть явственно, очевидно. С другой стороны, если бы, скажем к примеру, после гимна, обладающего высокоутонченными качествами, пришлось бы — продолжая линию действия — спуститься на уровень песни другого свойства, идущей в большей степени от инстинкта, то не следует этот гимн так попросту терять в себе, а следует сохранить внутри себя как бы след его качеств.
Все, что я до сих пор говорил, касается только нескольких примеров работы над древними песнями, песнями преданий. Вместе с тем ступени этой вертикальной лестницы — те, что надо выработать в процессе тщательной ремесленной работы, — это не только песни преданий и не только способы, какими мы над ними работаем, но это также и текст (в значении живого слова), модели поведения и движения, логика мельчайших действий (тут очень существенно всегда опережать форму тем, что и должно ее опережать, то есть сохранить процесс, ведущий к форме). Каждый из этих аспектов требовал бы, говоря откровенно, отдельной главы.
Несколько наблюдений, связанных с работой над телом. Проблему послушания тела можно решить с позиций двух разных подходов; я не хочу сказать тем самым, что невозможен двойственный подход или подход составной, сложенный из того и другого, — возможен. Но чтобы сказанное было достаточно ясно, 265 предпочитаю ограничиться разговором о двух отличных друг от друга подходах.
Первый подход: довести тело до состояния послушания, укрощая его. Нечто похожее мы видим в балетном классе или в некоторых видах атлетизма. Опасность такого подхода заключена в том, что тело развивается в своих мышечных качествах, а следовательно, оно становится недостаточно эластичным и «полым» для того, чтобы служить «проводящим путем» для энергий. Другая опасность — еще большая — заключается в том, что сам человек в таком развитии усиливает разделенность между «руководящей» им головой и телом, уподобленным управляемой марионетке. Следует тем не менее подчеркнуть, что ограничения и опасности такого подхода преодолимы, если работа ведется с полным сознанием этих опасностей и ограничений и если работой руководит умелый инструктор. Примером преодоления опасностей и ограничений такого подхода могут служить способы, применяемые в работе над телом в некоторых боевых искусствах.
Второй подход: бросить вызов телу. Бросить ему вызов, ставя перед собой такие задания и такие цели, которые, казалось бы, превосходят способности вашего тела. Все дело в том, чтобы призвать тело к «невозможному» и дать ему открыть, что «невозможное» можно поделить на малые отрезки, «кусочки», малые элементы и — сделать возможным. При таком, втором, подходе тело становится послушным, не зная о том, что оно обязано быть послушным. Оно становится проводящим путем для энергии и находит связь между строгим порядком элементов и потоком жизни («спонтанностью»). Тело, следовательно, не чувствует себя укрощенным, не ощущает себя дрессированным домашним зверьком; оно скорее уподобляется зверю, дикому и гордому, полному достоинства. Лань, преследуемая тигром, бежит с легкостью и гармонией движений поистине неправдоподобными. Если вглядеться в их бег в замедленном темпе документального фильма, то он, бег лани и тигра, открывает нам образ жизни полной и, парадоксальным образом, радостной. Оба подхода совершенно правомерны. Однако меня в моей творческой жизни всегда намного больше интересовал этот, второй, подход.
VII
Если вы ищете путей к Искусству как проводнику, то необходимость выстраивать структуру, которую можно было бы повторить, выстраивать, скажем так, произведение, здесь даже еще более 266 велика, чем в работе над представлением, предназначенным для зрителей. Невозможно «работать над собой» (сошлюсь на формулу Станиславского), если вы не находитесь под воздействием чего-то, обладающего определенной структурой, то есть тем, что можно повторять, что имеет начало, течение, развитие и конец, где каждый элемент имеет свое логическое, технически необходимое место. Все это детерминировано с тонки зрения упомянутой вертикальности, вертикального движения к утонченности и нисхождения (того, что утончено) к плотности тела. Разработанная в подробностях структура — Действие, Акция — вот ключ, если структуры нет — все размывается, все превращается в «жиденький супчик».
Итак, работаем над произведением, над Акцией. Работа, организованная в виде репетиций, занимает от восьми до четырнадцати часов ежедневно, шесть дней в неделю, и длится систематически годами. Мы работаем над песнями, партитурой реакций, архаичными моделями движения, над словом столь древним, что ставшим уже почти всегда анонимным. Таким образом строится нечто конкретное, обладающее структурой, сравнимой с представлением-спектаклем, однако монтаж создается не в восприятии зрителей, а в тех артистах-участниках, которые задействованы в происходящем.
В конструировании действия большинство исходных элементов принадлежит так или иначе западной традиции. Все они связаны с тем, что мы называем колыбелью, имея в виду колыбель западной цивилизации. А именно Древний Египет, стародавние Сирия и Израиль, античная Греция. Существуют, к примеру, текстовые фрагменты, источник возникновения которых установить невозможно, а известно о них только одно их передавали друг другу, и вот она-то, эта «передача», это предание, и промелькнула сквозь древний Египет, но может существовать и другая версия, скажем, греческая. В античные времена вся область Египта вместе с Израилем, Грецией и Сирией представляли собой единую колыбель. Те инициационные песни, к которым мы обращаемся в нашей работе (будь то песни Черной Африки или страны караибов), укоренены в африканской традиции, мы их воспринимаем как продолжение чего-то, что жило в Египте в древние времена (либо жило в корнях, предшествовавших им), то есть как разветвление нашей исторической колыбели.
Но есть тут и другая проблема невозможно доподлинно постичь традицию своей колыбели (во всяком случае, так обстоит 267 дело со мной), не сравнивая ее с другой колыбелью. Я бы назвал это «подтверждением». В этой перспективе восточная колыбель для меня крайне важна. Не только по техническим соображениям (восточные традиции обладают тщательно разработанными техниками), но и по личным мотивам. Потому что именно истоки восточной колыбели оказали на меня непосредственное влияние в юности и даже в детстве, то есть задолго до того, как я начал заниматься театром. «Подтверждение» часто открывает неожиданные перспективы и ломает стереотипы мышления. К примеру, в восточной традиции к тому, что мы называем Абсолютом, можно приблизиться и «притулиться», как к матери. Напротив, в европейском образе мышления акцент ставится в большей степени на «отце». Это всего лишь пример, но он может осветить неожиданным светом любое слово наших далеких предшественников в кругу западной цивилизации. Техническое «подтверждение» осязаемо: можно явственно увидеть и аналогии, и различия; пример этого я привел, когда анализировал функционирование мантры и песни древнего предания.
Хотелось бы, чтобы было совершенно ясно: в мастерской в Понтедере в нашей работе над Искусством-проводником, в процессе конструирования произведения — Акции — истоки, к которым мы припадаем, связаны в основном с колыбелью западной цивилизации.
Акция: перформативная структура, объективированная в деталях. Такая работа не предназначена для зрителей, хотя время от времени присутствие свидетелей может стать необходимым: с одной стороны, чтобы подвергнуть проверке объективность работы, а с другой — чтобы дело, которым мы заняты, не превратилось в наше сугубо частное дело, лишенное пользы для других.
Кем были наши свидетели? Сначала это были специалисты в разных областях знаний, а также артисты, люди разных художественных, творческих профессий, приглашаемые индивидуально. Но потом я стал звать к себе целые группы «молодого театра», театра «поискового». Они не были зрителями (поскольку перформативная структура — Акция — создавалась, вовсе не имея их своей целью), однако в некотором роде они были как бы зрителями. Когда нас посещала театральная группа или когда наши люди посещали коллективы «молодого театра», и те и другие наблюдали за работой друг друга; сюда включались и собственные упражнения, и уже подготовленные произведения (но никакого взаимного действенного соучастия не было).
268 Таким путем на протяжении последних лет мы ради подобных взаимных сопоставлений организовали встречи более чем шестидесяти театральных групп. Эти встречи происходили без всякого участия прессы и оберегались от любого рода огласки, объявлений, рекламы и тому подобного. Участвовали в них только две группы: группа посещающая и группа принимающая. Мы никогда не принимали дополнительных свидетелей, пришедших со стороны. Благодаря такой осторожности, благодаря всем названным ограничениям, все, что взаимно обсуждалось в обеих группах, что между ними говорилось друг другу после сравнительных просмотров, не вселяло в них страха — страха быть раскритикованными или неправильно понятыми. На самом деле очень важно, чтобы не было групп, прибывающих по «объявлению» или появляющихся по собственной инициативе, — мы принимаем только тех, кого мы разыскали нашими собственными силами. Нет никакой бюрократии в самом способе нахождения нами подходящей группы. Именно идя такими неформальными и деликатными путями, мы сумели отыскать несколько совсем уж маленьких, бедных групп, существующих без всякой рекламы и по-настоящему пытающихся найти ответ на вопрос, что же функционирует и что не функционирует в их поисках, в их работе; мы помогали им, но не в теориях, не в идеях, а посредством примеров ремесленных и простых, на почве профессионального мастерства.
Вот вам пример того, как Искусство-проводник, достаточно изолированное, может вместе с тем сохранять и поддерживать живые связи в пределах театрального поля, и все это — исключительно благодаря коллегам по профессии. Мы никогда не пытаемся менять цели, поставленные себе другими. Это было бы некорректно, ненужно, ведь их усилия определенным образом связаны с какими-то иными, нежели наши, представлениями о смыслах, о значениях, с другими обстоятельствами работы, с иными понятиями об искусстве.
VIII
Можно ли работать внутри одного произведения в двух разных регистрах? С одной стороны, над подъемником архаичным (Искусство как проводник), а с другой — над подъемником современным (Искусство как представление, публичный спектакль)?
Вот о чем я себя спрашиваю. Теоретически я вижу, что это должно быть возможно; в моей практике я делал обе эти вещи в 269 разные периоды жизни: Искусство как представление и Искусство как проводник. Возможны ли они оба в одном и том же произведении! Если уж говорить правду, то безотносительно к тому, что теоретически это возможно, опасность «сфальшивить», опасность искажения всего процесса становится огромной. Если работа ведется над Искусством-проводником, но хочется его использовать в зрелищных целях, весь акцент сдвигается, и тем самым, независимо от всех иных трудностей, общий смысл становится двойственным, появляется некая двусмысленность. Словом, можно было бы сказать, что проблема эта очень трудна для решения. Однако если бы я истинно верил, что, несмотря ни на что, ее удалось бы все же решить, я, наверное, уступил бы, признаюсь вам, искушению сделать это. Тем самым я как бы недостаточно верю в то, что проблему удастся решить, но вместе с тем дело не только в недостатке веры; есть у меня необычно сильное ощущение, что гораздо более естественным, гораздо более соответствующим законам действительности и самой традиции было бы не пытаться достигнуть этого двойного аспекта в одном и том же произведении.
Очевидно, что если на протяжении нашей работы над Искусством-проводником произошли встречи более чем с шестьюдесятью группами, шестьюдесятью коллективами молодого и поискового театра, то вполне могло возникнуть и какое-то влияние; но если оно и было, то достаточно деликатное, практически анонимное, на уровне технических деталей, особенностей и деталей ремесла. Оно касалось, например, точности, что, кстати, вполне оправданно. Однако мне приходилось замечать, что порой, знакомясь с нашей работой над Искусством-проводником и улавливая, в чем она заключается, артисты молодых групп спрашивают себя: как же сопоставить увиденное у нас с их собственной работой — ведь их работа направлена на создание спектакля? Если они задаются этим вопросом на ментальном уровне, на уровне формулировок, методологических размышлений и т. п., то я говорю им: «Не следует идти нашим путем в этой области, не следует искать Искусства как проводника в своей работе». Но если вопрос этот как бы носится в воздухе, если он возникает почти подсознательно, что позже так или иначе проявится во внутренней ли работе, в работе ли над собой во время репетиций, — я не мешаю им. В таком случае вопрос этот как-то «обрисуется», но не будет сформулирован даже в мыслях. Минута, когда он может быть сформулирован, крайне опасна, так как она превращается в алиби, 270 оправдывающее отсутствие качества спектакля. Склонять кого-либо к мыслям и речам типа «сделаю-ка я спектакль, который будет “работой над собой”», — означало бы в том мире, в котором мы живем, некое оправдание самого себя: «Я свободен во всех своих проявлениях, могу и не сделать своего спектакля для зрителей, ведь я на самом деле ищу совершенно иных сокровищ…» Тут-то мы и оказываемся перед лицом катастрофы.
IX
Кто-то недавно меня спросил: хочу ли я, чтобы Мастерская Гротовского после моего исчезновения продолжала существовать? Я ответил, что нет, что не хочу Мастерской Гротовского без Гротовского. Я ответил так потому, что отвечал на подтекст вопроса; а подтекст этот, по моему разумению, был таков: хочу ли я создать Систему, которая остановится в той точке, в которой остановятся мои искания, и которой потом будут попросту обучать? Вот почему я ответил «нет». Но должен признаться, что если бы меня спросили: хочу ли я, чтобы кто-то продолжил традицию, открытую мною в определенном месте и времени моей жизни заново, словом, хочу ли я, чтобы исследования над Искусством как проводником кто-то продолжил и без меня, я не мог бы ответить «нет».
В моей нынешней работе кроется парадокс. Мы занимаемся Искусством как проводником, по самой своей природе не предназначенным для зрителей, а между тем мы сопоставили нашу работу с десятками и десятками театральных групп; мы сделали это, не склоняя их расстаться с Искусством представлений, напротив, внушая им, чтобы они в перспективе продолжали свое дело. Парадокс этот — парадокс кажущийся. А происходит так потому, что Искусство как проводник на практике выдвигает проблемы, связанные с профессией как таковой, проблемы, правомочные на обоих концах цепи performing arts, проблемы настолько глубоко «ремесленные», что сама конфронтация с этим явлением становится — каким-то образом — актом передачи, трансмиссии.
В Мастерской мы проводим также инструктаж. В начале V раздела я упоминал о том, что у нас существует полюс работы, посвященный перманентному воспитанию в области актерского искусства (даже если различные элементы нашей работы связаны с ритуальными формами). Молодые артисты, проходящие стажировку в Мастерской (как минимум в течение года, а иногда и намного 271 дольше) и участвующие в такого рода работе, все делают с учетом перспективы своей профессии — профессии актера, а я пользуюсь возможностями Мастерской, чтобы им помочь в этом. Не глух я и к такому вопросу: а может ли само ремесло подсказать что-то актеру в работе над собой? Но вопрос этот необычайно деликатный, а я предпочитаю избегать всякого рода нравоучений.
В Мастерской в Понтедере появился второй полюс работы — тот полюс, что укоренен в Искусстве-проводнике: и как в традиции, и как в направлении исканий. Это было мне дано. Всех, с кем я работаю, это впрямую касаться не может. О людях, связанных непосредственно с Искусством-проводником, я думаю не как об «актерах», а как о «doers» (тех, которые действуют), потому что цель их работы соприкосновенна не со зрительным залом, а с их собственным путем вертикальности.
В нашей Мастерской все, что глубинно связано с Искусством-проводником, было как бы вынесено на очную ставку с группами молодого театра. Но даже если на кого-то из них это и оказало некоторое влияние, то уже сама кратковременность таких встреч, малые сроки пребывания у нас этих молодых артистов не позволяют говорить ни в малой степени, что они мои «ученики». Искусство как проводник и мы вместе с ним находимся лишь на одном конце длинной цепи, но конец этот должен пребывать так или иначе в постоянном контакте с другим концом, которым и является Искусство как представление. Оба конца этой цепи принадлежат к одной и той же большой семье. И должна существовать возможность «переливания крови»: ремесленного сознания, технических открытий… Во всем этом должны быть приливы и отливы, если мы не хотим совсем уж оторваться от мира сего. Хочу вспомнить фрагмент из древней китайской «Книги перемен», где говорится о колодце: колодец может быть прекрасно выложен, и вода в нем может быть превосходной, но если никто из того колодца воды не черпает, то разведутся в нем жабы и вода застоится.
А вместе с тем, если предпринимаются намеренные усилия оказать влияние, возникает опасность мистификации. А посему я предпочитаю не иметь таких учеников, которые идут в мир, неся от меня некое Евангелие. Другое дело, если до кого-то дойдут мои послания: послание требовательности, послание предельной точности, обнаруживающие определенные законы, действующие в области «жизни в искусстве». Такое послание может оказаться куда более чистым и прозрачным, чем если бы оно было окрашено 272 в цвета миссионерских поползновений или наполнено блеском той или иной исключительности.
В истории искусства (и не только искусства) можно найти бесчисленные примеры того, как искомое влияние либо вскорости умирало, либо превращалось в карикатуру, настолько разительно искажаясь, что зачастую крайне трудно было обнаружить в растиражированном образце даже самые отдаленные следы того, что стояло у его истоков. Не будем, однако, забывать, что существуют и анонимные влияния. Искусство как представление и Искусство как проводник — обоим концам этой цепи должно существовать: одному — видимому, для обозрения зрителей, и другому — почти невидимому. Почему я говорю «почти»? Потому что если Искусство как проводник будет скрыто совсем, оно не сможет пробудить к жизни анонимные влияния. Вот почему оно должно быть скрытым, но не совсем.
1992
273 ПРИЛОЖЕНИЯ
275 «АКРОПОЛЬ»79
Действие драмы Станислава Выспянского происходит в старинном кафедральном соборе и в королевском замке на Вавеле48*.
В ночь Воскресения Господня оживают персонажи ветхозаветной и античной истории, запечатленные в скульптурах и на гобеленах, и начинают проигрывать между собой те сцены, которые можно назвать узловыми событиями для всей европейской цивилизации. Произведение Выспянского задумано как целостное поэтическое видение средиземноморской культуры, а самым главным ее героям волей поэта назначена встреча друг с другом в Польше, на Вавельском холме — на «польском Акрополе». На этом, по определению Выспянского, «кладбище племен» героям предстоит пройти испытание своей жизнеспособности в необычной, причудливой атмосфере польского пейзажа, господствующего над Вислой.
ТЕКСТ
Из всех работ Гротовского постановка «Акрополя» в наибольшей степени отклоняется от литературного первоисточника. Неприкосновенным осталось только поэтическое слово. Но оно перенесено в совершенно другие сценические обстоятельства и, по закону контрапункта, рождает совершенно другие ассоциации. Во всем этом — конечно, в качестве побочной задачи — есть определенная «ремесленная» концепция мастера: произвести прививку словесной ткани неоромантической драмы к чуждому ей со многих точек зрения постановочному организму таким образом, чтобы слово без каких-либо существенных филологических ухищрений органично вырастало из тех обстоятельств, которые предложены театром.
276 Драма Выспянского выразительно прочерчена постановщиком, частично перемонтирована. В некоторых местах для полноты воплощения замысла в текст введены мелкие включения, произведена незначительная ретушь, не нарушающие, однако, стиля поэта. Такие фразы-восклицания, как «Акрополь наш!» и «Кладбище племен!», кажутся высеченными резцом навязчивых повторений: они стали своего рода лейтмотивами, вокруг которых организуется действие.
Прологом к спектаклю звучит небольшой фрагмент из частного письма Выспянского, где он сам характеризует свою драму «Акрополь» как своеобразный итоговый «баланс» цивилизации.
«АКРОПОЛЬ НАШ…»
В спектакле, внешне совершенно далеком от Выспянского, исходный мотив постановщика, по существу, тот же самый. Именно это и оказало решающее влияние на его интерес к драме «Акрополь»: представляя некое подобие итога цивилизации, подвергнуть проверке ее ценности в свете современного опыта. Правда, это уже наша современность — вторая половина XX века. А испытания, из которых она выросла и сложилась, намного более жестоки, чем те, что были доступны воображению Выспянского.
В представлении, также как и в драме, подвергаются проверке многовековые ценности европейской культуры. Однако их «очная ставка» с жизнью происходит не в тиши старинного краковского собора, где когда-то в одиночестве предавался своим размышлениям поэт-визионер, а перед лицом окончательной гибели, в многоязычном гомоне, в разноголосых воплях миллионов людей: в лагере смерти49*.
У Гротовского, как и у Выспянского, тоже оживают персонажи давних времен и тоже для того, чтобы воплотить перед нами важнейшие сцены из жизни рода человеческого. Только здесь они воскресают не из образов, запечатленных в картинах и скульптурах прошлого, а из дыма крематориев, из чадящих испарений погибели.
Вот оно, «кладбище племен», но уже не то, воображаемое кладбище, где бродил Выспянский, галицийский поэт-символист, хранитель культурных сокровищ. Это «кладбище племен», сотворенное таким временем, которое переплавило в реальность 277 даже самые дерзкие поэтические метафоры. Этот «Акрополь наш…» уже не воскресит в эйфории светоносной надежды Христа-Аполлона: в коллективном опыте человечества уже обозначился слом тех границ, что числились неприкасаемыми. «Наш Акрополь» ставит под вопрос нас самих, самое природу рода человеческого, человеческого вида. Ибо во что же он, этот вид, превращается перед лицом тотального насилия? Библейская, ветхозаветная борьба Иакова с Ангелом — и каторжный лагерный труд; любовь Париса и Елены — и страшный аппель-платц узников; Воскресение Господне — и печи крематориев. Цивилизация искаженная, обезображенная, растоптанная.
Образ «рода человеческого», спроецированный на этот фон, должен возбуждать, по замыслу постановщика, ужас и сострадание. Просветленному апофеозу, к которому устремлялся историософический взгляд Выспянского, противопоставлен трагифарс опозоренных человеческих ценностей. Показаны не только ужас, но и безобразность, уродливость страдания; не только его возвышенность, но и горькая смехотворность. Человечность сведена здесь к примитивным рефлексам, к рефлексам почти животным. А надо всем — болезненное «панибратство»: двусмысленное родство палача и жертвы. В общей картине спектакля нет никого, кто бы ассоциировался с палачом как с отдельной силой, выделяющейся из сообщества узников. Впервые, пожалуй, театру сопутствует видение лагеря смерти, близкое взгляду писателя Тадеуша Боровского.
В самой материи представления совершенно отсутствуют светлые моменты; отсутствует и образ надежды, нет даже ее слабого проблеска, напротив, она подвергнута кощунственному осмеянию. Это представление можно воспринимать как вызов. Вызов нашей нравственной памяти и нравственному подсознанию зрителя. Кем был бы он, кем бы он стал в час высшего, смертельного испытания? Только ли жалким «тряпичным лоскутом» человека? Только ли жертвой коллективной иллюзии самоутешения?
РЕАЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Представление построено как поэтическая парафраза реальности лагеря смерти. Дословность и метафора переплетаются здесь, как во сне. Действие происходит в пространстве всего зала, что стало в «Театре 13 рядов» уже постоянной практикой. Но в этом спектакле зрителей не втягивают в соучастие, наоборот: подразумевается, что между зрителями и актерами отсутствует непосредственный контакт, более того, он невозможен. Это два совершенно 278 разных, отделенных друг от друга мира: они — узники, посвященные в предсмертные испытания, и мы — непосвященные, которым доступна лишь обыденная практика жизни; мертвые и живые. Сближение в общем зале и тех и других на деле содействует взаимной отчужденности: актеры намеренно, провокативно не замечают зрителей, хотя оказываются с ними лицом к лицу. Умершие являются живым, как в кошмаре — странные, диковинные, непонятные. И осаждают их со всех сторон, действуя в разных местах зрительного зала то одновременно, то поочередно, создавая впечатление пространственной неопределенности. Как в дурном сне.
Посреди зала — огромный ящик. На него набросаны кучи железного лома: трубы разной длины и формы, тачки, листы мятой жести, гвозди, молотки. Все ржавое, старое, только что со свалки. Таков в спектакле мир реальных предметов. Все они — ржавый металлический лом. Из него по мере развития действия актеры будут строить нелепую, невменяемую цивилизацию. Цивилизацию железных коленчатых труб: их вешают на растянутых под потолком зала тросах, их прибивают к полу… Так из доподлинности ржавого железного лома мы вступаем в метафору.
КОСТЮМЫ50*
Мешки с большими прорехами на голых телах. Дыры прорезаны в мешковине и подшиты сизо-бурыми, «влажно» отсвечивающими слоями материи так, что создается впечатление разорванной плоти: в какие-то минуты зритель будто смотрит прямо в месиво размозженного тела. На ногах грубые башмаки на толстой тяжелой подошве, на головах круглые темные шапочки: поэтическая версия лагерной «формы». Эта одежда, у всех одинаковая, лишает людей личных, индивидуальных черт социальной принадлежности, разницы пола или разницы возраста. Она превращает актеров-узников в некие однотипные существа.
Все персонажи в представлении являются обреченными смертниками, но, как бы воплощая некий неписаный высший закон, они же являются и собственными мучителями. Их жизнь определяет лагерный распорядок. Тяжкая, абсурдная в своей бесцельности работа; ритмические сигналы надсмотрщиков, подаваемые визгом неизвестно откуда взявшейся скрипки; крики, сзывающие на аппель-платц. Ежедневная борьба за право на жизнь, больше 279 похожую на жалкую вегетацию, и — за право на любовь. Эти опустошенные, находящиеся на пределе человечности существа, послушно вскакивающие на каждый знак лагерной команды, трудятся над возведением собственной цивилизации; бессмысленность их труда обозначена монотонными, будто бы в никуда ведущими ритмами представления, а эти ритмы складываются в надрывный скрипичный мотив, завершающий каждый разыгравшийся между узниками эпизод.
Здесь нет героев, нет персонажей — это образ общества: метафорическое представительство вида в пограничной ситуации. Это некое единое существо, говорящее и поющее в меняющихся ритмах, с шумом и лязгом орудующее железными предметами. Существо плазматическое, бесформенное и одновременно многообразное, распадающееся в какую-то минуту на свои составные части, но все только для того, чтобы снова тут же соединиться в раздерганную массу, в непрерывно движущуюся слитность. Что-то вроде капли воды под микроскопом.
МИФЫ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
В перерывах между принудительными работами это своеобразное сообщество предается мечтаниям, неотъемлемым от самого существования рода человеческого, «родовым» мечтаниям. Жалкие узники присваивают себе имена ветхозаветных и гомеровских героев, отождествляются с ними и проигрывают — доступным им образом — собственные версии прославленных историй и легенд. Есть в этом что-то от коллективных снов наяву; есть что-то и от не чуждой тюремным сообществам и тюремной среде игры в «иную» действительность; есть, наконец, что-то от попытки физического воплощения полубредовых мечтаний о величии, достоинстве и счастье. Игра жестокая и горькая: в самих узниках рождается издевка над собственными возвышенными стремлениями, чью обманчивость и ложность им преподносит реальность.
Тот, кто считает себя библейским Иаковом, сватаясь к Рахили и заведя разговор с ее отцом, Лаваном, душит и давит своего будущего тестя, повалив его на землю: тут правит не патриархальный закон семейных отношений, но жестокий закон борьбы за существование.
А вот тоже библейская сцена, в которой текст, произносимый актерами, насыщен трагизмом: борьба Иакова с Ангелом. Она воплотилась в поединке двух узников, невидимо прикованных к тачке. Один из них, Иаков, упав на колени и скрючившись в три 280 погибели, удерживает на спине ее гнет — другой, Ангел, заваливается в нее всей своей тяжестью, свешиваясь головой через борт. Когда же Иаков, придавленный к полу, напрягает все силы, стремясь сбросить тяжесть противника, тогда приходит очередь страдания Ангела: он бьется головой об пол. Но когда Ангел, порываясь размозжить голову Иакова, бьет тяжелыми башмаками по бортам тачки, то Иаков все же выдерживает этот напор, вынося на себе жестокое бремя железа. Иаков и Ангел не только не могут избавиться друг от друга, будучи каждый прикован к орудию своего труда; их мучения усилены тем, что они не в состоянии полностью выместить друг на друге свой гнев. Вот она, великая ветхозаветная сцена — две жертвы, терзающие друг друга под напором давящей их Неизбежности, той безымянной силы, о которой повествуется в поэтических строфах Выспянского, столь возвышенно описавшего в «Акрополе» борьбу Иакова с Ангелом.
Парис и Елена. Они не таятся, они почти напоказ очарованы взаимным чувственным влечением, но вот беда, Елена тоже мужчина; лирике их воркования вторит разнузданный хохот всех остальных: в этом мире господствует эротизм особого свойства, выродившийся, потерявший интимность; все, что осталось — толстокожая, дразнящая сексуальность однополой, принудительной скученности.
Но чаще случается, что нежность любви адресуется не человеку, а — как в эпизоде свадьбы Иакова — предметам «замещающим»: избранницей Иакова становится изогнутая труба. Набросив ей на «лицо», как подвенечную фату, обрывок прозрачной тряпицы, Иаков двинется с ней во главе венчальной процессии, а все прочие узники с полной серьезностью примут участие в этой внезапно сымпровизированной свадебной церемонии. Атмосфера всей сцены — ей сопутствует общее пение старинной польской свадебной песни, а в кульминационный момент звучит даже перезвон колокольчика министранта51* — становится торжественной, важной и даже по-своему теплой. Примитивно-теплой. Тут снова как бы находят выход наполовину наивные, наполовину ироничные мечты заключенных о самом обыкновенном счастье.
Во всех этих каторжных забавах прорывается голос отчаяния и надежды. Пассивного отчаяния приговоренных людей: слова, полные веры в Божью помощь, слова ангелов из сна Иакова, проговаривают 281 четыре узника, притулившиеся в согбенно-униженных позах к стенам лагеря в разных местах театрального зала; в их интонациях слышатся ритуальные жалобы, мелодика библейского плача. (Может быть, это евреи под иерусалимской стеной?..) Но прорывается и агрессивность отчаяния приговоренных, бунтующих против своей судьбы: возникает эпизод с Кассандрой, мифической вещуньей-пророчицей. Из-за спин лагерников, построенных шеренгой на аппель-платце, вырывается женщина. Судорожно путаясь в руках и ногах (но тут же, внезапно, истерика сменяется «затишьем» сознания), с хриплым криком вульгарного, самоуничижительного удовлетворения (но вдруг — тихий, долгий стон-напев безответного упрека), она пророчествует, возвещая лагерному сообществу гибель. Ее монолог прерывают — вместо описанного в драме Выспянского вороньего карканья — отрывисто-резкие, но ритмичные вскрики узников, стоящих шеренгой (как бы в ответ на команду «рас-считайсь!»).
И наконец, — надежда. Скопище мучеников под предводительством Песнопевца (есть и такой персонаж у Выспянского) все же обретает своего Спасителя. Кем же он предстает, Спаситель людей, ищущих надежду в отчаянии? Трупом — синевато-телесного цвета куклой, «бросовым» тряпочным чучелом без головы, похожим на трупы людей, истощенных лагерным голодом. Песнопевец обеими руками, с патетическим жестом, подобно жрецу, возносящему священный сосуд, поднимает это жалкое чучело над головами лагерников. Сбившись в кучу, узники всматриваются в него в религиозном порыве и начинают гуськом двигаться за своим предводителем. Они принимаются даже потихонечку напевать, на мотив народной колядки, приветственную песнь в честь Сальватора — в честь Спасителя. Песнь нарастает, переходит в экстатический распев, хрипящий и хихикающий. Хоровод кружит вокруг большого ящика посреди зала: руки протянуты к Сальватору, глаза в самозабвении обращены туда же. Некоторые спотыкаются друг о друга, падают, встают, чтобы снова тесниться вокруг Песнопевца. Эта процессия похожа на средневековые религиозные шествия: процессии самобичевателей, церковных нищих, самозабвенно пляшущих «верных». Минутами движение приостанавливается, затихает. Тогда неподвижная тишина заполняется молитвенным пением Песнопевца, а все остальные принимаются вторить ему, как в скорбной литании. В конце концов эта процессия, погрузившись в наивысший экстаз, доходит до пределов своего пути. Песнопевец, издав в тишине молитвенный возглас, открывает верхнюю створку ящика и сходит в его глубину, втягивая 282 за собой куклу Сальватора. Остальные — все с тем же экстатическим пением, погруженные в транс, по очереди сходят за ним в отверстие ящика. Когда исчезает последний из лагерников, створка захлопывается. Воцаряется внезапная тишина. После короткой паузы из глубины доносится бесстрастный голос: «И пошли, и рассеялись с дымом…» Радостная одержимость надеждой нашла свой конец — в печи крематория. И в этом же конец представления.
БЕДНЫЙ ТЕАТР
Представление построено по принципу строгой самодостаточности. Главный постулат звучит так: не вводить в течение действия ничего, чего в нем не должно было быть с самого начала. Есть актеры и есть определенное количество собранных в зале предметов. Этого строительного материала должно быть достаточно для конструирования всех обстоятельств и ситуаций спектакля, его пластики и звука, времени и пространства.
Декорация, также как и костюмы, сведена к набору реквизита, то есть необходимым для драматического действия предметам. Они должны служить динамике и проявлять себя во множественности и всесторонности применения. Трубы и железный лом здесь в равной степени являются декорацией, пластической метафорой, участвующей в создании общей картины. Но метафора вырастает из действия органично — возникая из дел и поступков, она в свою очередь подчиняет их себе. Актеры, выйдя в зал, застают там гору железного лома. Покидая площадку, они покидают и ту цивилизацию железных коленчатых труб, строительство которой составляет весомый мотив представления.
Каждая из вещей выполняет многообразные функции. Заржавелая ванна, брошенная на груду железа, — самая что ни на есть доподлинная ванна. Но это не только обычная ванна. Она также — намек-напоминание на те железные ванны, в которых в нацистских концлагерях человеческие тела перерабатывались на кожу и мыло. При необходимости она же, поставленная торцом, становится подобием небольшого алтаря, перед которым один из лагерников, на коленях, напевает свою отчаянную молитву, а уложенная плашмя, превращается в брачное ложе Иакова. Тачки — просто тачки, обыденный предмет, оружие вывоза камней, руды, шлака; но на них же вывозят трупы; а если их опереть о стену зала — получится трон, на котором восседает Приам. Одна из изогнутых труб даже исполняет роль невесты Иакова.
283 Но важнее всего вот что: этот предметный мир представляет собой набор музыкальных инструментов, на которых актер проигрывает однообразную какофонию нелепого страдания и нелепой смерти. Скрежет железа о железо; тяжелый, монотонный стук молотков; грохот цепляющихся друг за друга труб; приглушенный, тонкий скрип забиваемого гвоздя; громкий перестук лагерных башмаков. Трубы, развешенные на колючей проволоке вокруг зала, резонируют — если в них что-то сказать или крикнуть; а горстка гвоздей, встряхиваемая в руке актера, — это и есть перезвон колокольчика министранта… В спектакле есть только один подлинный музыкальный инструмент: скрипка. Ее мотив возвращается неустанно, то как жалобное музицирование уличного скрипача, отзвук довоенного прошлого, звучащего сейчас меланхолично-чувствительным фоном для брутальных картин; то как пронзительно-ритмичное пиччикато, отголосок далеких команд — поэтически претворенные скрипкой свистки лагерной стражи. Предметы имеют свой голос. Зрительному видению на протяжении всего времени сопутствует видение акустическое.
Бедный Театр: при употреблении минимального количества постоянных элементов извлечь — путем магических превращений вещей, путем многофункциональной игры предметов — максимум эффекта. Создавать целые миры, используя то, что находится на расстоянии вытянутой руки. Как в детских забавах, как в играх, импровизируемых тут же, на месте. Это театр, уловленный в его зачаточной фазе, в процессе его появления на свет, когда пробудившийся игровой инстинкт спонтанно подбирает себе инструменты-орудия для магического претворения. Его двигательной силой является, конечно же, живой человек, актер.
ЗАМЕЧАНИЯ ОБ АКТЕРСКОМ ИСПОЛНЕНИИ
Бедный Театр не терпит грима. «Маску лица» актер должен создать себе сам, в известном смысле натуральным, естественным образом, при помощи мускулов. Каждый из действующих в представлении, таким образом, несет на лице с начала и до конца как бы приклеившуюся к нему гримасу. Тело двигается соответственно обстоятельствам, а «маска» пребывает в неизменном выражении отчаяния, страдания, безразличия. Актер полифонически ведет свою роль. Части его тела двигаются синхронно и вместе с тем противореча друг другу, а язык «лжет» не только голосу, но также жесту и мимике. Все пользуются движением, в чем-то приближенным к пантомимическому, но каждый — на свой собственный, 284 зафиксированный манер, будто рожденный болезненной неотвязностью.
Диапазон речи актера расширен; для этого использованы самые разные ее формы. Начиная от лепета и бормотания, как бы отбрасывающих исполнителей в младенческую или первобытную стадию развития языка, представлявшего собой лишь спонтанные сигналы чувств, — до изысканной в своей мелодике декламации стиха; от неартикулированного мычания и вскриков, родственных звукам, издаваемым зверьем, — до трогательной колыбельной, бытующей в простом народе, и литургических песнопений; от диковатых кочевничьих напевов, разноголосого гама путников, привычного набожного скулежа «правоверных» в библейских сценах — до возвышенного чтения стихов из Святого Писания и творений поэтов. В этой сложной партитуре звуков возникают воспоминания о разных формах и разных способах применения языка. Все они перемешаны, «перессорены» между собой, как в новой Вавилонской башне, в многоязычном гомоне разных народов и разных времен — за минуту до гибели.
Экспрессия, обильно насыщенная всякого рода деформациями и сплетением противоречащих друг другу элементов, направлена на выявление стихийно-первоначальных побуждений. Обрывки, остатки, осколки культур смешиваются здесь с месивом чуть ли не животным — в средствах выражения биологическая очевидность объединена с условностью композиции.
В «Акрополе нашем» род людской, вид человеческий пропущен сквозь ужасающую мясорубку. И человечность трещит по швам.
Людвик Фляшен
1964
285 «СТОЙКИЙ ПРИНЦ»80
После «Акрополя» Гротовский выбрал для постановки пьесу Кальдерона «Стойкий принц». Драма о португальском принце, попавшем в плен к маврам, была подлинной и мрачной историей XV века. Даже в суровом Средневековье картина притеснений, обрушившихся на инфанта, казалась невыносимой. Отказавшись отдать маврам христианский город Сеуту, он обрекал себя на мученичество: лишенный пищи, питья и крова, парализованный, ослепший, принц умирал на нищенской циновке, вымаливая подаяние у прохожих.
Спектакль Театра-Лаборатории вобрал в себя все ужасы и всю жестокость трагедии испанского барокко. Однако многое в нем оказалось не совсем таким, каким было у Кальдерона.
Превращениям подверглась вся ослепительная громада барочной драмы. Три действия трагедии стянулись в один стремительный, короткий акт. Три Дня происходящих в ней событий — а День, «Хорнада», у Кальдерона означает не просто день, а длительное время, вместившее весну и лето, обращения луны и солнца, — эти три Дня слились в спектакле в единый нас, где нет ни дня, ни ночи.
Масса персонажей (друзей, служанок, слуг, солдат, рабов, гонцов) сократилась до нескольких актеров. Вот они: Инфанты; Царь мавров с принцессой Фениксаной; Мулей, арабский полководец; марокканский правитель Таруданте. Десятки эпизодов пьесы, весь ее величественный текст «раскинулись» на тех, кто был оставлен: каждый актер проигрывает многих. (При этом — немалый риск — Гротовский не однажды передоверит слова мучителей их жертвам, и наоборот.)
Зал Театра-Лаборатории и в этот раз продиктовал свои условия. Широкие пространства — поля сражений, берег моря, тенистые сады, улицы и площади, уступы стен твердыни мавров — все было отменено. Был отменен даже волнующий и жуткий эпизод загробной встречи умершего принца с прекрасной Фениксаной.
Но был один момент, остановивший внимание режиссера. В том роковом бою в плен к маврам попал на самом деле не один 286 инфант, а двое, два родных брата. Этот случай, фактический в истории (хотя, быть может, и не самый важный), стал в представлении импульсом острейшего и горького конфликта. На этом случае построился двухчастный замысел спектакля.
На этот раз Гротовский рассказал не о миллионных жертвах и массовых насилиях, а лишь о двух, казалось бы, сугубо частных судьбах, двух выборах пути.
Посреди зала театра мы видим за особой выгородкой место действия: огражденный дощатым барьером, почти замкнутый прямоугольник. Зал, и без того не очень-то большой, и вовсе уменьшен в масштабах, стянут к центру. Архитектор, обустраивая место действия, подкинул нам, намеком, мотив испанского «корраля»: старинный театр умел на редкость выразительно использовать все стороны каре.
Для зрителей построено подобие амфитеатра: ступени его коробки идут довольно круто вверх. Публику на этот раз рассадят над местом действия: мы всё увидим сверху вниз. Актеры же увидят только головы, торчащие из-за барьеров, «как кочаны капусты». Головы людей нетерпеливых, но смущенных, озадаченных и пораженных происходящим. Головы соглядатаев. Зритель, по замыслу, туда — в то, что мы увидим, не допущен, его там не принимают: так нужно создателям спектакля. Пространство отдалено рукой режиссера, ограждено желанием самих актеров как будто что-то скрыть от любопытных глаз.
В «Акрополе» все разыгрывалось в опасной близости от публики. На этот раз, напротив, зритель четко отграничен от поля действия актеров физическим барьером высоты и дальности обзора: он в безопасности, он расположен вполне удобно. Но в этой безопасности, в «удобности» заключена какая-то двусмысленность: мы будто из укрытия, тайком, подсматриваем за чем-то недозволенным, запретным по самой природе.
Кто же мы, зрители, в тот вечер, когда играется спектакль? То ли студенты в анатомичке, глядящие со страхом со скамеек амфитеатра вниз; то ли болельщики, притихшие в молчании над небольшой ареной безжалостной корриды?
Два сильных прожектора, по 1000 ватт каждый, освещают центр зала, выхватывая белым светом, в скрещении лучей, низкий прямоугольный деревянный помост. Площадку, наименьшую из всех возможных для игры актера. Подиум трагедии: ее подложье, отлакированное в темный цвет. Место вокруг помоста оставлено свободным. Обычный, пустой и голый пол. Это «земля». (Она еще сыграет свою роль в спектакле.)
287 Углы загона тонут в полумраке. В одном из них оставлен узкий проход. Оттуда и войдут все персонажи драмы.
… Звук гонга. Из-за ограды, едва не падая, как от удара в спину, вбегает в освещенный круг первый из братьев-пленников: принц дон Энрике. Простоволосый, босой, в белой распахнутой рубахе.
За ним, стремительно и разом, входят остальные лица драмы: Царь и его Двор. Загон, оказывается, вовсе не загон и не застенок, а дворец Царя. (Смещение значений продлится через весь спектакль: он будет колебаться и мерцать в их поле, не определяясь, не застывая ни на секунду.)
Царь — очень высокий, тонкий. Белый, короткий галстук, плащ-мантия до пят, узкие носки сапог виднеются из-под плаща; черные перчатки. Тонкий, золотой, с острыми лучами обруч на голове — единственный оставленный в спектакле внятный знак власти.
Придворные, естественно, попроще. Однако зритель не может не заметить странности костюмов: на каждом «испанский» темный плащ, но и сегодняшние сапоги и бриджи, похожие на галифе; черные береты, как у десантников, хотя и без кокард. Впрочем, плащи напоминают, скорее, судейские мантии современных военных прокуроров.
В одно мгновение вбежавший узник схвачен и брошен навзничь на помост: руки вразброс, крестообразно. Значит, загон — застенок?
Действие началось и будет идти быстро.
Каждый входящий вносит с собой, можно было бы сказать, свой персонаж и свою роль, но роль и персонаж здесь для актеров совсем не главное. Поэтому иначе: каждый вносит свой импульс действия, свое психическое состояние, рождающее импульс.
Вот самое начало. Марокканский полководец и правитель Таруданте, высоко закинув голову, обводит взглядом зрителей, мучительно всматриваясь в их лица. Потом роняет голову, склонившись чуть ли не до земли; волосы густой волной падают на лицо. Но совершенно «нелогично» роль правителя-араба поручена актрисе: таким, неведомым для нас и двойственным, закрывшимся завесой длинных волос, этот персонаж останется до самого конца спектакля.
Из-за его плеча выходит Фениксана, дочь Царя: мелкая, унылая, сухая. Как и у всех, у нее тоже темный плащ-мантия до самых 288 пят, лишь резко проступают в свете прожекторов поникшие, как будто «сброшенные» кисти белых рук со слегка скрюченными судорогой пальцами: ими она будет время от времени дирижировать хором Двора. Она привыкла по утрам слушать песни пленных: «Пойте, слуги! Пойте, рабы!» Сейчас она задаст свой, особый тон — высоким, резким звуком, похожим на всполох и вскрик птицы. Остальные подхватывают напев, разноголосый и нестройный.
В общем совсем негромком, диссонансном потоке звуков слов драмы почти не слышно. Придворные тут объясняются голосовыми модуляциями, а слово проскальзывает стоном или всхлипом. Оно надорвалось, охрипло, захлебнулось — остались только вскрики, шепот, сдавленный смешок, враждебный или же молящий призвук, теневой жест голоса.
Фоносфера, как всегда в спектаклях Гротовского, настроена скорее сонористически, чем мелодически. Но дивным образом из тонкой ткани мелких звуков сплетается в конце концов такая нужная и долгожданная мелодия: то зазвучит литанией, то менуэтом, то, позже, тихим, глухим хоралом. Затопленные в общих звуках, не сразу уловимы ключевые слова, стихи.
Но постепенно каждый персонаж приобретает свой личный облик, все больше проступающий сквозь униформу прокурорского костюма — в абрисе лица, в полузаметном, мелком, но точном и зловещем жесте. Тончайшей оркестровкой таких деталей, подробностей, движений-действий создан небольшой мирок царского Двора, состроены созвучия или диссонансы мизансцен.
Двор пребывает в неустанном, но каком-то невеселом оживлении: живет своей жизнью, играет в «свою игру», шевелится, сгрудившись возле помоста. Все — в тесноте. Контуры персонажей друг друга заслоняют, наплывают, сливаются, расходятся. (Иначе, чем в кино, Гротовский все же использовал в спектаклях прием наплыва.)
В таком нечетком и к тому же убыстренном движении придворных, в их кажущемся мельтешении, однако, есть своя система, своя пружина.
У Двора есть свой неустранимый раздражитель, источник беспокойства, центр притяжения: помост. Там — живое тело. Придворные то стягиваются вокруг него почти что слитной, суетливой темной массой, то разбегаются подальше по углам, готовые закрыть глаза на то, что там лежит, — «лакомое» и «страшное». Подспудно накапливается гнев Двора.
Мулей, один из приближенных Царя, стройный, бравый, с выправкой армейского капрала, обходит помост по кругу и, четко 289 отбивая шаг, сухо смеется. Недобрый знак. Единственный вопрос, который их тревожит: узник жив или уже мертв?
Скопившись у помоста, поочередно припадая к груди Энрике, придворные нетерпеливо вслушиваются: жив или мертв? Мулей — всех ближе, «всех родней»: ладонь умело давит на ребра, скачет вверх-вниз жестом заправского реаниматора; на какую-то секунду он даже прильнет уста в уста, как при искусственном дыхании спасатель. «Спасатель» обнаруживает то, что искал: неясный, глуховатый, но живой ритм пульса. Его биение нарастает, полнится, звучит негромко, гулко, нависая как полог звуков над помостом, переливаясь в зал.
Биение чужого сердца искушает. Фениксана мелкими шажками, слегка присвистывая по-птичьи, приближается к Мулею, берет его запястье и, вслушиваясь в пульс, впивает его живые толчки-удары, пульсируя всем телом в ответном ритме. Потом сжимает пальцами свое запястье, прислушивается к нему и обнаруживает, что пульса нет. (В построении действия использован момент живой органики: пульсация живого организма; отсюда неритмичное движение спектакля.)
В общем пространстве зала — то осветленном, то затененном полумраком; в беспокойном черно-белом свете пылающего центра; в некой странности необъяснимо неотвязного, прилипчивого поведения всех тех, кто, присосавшись, буквально льнет к жертве — всплывает ощущение визионерской наколдованности картины. На что мы смотрим? Да полно, подлинно ли то, что нам показано, не игра ли тут в сновидение? Но спектакли Гротовского не были онирическими спектаклями. Все происходит не во сне, а наяву.
Энрике силится успеть сказать, взахлеб, о неудачном бое, о потерянных знаменах, о тех звездах, что он увидел, упав на землю, о душе. Как раз на этих тактах его возвышенных, печальных слов о том, что сердце кричит и плачет, когда его настигнет боль, Двор в первый раз «раскидывает руки в широких черных рукавах, как взмахи жестких крыльев, и испускает крики хищных птиц»81. Карканье и клекот повторятся в спектакле еще не раз.
Может быть, мы смотрим спектакль о стае? Ворон, людей — значения не имеет. О стае, кружащей вокруг живого тела: они не успокоятся, пока не умертвят.
Но вот мерцающее, шелестящее мелькание и суета Двора внезапно обрываются.
В этой стае есть свой Царь.
На хриплом вскрике хищных птиц, на взмахе темных крыльев Царь, улучив момент, идет в атаку. Идет на резкое, обдуманное, 290 одним разящим махом сближение с еще живым врагом. Приходит «час ворона».
Столкнув с помоста Таруданте — потихоньку подбиравшегося к узнику, чтобы понять, живой ли он? — Царь всходит на помост. (Таруданте валится на землю, издавая жалобный, протяжный крик.)
Царь становится над узником, лежащим спиной на досках. Сгребает в горсть рубаху на его груди, протягивает пленника меж ляжками, потом, покрепче захватив в кулак за ворот — как за удила, — приподнимает и все выше, выше тянет к себе: взнуздал.
Торжественно, на трепетно-высокой ноте Царь начинает декламировать. Звучит одна из самых поэтичных строф, один из самых поэтических пассажей драмы:
«… Но я нашел такого скакуна,
Которого никто не оседлал доныне,
Он был сплетен из пламени и ветра,
Тот, чьим отцом была гроза,
А матерью — огонь…»82
В этот момент и в фас, и в профиль пластика актеров напоминает коня и всадника.
Стиснув цепко, намертво за ворот горло Энрике, Царь все выше, все ближе к своему лицу подтягивает узника. «… Когда взлетал он, — голос Царя звенит пронзительно-высокой нотой, — это был орел!»
Встреча возвышенного текста с низменными импульсами действий была одним из ключевых моментов театральной поэтики Гротовского. Здесь наслоения высоких слов на гнусный жест не просто несовместны — они кощунственны, но мизансцена длится, и длится, будто вздернутая в воздух, пытка узника. Он конвульсивно сопротивляется, но Царь, схватив покрепче, зажимает ему глаза и нос, а сам, сжав его левую ладонь, притягивает и кладет ее себе на сердце.
В эту минуту Двор, словно очнувшись, вновь испускает крики хищных птиц.
Лицо Энрике сводит судорога боли, тело охватывает дрожь. Тело Царя, в сцеплении с ним, все больше выгибаясь, все больше напрягается. (Двор снова испускает крики хищных птиц.)
Божественные стихи драмы льются далее:
«… Я хотел
В снег горный превратить все воды для него,
291 Пусть гордо он ступает,
Тих, как дитя».
Именно эти строки из монолога жертвы Гротовский отдал его мучителю.
«… Но на его загривке и на его седле
Я поднимусь!»
Тональность звука все острее.
Узник, впитывая декламацию, вдруг начинает учащенно, лихорадочно — быстрее ритма слов Царя — пульсировать всем телом ему навстречу. (В третий раз Двор испускает крики хищных птиц.)
Голос Царя становится все выше и пронзительнее. Он неподвижно смотрит поверх голов, вдаль, в вышину. Оба тела напряжены, царский голос резок до нестерпимости. Мы ощущаем: он впитывает, он «сглатывает» пульс узника. Внезапно оба застывают. Последние слова Царя: «Но чую под моим седлом его хребет разбитый!..» Удар гонга. Царь отпрыгивает в сторону, к ограде, выпустив добычу. Энрике, вскрикнув, рухнул спиной на подиум — как был, руками в стороны, вразброс, «крестом».
Эта жестокая мизансцена повторится в спектакле дважды. Повторится с тем же самым рисунком действия, с тем же самым текстом — как с первым узником, так и со вторым. Но это будет позже.
Однако для Энрике пытка не завершена. В следующий миг, без всякой паузы, Гротовский вводит эпизод рискованного обострения: оскопление инфанта. Его нет в драме Кальдерона.
Сам по себе мотив насилия, мотив недопустимого посягательства на личность не был каким-то новшеством Гротовского: насильственным страданием пронизана вся пьеса. Но до такой предельной крайности ни в подлинной истории, ни в пьесе «дело о двух инфантах», попавших в плен, не доходило. Режиссер продлил путь узника еще на несколько шагов. Он вычитал возможные последствия, предельные и запредельные последствия, из ситуации властителя — раба: власть метит не в политический или военный, и даже не в религиозный узел, а в самый корень людского существования.
В таком неожидаемом, катастрофичном, «хищном» повороте менялось очень многое в спектакле: менялось направление угрозы силы.
Царь, сжав кулак, дает сигнал. Фениксана покоряется его велению. Но все то время, пока она, обманными движениями пытаясь 292 оттянуть чудовищный момент, намеренно замедленно, запутываясь в складках, вытягивает нож из-под полы плаща, ее сухое тело бьет, выгибая, лихорадочная дрожь. Вот она приблизилась к Энрике, и вместе с легким, тонким, чисто символичным жестом «отсечения» меняется необратимо смысл действия: помост для пыток стал ритуальным ложем. Конвульсивный стон Энрике. Еще секунду он неподвижен (рука беспомощно сжимает белую набедренную повязку), но в следующий миг — придворные не дремлют — его уже сметут с помоста, мы даже не успеем заметить, как и куда. В мгновенье ока переоденут в униформу, общую для всех: серые бриджи, узкие сапоги, плоский беретик.
Наступает вторая часть спектакля.
Сквозь тесный проем в ограде, мимо Царя и Фениксаны, прорывом — «языком безумного огня»83 — врывается Фернандо, второй инфант. Его не вталкивают, он вбегает сам. В белой рубахе, босой, закутан в красное. В пол-оборота, «штопором», через плечо — споткнувшись, падает. Двор замирает.
Царь приветствует Фернандо с преувеличенным почтением: «Неужто вижу я Инфанта? Счастливый день! Сдайте шпагу…» Двор настороженно наблюдает. Фернандо, все еще лежа на земле, поднявшись на локтях, к Царю — с мольбой: «Только тебе отдам оружие святое». Двор оживляется: есть шанс отпраздновать прибытие «новенького». Энрике, ликуя, пляшет, дробно пристукивая каблуками. Меж тем и Двор не дремлет: схватив с земли упавший плащ, вернее, плат Фернандо, закручивают в него пленного, раскачивают, подбрасывают. В воздухе красный плат распахивается — узник обрушивается из рук придворных. Его подхватывают, с почтением укладывают на подиум. Неподвижность. Тишина. Фениксана, в приступе проклюнувшейся жалости, прильнув к нему, немного стонет, слегка посвистывая, но тут же отстраняется…
Царь отгоняет Двор. Пространство вокруг подиума пустеет. Фернандо там — один, безропотный, беспомощный. Молчит. Царь ложится рядом и доверительно, и очень важно, посвящает узника в проект обмена: жизнь за жизнь. Жизнь Фернандо — за жизнь жителей города Сеуты. Фернандо не отвечает. Вбежавшего Мулея Царь демонстративно подсекает злой подножкой: тот валится на землю, скрючившись от боли, его тело бьет дрожь.
Узник молчит. На его лице, сквозь внутреннюю тишину, все явственнее проступает что-то для Царя необъяснимое: не отчаяние, не мстительность, не сила. Но и не слабость — юность и наивность.
293 Царь кружит неотступными кругами возле помоста. Его оружие при нем: его стихи звучат все жестче, все пронзительнее. Звуковая завеса привычных ноток авторитарной власти становится все гуще. Несовместимость двух природ: Фернандо говорит Царю с надеждой, даже с лаской: «Сеньор, не оскудеет ваша длань для пленных в милости…» В ответ — молчание Царя.
Двор снова просочился в зал, поближе к новенькому. Затевают, ради его забавы и устрашения, малую корриду. Красный плат Фернандо умело пристроен в дело, остро мелькает перед беспомощным лицом. Издевкой — почтение к узнику-«быку»: стук подошв и каблуков, «испанские» изгибы силуэтов, всплески рук, рокочущая, с писком, голосовая жестикуляция Двора. Новенький пришелся по душе: с ним будет легче, чем с тем, первым, может, его и вовсе стоит «обожествить» — такой тихоня!.. Смена эпизода — новый виток игры. Процессией двинулись вокруг помоста, впереди Энрике на коленях ползет с молитвенно закрытыми глазами… Но «всерьез» не получилось, сорвались, как обвалились, в ерничество. Чинность протяжной, скорбной литании перебивается давно для них привычным ритмом с перепадами, «с подскоком».
Фернандо смотрит тихо, серьезно, без обиды. Молчит.
Для новенького наступают испытания по всем ступеням большого поглощения: «прослушивание», «взнуздание» и «оскопление». В церемониале, в котором Царь и Двор приступят к своим уже обкатанным делам, почти зеркально повторятся события с Энрике: и в пространстве загона-подиума, и в мизансценах. Однако что-то будет иным.
Текст участников всех стадий церемониала остался тем же, что был в начале: «Пойте, слуги! Пойте, рабы!..» Но тут внезапно обнаружится неслыханный пробел: исчезли слова жертвы. Нет его текста, нет его стихов. Узник молчит. Никак не реагирует. Ни жеста, ни движения, ни стона.
Двор в удивлении, шушукаются, шепчутся, покашливают. Энрике все приготовил для процедуры: держит красный плат Фернандо, как полог, на раскинутых руках — держит, хотя глаза стыдливо прячет. «Пойте, слуги! Пойте, рабы!..»
Молчание.
Царь всходит на помост. Сгребает в горсть рубаху узника: «Ведь я нашел такого скакуна…» Но острый, стрелой звенящий голос не достигает цели. С первого же такта Фернандо отказывает, жестом, Царю в своем согласии. Что же дальше?
С появлением Фернандо в спектакле начинают происходить какие-то невиданные вещи. На одном из снимков запечатлен момент: 294 в лице Царя, совсем уже «взнуздавшего» Фернандо — страдание; глаза — в глаза, в них тоже боль. Возможно ли такое? Кто они друг другу, эти двое, Царь и Фернандо?
Его, конечно, снова вздернут, его опять поднимут над помостом. Но на последних словах Царя — «Но чую под моим седлом его хребет разбитый!» — Фернандо опадет на доски бесшумно и без вскрика. Третье действие церемониала — оскопление — не состоится. В миг «отсечения» наступит перелом: Фернандо тихо положит на темя Фениксаны руку — она уронит нож. Двор в остолбенении: смотрят друг на друга, не понимают, шепчутся. Минута искреннего изумления: что происходит? Узник в их руках, но он не их.
Молчание и тишина. Но режиссер не облегчает участи Фернандо, не облегчая и задания актеру. В коротких минутах, отпущенных ему на тихое сопротивление, только начало его пути. Не дав согласия на обмен, он добровольно приносит себя в жертву. Кальдерон испытывает своего героя долгой пыткой голодом и жаждой. Гротовский — короткой пыткой бичевания.
Двор снова — по углам, в тени. Конус света, падающий сверху, выхватывает только две фигуры. Кольцо вокруг помоста сжимается еще теснее.
Мы снова видим фрагмент события: кусочек из дозволенного нам, сидящим наверху. Как в приоткрывшуюся створку фонаря чудес, как в сдвоенном окошке стерео — в слепящем, жестком свете — оптически рельефный кадр: Фернандо на коленях на земле, плечами на помосте, ничком. Багровым платом, скрученным в тугой, тяжелый жгут, принцесса Фениксана его хлещет. На каждый удар жгута тело Фернандо то вскидывается, то опадает, то снова, с силой, с болью, вбирает в себя удары. Все происходит под одобрительные низменные кашель, писки, воркотню Двора. Без всякой жалости к нам, зрителям, глядящим сверху, — выхлестывается напрочь из прошлой памяти иллюзия о том, что бичевание — высокий образ. Оно на самом деле было и осталось, и пребудет действием обыденным, блудливым, темным. Заурядным.
Но Фернандо встанет. На его пути еще три скорбных плача о смысле жизни, о Божьей справедливости. Своеволие Гротовского внутри творения испанца не безгранично: три Плача-монолога не только не отброшены, напротив, прозвучат «со сдерживаемой силой урагана»84. Размах велик: от кроткой тишины, теперь уже ненужной, до разрастающейся жалобы на страстном крике.
То, что происходит в спектакле дальше, трудно описать как сцены, фрагменты или эпизоды действия. «Все наши попытки так 295 или иначе зафиксировать происходящее — записать, зарисовать, заснять — нам кажутся бессмысленными: реальности трех монологов Стойкого принца не передать»85.
Реальность перехода в иное состояние и в самом деле не передать. Волной, накатом, от Плача к Плачу, Фернандо — Чесляк поднимался к просветленности. «Не передать происходившего. <…> Не передать транслюминации — вот этого людского существа, не передать вибрации всего пространства. Текст произносится на скорости немыслимой. Дыхание почти неощутимо, неуловимо, незаметно86. <…> Но степень обнаженности — невероятна»87.
Три монолога, скрепляющие весь спектакль как арматурой, три Плача-монолога актера вздымаются до неба. Его глубокий, мощный голос то нарастает до звучания набата, то понижается до шепота. Этот голос осязаем; плотным касанием звука он раздвигает глухие стенки тесного загона, заполняет весь верх над ним, звенит объемным куполом, рождает эхо.
«Есть в этом создании актера какое-то психическое излучение. Это трудно определить иначе. Все, что технично, становится в вершинные моменты роли просветленным изнутри, легким, буквально невесомым»88.
«Передо мной был актер, — так записал в своих заметках еще один свидетель. — Актер, нашедший в себе… особенную уязвимость открытой раны. Ни разу не возникло желания узнать, как он достиг этой вершины: была опасность целое разъять на элементы. <…> Все его тело было насыщено фосфоресцирующими частицами. Это была неистовая сила урагана. Сила такого натиска, что большему, казалось, уже не вырваться наружу. И все-таки намного более могучая, высокая и свежая волна неслась из его тела, и била, и рушилась на все, что было вокруг него»89.
Не стоицизм в несчастьях, а что-то совсем другое — ключ к Фернандо. Отказ от силы силой. «Радостная жертва». Отдав себя всего, все более слабея, он станет, необъяснимым образом, источником все нарастающего энергийного потока90.
И все же, ради чего приносится немыслимая жертва? На что и на кого обращена непостижимая энергия? Таким вопросом задавался каждый, кто это видел. Но вспомним: волна неслась, и била, и рушилась на все вокруг…
Ближе к финалу свои метаморфозы переживает даже вороний дворец Царя. Неслабая, недобрая энергия нападений и пробежек становится почти неуправляемой. Вспышкой — минуты ревности, соперничества; вспышкой — секунды неповиновения.
296 Вторжение Фернандо — Чесляка меняло многое в спектакле. Но путь его страдания меняет что-то большее. В скорбном, великом жесте Пиеты измученное тело Принца примет на колени — нежданно, против разумения — то странно-двойственное существо с лицом, закрытым волосами: правитель Таруданте. Как бы пробудившись, Таруданте меняет, а может быть, находит свою сущность, но находит тоже силой жертвы страдания Фернандо.
Узник умирает. Звучат чуть-чуть трескучие, хлопками птичьих крыльев, аплодисменты. Это придворные. Они довольны: почтительно и осторожно рукоплещут друг другу. Двор возвратился к своей прохладной, смутной, отцеженной бесчеловечности.
И только Таруданте — неловко, молча — все силится свернуть полу своего длинного военно-прокурорского плаща в какой-то сверток, свое «дитя», и потихоньку, неумело его качает, и издает мучительный, протяжный стон. Стон резко прерван, «отсечен»: погас прожектор. Темнота.
Актеры в полной тишине выходят.
На помосте остался мертвый узник. Его тело, распластанное навзничь, покрылось, захлестнувшись, его же красным платом. Свет возвращается: прожектор светит только на него…91
В архиве вроцлавского Театра-Лаборатории хранится легендарный плат Стойкого принца: прямоугольник полотна, сурового, немного выцветшего, когда-то цвета крови. Там, где он покрывал лицо актера Ришарда Чесляка, навсегда остались два темных небольших пятна: следы его дыхания.
Натэлла Башинджагян
2002
297 ВОЗВРАЩЕНИЕ ХРИСТА92
«Апокалипсис» давно нуждается в описании. Плод творчества театра, созданный всеми участниками совместно, соборно, он был заранее задуман и расписан на соответствующие инструменты, на конкретных актеров труппы. «Апокалипсис» — самый зрелый плод поистине монашеского труда вроцлавского Театра-Лаборатории. И, наконец, он подлинное театральное событие, и не только в масштабе Польши, а это случается у нас не часто. Его надо бы записать как можно полнее, как можно точнее, пока спектакль не развеялся по ветру, не сошел с афиши. Надо бы, но как? Не часто мне приходилось при решении столь несложной, казалось бы, задачи испытывать столь адские трудности.
Обычно описание спектакля облегчает литературный текст, фабула, диалог. В «Апокалипсисе» литературного сценария практически нет, а текст представляет собой чуть ли не хаотическую мешанину цитат из Библии, Достоевского, Элиота, Симоны Вейль, церковных песнопений. Внешне они вообще между собой не связаны. Едва-едва маячат в этом коллаже неясные нити сопоставлений, ассоциаций; с трудом улавливается, что Симон Петр, бросая свои обвинения в лицо окружающим, говорит словами Великого Инквизитора из «Братьев Карамазовых», а Темный, защищаясь горько и жалобно, — стихами Элиота. Никакой фабулы эти тексты не создают, и характер они носят преимущественно вспомогательный, вроде реквизита. Сценическая поэма Гротовского вся целиком выстроена из актерских действий и переживаний: только в них и через них проглядывает фабула, проступает проблематика спектакля.
И та и другая — неясны, сложны, запутанны и многозначны. Здесь правят законы поэзии, а не прозы. Законы отдаленных ассоциаций, взаимно наплывающих друг на друга метафор, перехода одного образа в другой, одного действия в действие иное, одного смысла — в иной смысл. Метафоричность эта исключительно актерская. Она содержится в жесте и мимике, движении и интонации, мизансценах и шествиях, психических реакциях и контрреакциях между партнерами. Путем сближений, аллюзий, 298 намеков она вызывает в нашем воображении сцены библейские и сцены сегодняшних деревенских нравов, мешая символы литургии с эпизодами хулиганской пьянки, фигуру фраера из городского предместья — с царем Давидом, пляшущим перед Ковчегом Завета. Она множит и сталкивает значения и смыслы: лицо актера выражает совсем не то, что его жест, и уж совсем что-то иное в тот же момент содержит в себе реакция его противника: в голосе угроза, в глазах радостная ясность, в спазматической судороге тела — боль. Экспрессия актеров ослепляет нас виртуозностью, каждый актерский знак — точностью рисунка, но все это вместе наплывает одно на другое и бежит ускользая. Половину происходящего мы улавливаем лишь краем глаза, и хотя оно, может быть, и запало в сознание, но, чтобы его подробнее описать, следовало бы каждый такой актерский момент просмотреть многократно и каждому посвятить по целой печатной странице, как, впрочем, и полагается при анализе всех поворотов и смыслов каждой строфы в прекрасном стихотворении.
И лишь в сумме всех смыслов рождается общий смысл. Смысл многослойный: в густоте значений, в их обилии множество сознательно подчеркнутых противоречий, разыгранных со всей несомненной логикой и, казалось бы, ясностью, чтобы в результате сложиться в неясность. Говоря языком живописи, все образы «Апокалипсиса» оперируют полутонами. Или скажем иначе: в «Апокалипсисе» поражает плотность материи. Плотность поэтическая и плотность мысли. И вместе с тем — простота. Гораздо легче воспринять его как поэму, чем рационально объяснить свое понимание.
Многие из тех критиков и театральных людей, кого театр Гротовского не убеждает, тут-то как раз и усмехнутся, конечно. Правда, теперь уж они не станут утверждать во всеуслышание, что, мол, все это галиматья, безобразие и по сути муть. Они ведь кричали об этом так долго, многие годы; а впрочем, трудно им удивляться: язык Гротовского, сложный и яркий, как бы содравший с себя кожу банальностей, саркастичный и экстатический, не умещается в их ветшающих схемах. Им пришлось бы преодолеть внутреннее сопротивление, которое у них намного сильнее, чем у обычной, нормальной публики. Той публики, в особенности молодежи, которая уже выросла в ином мире, воспиталась на иной литературе, на совсем иных фильмах и иной живописи. Эту публику не смущает неполная ясность или вызывающее ерничество происходящего, она лишена предубеждений, она впечатлительна — и часто, как об этом мечтал Арто, «метафизику впитывает 299 порами кожи». Нарастающая волна молодежи и ее весьма интересное с социологической точки зрения увлечение Гротовским в последнее время лишает покоя многие «авторитеты». Но зато результат несомненен: оппоненты притихли. К тому же им закрывает рты всемирная слава вроцлавской труппы. Смотрите-ка, вот уже они время от времени снисходительно буркают, что, мол, есть, конечно, в этом что-то весьма любопытное… Ей-богу, даже приятно взглянуть на подобную передислокацию сил. Но вернемся к «Апокалипсису». Насмешка противников спектакля здесь звучит куда менее убедительно, чем может им самим показаться: в самом деле, разве легко одной фразой определить, о чем рассказывает поэма «Бесплодная земля» Элиота? Ну — о чем?
Неясная фабула «Апокалипсиса» повествует о возвращении Христа. О сегодняшнем возвращении к нам, в нашу жизнь. «Христа» придумали просто так, ради потехи, пятеро каких-то проходимцев, случайно оказавшихся вместе: лихая забава. Но разве он, придуманный, тем самым — ложный? Он, этот Христос, вновь проходит весь свой тернистый, весь крестный путь и — терпит поражение. Однако терпит ли? И разве все это так уж несомненно? Эмоциональная сила «Апокалипсиса», сила его мысли кроется в этих знаках вопроса. Если бы Гротовский хотел лишь сказать, что «Бог умер», он повторил бы следом за Достоевским истину, ставшую, к сожалению, настолько банальной, что ее не стоит и повторять. Кого бы он этим затронул? Разве что нескольких, особо чувствительных католиков, остальные же зрители, уходя со спектакля, остались бы равнодушны. Но вопрос: «Умер ли Бог? Разве Бог умер?» — затрагивает самую суть, самый узел проблем отнюдь не банальных. Тем более, что в метафорическом языке «Апокалипсиса» Бог, или Христос, не обязательно должен означать иудео-христианского личностного Бога. Он может означать великое множество самых различных человеческих проблем.
Например, некую неосознанную психическую потребность, не обязательно индивидуальную, а, может быть, общую, соборную: потребность отеческой опеки, или всечеловеческой любви, или высшей справедливости, или искупления вины. Иначе говоря, архетип. «Архетип» — слово, ставшее ныне достаточно модным, а сам Гротовский когда-то употреблял его поминутно. В юнгианском понимании «коллективного бессознательного» архетип, на мой взгляд, не так уж и ясен. Удачнее, как мне кажется, положение, согласно которому архетипом является сама потребность, общая для многих культур и многих эпох и выражающаяся посредством определенных сюжетов или мотивов. Вообще же принято называть 300 архетипами попросту сами эти мотивы, или же, как считает Леви-Стросс (далекий, впрочем, от энтузиазма по этому поводу), «определенные мифологические темы, с которыми, согласно Юнгу, принято связывать определенные значения». Такой темой, несомненно, является Христос, разумеется, как христианский миф, а не как лицо историческое. Поэтому вопрос: «А умер ли Христос?» — оказывается, таким образом, вивисекцией над самим мотивом, сформировавшим всю нашу европейскую культуру. В результате этой вивисекции он оказывается и вопросом о сегодняшней жизнеспособности определенного узла, сплетения архетипов. Живут ли они в нас по-прежнему как внутренняя потребность или же они умерли?
Вивисекция протекает холодно и вместе с тем яростно.
Гротовский подвергает миф о Христе испытанию кощунством, испытанию цинизмом и, в конце концов, испытанию той наиострейшей из всех существовавших доныне словесной аргументацией, которая содержится в «Братьях Карамазовых». Дабы содрать с великого мифа его золотые одеяния, в которые облекли его и религия, и традиция, и просто привычка. Чтобы встал он пред нами нагим и так, нагим, защищался.
Сцена тоже нагая. Нет, сцены нету. Есть небольшой зал без окон; черные стены. Из угла от пола наискось вверх светят два прожектора, по стенам расставлены четыре простые скамьи для зрителей. Нас разместилось тут не более трех десятков. Зрители мы или, быть может, свидетели того, что здесь происходит? На полу, в беспорядке разбросанные там и сям, лежат актеры — изнуренные, апатичные, как будто с похмелья. Костюмы белого цвета (покрой современный, нейтральный) лишь отдаленно, намеком характеризуют действующее лицо: тот, кто будет Иудой, выглядит как мещанский фраер-красавчик из предместья, вот только сорочка выбилась из брюк, по пьянке не замечает… А будущий Симон Петр сидит молча, сгорбившись, как дремлющий пастух среди овец, прикрывшись белой кошмой, но она вдруг получит совсем иной смысл, жреческого одеяния, когда Симон станет магистром-распорядителем церемонии и главным антагонистом Христа.
С пола подымается какая-то девушка, заводит неясную речь, сначала тихо, потом все громче и громче. Речь переходит в песнь, исполняемую по-испански52*. Ей вторит по-польски тот, кому быть Иоанном: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть 301 Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни». И далее: «Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие». В этих первых же фразах уже звучит объяснение многих странных, шокирующих кощунств спектакля: поедание тела и питие крови поняты тут как раз «истинно», то есть дословно. И, как следствие, сама любовь — понятие для истории Христа ключевое — будет трактована тоже дословно: через эротику. Конечно, эротику мистическую, как в текстах Св. Иоанна Креста53*, где мистика и эротика суть одно и то же, а все в целом получает оттенок, способный нас сильно смутить: Бог тут выступает как возлюбленный, Он, а Иоанн — возлюбленная, Она (душа). Эта традиция своими корнями уходит в «Песнь Песней», самую чувственную религиозную поэму, какая нам только известна; «Апокалипсис» черпает и из нее, причем строфы отнюдь не самые пресные, хотя бы вот эти: «Возлюбленный мой протянул руку свою в скважину, и внутренность моя взволновалась от него». (Да-да!) Конечно, эротикой в этом контексте станет также и антитеза любви — ненависть. На этой канве, телесной и вызывающе стыдной, основана вся диалектика провокации и кощунства, с одной стороны, и преклонения перед мифом, тоски-тяги к нему — с другой. Вся вивисекция мифа.
Так и лежат они, скучные, вялые — и физически, и духовно. Мир пуст, от него нечего ждать, ничто и никто не придет, не будет Годо54*… И все-таки что-то среди них возникает, происходит какое-то шевеление: это она, девушка, которая пела. Вот она беспокойно бегает между лежащими, прижимая к груди, как младенца, большую буханку хлеба. Это вызывает любопытство. К ней подбегает самый молодой из мужчин, Иоанн, расстилает на земле белое полотенце, девушка кладет на него хлеб, и оба его «пеленают». Иоанн вытаскивает что-то из-за пояса, но только наполовину (фляга с водкой?), девушка припадает и громко, захлебываясь, сосет из нее. Потом пригибается Иоанн и тоже сосет, «лакает». Девушка сует ему в руку нож, Иоанн ударяет им в землю, хватает буханку, заталкивает ее под себя и, лежа на ней, производит несколько быстрых и недвусмысленных движений. Девушка мечется вокруг в беспокойстве, мужчина вскакивает и бежит с хлебом, она его настигает и пробует вырвать буханку. Борьба: он ее отпихивает, 302 она падает. Он бросается навзничь на землю, прижимает хлеб к животу, снова несколько рывков бедрами, пока он наконец, выгнувшись в напряжении, не опадает на пол. Лежит, тяжело дышит. Девушка вырывает у него хлеб, отбегает, кладет буханку на землю и дважды вонзает в нее нож — каждый удар вызывает стон лежащего на земле мужчины, как если бы нож вонзался в него самого.
Это лишь короткий актерский эпизод, и такими эпизодами, плавно переходящими друг в друга, плывет, нарастая, спектакль. Вот он, пример многозначной актерской метафорики. Хлеб здесь становится пищей, младенцем, причастием, а примитивный, на скорую руку, на куцей салфетке состряпанный «перекус» (где-то в углу, как на вокзале) перерастает в кощунственный эксцесс эротизма, кончаясь вожделенным убийством — дитяти, мужчины, Бога.
Профанация Причащения оживила собравшихся. Может, и вправду позабавиться? Взять и вызвать Спасителя? Сотворить его заново (иначе ведь не получится), а там поглядим, что из этого выйдет.
Симон Петр говорит: «Встанем». Распределяет роли, каждому назначая: «Мария Магдалина», «Лазарь», «Ты, Иуда, укажи нам Его». Названный Иудой указывает на Лазаря; нет, обманулся, с этим не будет потехи… Симон удаляется в угол и оттуда, из полумрака, вытягивает на свет кого-то, кого мы до сих пор вовсе не замечали: фигура немного нелепая, растерянный сельский простак, дурачок, деревенщина. Это — Темный (актер Ришард Чесляк). Стоит сгорбившись, в старом, с чужого плеча темном плаще, втянув голову в плечи, босой, в руке белая палка, хотя он и зрячий.
«Темный» многое может значить: может быть, просто единственный в темной одежде, но, может быть, также и неизвестный, неясный, загадочный. А также и человек с затемненным рассудком, реального мира не видящий. И, наконец, «темнота» — не умеющий жизнь понимать так, как мы, «просвещенные», ее понимаем, то есть наивный. «Темный» во всем противопоставлен всем прочим: от цвета одежды до актерского «нутра». У него другая шкала ценностей, добро и зло для него чувства простые и спонтанные, он «неиспорченный». А может быть, он сельский юродивый, «меченый богом»? А может, даже сам сатана? Все эти значения возможны, и все эти значения внушает нам Чесляк: это его великая роль, пожалуй, более совершенная, чем предыдущая, Стойкого принца, хотя и менее эффектная.
И сразу же Темный становится объектом провокаций и нападок. Издевательский смех всей «теплой компании» бьет в него волнами 303 после каждого слова Симона Петра, творящего этим словом событие: «Ты в Назарете родился. Ха-ха-ха! Вот ты — младенец. Ха-ха-ха! За них принимаешь смерть на кресте. Ты — сам Бог. Ты умер за них. А они тебя не узнали. Ха-ха-ха!» Хором поют известную церковную песнь «И висел на кресте…». Все уже втянулись в эту потеху, но под градом насмешек и издевательств чувствуется внутреннее напряжение: а что, если?.. Темный понемножку тоже втянулся, может, он попросту хочет быть с ними вместе, хочет участвовать в общей забаве, хоть и ценой насмешек. Но не тут-то было: компания, атакуя его, тут же его отвергает, упрямо не замечая, якшаясь только между собой. Тогда он, впав в беспокойство, начинает свой бег вокруг них, останавливаясь то перед одним, то перед другим, просительно заглядывая им в лицо и тихо посвистывая, как бы приманивая птицу, как бы прося. Напрасно, он по-прежнему вне их и даже мечется, как в кольце, только по внешнему кругу. А между тем наплывают новые потоки глумления, искушений, розыгрышей и насмешек. И в этот момент Симон Петр, вскочив на спину Темному, оседлав его и яростно погоняя, мчится по залу во весь опор галопом среди диких выкриков остальных, и летит за спиной его жреческий белый плащ… «Всадником Апокалипсиса стал здесь сам Папа. Мчит на плечах апостола» — так написал об этом эпизоде польский поэт и драматург Хельмут Кайзар. Нет, не апостола, а Христа, да и смысл такой трактовки, может и допустимой, кажется мне не единственным: важнее здесь, думается, прямое, обычнейшее и будничное «превращение в коня», «осатанение» Темного — свирепый подъем в галоп, чтобы одичал и понес…
И в самом деле, Темный теперь уже обезумел. Он сбрасывает на землю Петра и мчит дальше по залу один, все так же галопом, в порыве какого-то дикого вдохновения, выбивая босыми ногами ритм странного синкопированного пляса, пляса и бега одновременно — дионисийского пляса и безнадежного бега, бега отчаяния. Да, это пляс: тут бог — Дионис, но он же — царь Давид, пляшущий перед Ковчегом Завета, и снова — Христос. Когда-то Гротовский мне говорил, что в одном из позднейших апокрифов есть упоминание об «Иисусе танцующем».
Внезапно пляс оборвался, Темный упал. Но что-то в нем шевельнулось, он почти что уверовал… Тут злая потеха рассыпается на произвольные, слабо связанные между собой эпизоды, будто собравшимся невдомек, что будет дальше, как им, заварившим всю эту кашу, ее расхлебывать; будто на ощупь, ищут они продолжения действия. Поток представления, до тех пор струившийся 304 прихотливо и сложно, но динамично, напористо, теперь растекается в разные стороны, разливаясь в заливчики и озерца, тормозясь и застаиваясь по пути. Звучат какие-то Иудины притчи, россказни фраера о девах мудрых и девах глупых, отрывочные и бессмысленные, попросту сальные; следом — цитаты из Библии; тут же — разные элементы детских забав; и внезапно — взрыв бешеного оргиастического танца всей кодлы, исступленно поющей и отбивающей ритм «Гуантанамеры», модного шлягера прошлого сезона, чуть ли не каждый вечер звучавшего на дансинге вроцлавского отеля «Монополь»… Есть и моменты полного расслабления, когда ничего не происходит. Но вместе они создают атмосферу и выстраивают драматургию всех тех эмоциональных напряжений, которые несут в себе следующие чередой актерские эпизоды.
Между ними нет резких «швов», жесткого стыка сцен-«кубиков», как у Брехта. Монтаж «органичен» — не «механичен»: эпизоды взаимно вплывают друг в друга, как тучи, как волны, как клубы дыма. А среди них появляются то тут, то там эпизоды и с евангельскими «фигурами», хронологически смешанные напоминания о том, что когда-то происходило в истории Христа.
Напоминания призываются, конечно, для зрителей, но в первую очередь — и со все большей серьезностью — для Темного. Симон Петр вызывает из небытия сцену, когда был копьем пронзен бок Распятого. Внезапный громкий окрик Симона: «И увидел я воду, истекающую из правого бока святыни, аллилуйя!» — все бросаются, отпихивая друг друга, к Темному, припадают к нему и, обнажив ему бок, по очереди впиваются ртами, хлюпая и жадно сося. А отпадая, странно тучнеют, как пиявки. Последний отпавший, свалившись на землю, бормочет с клокочущим призвуком, будто рот его полон вязкой и липкой жижи: «Водка сидит в нем, а не кровь».
Эпизод воскрешения Лазаря — тоже забава: разлеглись на полу и расселись, начинают игру в панихиду, в восточную тризну с плакальщицами, со стенаньями, с подвыванием. Темный долго, как зачарованный, вглядывается; он явно тронут, взволнован. Наконец произносит важно и с силой: «Встань, Лазарь! Тебе говорю я!» И Лазарь встает, но идет, надвигаясь на Темного угрожающе, как хулиган, будто хочет ударить. Он проговаривает слова долгих жалоб из «Книги Иова» прямо в лицо Темному, и из слов его хлещут попреки — зачем его воскресили, зачем недозволенно был нарушен естественный ход вещей, нарушена его смерть, и все из-за сельского дурачка… Он говорит, зажав в кулаке ту буханку, 305 что в начале спектакля терзали ножом. Разломив ее, он выгребает из нее мякоть, как бы раскапывая могилу, и, слепив в грубый ком, дважды бьет этим комом Темного по лицу: он «побивает камнями» его, камнями — но хлебом, камнями — но собственной плотью, собственным трупом, комком разложившейся, липкой, бесформенной серой массы. Мутный взгляд его проясняется, чувствуется облегчение от того, что удалось расквитаться за поступок юродивого, за непрошенное вторжение, за нарушение человеческого права на смерть.
Атака тем временем продолжается. Новый довод против Христа и Темного подбрасывает присутствие Магдалины. Но этот довод вдруг лишается убедительности. В какой-то момент Иоанн (для многозначной эротики этой сцены важно, что это именно Иоанн) приводит юродивого к потаскушке. Он ведет Темного к девушке: «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих; с нею блудодействовали… и вином ее блудодеяния упивались…» Темный подходит, они с Магдалиной смотрят друг другу в глаза. Ласково обнимаются и отходят в тот угол зала, где светят вверх под потолок наискось два прожектора. Становятся перед ними — просветленные, сияющие, а зал внезапно темнеет. Теперь их движения замедленны, сонны, они будто бы заново открывают собственные тела — удивленно-затихшие, робкие — и кажутся ожившей скульптурой. Иоанн сбрасывает куртку на землю и, оставшись один на середине зала, полунагой, начинает медленный бег на месте, влекомый к ним, к этой паре. Натянутый как струна, настороженный и легкий, он подобен Оленю из LIX сонета Ронсара, из книги «Любовь к Кассандре». Темный и Магдалина медленно отклоняются друг от друга в противоположные стороны, ее тело начинает выгибаться дугой — Иоанн ускоряет свой бег, все быстрей, все стремительней. Слышно его учащенное, прерывистое дыхание, быстрый, тихий топот ног и едва слышный посвист ветра вокруг головы, а может, это веет ветер вдали? Где-то там, далеко, — собачий лай, отзвуки жизни природы, мир раздвигается, оставаясь недвижным. (В полумраке не видно, кто из актеров создает голосами этот звуковой фон.) Тело Магдалины внезапно теряет напряжение, оба расслабленно опускаются, и в ту же минуту бегущий, вздрогнув, останавливается как вкопанный, будто пронзенный стрелой. Метнувшись на другую сторону зала, он снова тихо, потом все быстрее начинает свой бег к паре влюбленных, а они снова медленно отклоняются друг от друга. Теперь Темный стал луком, а Магдалина тетивой — внутренне полные чувством, в ореоле слепящего 306 света, сами светящиеся, почти мистические. Небывалое впечатление этой сцены не столько в праархаичном сравнении охоты с любовным соитием, сколько в ее робкой, несмелой чистоте — несмотря на всю откровенность бесстыдного образа. Быть может, то была актерски самая рискованная и самая глубоко лирическая любовная сцена, которую я когда-либо видел в театре.
С этого эпизода Темный незаметно начинает брать верх. Наивностью, чистотой, добротой, смирением. С ним, оказывается, ничего невозможно «поделать». И вот тогда снова усиливается главная линия провокаций Симона. Провокаций и обвинений. Сначала урывками, в две-три фразы, потом все длиннее, полнее начинают звучать речи Великого Инквизитора из Поэмы Достоевского:
«Двадцать веков уж минуло тому, как Он дал обетование прийти во царствии своем, двадцать веков, как пророк его написал: “Се гряду скоро. <…> О дне же сем и часе не знает даже Сын, токмо лишь Отец мой небесный”. <…> Но человечество ждет Его с прежнею верой и с прежним умилением. О, с большею даже верой, ибо прекратились залоги с небес человеку». И дальше: «Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми?» И еще: «Зачем же Ты пришел нам мешать?»
Темный защищается мягко, не агрессивно. Звучат строфы другой поэмы:
«Раз уж нет у меня надежды, что я сумею вернуться,
Раз уж нету надежды,
Раз уж нету надежды вернуться,
Не пытаюсь бороться ни с вами, ни с миром,
К чему ж ты, старый орел, широко распахнул свои крылья?»
Это стихи Элиота. Тут Темный говорит уже как Христос, но все еще и как Темный: еще он не принял вызова, еще внутренне отступает отшатываясь. Его ответ стихами Элиота звучит ответом на нападки Симона, но не впрямую: их разделяет череда прочих сцен.
Рассказывая о поэме Гротовского, я немного упрощаю ее драматургическую структуру. И без того описание мое фрагментарно, хотя многословно. Но тут без многословия не обойтись. Коль скоро многие из вполне интеллигентных людей никак не поймут языка Театра-Лаборатории, надо же наконец показать, как это можно прочесть. И каким образом все это «пишется на сцене». Нужно также, хотя бы отрывочно, показать ту актерскую метафорику, что пронизывает током нервов «Апокалипсис». К такой метафорике не прибегает у нас ни один другой театральный коллектив. Никто не в состоянии так изъясняться. Нетрудно копаться рукой 307 в буханке хлеба, много труднее вскрыть и приблизить ассоциацию столь отдаленную, как могила. Да и кому, впрочем, пришла бы охота «всаживать» в каждую «очередную» премьеру столько коллективных, соборных усилий воображения и мысли? Все мы живем, питаясь каждый день простыми банальностями, да и предпочитаем ими питаться.
А еще в «Апокалипсисе» есть сила актерской экспрессии небывалого свойства и совершенно особой природы.
В самом деле, преобладание жеста, экспрессии тела над словом могло бы внушить мысль, что мы имеем дело с техникой пантомимы. Но в пантомиме мы видим больше внешнюю технику, череду знаков, требующих скорее искусности, нежели переживания. В группе Гротовского, напротив, актерское переживание, неслыханно интенсивное, обязательно касается самых подлинных и самых личных чувств актера. Конечно, едва ли нам удастся узнать их во всей глубине, и так некоторые утверждают, что это чуть ли не эксгибиционизм. И все же это не так: самообнажение актера тут не большее, чем у многих писателей и поэтов, и точно так же подлежит твердым законам композиции. Но зато тут самообнажение превышает самообнажение «обычных» актеров, у которых переживание является скорее работой воображения на тему роли, чем сознательным высвобождением самого себя из-под гнета, из плена и власти затаенных страстей, горестей, обид, воспоминаний, давних переживаний и торможений. Потому-то так велика у актеров Гротовского сила и правда выражения, потому-то столько здесь истинного творчества. Хотя творчества своеобразного: актерские действия кажутся здесь чуть ли не психоаналитическими «переносами», действиями «замещающими». Возможно, отсюда интенсивно эротическая окраска спектаклей, впечатление непрерывной игры агрессии и самоотдачи, садизма и мазохизма, ситуации жертвы и возмездия. Весь «Апокалипсис» вибрирует в этой диалектике.
Мрак. Это Симон Петр присел возле прожекторов, накрыв их плащом. Свет погас. Кто-то ходит, слышны шаги, легкое посвистывание, снова тишина. Долгая пауза. И мигающие огоньки свечей. Их вносят сами актеры: огромную «охапку» горящих свечей ставят перед Темным, сидящим на земле. Последняя часть спектакля пройдет уже при свечах. Прежде чем мы поймем, что означает эта перемена и эта цезура тьмы, прозвучат слова: «Вот жених идет, выходите навстречу ему», — и Темный отзовется на них как Христос. Теперь уж он им стал на самом деле, воплощение состоялось. «Один из вас предаст Меня», — говорит Темный. Иоанн по просьбе Симона спрашивает: «Господи, кто это?» А Темный, 308 схватив пальцами язычок пламени от свечи, быстрым движением чертит знак на лбу Симона. «Господи, а я?» — кричит Иуда, и Симон отвечает ему: «Иуда, сын Искариота, мы с тобой вместе». Да, это Симон, жрец-обвинитель, выступает тут предателем идеи, Иуда же — выскочка, фраер — лишь несущественное в его руках орудие. «Господи! Куда идешь?» — спрашивает Симон. Начинается путь на Голгофу.
Голгофа — сначала литургические песнопения всей компании: «Хвала тебе, великий и справедливый», «Агнец божий» (поют издевательски), а потом — великий плач Темного. Собственно, это скорее Моление о Чаше. Плач несется потоком, долгими всхлипами; захлебываясь рыданиями, Темный говорит и поет стихи Элиота: «Если слово погибло, погибло…», «О, народ мой, народ мой…», «Не время и не место мне тут быть, путь мой напрасный…» Свечи, отделенные от общей большой «охапки», мигают в разных местах зала. Одна стоит на земле одиноко, и под конец своего долгого плача Темный в экстазе мучений падает навзничь с раскинутыми руками к ней головой. Компания собирается у него в ногах: приглядываются к нему, светят свечами, стоят молча с горящими огоньками в руках. А та, единственная, одиноко горит у изголовья… Распяли его в конце концов.
Вновь взмывают вверх песнопения, на этот раз торжественные: собравшиеся ступают тихо, теперь с почтением. Но уже зарождается в их песнопениях оттенок нескрываемой радости: «Kyrie eleison», «Sursum corda»55*. Распяв его, они победили: заполучили себе мученика, объект культа, заполучили Бога. У них все теперь есть: Бог, обряд, святыня; а коль скоро есть святыня, то и торговлишку в самый раз развернуть. Звучат отрывистые возгласы, зазывные, как на базаре: «Нутро продаю. — Бабу. — Мать молящуюся продам. — Себя продаю. — Неостывшее тело Бога. — А ну, парное мясцо продаю…» Вот жизнь снова и закрутилась, вот в ней и смысл обнаружился, вот все и славненько.
Но Темный… Темный, который уверовал, теперь им этого так просто не спустит. Поднявшись резко с земли, он, обезумев от отчаяния, от боли, хлещет их в гневе скатанным в жгут полотенцем. Бичуя, изгоняет торгующих из храма — они уходят один за другим. Только Иоанн неожиданно не покорился — рука Темного застыла в воздухе. Страстный рассказ Иоанна, рассказ словами Симоны Вейль о комнатке на чердаке, в дверь которой когда-то Он постучался, — звучит отказом от милости и любви Темного. И, конечно 309 же, Христовой любви тоже — мистика и эротика по-прежнему тут одно и то же. В новом исступленном взрыве Темный изгоняет и Иоанна и падает, обессилев, на землю. Свечи, горящие возле него, будут теперь угасать постепенно. На другом конце зала, также возле одинокой свечи, сидит на земле Симон Петр. Только он и остался. Смотрят друг на друга. Это уже последний поединок. Вновь возвращается Достоевский, самое горькое из его обвинений: «Вместо твердого древнего закона — свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве Твой образ перед собою, — но неужели Ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и Твой образ и Твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора?..»
Темный молчит, смотрит на Симона Петра. А в пространство между ними вкрадывается странная процессия: Иуда и Магдалина, доносчик и потаскушка, вносят медный таз, наливают в него воды, влезают в него по очереди босыми ногами, моют их, вытирают, окутываются черными платками, забирают таз и выходят, распевая: «Он знает о невзгодах, он знает о слезах», — как две деревенские бабы, снарядившиеся на похороны, деловые, решительные, злые. Тишина. Вновь звучат обвинения Симона, вновь словами Достоевского: «… слушай же: мы не с Тобой, а с ним, вот наша тайна! Мы давно уже не с Тобою, а с ним, уже восемь веков». И тут вступает голос Темного, его второй великий элиотовский плач, самый трагичный, самый отчаянный: история «слишком поздно дарит нам то, во что мы уже больше не верим». Возвращение Христа может быть только мечтой. Оно не наступит.
Симон гасит свечи, одну за другой, и тут Темный неожиданно запевает молитву «Cogitavit Dominus dissipare…»56*. На половине напева гаснет последняя свеча, голос вздымается, звучит все мощнее, заполняет собой темноту, огромный и сильный, чистый, с колокольными отзвуками стонов пророка и плача над пепелищем: «Иерусалим, Иерусалим, convertere ad Dominum, Deum tuum»57*. Умолкает. И в черной тишине, охватившей нас, вдруг звучат холодные, чеканные слова Симона: «Ступай и не приходи больше». Немного погодя зажигается свет. Зал пуст, остались только зрители.
Да, пожалуй, впервые Гротовский прямым попаданием задел какой-то живой нерв современности. Пока возлюбленные его душе 310 архетипы он искал в истории Кордиана или даже в освенцимском лагере («Акрополь»), он порой промахивался. Например, в «Кордиане» он хотел обнаружить польский миф освободительной борьбы, архетип нашего национального «бессознательного». Боюсь, однако, что его сейчас там уже нет, а может быть, и не было никогда. И потому на сцене осталась только биография главного героя, рассказанная чудно, в резком несоответствии с существующей традицией, и, кроме возмущения профессора польской филологии Вацлава Кубацкого, никаких иных, более или менее оживленных откликов среди соотечественников она не вызвала. Даже «Фауст», поставленный по драме Марло, одно из самых прекрасных, театрально совершенных ранних представлений Гротовского, лично меня не затронул. Меня все это как бы мало касалось. И лишь «Апокалипсис» я смотрел как зачарованный, хотя и католицизм, и христианство, в общем, далеки от меня. Смотрел зачарованный не только профессионально. Смотрел потрясенный.
Люди медленно встают со скамей. Идут к выходу — по паркету, закапанному стеарином, переступая через мелкие лужицы воды, через разбросанный там и сям хлеб. Не обсуждая, не споря, без шуточек и без слов. В молчании. Как будто это был вовсе не театр, который завтра разыграет ту же самую повесть. Как будто тут, вот здесь, в этом маленьком черном зале, на этот раз в самом деле что-то произошло.
Константин Пузына
1969
ДОПОЛНЕНИЕ К «АПОКАЛИПСИСУ»93
Перед самым Рождеством Театр-Лаборатория вернулся из триумфального турне по Соединенным Штатам Америки. Триумф никого не удивил: энтузиазм по отношению к вроцлавскому театру растет на Западе год от года, достигая размеров эпидемии. Тем не менее это подходящий случай, чтобы пристальнее приглядеться к причинам подобного энтузиазма, пользуясь тем, что «Апокалипсис», последний спектакль Гротовского, снова идет во Вроцлаве. Мне же это особенно на руку: актерская поэма Гротовского слишком многослойна и многозначна, чтобы можно было в ней разобраться сразу, при первой попытке анализа. Все время остается какой-то «остаток», как при анализе «Улисса» Джойса. Остается и лишает покоя.
311 Упоминание об «Улиссе» может показаться не совсем уместным. А между тем, несомненно, «Улисс» является определенной моделью для структур, подобных «Апокалипсису». Вместить в мелкое современное событие всю историю человечества, наложить повествование о Христе на эпизоды глупой полупьяной затеи, а вневременность и внепространственность идеи — на бытовую конкретность обычаев, нравов текущего дня; оплести все аллюзиями, соотнесениями с различными эпохами и культурами, связать путем аналогий все со всем, течение реки времени превратить в одновременность, создать почти бесконечное поле сравнений, однако поле не произвольное, а четко организованное самой материей произведения — вот в чем их родство, близость замысла. В прозе или поэзии такие вещи сегодня не являются новостью, но — в театре?.. Когда к тому же материей произведения выступает в «Апокалипсисе» почти исключительно само актерское существование, а не слово?..
Чувство неудовлетворенности преследует меня с того времени, когда в октябрьском номере журнала «Театр» я опубликовал «Возвращение Христа», подробно описывая «Апокалипсис». Этот злополучный «остаток»! Два замечания моих коллег застряли в мозгу. «Вот ты говоришь, что весь спектакль держится актерской метафорикой. Верно. Но описание сосредоточено не на ней, а на фабуле. Маловато показано, что же носит чисто актерский характер, что заложено в метафорике слова, тела и жеста. Пример с буханкой хлеба интересен, но половинчат: метафорическая игра значений касается тут реквизита, а метафорическая функция реквизита (или, скажем, костюма) часто встречается и в обычном театре. Надо бы поточнее». Так говорит тот, кто представление видел. А тот, кто не видел, замечает: «По твоему описанию представление кажется чуть ли не традиционным. Солидная драматургическая основа, к тому же — хорошо сыгранная. Разве что предварительно не записанная в “пьесе”. И это все, или что-то тут от тебя ускользнуло?»
Ускользнуло, конечно. Правда, оба замечания исходят от сторонников Гротовского, а им ведь всегда будет мало… Однако и в самом деле, в заметках об «Апокалипсисе» я занялся преимущественно фабулой и драматургией спектакля, той коллективной драматургией, творимой на сцене актерами и режиссером из самих актерских действий, которая у традиционалистов никак не умещается в голове. Вычленив в первую очередь сюжетную линию Темного и «апостолов», я описал ее драматургическое движение. И получилось, как если бы из всего «Улисса» рассказал только линию-сюжет Блума, Дэдалуса и Молли, показав еще, как проступает 312 сквозь него гомеровский миф. Но так получается лишь канва, скелет произведения. Или, если хотите, так получается сценарий «Апокалипсиса», реконструированный по уже готовому представлению.
Если бы «Апокалипсис» существовал в литературной записи, полдела было бы сделано: ведь критик, пишущий об обычном спектакле, содержания пьесы не излагает, предполагая, что читатель либо знает ее, либо может прочесть. Сегодня я тоже уже могу так поступить: сослаться на собственную запись спектакля. Итак, назовем его текстом А, (как обычно делают научные работники, люди солидные) и попробуем теперь взглянуть на «Апокалипсис» в ином, вертикальном «разрезе». На три его совершенно особенные, ему только присущие черты: многозначность, одновременность и «закон всеобщей аналогии».
Звучит загадочно. Поэтому вернемся на минуту к драматургии. Шестеро действующих лиц. Одно из них, впоследствии названное Симоном Петром, потешаясь от нечего делать, «сотворяет» Христа из сельского дурачка Темного. Сотворяет как мишень для кощунственных атак и опровержений, чтобы в конце концов оттолкнуть его, отринуть. Темный, однако, становится «Христом» в самом деле. Вот только не ясно, истинным или ложным. Если ложным, то в таком случае Симон Петр воплощает собой правоту Церкви, ее оправданную бдительность в деле разоблачения фальшивых Мессий и прочих нашептываний сатаны. Если же истинным, то существуют две возможности. Либо Симон представительствует от имени церкви-учреждения, сложного механизма земной власти, для которого возвращение Христа и его евангелических заповедей означало бы разрушение. Либо же Симон — коль скоро он прибегает не к теологической системе доказательств, а к мирской, почерпнутой из Достоевского, — представляет попросту мирское бытие, уже чуждое и неприязненное Христовой идее. Так вот, в «Апокалипсисе» эти три возможности — и несколько еще других, но меньшего масштаба — вовсе не даны зрителю для выбора. Прослеживать их мы должны будем одновременно и воспринимать в совокупности, ибо только все вместе они порождают смысл. Хотя и противоречат друг другу. Мы знаем немало многозначных произведений — хотя бы шекспировского «Гамлета». Однако театр, как правило, выбирает какую-то одну интерпретацию. Или, по крайней мере, велит нам выбирать: либо — либо. В «Апокалипсисе» нету «или — или», есть только «и — и». Как в физике света, где корпускулярная и волновая теории лишь в совокупности, хотя и противореча друг другу, объясняют явление.
313 Принцип «и — и» нисходит в свою очередь в структуру ситуации, в работу актера. Лучшим примером здесь служит любовная сцена, подробно описанная мною (но без разъятия на элементы) в А1. В ней сопоставляются и приравниваются друг другу эротика и охота, и разыгрывается эта эротика-охота между Темным, Магдалиной и Иоанном. Иоанн, таким образом, играет зверя, «дичь» — лося или оленя, а Темный и Магдалина — попеременно лук и тетиву. В плане «психическом» Темный с Магдалиной играют попросту сексуальный акт, а Иоанн, в своем задыхающемся, устремленном к ним беге — как бы их либидо. В плане сюжетном Иоанн, «напустивший» дурачка на потаскушку, теперь подстрекает их, охваченный возбуждением и в то же время ревностью. И, наконец, в плане библейской истории они суть Иоанн, Магдалина и Христос, вовлеченные в сложную, запутанную эротику любви втроем. Ее рискованное бесстыдство усиливают — но вместе с тем и смягчают, как бы заслоняя собой, — все остальные, предыдущие планы. В спектакле эти планы объединены, сплетены и одновременны; лишь в описании они выстраиваются последовательно.
Мы приблизились к актерской метафорике, вникнем в нее еще глубже. Где-то, еще в начале спектакля, Темный, в беспокойстве бегая вокруг собравшихся, в какой-то момент вдруг поднимается на цыпочки и повисает в воздухе с раскинутыми руками, с головой, поникшей на плечо, и мягко опадающими ладонями. Это всего лишь секунда, мгновенный проблеск: образ птицы, пытающейся взлететь, и образ Распятого. Внешне они ничему здесь не служат. Распятие наступит много позднее, образ птицы припомнится тоже только тогда, когда Темный заплачет элиотовскими стихами: «К чему ж ты, старый орел, распростер свои крылья…» Но и это случится позднее. Однако эта поэтическая фигура приоткрывает нам не только одновременность двух отдаленных значений, внезапно сведенных воедино актерским жестом, но также их далеко проникающие связи с другими партиями спектакля. Она показывает также, как превращается в одновременность текущая река времени. Темный тут пока еще совсем не Христос, но уже распят: события происходят в быстротекущем времени, но не исчезают; они присутствуют — вне времени, до времени, спустя века.
Они присутствуют как поэтические образы, множась, дробясь, мелькая, внешне мало связанные между собой. Эти образы не двигают вперед самого действия, но неустанно оплетают его мерцающей сетью отдаленных аналогий. Они напоминают те «тканые сна нити», вплетенные в материю яви, в материю действительности, о которых пишет Норвид: «И нить их вьется не срываясь, — быстрее 314 света ускользая, — заметит взгляд их человека, — но не увидит!» Образы «Апокалипсиса» зритель также порой «заметит, но не увидит»; лишь спустя многие дни и даже недели они всплывают неожиданно из глубины памяти странным образом — острые и выразительные. Поэтому, даже анализируя какую-то одну сцену, трудно выловить все ее значения, смыслы и связи. Вот Симон Петр вскочил на хребет Темного, срывает его в галоп, скачет на нем, как на диком коне. Смысл этой сцены я частично представил в тексте А1, но чуть ли не проглядел другой, более ранний эпизод-образ, когда Темный сам взмывает на спину Симона и повисает на нем через плечо, с головой, перекинутой Симону на грудь. И снова — образ-мгновение: добрый Пастырь с ягненком. И вся более поздняя сцена «конского осатанения» Темного композиционно свяжется с этим моментом, станет его опрокинутым отражением, перевернутым напоминанием. Напоминанием издевательским.
Посредством подобных актерских метафор, почти неуловимых и вместе с тем взывающих к нашей памяти, рисует Гротовский «закон всеобщей аналогии». Все явления в мире взаимно связаны, отражаются друг в друге, и только мы по нашему обыкновению этих связей не замечаем. Время течет, возникают история и современность, существуют природа и культура, факты психической и физической жизни, но скрытые аналогии связывают их все воедино — в единство полное и в своей сути недвижимое. Неустанное сцепление отдаленных друг от друга образов в спаянную систему аналогии лежит, безусловно, в основе всякого поэтического мышления: ведь на аналогию опирается метафора. Однако порой подобное мышление получает особого рода окраску. Это происходит тогда, когда оно касается не только самого произведения, но и мира за его пределами. Принцип «всеобщей аналогии» идет от Сведенборга; мы находим его также в более поздней эзотерической традиции и, что в не меньшей степени показательно, у сюрреалистов, Бретона и Арто. Он возникает и у Джойса. И, думаю, не без причины «Апокалипсис» вызывает его в нашем воображении.
Тесная «толпа» актерских образов — острых, моментальных, летучих, развернутых перед нами труппой Театра-Лаборатории, является, пожалуй, не только проявлением богатства, избытка радости ассоциативного творчества, радости самого творения. Может быть, это является чем-то большим: мечтой о тайной логике мира, о том самом «единстве во множественности», которое мы ищем от столетия к столетию. Безрезультатно ищем. Но что из того?
Константин Пузына
1970
315 ГРОТОВСКИЙ ПРОКЛАДЫВАЕТ
ПУТИ:
от
Объективной Драмы (1983 – 1986)
до Ритуальных Искусств (с 1985 года)94
1
С самого начала внесем ясность: с 1968 года, когда состоялась последняя премьера в Театре-Лаборатории во Вроцлаве, «Апокалипсис», то есть в течение двадцати одного года, Ежи Гротовский не поставил ни одного спектакля.
Эти двадцать лет представляют собой более длительный период, чем вся предыдущая работа Гротовского в театре, даже если присоединить к ней годы актерской и режиссерской учебы, потому что все они в целом заняли у него только восемнадцать лет жизни, из них собственно режиссура в прямом смысле слова — лишь одиннадцать лет. Следует иметь в виду эти факты, чтобы избежать недоразумений. <…>
Для начатой в США новой программы Гротовский выбирает название Объективная Драма. Это название может ассоциироваться с «объективным подсознательным» (objective unconscious) у юнгианцев, с «объективным соответствием» (objective correlative) у Т. С. Элиота, но, пожалуй, более всего с «объективным искусством» (objective art) у Г. И. Гурджиева, который противопоставлял искусству субъективному — искусство объективное. Первое основывается прежде всего на случайности, а также на личном видении вещей и явлений, и часто им управляет людской каприз. Объективное искусство, напротив, обладает достоинствами вне- и над-личными, обнажая таким образом законы судьбы и предназначения человека как такового, собственно человека.
Совершенно независимо от Гурджиева термин «объективное искусство» появляется в 1921 году в так называемых «киевских записных книжках» Юлиуша Остэрвы, который, также как и Гурджиев, считал, что: «Архитектура… является объективным Искусством, самым объективнейшим из всех. — Затем музыка. Потом живопись, потом слово. Литература». И так заключал свои размышления: «Вот если бы театр воздействовал так, как архитектура. <…> Архитектура воздействует наиболее благородно — возбуждая восхищение у специалистов и людей впечатлительных, а на всех вообще людей действуя так, что они даже и не отдают себе в этом отчета»95 <…>.
316 В своем первом интервью на тему Объективной Драмы, опубликованном на страницах «Los Angeles Times» (от 29 сентября 1983 года), Гротовский так определил цель своих исканий: «Вызвать к жизни очень старую форму искусства, когда ритуал и художественное творчество были одним и тем же. Когда поэзия была напевом, напев — декламацией, движение — танцем. Или, если угодно: искусство до момента эмансипации — тогда, когда оно было беспредельно мощным в своем воздействии. Через прикосновение к нему каждый из нас, независимо от философских или теологических мотиваций, может отыскать в себе собственное постижение самого себя»96.
А спустя несколько дней в той же самой газете он отмечал, что определенные ритуальные и литургические техники вызывают в тех, кто их применяет, определенные энергетические последствия: «Эти техники охватывают предельно точные, почти физические действия. <…> Точное движение или напев дают точный энергетический результат»97.
Выбираемые Гротовским элементы различных техник (их можно назвать «фрагменты игры») всегда очень просты и в значительной степени представляются универсальными. Самым решительным образом он не желает навешивать им тот или иной философский или теологический ярлык, потому что — как он считает — именно избегая ярлыков, мы получаем «возможность прикоснуться к транскультурному нерву»98. Поэтому «фрагменты игры» имеют характер «объективный» в том значении, о каком говорилось в начале статьи. <…>
В период работы в Калифорнии над Объективной Драмой Гротовский стремился к вычленению отдельных «фрагментов игры» от всех остальных, к отделению одних от других — в процессе их «отцеживания» (дистилляции). Метод анализа и отцеживания «фрагментов» требовал, по самой своей природе, точности и дисциплины. Вот как это излагается в «Research and Development Report» (1984 года): «Стремлением Гротовского является отбор и изучение элементов исполнительского (перформативного) движения, танцев, песни, интонационного “выпевания” напевов, ритмов, языковых структур, а также способов использования пространства. Эти элементы он отыскивает в процессе отцеживания, происходящем от более сложного к простому, и в процессе отделения от себя, вычленения отдельных элементов»99. <…>
Подход к работе на этом этапе вместе с тем принципиально отличался от театрального этапа. На том этапе внимание режиссера было сосредоточено на актере, на его человеческом акте, для 317 которого потом отыскивались «удила формы»; напротив, в Объективной Драме все шло иначе: работа над формой вызывала у участников желаемый процесс. Однако все решала не сама «форма», а то, что кажется нематериальным, а именно: «качество» пережитых испытаний и впечатлений и качество человеческого присутствия. <…>
С августа 1986 года в Понтедере, в Тоскане, Гротовский проводит исследовательскую программу Ритуальные Искусства.
Работе над Ритуальными Искусствами соответствует отшельническая фаза в жизни Гротовского, что следует понимать дословно. Живет он и работает в деревне, в нескольких километрах от Понтедеры. Это добровольно выбранное уединение не означает, однако, как можно было бы предполагать, бегства от мира и жизни, не означает позиции эскапизма. Как раз наоборот: будучи особым человеческим призванием, в данном случае мирским, оно служит выражением стремления к изменению, к преобразованию образа жизни человека в этом мире.
Хочу особенно подчеркнуть, что речь идет не о пустыни в религиозно-конфессиональном смысле. Это место, кажущееся «скитом», на самом деле является просто очень своеобразной художественной мастерской, а ее основной задачей, именно в качестве творческо-художественной мастерской, является солидность, безусловная добросовестность в работе, а не так или иначе понимаемая экспансия. <…>
2
Тосканская деревушка. Нас четверо: Барбара Шверин фон Кросиг из Западного Берлина (автор первой немецкой книги о Гротовском «“Оголенный актер”. Развитие теории актерской игры Ежи Гротовского», Берлин, 1986), еще одна немка, Катарина Зейферт (на переломе 70 – 80-х годов она участвовала во Вроцлаве в одной из программ паратеатра, а позже — в группе, постоянно работавшей с Гротовским в Театре Истоков), итальянский режиссер из Бергамо Ренцо Вескови и я. Мы поднимаемся в гору по холмистой местности, минуя справа красное кирпичное строение старого амбара, теперь приспособленное для работы. В здание ведут раздельные входы — вниз и наверх. Мы идем дальше проселочной дорогой. Справа раскинулись поля, на горизонте — гордая цепь Апеннин, а слева — низкие жилые строения. Перед последним из них, расположенным у самой дороги, нас встречает Гротовский. 318 Мы входим в обширное помещение; оно служит местом совместных бесед, здесь же принимают приезжих гостей.
В этом же доме живет еще несколько человек, каждый имеет отдельную комнату. Гротовский живет в соседнем доме, его небольшую двухкомнатную квартиру заполняют в основном книги. Стажеры (их 17 человек) сняли себе комнаты в ближайшей деревушке, в долине. Они разделены на две параллельно работающие группы, а некоторые из участников этих двух групп работают еще и в третьей. В период моего пребывания в Центре, в Понтедере, занятия начинались ровно в полдень, а кончались около двадцати двух часов. Работа идет по десять часов и больше, проще говоря, до тех пор, пока не будет достигнуто искомое, словом, столько, сколько потребуется.
Большинство занятий происходит в специально приспособленных для этого помещениях старого фермерского дома, в котором когда-то производилось вино. В каждом из них на каменный пол уложен деревянный настил. Рядом с рабочими помещениями устроены раздевалки, туалеты и маленькие «кухоньки», где можно перекусить между занятиями.
Состав групп участников носит особый характер, условия жизни скромные (порой весьма скромные), а условия работы — суровые. В группе примерно двадцать человек, выросших и воспитанных в западной, в евро-американской культуре. Они прибыли из Аргентины, Бельгии, Дании, Франции, Греции, Голландии, Мексики, Норвегии, Польши, Италии; есть камбоджийка, выросшая во Франции, есть индеец из Канады. Все они к тому же люди молодые, и, за одним-единственным исключением, никто из них не работал с Гротовским на предыдущих этапах. Исключением является одна из его главных сотрудниц, Мод Робар, с которой он вел совместную работу начиная с 1978 года на Гаити и которая, вместе с группой гаитян, участвовала в программе Театра Истоков в Польше в 1980 году, а впоследствии — была с ним в Америке, в Ирвине. Другой главный сотрудник Гротовского начиная с 1985 года — американец Томас Ричарде, предки которого происходят с Ямайки.
Как я уже говорил, работа проводится в трех группах. Я дважды наблюдал занятия в двух из них — обе работают всегда в одном и том же составе и в одном и том же зале.
Первая (в ней пять человек) состоит из четырех мужчин и одной женщины. Занятия происходят в зале нижнего этажа старого дома; ведет их Томас Ричарде.
319 Вторая группа более многочисленная, ее составляют двое мужчин и шесть женщин; руководитель — Мод Робар.
Характерно, что Гротовский сам непосредственно занятий не проводит и редко вмешивается в них впрямую. Зато он непосредственно работает со своими главными сотрудниками, ведущими-лидерами отдельных подгрупп; эта работа носит практический характер. Во время занятий он может в какой-то момент войти в зал, сесть поодаль, наблюдая и что-то записывая в своей тетради; иногда проводит в группе анализ занятий.
Работа начинается всегда пунктуально, минута в минуту. Участники надевают белую одежду. Перед входом в зал обувь снимается (здесь нет никакой символики, просто деревянный настил пола очень тонок).
Иногда занятия начинаются со своеобразного хода-танца, с легким наклоном позвоночника и полусогнутыми коленями, причем бедра остаются неподвижными. Участники двигаются «гуськом», один за другим, долго-долго. Этот ход-танец может сопровождаться также и напевом, даже песней, а способ пения высвобождает вибрационные качества голоса, которые в свою очередь помогают движению тела. Впрочем, связь между вибрацией звука голоса и музыкой была хорошо известна еще Пифагору и его школе. Самое важное во всем этом четкость и точность. Поэтому шаги точны, тело на протяжении всего времени движется волнообразно, проступает точная структура темпоритма — как у Станиславского. Я называю для себя этот шаг «змеиным» шагом. От Гротовского узнаю, что это очень старая форма танцевального движения, связанного с «reptile brain» («рептильным мозгом»), и что для гаитян оно может ассоциироваться с прапредком людей — змеем Дамбалла. На Гаити этот ход-танец называется «yanvalou». (Ряд сведений на эту тему Гротовский сообщает в тексте «Ты — чей-то сын».)
Постоянную часть программы работы стажеров составляет физический тренинг. Каждый из участников исполняет в рамках этого тренинга девять своих упражнений. Всегда только девять и всегда только своих. У каждого особые упражнения, и как раз именно такие, какие нужны ему более всего, поскольку они направлены на преодоление его собственных физических «блокировок», «зажимов» или же развивают именно те способности, которых ему не хватает. Остальное в тренинге, кроме главных девяти упражнений, является своеобразным танцем, хотя этот танец и не похож ни на один известный мне танец. Просто каждый из участников 320 выработал свой собственный образ танца, свою собственную его форму.
Большая работа ведется над деталями. Основополагающим в этой работе является то, что все тут делается на уровне техники и что все в высшей степени структурировано. Так обстоит дело уже в самом тренинге, но в куда большей степени это проявляется в соответствующих творческих действиях участников, которые здесь называют Действиями, Акциями (Action). Этим, кроме прочего, Ритуальные Искусства отличаются от Театра Соучастия (паратеатра) и Театра Истоков и, напротив, приближаются, но только в аспекте техники и структурирования, к театральным, в прямом значении, достижениям Гротовского.
До какого-то последнего момента двери в зал были открыты. Теперь же двери закрываются, окна задергиваются занавесями, зажигаются свечи и подготавливается все, что будет нужно для действия. Каждый день заново к жизни вызывается ритуал. Всегда — тот же самый и всегда — не такой, каким был вчера. Этот ритуал возникает как явление, он появляется, а не создается: он заключается не в имитации или же реконструкции какого бы то ни было из известных ритуалов. (Здесь и не употребляется слово «ритуал», а говорится об Акции.) Не является он также и синтезом ритуалов, что, кстати, — по мнению Гротовского — было бы практически невозможно; в широко рекламируемых в последнее время попытках создания «синтез-ритуалов» (например, в Германии и США) пресловутые «синтезы» являются только результатом «вербальных манипуляций, целью которых должно быть соединение разных элементов на основе их поверхностной, внешней похожести»100. В работе же Гротовского, напротив, появляются элементы, близкие одновременно многим традициям, а следовательно, архетипные или архетипичные. Эти элементы компонуются. Проявляется также сознательное развитие обрамляющей структуры действия и, тем самым, точная композиция, чей смысл, значение и возможные повествовательные мотивы получают общие координаты в сознании исполнителей. Гротовский определяет техническую разницу между спектаклем и ритуалом как «разницу гнездовья монтажа».
Связь с древними ритуальными инициационными практиками здесь очень тонка, деликатна, почти не формулируется, а основной обязанностью каждого из участников является принцип: «чтобы все было сделано как надо». Понимать это следует в материальном, физическом смысле. Просто тело должно честно и точно 321 действовать, а не «качать» экспрессию и эмоции. Поэтому Гротовский никого не спрашивает: «Ты веришь?», а лишь говорит: «Ты должен делать то, что делаешь, основательно, с пониманием».
В интервью для популярной польской газеты «Жиче Варшавы», опубликованном 27 мая 1988 года, вскоре после моего десятидневного пребывания в Центре Гротовского, я говорил:
«Тут становится ясным, как все, что было раньше, получает свое завершение. Работа ведется над техникой, над точностью детали, а между тем нигде, ни в одном театре мира я не встречал, я не испытывал ничего подобного — по силе духовности, по чистоте. Нет, никогда не стану, описывая, называть театром то, что видел — как в свое время описывал представления “Акрополя” и “Стойкого принца” в Театре-Лаборатории. <…> Может, кто-то другой и возьмется это сделать с чистой совестью, но я — я не могу».
Зато можно описать основные элементы этой работы. Вот они: песни, физические действия (в понимании Станиславского), а кроме них — танцы, структурированные элементы движения, повествовательные тексты и мотивы, но настолько древние, что уже давно стали анонимными. Если слишком много времени поглощает техническая работа над деталями или поиск каких-то самых первоначальных, исходных элементов, то на это уходит несколько дней. Все иначе, чем в искусстве театра, который всегда разыгрывается перед зрителями, приходящими посмотреть спектакль; здесь же единственно важны — логика и ясность действований, а через их посредство — процесс, происходящий в участниках, вызвавший их к жизни. Для самих зрителей как таковых здесь места нет.
Открываются двери. Распахиваются окна. Гасятся свечи. После большого перерыва снова при дневном (или электрическом) свете происходит кропотливая работа над отдельными деталями. Работа идет до тех пор, пока не будет найдено искомое.
И вот — последние часы дня. Мы выходим из зала на ближайший холм, откуда прекрасно просматриваются окрестности и как на ладони видна вся архитектоника, вся лепка местности. В свободном, полном воздуха пространстве, в полной тишине и сосредоточенности выполняются сложные партии различных положений и потягиваний тела под названием Движения. Эти положения, эти движения всегда ориентированы в сторону шести главнейших направлений: восток, запад, север, юг, зенит и надир. Если они производятся в открытом пространстве, то их первым направлением становятся восток (в сторону восходящего солнца) или запад 322 (в сторону заходящего солнца). Глаза открыты на всю панораму горизонта, а не зафиксированы, как обычно, на одной точке. Физически эти движения трудны для выполнения, а для начинающих нередко связаны с болью; например, некоторые позиции равновесия: одна нога вытянута и абсолютно выпрямлена в колене параллельно земле, в то время как другая согнута в приседании. И такие или подобные им позиции выдерживаются подолгу. Здесь также видна во всем забота о предельной точности исполнения. Все участники выполняют те или иные позиции, положения и телодвижения вместе, точно в одном и том же ритме.
После часа, проведенного в Движениях, спускаемся с холма. Занятия окончены.
Важное примечание: все занятия происходят почти в полном молчании. Словесный комментарий ограничивается только самым необходимым.
Затем, уже ночью, проводятся анализ занятий и работа Гротовского с его ведущими сотрудниками.
А что же на следующий день? Будет ли порядок занятий нового дня в точности повторять предыдущий? Или изменится: скажем, дольше продлится только какая-то одна их часть? И что же, так каждый день — неделями, месяцами, годами?
Нет сомнения, это тяжкий труд. Для сотрудников Гротовского он кропотлив, почти изнурителен, порой кажется монотонным. В этой работе нужно постоянно и заново преодолевать кризис усталости, искушение впасть в механичность («это я уже умею», «это я уже знаю»). Нужно принять вызов. Бороться с собственной слабостью, усталостью, упадком сил; бороться с собой — за себя.
3
Человек Запада — считает Гротовский — не видит того, что связано: 1) с качеством вибрации голоса; 2) с резонансом пространства; 3) с резонаторами тела. А именно эти качества технически необходимы для Ритуальных Искусств. <…>
Поэтому не случайно искания Гротовского всегда были посвящены технике исполнения, всегда были исследовательским проникновением внутрь, в сердцевину той или иной техники или техник. Так же выглядит дело и в настоящий период, на стадии Ритуальных Искусств. В официальном документе Центра можно прочесть:
«Целью Центра Гротовского является передача молодому поколению практических, технических, методологических и творческих 323 навыков, связанных с работой, которую Гротовский проводил и развивал в течение последних тридцати лет.
Кандидатами (для занятий в Центре) могут быть люди, имеющие артистический опыт; но также и люди, обладающие не столько определенной практикой в области зрелищных искусств, сколько творческими способностями и той решимостью, которая необходима в работе, основанной на дисциплине и точности. Однако Центр — не школа. Скорее это творческий институт, где проводится постоянное образование артистов, достаточно взрослых и обладающих чувством ответственности. Драматическое искусство выступает здесь проводником индивидуального развития. Обучение содержит в себе прежде всего творческий труд — так, как это понимает Гротовский. Уже в первые годы около 200 молодых профессионалов из Италии, других стран Европы и Америки приняли участие в работе этого Центра; их пребывание длилось от нескольких дней до многих месяцев. Таков один из аспектов, характеризующих деятельность Центра.
Основные технические аспекты следующие:
Связь и соотношение: точность / органичность.
Связь и соотношение: традиция / индивидуальная работа.
Связь и соотношение: ритуал / представление.
Танец и ритм.
Пение.
Вибрация голоса.
Резонанс пространства и резонаторы в теле.
Осознание пространства и реакции на конституирующие его элементы.
Импровизация: импульсы / бдящее сознание.
Импровизация в рамках структуры.
Монтаж физических действий.
Монтаж в области performance’а и / или в области роли.
Поиски точной линии, а также логики импульсов и физических действий: партитура».
<…>
В Ритуальных Искусствах нет актера в обычном понимании этого слова, поскольку в принципе нет зрителя. Нет в них, тем самым, и театрального представления. А что же тогда есть? <…>
Намерения Гротовского не так-то легко выразить в словах. Всегда существует опасность упрощений и возможных искажений смысла. Ритуальные Искусства несут в себе полярность и двойственность, сливающиеся, в свою очередь, в состоянии полного 324 единства. А таким образом еще более возрастает трудность интерпретации, сложность описания.
Характер у Центра особенный, он напоминает художественно-творческий «скит». Это кроме всего прочего означает, что здесь ничего не проигрывается для публики, ничего не организуется в виде публичных показов и просмотров. Поэтому увидеть и узнать происходящую здесь работу могут только сами участвующие в ней стажеры и, при случае, гости, лично приглашенные Гротовским. Но и тогда они все же не зрители, как в театре, а — свидетели. Задача же свидетеля — свидетельствовать о том, что он видел и что пережил, а также, если понадобится, представить добросовестное свидетельство о том, что происходило.
Предвидеть сегодня, что в будущем может произойти в Центре Гротовского, затруднительно. <…> Какие выводы, какие уроки извлекут люди, причастные к театру, из нынешних опытов Гротовского, зависит исключительно от них самих, от их ответственного отношения к самим себе.
Очень многое из того, что впоследствии оказывалось явлением существенным и творческим, возникало в изоляции, там, где, по словам Гротовского, «возносится — в самом буквальном смысле слова — атмосфера молчания и одиночества <…> два важнейших обстоятельства, благоприятствующие работе над собой»101.
Сумму всех проводимых в настоящее время недалеко от Понтедеры исследований надо воспринимать в широком контексте, в контексте культурных корней, истоков, давних традиций. Все это тесно связано с архаичными ритуалами, также как и со зрелищными искусствами в их традиционном и даже архаичном понимании. Явственны также аналогии и с античными мистериями, а совокупность опыта и работы Гротовского можно рассматривать в связи с тем «великим мистериософским течением Запада, которым в начале нашей эры были охвачены и учение гностиков, и учение герметистов, и греческо-египетская алхимия, и традиция мистерий»102. С той разницей, что Гротовский доискивается чего-то еще более раннего. Именно в этом смысле он говорит о жажде открытия «не того, что ново, а того, что забыто». <…>
Для Гротовского существует только непосредственное отношение к традиции. Как наблюдение за звездами на небе. Так он считал всегда. В 1970 году, выступая перед участниками Фестиваля Латинской Америки в Колумбии, он так говорил об этом: «Традиция воздействует реальным образом, если она — как воздух, которым дышишь, не думая о нем. Если же кто-то пытается принуждать себя к традиции, делая судорожные усилия, чтобы отыскать 325 ее в себе, упрямо ее “выдавливая”, — значит, она в нем мертва. Не следует делать того, что в нас уже утратило свою жизнь, в этом не будет правды»103.
Ритуальные Искусства являются действиями внутри именно в таком смысле понятой традиции. Взаимоотношения с ней здесь самые непосредственные, что значит тем самым — живые. <…>
Напомню, что в Древней Греции Красота-Правда-Добро были единством. Это получило свое выражение в идее «калокагатии» (kalokagathos); этот термин появляется, кстати, в сочинениях Платона для обозначения воспитательного идеала древних греков. Никто в те времена не выделял эстетической функции («красоты»); об этом начали говорить лишь тогда, когда наступила эмансипация искусства, что и повлекло за собой его постепенное вырождение. Уже в театральном периоде деятельности Гротовского эстетический аспект спектакля вовсе не был самым важным. Критики, выделяя его среди других, попросту переносили свои навыки театральных обозревателей с других театров на деятельность Театра-Лаборатории, стараясь свести ее в плоскость прежде всего эстетическую. Каждый видит то, что хочет увидеть и что способен увидеть. Но такое ограничение восприятия влечет за собой немалые последствия. Когда одно и то же видят двое — это уже не одно и то же; не следует об этом забывать, сталкиваясь с оценкой деятельности Ежи Гротовского и его Театра-Лаборатории.
В уже цитированном интервью для газеты «Жиче Варшавы» я делился своими впечатлениями: «Думаю, что там, в той тосканской деревушке зарождается что-то, по своему значению подобное, к примеру, Элевсину в жизни античной Греции. Конечно, прошли тысячелетия, контекст общественной жизни и культуры сегодня уже совершенно иной. Но — человек? Он тоже иной, и все же, несмотря ни на что, возникает вопрос: а что же общего осталось между нами и теми людьми? <…> Не стану утверждать, что деревушка, где работает Гротовский со своими сотрудниками, это Элевсин, но по функции, которую она может выполнять в нашей культуре, они близки. Кстати, древние мистерии тоже не предназначались для широких масс, а спустя века оказались исключительно важными в культуротворческом отношении. В каждом учебнике истории театра говорится об их значении для театра, хотя ведь сами они не были театром. Были чем-то иным. <…>»
Сознаю также, что в нынешних исследованиях Гротовского, устремленных в глубину скрытого знания, забытого за давностью тысячелетий, ставкой является не та или иная форма представления, не та или иная его оценка. Хочу, чтобы меня правильно поняли: 326 никоим образом не отрицаю нужности театра, сам хожу в театр и несказанно уважаю некоторых его представителей. Но у Гротовского ставка — совсем иная и, пожалуй, самая высокая из всех возможных. …
Может показаться странным, что все происходит без участия зрительских масс? Без аплодисментов, без телевидения и прессы, в тишине и спокойствии?
На последний вопрос я отвечу сегодня так же, как ответил сразу после возвращения из Италии: «Такое место не может быть сегодня местом открытым. Попробуйте его открыть, и сразу туда налетят отовсюду, из телевидения и из газет, со всего мира, толпы журналистов, падких на сенсацию. Однако таким путем совершилось бы лишь убиение того, что там рождается — в ежедневном труде, в поту и в усилиях».
4
Деятельность Центра Ежи Гротовского в Понтедере дополняют встречи-семинары и рабочие сессии.
После первого из семинаров известный французский критик и историк театра Жорж Баню писал в парижском «Art-Press» (май 1987 года): «Гротовский стремится к уединению, но не наедине с книгами — как Крэг, а — наедине с другими. Крэг, который в начале века так будоражил западный театр, в тридцатые годы, от всего отстранившись, прибыл во Флоренцию, где и создал Арену Гольдони; а Гротовский также нашел свою башню, свою Академию (Сообщество учеников) в Понтедере, всего в двадцати километрах от Флоренции. Сюда он пригласил некоторых из своих друзей, чтобы поговорить с ними в атмосфере семейной доверительности и чтобы избежать игры социальных ролей. <…> Он — голос, перекрывающий театр. Голос, воплощающий самые высшие требования, когда речь идет уже не о спасении того или иного вида искусства, а когда к помощи взывает необходимость воплощения человеком самого себя».
Наметить пути, проложить трассы — вот что представляется основной функцией более широкого воздействия Ритуальных Искусств. Впрочем, в каждый период и на каждом этапе в этом и состояла главная задача творческой деятельности Гротовского — и в театре, и вне театра. Не создание творческой секты, не замыкание в группе избранных, а вот именно так — проложить тропу. Мне кажется, что Гротовский в этом пункте полностью бы согласился с Юлиушем Остэрвой, который в октябре 1919 года, создавая 327 свой известный впоследствии театр «Редута», написал в одном из писем такие знаменательные слова: «Не дойдем мы — дойдут после нас другие, а мы, быть может, остережем, мы подскажем, где пролегает дорога»104.
У самых основ исканий Гротовского заложено убеждение в существовании всеобщности «составляющих», «кирпичиков» культуры или, иначе, культурных универсалий (cultural universals /англ./; universeaux culturels /франц./). А значит, если даже и не во всех, то во многих культурах выступают некие определенные, общие им всем элементы — те, что должны были предшествовать возникновению культурных различий. И в самом деле, по мнению Гротовского, наши «истоки — это что-то невыразимо простое, они даны каждому человеку, они суть нечто, данное в начале».
«Можно было бы сказать, — пишет он в “Театре Истоков”, — что людская натура везде идентична, несмотря на различия культур, существующие между людьми. Какому-нибудь социологу такая гипотеза относительно человеческой природы показалась бы, возможно, чуть ли не консервативной, ретроградной, но ее полное отрицание мне, в свою очередь, показалось бы расизмом. <…> Быть может, о том, что касается истоков, лучше всего было бы сказать так: “существует человек, он и предшествует различиям”»105.
Для Гротовского в период Объективной Драмы такими универсальными элементами («универсалиями») были «фрагменты игры». Они выявляли «человека, который предшествует различиям». Но в них же заключалось и задание исполнителям: открыть в своих действиях вот эти «фрагменты игры», увидеть, как они живут, добыть их, «очистить» и, — в конце — «сохраняя» и «сберегая», привести в движение в другом контексте. На мой взгляд, такой путь аналогичен очередности действий алхимика, стремившегося из неблагородных металлов — через их «очищение» и «преобразование», действительное или символическое, в алхимической печи, то есть посредством лабораторной техники, — изобрести способ производства «алхимического золота», «эликсира жизни», «философского камня». Также как и близкий ему во многих отношениях Карл Густав Юнг, для которого глубокое познание «царственного искусства алхимии» стало важным источником творческого вдохновения, Гротовский, думается, выступает законным наследником архаичной традиции, всегда опиравшейся на закон «всеобщих аналогий и соответствий» (франц.: la doctrine des analogies et correspondences), а также на «взаимодействие противоречий» (лат.: coincidentia oppositorum). С той, однако, важной разницей, что свою своеобычную «алхимию» он практически применяет 328 на почве искусства, а точнее — «перформативных искусств». Содержится во всем этом также постулат однородности «кирпичиков», из которых должна быть сложена материя, благодаря чему именно и может проступить — как считает Элиаде — симметрия «между алхимиком, работающим над неблагородными металлами, дабы преобразовать их в “золото”, и йогом, работающим над самим собой с целью извлечь — из своей смутной и подавленной психоментальной жизни — свободный и независимый дух, который участвует в той же самой природе. <…> Золото — единственный совершенный, солнечный металл, и поэтому его символика связана с символикой духа и с духовной свободой и независимостью. Путем потребления золота надеялись неограниченно продлить сроки самой жизни. Однако же, согласно алхимическому трактату “Rasaranta-samuccaya”, прежде чем употребить золото, его надлежало очистить и “закрепить” с помощью ртути»106.
Так понимаемая алхимия была прежде всего духовной техникой; занимаясь, правда, непосредственно материей, она, однако, заботилась в первую очередь о «духовной полноте и совершенстве», об освобождении души и духа. Не случайно один давний алхимический текст гласит: «Освобождение — результат познания, познание — учения, учиться может тот, у кого здоровое тело»107.
В Центре в Понтедере все происходит не совсем так. Ведь и эта лаборатория Гротовского — мастерская творческая, художественная, следовательно, аналогия с йогой, а уж тем более с алхимией должна быть здесь совершенно особенной.
У Гротовского ликвидируется давняя оппозиция между imitatio58* и creatio59*. Вспомним, что древние, к примеру в Греции классической эпохи, не считали искусство творчеством. Во всяком случае, ценность искусства должна была заключаться вовсе не в этом, напротив — она заключалась в том, что искусство отражало неизменные законы, вечные формы мира. По мнению древних, искусство должно открывать эти формы, а не творить. Вместе с тем функцию искусства видели в подражании, в mimesis, понимаемом, однако, не как рабское повторение действительности, а скорее как свободное высказывание художника о ней. И все же ясно выраженной задачей искусства было — imitatio.
Только начиная с эпохи Возрождения искусство на Западе стало по преимуществу творчеством. Современная эпоха выработала мнение, согласно которому творчество вообще считается свойством, отличающим искусство от иных форм человеческой деятельности: 329 «Нет искусства без творчества, но где бы ни проявлялось творчество, там есть и искусство»108.
Убеждение, согласно которому искусство тождественно творчеству, находит поддержку еще в одном современном убеждении: искусство имеет право и даже обязанность производить новые формы. Критерий новизны рассматривается как одно из самых больших достоинств произведения искусства, и во всем авангардном искусстве «новизна» и «новость» вообще выступают основной ценностью. Отсюда же возникают и болезненные гонки за первенство, очень часто принимающие на Западе черты подлинной патологии, выступающей как разновидность общей цивилизационно-культурной патологии.
В глазах античности, в глазах древних «новизна», конечно же, не была достоинством. Они даже полагали, что стремление к формам новым выступает лишь препятствием в стремлении к формам совершенным, а только оно и считалось достойной задачей искусства.
В такого рода оппозиции Гротовский, по сути, никогда не был «новейшим» современным художником. Не случайно его ближайший сотрудник Людвик Фляшен рассматривал творчество Гротовского еще театрального периода, в Театре-Лаборатории, в куда большей близости к «арьергарду», чем к «авангарду», и это совсем не означало какой-то интеллектуальной провокации, хотя в свое время, в 1967 году, именно таким образом было воспринято его выступление, носившее название «После авангарда». Напомню заключительный фрагмент этого выступления: «Наша деятельность может восприниматься как попытка восстановления архаичных ценностей театра. Мы и в самом деле не являемся современными, наоборот — мы совершенно традиционны. <…> Случается, что самыми поразительными оказываются вещи, которые когда-то уже были. Они-то и поражают новизной, и тем большей, чем более глубок колодец времени, нас от них отделяющий»109.
Сам Гротовский также был поразительно последователен во всем, что касалось его авангардности, чего, кстати, по тем или иным причинам не замечали либо не желали замечать пишущие о нем. Среди всех, считавших себя авангардистами или стремящихся к авангардизму, Гротовский всегда был не тот. Он был и остается иным. В этом заключался парадокс его положения. Да, он был современным художником, но в единственном значении этого слова: он прокладывал пути, протаптывал тропы. Но, как сегодня уже становится достаточно ясным, они, эти тропы, были предназначены 330 в первую очередь для него самого, их надо мерить его мерой. Не раз случалось, что другие, пытавшиеся идти проложенным им путем, ломали себе шею. По сути, он остался один. У него не было и не могло быть ни последователей, ни продолжателей. Питер Брук, конечно, прав: «Гротовский — уникален». Повторить его невозможно.
Говоря о Ритуальных Искусствах, лучше и безопаснее всего сосредоточить внимание на технике, на мастерстве, на ремесле и полной компетентности исполнения. Можно также вспомнить и «священные танцы» Гурджиева, и «физические действия» Станиславского — они могут служить своего рода точками отсчета в такой работе. Оставаясь верным этому мнению, не забывая о нем, хотел бы, тем не менее, в конце припомнить строки из польского поэта Циприана Камиля Норвида, который в поэме «Promethidion», написанной в 1850 году, видел будущее искусство «… как высочайшее из ремесел апостола. И как нижайшую молитву ангела».
Сегодня, спустя почти год со времени посещения Понтедеры, когда вновь возникает во мне картина всего, что было дано мне там испытать, этот образ поэта, отшельника и аутсайдера, говорящего об «уставе такого искусства, что было бы и нижайшей молитвой, и высочайшим из всех ремесел», и о таком «эстетизме, что становится аскетизмом, животворным и благодатным», — этот образ мне особенно близок.
Збигнев Осинский
Ноябрь 1988 – сентябрь 1989
331 Примечания
1 Dziewulska M. Ogmokrad // Teatr Warszawa, 1992. № 13. S. 14.
2 Grotowski J. Teatr Źródeł // Zeszyty Literackie Pans, 1987. № 19. S. 105.
3 Z Jerzym Grot owskim o teatrze (Wywiad) // Współczesność W., 1958. № 30/20.
4 Grotowski J. Listy do Aliny Obidniak z 1956 r. // Notatnik Teatralny. Wrocław, 2000. № 20 – 21. S. 21.
5 Ibid. S. 25.
6 Timoszewicz J. Po XIII Sesji Rady Kultury i Sztuki Kłopoty z teatrem // Poprostu. W., 1954. № 42 – 43.
7 Ibid.
8 Krzemiński Wl. // Współczesność. W., 1958. № 30/20.
9 Falkowski J. Niektóre twarze naszego pokolenia // Ibid.
10 Z Jerzym Grotowskim o teatrze (Wywiad) // Ibid.
11 Grotowski J. Z impresji reżysera Teatr i «Graal» [В программе] «Teatr 13 Rzędów». Opole. Sezon 1958/59. Настоящим редким библиографическим источником автор статьи обязана проф. Збигневу Осинскому. См.: Osmski Z. Grotowski i jego Laboratorium. W., 1980. S. 320.
12 Z Jerzym Grotowskim o teatrze // Współczesność. W., 1958. № 30/20.
13 Grotowski J. Teatr a człowiek kosmiczny // Tribune Internationale (dodatek do «Divadelni Noviny»). Praha, 1959, 18 mars.
14 Grotowski J. Impresje zapisane w Szwajcarii // Dziennik Polski. 1959. № 3.
15 Goście Starego Teatru Spotkanie dziesiąte z Ludwikiem Flaszenem rozmawia Jerzy Jarocki // Teatr. 1994. № 10. S. 6 – 7.
16 Kelera J. Grotowski w mowie pozornie zależnej [Reportaż z nagrania] // Odra. Wrocław, 1974. № 5. S 39.
17 Grotowski J. O genezie «Apocalypsis» // Teatr-Laboratorium. Décennale. Wr., 1969/70.
18 Zapiski ze zpotkań z J. Grotowskim i L. Flaszenem z l. l. 1962 – 1963 // Notatnik Teatralny. Wr., 2000. № 20 – 21. S. 122.
19 Grotowski J. Możliwości teatru. Materiały warsztatowe «Teatru 13 Rzędów». Opole, luty, 1962 // Ibid. S. 123.
20 Ibid. S. 125.
21 Institute de Recherches sur le Jeu de l’Acteur Théâtre-Laboratoire. Wr., 1967. S. 10, 21.
22 Ibid. S. 21.
23 Nya Pressen. Helsinki. 29.VI.1963 г. Годом раньше эта же газета уже писала о Гротовском. См.: «Teater ar ehtkonst». Nya Pressen. Helsinki. 332 13.VIII.1962 // Teatr-Laboratorium «13 Rzędów». Opole, 1963. S. 22 (архивный машинописный экземпляр).
24 Dzieduszycki W. Co o tym myślę? // Odra. 1965. № 6.
25 Korewa A. Teatr żarliwy // Argumenty. 1965. № 37.
26 Raszewski Z. Teatr 13 Rzędów // Pamiętnik Teatralny. W., 1964. zesz 3. S. 241.
27 Styks M. Ostateczność możliwości // Życie Literackie. Krakow, 1965. № 38.
28 Obserwator Dziękuję, nie skorzystam z pentaamaksylenu // Kierunki. 1965. № 236.
29 Grotowski J. List do Zbigniewa Osińskiego (28 grudnia 1964, Opole) // Osiński Z. Grotowski i jego Laboratorium. W., 1980. S. 128.
30 Bentley E. Dear Grotowski: An Open Letter // The New York Times. 1969. 30 November.
31 Bowman A. Teatr Grotowskiego w USA // Ameryka. W., 1970. № 142.
32 Papp J. Grotowski — odpowiedz poruszonego teatru amerykańskiego // Kultura USA. 1970. № 4.
33 Flaszen L. Po awangardzie // Odra. 1967. № 4. S. 39.
34 Grotowski J. Listy do Natelly Baszyndzagian [Письмо от 16 января 1973 г. автору вступительной статьи] // Notatnik Teatralny. Wr., 2000. № 22 – 23. S. 166.
35 Bez gry. Rozmowa z Ryszardem Cieslakiem // Kultura. W., 1975. № 11 (613). 16 marca. S. 11.
36 Grotowski J. Przedsięwzięcie Góra (Project The Mountain of Flame) // Odra. 1975. № 6. S. 27.
37 Ibid.
38 Ibid. S. 24.
39 Dąbrowski К. Mistenum rozwojowe // Odra. 1975. № 11. S. 39, 40.
40 Slommski A. Gadatliwa kanapa // Tygodnik Powszechny. W., 1976. 29 lutego.
41 Karpiński M. Anty-Grotowski // Kultura. W., 1975. № 44.
42 Ibid.
43 Kornaś T. Co w nas zostato? // Notatnik Teatralny. Wr., 1997. № 1 (14). S. 142.
44 Grotowski J. Teatr Zrodel // Zeszyty Literackie. P., 1987. № 19. S. 105.
45 Kelera J. Grotowski wielokrotnie. Wr., 1999. S. 64 – 65.
46 Burzyński T. Grotowski — jedność życia, mysh, dzieła // Teatr. 1989. № 10. S. 14.
47 Kolankiewicz L. Dramat Objektywny Grotowskiego // Dialog. W., 1989. № 5. S. 128. См. также: Wolford L. Grotowski’s Objective Drama Research. 1996.
48 Richards T. The Edge-point of Performance. Pontedera. 1997 // Dialog. 1999. № 6. S. 117. См. также: Richards T. Travailler avec Grotowski sur les actions physiques. P.: Actes Sud, 1995, Idem. At Work with Grotowski on Physical Action. L.: Routledge, 1995.
49 Burzynski T. Wehikuł Grotowskiego // Odra. 1991. № 6. S. 75.
50 Grotowski J. Przemówienie doctora Honoris causa // Notatnik Teatralny. Wr., 1992. № 4. S. 23.
51 333 Kijowski A. Grotowski jest geniuszem // Tygodnik Powszechny. 1971. № 41.
52 Prokopmk J. Noc z Grotowskim // Notatnik Teatralny. Wr., 1992. № 4. S. 119 – 120.
53 Goście Starego Teatru. Spotkanie dziesiąte: z Ludwikiem Flaszenem rozmawia Jerzy Jarocki // Teatr. 1994. № 10. S. 6.
54 Grotowski J. Listy do Zbigniewa Cynkutisa. (List z dnia 15 maja 1964) // Notatnik Teatralny. Wr., 2000. № 20 – 21. S. 162.
55 Burzyński T. Grotowski -jedność życia, myśli, dzieła // Teatr. 1989. № 10. S. 16.
56 Grotowski w Recamier // Odra. 1974. № 5.
57 Ibid.
58 Цит. по кн.: Osiński Z. Jerzy Grotowski Zrodła, inspiracje, konteksty. Gdansk, 1998. S. 222.
59 Grotowski J. Mim i s wiat // Ekran. 1959. № 10.
60 Письмо автору вступительной статьи. Прислано из Вроцлава, из Театра-Лаборатории не позднее 1972 г. Архив Натэллы Башинджагян, Москва.
61 Только в 1997 г. было издано наиболее полное собрание текстов — источников авторства Гротовского: The Grotowski Sourcebook. L.; N. Y.: Routledge, 1997.
62 Имеется в виду предполагаемая публикация статьи Е. Гротовского об Антонене Арто в сборнике сочинений Арто издательства «Искусство» (не осуществлено).
63 Выступление (на франц. яз.) на творческой конференции с участием Гротовского, проходившей в марте 1987 г. в Италии, во Флоренции, в Зале Старейшин.
Впервые опубликовано на итал. яз. в «Teatro e Storm» (Bologna, 1988 № 2/5).
На польск. яз. впервые опубликовано в альманахе «Театральные записки» (Notatnik Teatralny. Wr., 1992. № 4).
Перевод дается по франц. оригиналу выступления, присланному Гротовским переводчику.
64 Статья впервые опубликована в польском журн. «Одра» (Odra Wrocław, 1965 № 9/55).
Вошла в первое издание кн. «К Бедному Театру» (Grotowski J. Towards a Poor Theatre. Holstebro, 1968).
Перевод дается по изд.: Grotowski J. Teksty z lat 1965 – 1969. Wybór (Seria «Mysi teatralna w Polsce w XX wieku»). Wrocław, 1990.
65 334 Впервые опубликовано в польском журн. «Театр» (Teatr. Warszawa, 1965. № 17).
Перевод дается по изд.: Grotowski J. Teksty…
66 Впервые опубликовано в польском еженедельнике «ITD». 1966. № 28.
Перевод дается по изд.: Grotowski J. Teksty…
67 Впервые опубликовано в польском журн. «Одра» (Odra. 1967. № 1/71).
Перевод дается по изд.: Grotowski J. Teksty…
68 Впервые опубликовано на франц. яз. под названием «Les techniques de l’acteur» в парижском еженед. «Les Lettres Françaises» (P., 1967. 16 – 22 mars.).
Первая польская публикация в журн. «Одра» (Odra. 1968. № 4 (86)).
Перевод дается по изд.: Grotowski J. Teksty…
69 Текст выступления Гротовского на научной конференции, состоявшейся 15 октября 1968 г. в Париже, в Центре Польской Академии наук.
Впервые опубликован на франц. яз. под названием «Le Théâtre d’aujour d’hui à la recherche du rite» (France-Pologne). 1968. № 28 – 29.
Первая польская публикация в журн. «Диалог» (Dialog. W., 1969. № 8).
Перевод дается по изд.: Grotowski J. Teksty…
70 В мае 1969 г., считая свою работу над пластическими и голосовыми упражнениями на определенном этапе завершенной, Гротовский подвел итоги в беседах с польскими и иностранными стажерами Театра-Лаборатории. Эти беседы легли в основу статей «Упражнения» и «Голос».
Впервые опубликовано на франц. яз. под названием «Exercices» (Action Culturelle du Sud Est Anex). 1971. № 6.
Перевод дается по указанному франц. изд., присланному Гротовским переводчику в 1972 г. и сверенному с публикацией в книге Grotowski J. Teksty…
71 335 Первая польская публикация в варшавском журн. «Диалог» (Dialog. 1980. № 1).
Перевод дается по изд.: Grotowski J. Teksty…
72 Текст выступления, состоявшегося 22 ноября 1969 г. в Нью-Йорке, в Бруклинской Академии музыки.
Первая польская публикация в журн. «Диалог» (Dialog. 1980. № 5).
Перевод дается по изд.: Grotowski J. Teksty…
73 Выступление на научном конгрессе под названием «Гротовский-1», посвященном первому двадцатилетию существования Театра-Лаборатории (1959 – 1979) и организованном в январе 1979 г. в Милане итальянским Центром театральных исканий.
На польском языке опубликовано в журн. «Диалог» (Dialog. 1980. № 3). Заголовок статьи в оригинале «О практиковании романтизма» (О praktykowaniu romantyzmu).
Перевод статьи дается по этому польскому изданию.
74 Выступление на Международном театральном симпозиуме в Италии (Вольтерра, 1984 г.)
Впервые опубликовано на итал. яз. в 1986 г. в журн. «Teatro Festival» (Parma, 1986. Aprile. № 3). На польск. яз. не публиковалось.
Перевод дается с итал. яз. оригинала, присланного Гротовским переводчику. (Перевод Карины Арутюновой, редакция Натэллы Башинджагян).
75 Текст выступления на творческой конференции в Италии, во Флоренции, в Зале Старейшин, 15 июля 1985 г.
Впервые опубликовано на итал. яз. в 1986 г. в журн. «Linea d’ombra» (1986. Dicembre. № 17).
Перевод дается по авторизованному франц. тексту, опубликованному в парижском журн. «Европа» (Europe. P., 1989. Octobre. № 726) и присланному Гротовским переводчику.
76 Выступление на творческой конференции в Италии, во Флоренции, в марте 1987 г.
336 Первая версия текста этого выступления была опубликована в Париже на франц. яз. (Art-Press, P., 1987. № 114). В 1989 г. Гротовский сам перевел с франц. яз., дополнил и авторизовал текст «Performer’a» для первой польской публикации в кн. Grotowski J. Teksty…
Предлагаемый читателю русский перевод сделан с указанного издания.
77 Текст выступления на франц. яз. на вечере памяти Ришарда Чесляка, состоявшемся 9 декабря 1990 г. в Париже, в зале Театра Европы — театра Одеон на творческой сессии, носившей название «Тайна актера».
Впервые опубликовано на франц. яз. в кн. «Ryszard Cieslak, acteur-emblème des années soixante». P.: Actes Sud, 1992.
На польск. яз. опубликовано в альманахе «Театральные записки» (Notatnik Teatralny. Wr., 1995. № 10).
Перевод дается по указанному польск. изд.
78 Текст сведен Гротовским воедино из текстов двух выступлений на творческих конференциях в октябре 1989 г. в Модене (Италия) и в мае 1990 г. в Калифорнийском университете в Ирвине (США).
На польск. яз. впервые опубликован в альманахе «Театральные записки» (Notatnik Teatralny. Wr., 1992. № 4).
Перевод дается по указанному польск. изд.
79 Впервые опубликовано на польск. яз. в альманахе «Театральный Дневник» (Pamiętnik Teatralny. Warszawa, 1964. zesz. 3).
Перевод дается по указанному польск. изд.
80 Статья написана для настоящего издания. Публикуется впервые.
81 Единственная запись партитуры спектакля «Стойкий принц», сделанная в 1967 г. одним из иностранных стажеров Гротовского, Сержем Уакнином. Эта французская запись партитуры была опубликована в 1970 г., в Париже, в сборнике «Пути театрального 337 творчества»: Ouaknine S. Théâtre Laboratoire. Wroclaw. Jerzy Grotowski «Le Prince Constant» // Les Voies de la Creation Théâtrale. P., 1970. P. 50.
82 Перевод стихов драмы автора статьи.
83 Указанная запись партитуры спектакля: Ouaknine S. Op. cit. P. 64.
84 Barba E. Le Canoe de papier Traite d’anthropologie théâtrale // Bouffonneries. № 28 – 29. P., 1993. P. 124.
85 Указанная запись партитуры спектакля. Р. 79.
86 Ibid.
87 Ibid. P. 41.
88 Kelera J. Teatr w stanie łaski // Odra. 1965. № 9. S 74.
89 Barba E. Op. cit. P. 124.
90 Гротовский раскрывал некоторые особенности работы с актером. В этой связи стоит привести его слова о трех прагматических законах в исполнительском искусстве.
На I Международной сессии театральной антропологии (ISTA, 1980, Бонн), в беседе с итальянским историком театра профессором Франко Руффини, Гротовский говорил о трех прагматических законах, определяющих вне-обыденные, экстраординарные техники исполнителя (законе расширенного равновесия, законе противоречия между направлениями импульсов и контримпульсов, законе энергии тела в пространстве и во времени). Особое внимание Гротовский уделил третьему прагматическому закону: «Третий прагматический закон, — говорил он, — состоит в том, что процесс действия, совершаемый актером, может быть выполнен и рассмотрен в двойной перспективе с точки зрения энергии в пространстве или с точки зрения энергии во времени». (Конечно, можно затеять терминологическую пикировку о том, что такое энергия и что означает энергия в пространстве и во времени, — добавляет он не без иронии.) «Разница, во всяком случае, ясна. Дело заключается в том, чтобы либо выразить процесс в движении, то есть через кинетическое качество, проявляющееся в пространстве, либо спрессовать то, что лежит в основе потенциального движения в пространстве — утаивая его под кожей. Импульсы возникают, “трогаются с места”, но они, в определенной мере, удерживаются. Тогда видно, что тело — живое, что с ним что-то происходит в пространстве, но как бы сохраняясь под кожей. Тело — живое, оно делает что-то исключительно точное, но видимый поток протекает в царстве времени кинетика в пространстве отступает на задний план. Это и есть энергия во времени» (Barba E. Savarese N. L’Energie qui danse. L’art secret de l’acteur // Bouffonneries. № 32 – 33. 1995. P. 220).
91 Из семи диаграмм, приложенных к партитуре «Стойкого принца», мы выбрали для воспроизведения только одну, дающую поминутный и посекундный хронометраж времени действия.
338 Насколько нам известно, сам Гротовский не фиксировал свои репетиции и спектакли такими диаграммами. В архиве вроцлавского Театра-Лаборатории их нет. Он пользовался своей записью партитуры действия, «смонтированным текстом». Однако всегда придавал большое значение точности временной партитуры спектакля.
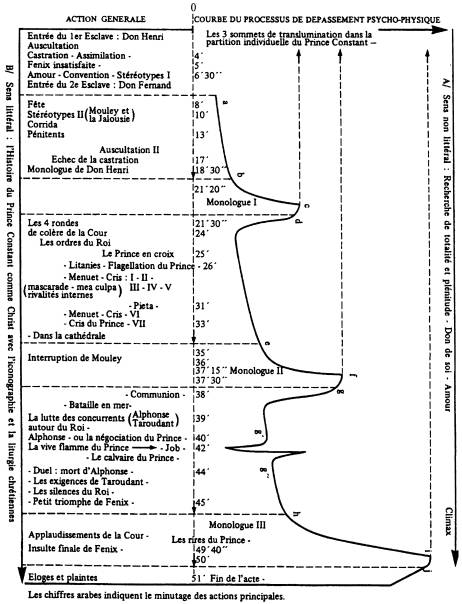
|
a) |
Entrée du Prince |
|
Translumination II |
|
a-b) |
Passivité |
f-g) |
Relaxation |
|
b-c) |
Ascension I |
g-h) |
Action |
|
c) |
Sommet psychique I |
g'-g") |
Perturbation psychique |
|
|
Translumination I |
h-i) |
Ascension III |
|
c-d) |
Relaxation |
i) |
Climax Sommet de la |
|
d-e) |
Action |
|
partition et du spectacle |
|
e-f) |
Ascension II |
i-j) |
Relaxation |
|
f) |
Sommet psychique II |
j) |
Fin de l'acte |
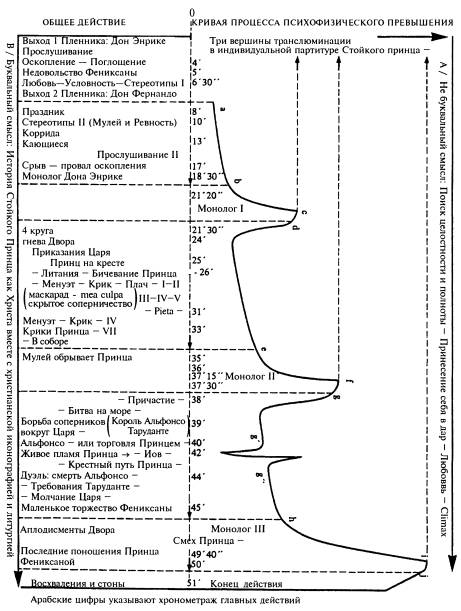
|
а) |
Выход Принца |
|
Транслюминация II |
|
а-b) |
Пассивность |
f-g) |
Ослабление |
|
b-c) |
Восхождение I |
g-h) |
Активное действие |
|
c) |
Психическая вершина I |
g'-g") |
Психическое потрясение |
|
|
Транслюминация I |
h-i) |
Восхождение III |
|
c-d) |
Ослабление |
i) |
Climax Вершина партитуры |
|
d-e) |
Активное действие |
|
и спектакля |
|
e-f) |
Восхождение II |
i-j) |
Ослабление |
|
f) |
Психическая вершина II |
j) |
Конец действия |
92 341 Впервые опубликовано: Teatr. 1969. № 22.
93 Впервые опубликовано: Teatr. 1970. № 14.
Перевод статей дается по изд.: Grotowski J. Teksty…
94 Впервые опубликовано на польск. яз., в разделе Приложение, в кн.: Ежи Гротовский. Тексты 1965 – 1969 гг. (Grotowski J. Teksty…)
Перевод дается по указанному польск. изд. с небольшими сокращениями.
95 Osterwa J. Raptularz 1918 – 1923. Рукопись. Театральный музей в Варшаве. Д. 5.211. к. 103. § 2 (3.III.1921) и к. 105.51 (5.II.1921) На приведенные здесь фрагменты мое внимание обратил Ежи Гротовский (примеч. автора статьи).
96 Drake S. Stage watch Grotowski to set scene at UС Irvine // Los Angeles Times. 1983. September 29. Calendar. P. 1, 5.
97 Sullivan D. A prophet of the far aut comes to Orange County // Los Angeles Times. 1983. October 2. Calendar. P. 1, 42.
98 Drake S. Op. cit.
99 Ход занятий в Объективной Драме описывает ее участник Роберт Финдлей в очерке «Необходимое послесловие»: Findlay R. 1976 – 1986: A Necessary Afterword // Osinski Z. Grotowski and his Laboratory. NY., 1986.
100 Grotowski J. Teatr Zrodel // Zeszyty Literackie. P., 1987. № 19. S. 107.
101 Ibid. S. 110.
102 Eliade M. Joga Nieśmiertelność i wolność. W., 1984. S. 217.
103 Grotowski J. Co było Kolumbia — lato 1970. Festiwal Ameryki Łacińskiej // Dialog. 1972. № 10. S. 118.
104 Listy Juliusza Osterwy. W., 1968. S. 52.
105 Grotowski J. Teatr Zrodel // Op. cit. S. 108.
106 Eliade M. Joga. S. 292.
107 Ibid. S. 293.
108 Tatarkiewicz Wl. Histona estetyki. W., 1989. T. 2. S. 267.
109 Flaszen L. Po awangardzie // Odra. 1967. № 4. S. 39 – 42.
342 Список режиссерских работ Е. Гротовского
1957
«Стулья» Э. Ионеско. Старый театр. Камерная сцена. Краков.
1958
«Белый слон», по М. Твену. Радиопостановка. Краков. «Женщина-дьявол, или Искушение Св. Антония» П. Мериме. Высшая театральная школа. Краков.
«Сакунтала», по мотивам Калидасы и эпоса «Упанишады». Радиопостановка. Краков.
«Супружество» по рассказам Т. Драйзера и других писателей. Радиопостановка. Краков.
«Боги дождя» («Семья неудачников») Е. Кшиштоня. Старый театр. Камерная сцена. Краков.
«Неудачники» («Семья неудачников») Е. Кшиштоня. «Театр 13 рядов». Ополе.
1959
«Дядя Ваня» А. Чехова. Старый театр. Камерная сцена. Краков.
«Орфей» Ж. Кокто. «Театр 13 рядов». Ополе.
«Меловой круг» А. Клабунда. Радиопостановка. Краков.
«Ночной поход», по «Челкашу» М. Горького. Радиопостановка. Краков.
1960
«Каин» Дж. Байрона. «Театр 13 рядов». Ополе.
«Нараджуна», по мотивам тибетских преданий. Радиопостановка. Краков.
«Фауст» И.-В. Гете. «Польский театр». Познань.
«Мистерия-буфф» В. Маяковского. «Театр 13 рядов». Ополе.
«Сакунтала», по мотивам Калидасы. «Театр 13 рядов». Ополе.
1961
«Туристы», по документам, связанным со второй мировой войной. «Публицистическая эстрада». «Театр 13 рядов». Ополе.
«Глиняные голуби», по дневникам коменданта Освенцима Р. Гесса. «Публицистическая эстрада». «Театр 13 рядов». Ополе.
«Дзяды» А. Мицкевича. «Театр 13 рядов». Ополе.
1962
«Кордиан» Ю. Словацкого. «Театр 13 рядов». Ополе.
«Акрополь» С. Выспянского. Вариант I. «Театр 13 рядов». Ополе.
«Акрополь» С. Выспянского. Вариант II. «Театр-Лаборатория 13 рядов». Ополе.
1963
«Трагическая история доктора Фауста» К. Марло. «Театр-Лаборатория 13 рядов». Ополе.
1964
«Этюд о Гамлете», по У. Шекспиру и С. Выспянскому. «Театр-Лаборатория 13 рядов». Ополе.
«Акрополь» С. Выспянского. Вариант III. «Театр-Лаборатория 13 рядов». Ополе.
343 1965
«Акрополь» С. Выспянского. Вариант IV. Театр-Лаборатория. Вроцлав.
«Стойкий принц» П. Кальдерона — Ю. Словацкого. Вариант I. «Театр-Лаборатория 13 рядов» — Институт исследования актерского метода. Вроцлав.
«Стойкий принц» П. Кальдерона — Ю. Словацкого. Вариант II. «Театр-Лаборатория 13 рядов» — Институт исследования актерского метода. Вроцлав.
1967
«Евангелие» «Театр-Лаборатория 13 рядов» — Институт исследования актерского метода. Вроцлав.
«Акрополь» С. Выспянского. Вариант V. «Театр-Лаборатория 13 рядов» — Институт исследования актерского метода. Вроцлав.
1968
«Стойкий принц» П. Кальдерона — Ю. Словацкого. Вариант III. Театр-Лаборатория — Институт исследования актерского метода. Вроцлав.
«Апокалипсис», по текстам из Библии, Ф. Достоевского, Т. Элиота, С. Вейль. Вариант I. Закрытая премьера Театр-Лаборатория — Институт исследования актерского метода. Вроцлав.
1969
«Апокалипсис», по текстам из Библии, Ф. Достоевского, Т. Элиота, С. Вейль. Вариант I. Официальная премьера Театр-Лаборатория — Институт исследования актерского метода. Вроцлав.
1971
«Апокалипсис». Вариант II. Институт Актера — Театр-Лаборатория. Вроцлав.
1973
«Апокалипсис». Вариант III. Институт Актера — Театр-Лаборатория Вроцлав.
344 Указатель имен60*
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н
О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
Антоний Великий (ок. 250 – 356), святой, основатель христианского монашества, отшельник 150
Антуан Андре (1858 – 1943), французский режиссер, актер, теоретик театра 192
Арагон Луи (1897 – 1982), французский писатель и общественный деятель 21
Аристотель (384 – 322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый 114
Армстронг Луи (1900 – 1971), американский трубач и певец, автор джазовых произведений 154, 161
Арто Антонен (1896 – 1948), французский актер, режиссер, поэт, теоретик театра 42, 44, 65, 66, 78, 82 – 92, 191, 298, 314
Бабле Дени (1930 – 1992), французский театровед и театральный деятель 91 – 93, 95 – 98
Байрон Джордж (1788 – 1824), английский поэт-романтик 10
Баню Жорж (р. 1943), французский театровед 326
Барба Эудженио (р. 1936), режиссер, педагог, теоретик театра 16, 18
Барро Жан-Луи (1910 – 1994), французский актер и режиссер 21
Бежар Морис (р. 1927), французский танцовщик, балетмейстер, режиссер, педагог 110
Беккет Сэмюэль (1906 – 1989), англо-французский драматург ирландского происхождения, один из основоположников драматургии абсурда 301
Бентли Эрик (р. 1916), американский критик, теоретик театра, режиссер 22
Бор Нильс (1885 – 1962), датский физик, один из основоположников современной физики 17
Боровский Тадеуш (1922 – 1951), польский поэт, новеллист, публицист Узник Освенцима и Дахау 277
Бретон Андре (1896 – 1966), французский писатель, один из основоположников сюрреализма 314
Брехт Бертольт (1898 – 1956), немецкий поэт, драматург, режиссер, теоретик театра, создатель театра «Берлинер Ансамбль» 9, 10, 20, 21, 41, 78, 83, 87, 91, 119, 191, 200, 252, 304
345 Брук Питер (р. 1925), английский театральный и кинорежиссер, теоретик театра 21, 38, 45, 46, 48, 52, 83, 256, 330
Бужинский Тадеуш (1939 – 1999), польский театровед и критик 33, 38, 40
Буриан Эмиль Франтишек (1904 – 1959), чешский режиссер, композитор, писатель, драматург 7
Вагнер Рихард (1813 – 1883), немецкий композитор, дирижер, реформатор оперы 17
Вайгель Елена (1900 – 1971), немецкая актриса, жена Б. Брехта 200
Вайда Анджей (р. 1926), польский кинорежиссер, работал в театре и на телевидении 9
Ван Гог Винсент (1853 – 1890), французский живописец голландского происхождения 242, 244
Васильев Анатолий Александрович (р. 1942), режиссер, создатель и руководитель театра «Школа драматического искусства» 43
Вахтангов Евгений Богратионович (1883 – 1922), актер и режиссер 7, 41, 56, 85, 171, 185
Вейль Симона (1909 – 1943), французская религиозная писательница, эссеистка, философ 297, 308
Вилар Жан (1912 – 1971), французский актер и режиссер 7, 21
Виткаций (Виткевич) Станислав Игнаций (1885 – 1939), польский прозаик, драматург, теоретик театра, художник 9
Врублевский Анджей (1927 – 1957), польский художник-живописец и график 9
Выспянский Станислав (1869 – 1907), польский драматург, художник, театральный деятель 9, 15, 27, 110, 188 – 190, 208, 275 – 277, 280, 281
Ганди Мохандас Карамчанд (1869 – 1948), один из лидеров национально-освободительного движения Индии, его идеолог 39
Гевара Эрнесто (Че) (1928 – 1967), латиноамериканский революционер 195
Гиппократ (ок. 460 – ок. 370 до н. э.), древнегреческий врач, реформатор античной медицины 166
Годар Жан-Люк (р. 1930), французский кинорежиссер 21
Гомер, легендарный древнегреческий поэт 279, 312
Гроддек Георг (1866 – 1934), немецкий врач, писатель и ученый 185
Гротовская Эмилия (1897 – 1978), мать Ежи Гротовского 6, 24
Гротовский Мариан (1898 – 1968), отец Ежи Гротовского 5, 6
Гуравский Ежи (р. 1935), польский архитектор и сценограф 66, 101
Гурджиев Георгий Иванович (1877 – 1949), мистик и духовный учитель. Родился в Армении, путешествовал по Востоку 239, 315, 330
Данте Алигьери (1265 – 1321), итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка 187
Дарвин Чарлз (1809 – 1882), английский естествоиспытатель 133
Дельсарт Франсуа (1811 – 1871), французский певец, педагог, композитор, теоретик сценического движения и вокала 56, 130
346 Джойс Джеймс (1882 – 1941), ирландский писатель, один из основоположников литературы «потока сознания» 310, 314
Дзевульска Малгожата (р. 1944), польская эссеистка, критик, режиссер 14
Дзэами Мотокио (1364 – 1443), японский драматург, теоретик театра; основоположник театра Но 237
Домбровский Казимеж (1902 – 1980), польский врач-психиатр, психолог 28
Достоевский Федор Михайлович (1821 – 1881) 7, 111, 177, 187, 219, 255, 297, 299, 306, 309, 312
Дюллен Шарль (1885 – 1949), французский актер, режиссер, продюсер, педагог 56, 66, 92
Дюрер Альбрехт (1471 – 1528), немецкий живописец и график 21
Дюркгейм Эмиль (1858 – 1917), французский социолог-позитивист, основатель французской социологической школы 65
Ефремов Олег Николаевич (1927 – 2000), актер и режиссер 42
Жак-Далькроз Эмиль (1865 – 1950), швейцарский композитор и педагог, основатель системы ритмического воспитания 130
Завадский Юрий Александрович (1894 – 1977), актер и режиссер 7
Ионеско Эжен (1912 – 1994), французский драматург, один из основоположников драматургии абсурда 10, 21
Кайзар Хельмут (1941 – 1982), польский драматург и режиссер 303
Калидаса (прибл. V в.), индийский поэт, драматург 14, 112
Кальдерон де ла Барка Педро (1600 – 1681), испанский драматург 105, 110, 111, 220, 243, 247, 259, 285, 291, 294
Кандзё Хисао (1925 – 1978), японский актер, теоретик театра 197
Кастанеда Карлос (1925 – 1998), американский писатель 236
Кнебель Мария Осиповна (1898 – 1985), актриса, режиссер, педагог 42
Кокто Жан (1889 – 1963), французский поэт, прозаик, художник, драматург, сценарист, кинорежиссер, музыкальный деятель 10
Коланкевич Лех (р. 1954), польский историк театра, культуролог, антрополог 34
Колумб Христофор (1451 – 1506), мореплаватель 198
Крус Хуан де ла, святой, испанский монах-мистик XVI в. 247, 301
Крэг Гордон (1872 – 1966), английский театральный художник, режиссер, теоретик театра 50, 326
Леви-Стросс Клод (р. 1908), французский этнограф и социолог, один из главных представителей структурализма 300
Леонардо да Винчи (1452 – 1519), итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер 82
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814 – 1841) 7
347 Линь, китайский врач, профессор Пекинской оперы 150 – 152, 154
Любимов Юрий Петрович (р. 1917), актер, режиссер, создатель и руководитель Театра на Таганке 42
Лютер Мартин (1483 – 1546), деятель Реформации в Германии, начало которой положило его выступление в Виттенберге 22
Мальро Андре (1901 – 1976), французский писатель и государственный деятель 21
Манн Томас (1875 – 1955), немецкий писатель 66
Марков Павел Александрович (1897 – 1980), театровед 42
Марло Кристофер (1564 – 1593), английский драматург 15, 61, 101, 110, 216, 242, 310
Марсо Марсель (р. 1923), французский актер пантомимы 41
Маяковский Владимир Владимирович (1893 – 1930), поэт, драматург 7, 9, 14, 128
Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874 – 1940), актер, режиссер 7, 41, 56, 66, 82, 85, 86, 95, 171, 185
Мейстер Экхарт (ок. 1260 – 1327), немецкий философ и теолог 240
Мериме Проспер (1803 – 1870), французский писатель, драматург 10
Мицкевич Адам (1798 – 1855), польский поэт-романтик, деятель национально-освободительного движения 9, 15, 27, 41, 106, 187, 188, 221
Мольер Жан-Батист (1622 – 1673), французский комедиограф, актер, театральный деятель 85
Монтерлан Анри де (1895 – 1972), французский прозаик и драматург 85
Мосс Марсель (1872 – 1950), французский этнограф и социолог 197
Ницше Фридрих (1844 – 1900), немецкий философ 65, 87, 236
Норвид Циприан Камиль (1821 – 1883), польский поэт, драматург, художник 313, 330
Нострадамус Мишель (1503 – 1566), французский врач и астролог 84
Осинский Збигнев (р. 1939), польский историк и теоретик театра 44, 45
Остэрва Юлиуш (1885 – 1947), польский актер, режиссер, театральный деятель 28, 77, 97, 315, 326
Папп Джозеф (р. 1921), американский актер и режиссер, театральный деятель 23
Пендерецкий Кшиштоф (р. 1933), польский композитор 9
Пискатор Эрвин (1893 – 1966), немецкий режиссер 10
Пифагор Самосский (VI в. до н. э.), древнегреческий философ, религиозный и политический деятель, математик 319
Платон (428 или 427 – 348 или 347 до н. э.), древнегреческий философ 325
Пузына Константий (1929 – 1989), польский критик, историк театра 46, 47
348 Рашевский Збигнев (1925 – 1992), польский историк театра 19
Рейнхардт Макс (1873 – 1943), немецкий режиссер 86
Ривьер Жак (1886 – 1925), французский писатель, литературный критик, издатель 89
Рильке Райнер Мария (1875 – 1926), австрийский поэт 138
Ричарде Томас (р. 1962), ученик и ассистент Гротовского 35, 318
Робар Мод (р. 1946), ассистентка Гротовского 318, 319
Роден Огюст (1840 – 1917), французский скульптор 138
Ронсар Пьер де (1524 – 1585), французский поэт 305
Салынский Афанасий Дмитриевич (1920 – 1993), драматург 42
Сартр Жан-Поль (1905 – 1980), французский писатель, философ и публицист, глава французского экзистенциализма 58, 59
Сведенборг Эмануэль (1688 – 1772), шведский ученый и теософ-мистик 314
Свинарский Конрад (1929 – 1975), польский режиссер и театральный художник, работал в опере и на телевидении 9, 192, 208, 215
Сен-Жон Перс (1887 – 1975), французский поэт 21
Словацкий Юлиуш (1809 – 1849), польский поэт-романтик 15, 27, 101, 105, 106, 110, 188, 220, 243, 247, 255, 259
Слонимский Антоний (1895 – 1976), польский писатель-публицист 29
Станиславский Константин Сергеевич (1863 – 1938) 7, 23, 41, 42, 55, 56, 66, 78 – 80, 83, 85, 87, 91, 92, 95, 97, 113, 115, 123 – 126, 170 – 172, 174 – 177, 181, 183 – 185, 192, 246, 251 – 255, 258, 266, 319, 321, 330
Стахура Эдвард (1937 – 1979), польский поэт 9
Сумак Има (р. 1928), перуанская певица 153, 161
Сыркус Шимон (1893 – 1964), польский архитектор, проектировал театральные здания 86
Товстоногов Георгий Александрович (1913 – 1989), режиссер 42
Толстой Лев Николаевич (1828 – 1910) 7
Топорков Василий Осипович (1889 – 1970), актер, педагог 255
Уакнин Серж (р. 1943), канадский художник, сценарист, режиссер 336
Флеминг Александер (1881 – 1955), английский микробиолог 255
Фокин Валерий Владимирович (р. 1946), режиссер, создатель и руководитель Центра имени Вс. Мейерхольда 42
Фляшен Людвик (р. 1930), польский литературный и театральный критик, эссеист 12, 23, 38, 47, 59, 87, 108, 329
Фрейд Зигмунд (1856 – 1939), австрийский врач-психиатр, психолог, основатель психоанализа 60, 177, 185
Хасиор Владислав (1928 – 1999), польский скульптор-монументалист, сценограф 9
Хласко Марек (1934 – 1969), польский прозаик и публицист 9
Ходунова Елена Михайловна (1921 – 1997), театровед 43
349 Цинкутис Збигнев (1938 – 1987), польский актер 39
Чесляк Ришард (1937 – 1990), польский актер 23, 24, 99, 117, 242, 244 – 250, 258, 295, 296, 302
Чехов Антон Павлович (1860 – 1904) 10
Чехов Михаил Александрович (1891 – 1955), актер, режиссер, педагог 7
Шайна Юзеф (р. 1922), польский режиссер и театральный художник 278
Шекспир Уильям (1564 – 1616) 94, 158, 187, 200, 312
Шульц Иоганнес Генрих (1884 – 1970), немецкий врач-психиатр, создатель школы аутогенной тренировки 125
Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898 – 1948), театральный и кинорежиссер, теоретик кино 212, 213
Элиаде Мирча (1907 – 1986), историк, философ; автор трудов по истории религий и мифологии 328
Элиот Томас (1888 – 1965), англо-американский поэт 297, 299, 306, 308, 309, 313, 315
Эль Греко Доменико (1541 – 1614), испанский живописец греческого происхождения 61
Юнг Карл Густав (1875 – 1961), швейцарский психолог, философ, основатель «аналитической психологии» 65, 106, 195, 299, 300, 315, 327
Ярач Стефан (1883 – 1945), польский актер 192
Яхолковский Антоний (1931 – 1981), польский актер 219
350 Указатель драматических произведений
«Акрополь» С. Выспянского 15, 21, 22, 24, 47, 103, 105, 110, 117, 129, 188 – 190, 223, 275 – 284, 286, 310, 321
«Апокалипсис», по текстам из Библии, Ф. Достоевского, Т. Элиота, С. Вейль 21, 22, 24, 25, 29, 47, 110, 209, 218, 219, 242, 254, 255, 297 – 315
«Баня» В. Маяковского 128
«Буря» У. Шекспира 200
«В ожидании Годо» С. Беккета 301
«Гамлет» («Этюд о Гамлете»), по У. Шекспиру и С. Выспянскому 254
«Дзяды» А. Мицкевича 15, 106, 209
«Дядя Ваня» А. Чехова 10
«Искушение Св. Антония» П. Мериме 10
«Каин» Дж. Байрона 10
«Кордиан» Ю. Словацкого 15, 16, 101, 103, 106, 310
«Мистерия-буфф» В. Маяковского 14
«Неудачники» («Боги дождя», «Семья неудачников») Е. Кшиштоня 10
«Орфей» Ж. Кокто 10
«Принцесса Турандот» К. Гоцци 171
«Сакунтала», по мотивам Калидасы 14, 112, 214
«Самуэль Зборовский» Ю. Словацкого 218, 219, 255
«Стойкий принц» П. Кальдерона — Ю. Словацкого 21, 22, 24, 98, 99, 105, 10, 117, 218, 223, 242, 243, 245, 248, 260, 285 – 296, 321
«Стулья» Э. Ионеско 10
«Судьи» С. Выспянского 208
«Тартюф» Ж.-Б. Мольера 255
«Трагическая история доктора Фауста» («Фауст») К. Марло 15, 16, 39, 98, 101, 103, 110, 111, 216, 242, 310
«Фауст» И.-В. Гете 10
ПОСТРАНИЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
1* Св. Грааль, Легенда о Святом Граале (от старофранц. San Gral — Святая Чаша) Средневековая легенда о чаше из драгоценного камня, из которой, по преданию, Иисус Христос пил вино с апостолами в последний раз на Тайной Вечере и в которую позже евангельский праведный Иосиф Аримафейский собрал святую кровь распятого Спасителя Миф о Святом Граале несет в себе возможность различных толкований и вопросов. «Некоторая неясность, что же такое “Грааль” — конструктивно-необходимая черта этого образа. Грааль — это табуированная тайна, невидимая для недостойных, но и достойным являющаяся то так, то иначе, с той или иной мерой “прикровенности”» (С. Аверинцев Статья в Энциклопедии «Мифы народов мира», т. 1, с. 317.) Здесь и далее примеч. переводчика.
2* трансгрессия (лат transgressio — переход) — естественнонаучный термин, относящийся, собственно, к геологии в процессе сдвигов геологической природы означает переход моря за линию берега. В качестве термина, обозначающего преодоление некой границы или барьера, употребляется в этнологии и антропологии.
3* Принцип дополнительности — великий принцип научного познания Согласно сформулированному Нильсом Бором «принципу дополнительности», при экспериментальном исследовании микрообъектов могут быть получены точные данные либо об их энергиях и импульсах, либо о поведении в пространстве и времени.
Эти две взаимоисключающие картины энергетически-импульсная и пространственно-временная, дополняют друг друга.
Именно в эти годы в размышлениях Гротовского впервые возникает ассоциация с открытиями отнюдь не в зрелищной сфере с именем великого ученого современности Нильса Бора, сформулировавшего этот принцип. Еще раз он вернется к примеру Бора, когда будет задумывать создание Института Актера, который, собирая и концентрируя у себя эмпирические материалы и результаты исследований, мог бы служить «банком данных», по аналогии с Институтом Нильса Бора в Копенгагене.
4* Любопытная деталь никогда ни в одном спектакле Гротовского дело не доходило до «кровавых рубцов». Но шоково должно было быть впечатление от происходящего, и зритель ему полностью поддался зрители в Театре-Лаборатории тоже режиссировались, только по-иному.
5* Название спектакля восходит к серии гравюр немецкого художника начала XVI века Альбрехта Дюрера, изображающих некоторые эпизоды из евангельского Откровения ев Иоанна Богослова. В литературе о Дюрере встречается перевод латинского названия серии и как «Апокалипсис с фигурами», и как «Апокалипсис с вариациями».
6* К этому же времени — лету 1970 года, после пребывания в Индии — относится и разительное изменение внешности, о котором тоже ходили легенды. Из человека «тяжелой» конституции Гротовский превратился в «легкого» человека. (Его не узнали не только актеры Театра-Лаборатории, но и родной брат, узнала лишь мать.) Избегая произвольных домыслов, отметим только, что в поражающем изменении внешнего облика, вероятно, не последнюю роль сыграли как исследовательские познания о возможностях собственного организма, так и внутренняя готовность к изменению.
7* Имеется в виду сентябрь 1939 года, начало второй мировой войны и оккупации Польши.
8* Речь идет о периоде подъема движения «Солидарности».
9* В разные годы и в разных программах с Гротовским сотрудничали артисты-практики, профессиональные знатоки различных исполнительских техник балийские танцоры, мастера восточных боевых искусств, исполнительница индийского «катакхали», суфийский дервиш-танцор.
Консультантами являлись медики психотерапевты и психиатры, специалисты по акустике, по истории религии, этнологии, а также фониатрии.
10* Значение латинского слова vehicul (буквально транспортное средство, экипаж, повозка, франц. vehicule, англ. vehicle, итал. veicolo) может быть переведено, в переносном смысле, как проводник-посредник, передатчик, переносчик, проводник-вещество, в том числе проводящее средство (звука, света), как связующий материал. Если П. Брук склоняется к смыслу «проводник-переносчик», то Т. Бужинский предпочитает «носитель», а Л. Фляшен употребляет слово «капсула» (переносящая в себе содержимое). Ввиду многозначности понятия «vehicul» Гротовский предлагал сохранять его в оригинале (вэикул), применяя в качестве неологизма.
11* Выступление Питера Брука на конференции с участием Гротовского, состоявшейся во Флоренции 14 марта 1987 года.
12* Ответом Питеру Бруку стало выступление Гротовского, которое было опубликовано под названием «PERFORMER».
13* via negativa (лат.) — путь отрицания.
14* Eros (греч.) — Любовь, Charitas (греч.) — Милосердие.
15* parodia sacra (лат.) — священная пародия.
16* элиминация (от лат. elimino — выношу за порог, удаляю) — удаление, исключение.
17* in statu nascendi (лат.) — в состоянии рождения.
18* ITD — название польского журнала, выходящего в Варшаве.
19* «Редута» («Reduta», польск., — редут, форпост) — театр-студия, основанный в 1919 г. в Варшаве актером и режиссером Юлиушем Остэрвой (1885 – 1947) и театральным деятелем Мечиславом Лимановским (1876 – 1948). Просуществовал до второй мировой войны.
20* hic et nunc (лат.) — здесь и сейчас.
21* coniunctio oppositomm (лат.) — сопряжение противоречий.
22* Respicio (лат.) — буквально: обращать взоры на кого-то, принимать с уважением.
23* «экуменичных» — связанных с разными религиями.
24* «Planète» — парижский авангардистский журнал.
25* coniunctio oppositorum (лат.) — сопряжение противоречий.
26* фониатрия — раздел вокальной педагогики, изучающий физиологию и патологию голосового аппарата.
27* От лат. amplificatio — расширение.
28* Primum non nocere (лат.) — Главное — не навреди.
29* Первый из трех компонентов, выделяемых Фрейдом в структуре личности средоточие слепых инстинктов. Создателем понятия «Оно», которым пользовался Фрейд, был немецкий врач и ученый Георг Гродек.
30* ordo temporanus и ordo aeternus (лат.) — порядок временный и порядок вечный.
31* ignotum per ignotius (лат.) — здесь: объяснять неизвестное через неизвестное.
32* аутопенетрация — погружение, проникновение в себя, интериоризация — формирование внутренних структур человеческой психики через усвоение структур внешней социальной деятельности. Гротовский называет эти модные термины современной психоаналитики не без иронии.
33* В польских средних школах (в особенности до войны) не рекомендовалось самостоятельное чтение Библии и Евангелия. Дети узнавали о Священном Писании со слов ксендза-катехизатора.
34* ашрам (от санскр. «ашрама» — «убежище», «дом») — лесная обитель, место уединения аскетов-отшельников.
35* психомахия (от греч. psyche — душа; психика, и machae — борьба) — психическая борьба.
36* intermundus (от лат. «между» и «мир») — здесь: междуцарствие.
37* В обоих случаях Гротовский имеет в виду подражателей его спектаклей «Акрополь» и «Стойкий принц».
38* «homo erectus» (лат., антропол. термин) «человек прямоходящий» (стадия развития человеческого вида, предшествующая стадии «homo sapiens»).
39* «рептильный мозг» — биологический термин, другой термин «ринэнцефалин» — мозг, который находится внутри всякого мозга.
40* осмос (греч. osmos — толчок, давление) — проникновение, «просачивание» сквозь тонкую перегородку, препятствующую растворяемым веществам.
41* Don’t improvise, please! (англ.) — Не импровизируйте, пожалуйста!
42* Гротовский приводит слова из «Проповедей» Мейстера Экхарта (Eckhart, Johannes, Meister Eckhart, ок. 1260 – 1327), немецкого философа и теолога, монаха ордена доминиканцев, представителя средневекового мистицизма, отвергал внешние формы религии, провозглашая так называемую религию сердца.
Интересующихся отсылаем к изданию на русском языке:
Мейстер Экхарт. Проповеди и рассуждения / В пер. с верхне-средненемец. М. В. Сабашниковой. М.: Мусагет, MCMXII (1912 г.) С. 29, 30, 129, 131, 134. Или: Мейстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения. М., 1991. (Репринт с указанного издания 1912 г.)
43* Выступление Гротовского сопровождалось демонстрацией кинофильма, снятого любительской камерой по спектаклю «Стойкий принц».
44* performing arts (англ.) — перформативные искусства.
45* impromptu (франц.) — экспромт.
46* impact (франц.) — здесь попадание в цель.
47* higher connection (англ.) — высшее сознание.
48* Вавель — королевский замок и архитектурный комплекс XV – XVII веков, средоточие светской и религиозной жизни Кракова, старинной столицы Польши. Расположен на взгорье над городом, что вызвало у Выспянского ассоциации с Акрополем, античным архитектурным храмовым комплексом Афин, также расположенным на холме.
49* Освенцим был организован нацистами в нескольких километрах от Кракова, жемчужины многовековой культуры Польши, также как Бухенвальд — вблизи Веймара, символа художественной культуры Германии.
50* Художник по костюмам — Юзеф Шайна.
51* министрант — в польской католической службе помощник ксендза, обычно сопровождающий его в проходе по костелу и во время крестного хода.
52* Девушкой (Магдалиной) в спектакле была уроженка Латинской Америки Элизабет Альбахака.
53* Святой Иоанн Креста (Св. Хуан де ла Крус) — испанский монах-мистик XVI века.
54* Имеется в виду персонаж пьесы английского драматурга Сэмюэля Бекетта «В ожидании Годо», который, несмотря на долгое ожидание, на сцене так и не появляется.
55* «Kyrie eleison» — «Господи помилуй», «Sursum corda» (лат.) — «Возвысимся сердцем» — слова католических молитв.
56* «Cogitavit Dominus dissipare…» (лат.) — «И помыслил Господь рассеять…» — слова католической молитвы.
57* «… convertere ad Dominum, Deum tuum» (лат.) — «… отвернулся ты от Бога, Бога твоего» — слова католической молитвы.
58* imitatio (лат.) — подражание, изображение, копия.
59* creatio (лат.) — создание, порождение.
60* В указатель не внесены бегло упомянутые и не установленные лица, а также те критики и деятели театра, чьи имена и фамилии поясняются в самом тексте книги.

