1 Светлой памяти моего
учителя
Иеремии Исаевича Иоффе
7 От автора
Когда более десяти лет тому назад автор начал работу над этой книгой, она носила предварительное название «Искусство как система видов». Эта формулировка лежала в русле традиции, сложившейся в науке после того, как Гегель назвал один из разделов своих «Лекций по эстетике» «Системой отдельных искусств». И все же предлагаемая вниманию читателя монография получила в конце концов непривычное для него название «Морфология искусства». Чем это объясняется?
История эстетической мысли знает несколько попыток ввести термин «морфология» в теорию искусства: в начале нашего века К. Тиандер назвал одну из своих работ «Морфологией романа» (317); широко известное исследование В. Проппа было названо им «Морфология сказки» (406); в «Литературной энциклопедии», издававшейся в 30-е годы, встречается понятие «морфология литературы» (325); в применении к искусству в целом это понятие употребляет в наше время крупнейший американский эстетик Т. Манро (одна из его статей называется «Морфология искусства как отрасль эстетики» — см. 36); наконец, автор этих строк применил понятие «морфология искусства» во втором издании своих «Лекций по марксистско-ленинской эстетике» (см. 67, 352)1*.
Морфология — это учение о строении; в данном случае имеется в виду не строение произведений искусства, а строение мира искусств. Его изучение неправомерно сводить к анализу системы видов искусства потому, что существуют и другие уровни дифференциации художественно-творческой деятельности, лежащие, так сказать, и ниже, и выше уровня ее видового членения: с одной стороны, выделению подлежат, как показывает анализ, классы и семейства искусств, с другой — разновидности каждого вида, а также роды и жанры. Соответственно задача морфологии искусства состоит в том, чтобы:
8 а) обнаружить все существенные уровни дифференциации художественно-творческой деятельности;
б) выявить координационные и субординационные связи между этими уровнями, дабы постигнуть законы внутренней организованности мира искусств как системы классов, семейств, видов, разновидностей, родов и жанров;
в) рассмотреть данную систему генетически — в ходе ее становления, исторически — в процессе ее постоянных видоизменений, и прогностически — в перспективе ее дальнейших возможных модификаций.
Значение так понимаемой нами морфологии искусства крайне велико и в теоретическом, и в практическом отношениях. Укажем, прежде всего, что, поскольку эстетика призвана выявлять общие законы искусства, она должна иметь перед своими глазами весь мир искусств, а не какую-то его часть; между тем границы этого «мира» могут быть обозначены с достаточной достоверностью только в результате анализа его внутреннего строения и соответственно его сопряжения с окружающим миром практической жизнедеятельности человека.
Во-вторых, морфология искусства есть необходимое звено связи эстетики и теории отдельных искусств. Эти последние будут до тех пор разъединены и лишены твердой почвы под ногами, пока эстетика не предложит им, помимо определения самых общих законов искусства, определение другого ряда законов — законов преломления сущности и структуры художественно-творческой деятельности в многообразных конкретных ее формах — формах литературы, музыки, живописи и т. п., в формах поэзии и прозы, вокальной и инструментальной музыки, в формах лирики и эпоса, станковой и монументально-декоративной живописи, в формах романа и поэмы, трагедии и комедии, портрета и натюрморта. Только выявление этого ряда законов способно действительно связать эстетику и теории отдельных искусств, что необходимо и для нее, и для них.
В-третьих, разработка морфологии искусства как историко-теоретической дисциплины должна иметь серьезные последствия и для изучения истории отдельных искусств, предоставляя для него в каждом случае прочный теоретический фундамент и позволяя преодолеть обособленность, изолированность изучения развития каждого вида искусства.
В-четвертых, морфологический анализ искусства позволяет осмыслить целый ряд важных закономерностей современного этапа истории мировой художественной культуры и тем самым дает возможность повысить научную обоснованность руководства развитием искусства социалистического общества. Сказанное означает, что морфология искусства должна занять в марксистско-ленинской эстетике гораздо более существенное место, чем то, которое ей до сих пор уделялось. Данная книга и является первым в советской науке опытом разработки этого раздела эстетической теории. Не автору судить о том, в какой мере он справился с поставленной им нелегкой задачей.
9 Часть первая,
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
11 Глава I
ОТ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СИСТЕМЕ ИСКУССТВ К ЕЕ ФИЛОСОФСКОМУ
АНАЛИЗУ
Появление теоретически осознанного, развитого и более или менее последовательно проведенного морфологического анализа искусства можно датировать только второй половиной XVIII в. Однако подходы к такому анализу, нащупывание соответствующей проблематики, частная постановка морфологических проблем применительно к некоторым областям художественной культуры и к некоторым уровням дифференциации художественной деятельности — все это мы встречаем уже на первых этапах истории эстетической мысли, начиная с античности.
1. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В АНТИЧНОЙ ЭСТЕТИКЕ
Давно установлено, что мифология была материнским лоном философского умозрения. Это же можно сказать и о генезисе эстетической теории и, в частности, морфологического подхода к анализу искусства. Крайне интересен в этом отношении древнеэллинский миф об Аполлоне Мусагете и предводительствуемых им музах2*.
Показательна сама история этого мифа. Первоначально в нем говорилось об одной-единственной музе, к которой обычно и обращались поэты (вспомним зачин «Илиады»: «Гнев, о богиня, воспой…» или аналогичные формулы у Гесиода, Пиндара). Эта богиня в древнейшей хтонической религии олицетворяла 12 не только художественное творчество, но всякую вообще познавательную деятельность, проникающую в таинственные глубины бытия. Уже отсюда можно заключить, что изначально человеческое сознание не только не придавало сколько-нибудь серьезного значения различиям между видами, родами и жанрами искусства, но не видело даже принципиальных отличий между искусством, ремеслом и знанием. «Древние, — пишет А. Лосев, — вообще очень слабо расчленяли искусство и ремесло, а также искусство и умственную деятельность, науку или, как говорили греки, “мудрость”» (396, 326; ср. также 541 – 542), Показательно, что само слово «искусство» («техне») употреблялось в античной философии для обозначения всякой практической деятельности, всякого уменья, соединяющего опыт и знания, а не одного только художественного творчества. В этом смысл суждения Аристотеля: «Итак, искусство, как сказано, есть творческая привычка, следующая истинному разуму» (46, 143).
И все же, постепенно, уже на стадии мифологического сознания, это первоначальное нерасчлененное представление о человеческой деятельности начинает уступать место новому ее пониманию. Об этом свидетельствует умножение числа муз, которых, как утверждал Павсаний, на определенной фазе развития мифа стало три, а еще позднее — девять. Тогда-то Аполлон и стал Мусагетом, т. е. предводителем муз, сосредоточив в своих руках главным образом эстетические функции. Он выступил, по определению Лосева, как «бог мировой гармонии и художественного оформления мира и жизни» (396, 209; ср. 188, 338 – 379). Аполлон оказался преимущественно покровителем поэзии, музыки и танца, т. е. так называемых мусических искусств. Историк относит эту стадию истолкования образа Аполлона «к позднему патриархату, к периоду развала общинно-родовой формации, когда уже образовалась весьма зажиточная и обеспеченная аристократическая прослойка, имевшая полную возможность отдаваться эстетическим переживаниям и культивировать художественные способности и вкусы» (395, 304). Мы добавили бы — и размышлять об искусстве, в частности — о причинах многообразия способов художественного творчества. Ибо только такие размышления могли привести к тому, что музы получили (по Гесиоду) четкую специализацию, символизируя особенности некоторых видов, родов и жанров искусства. Так:
Каллиопа стала музой эпоса;
Эвтерпа — музой лирики;
Мельпомена — музой трагедии;
13 Талия — музой комедии и сельской поэзии;
Эрато — музой эротической поэзии и мимики;
Полигимния — музой гимнической поэзии;
Терпсихора — музой танца;
Клио — музой истории;
Урания — музой астрономии.
Такова первая в истории эстетической мысли попытка осуществить морфологический анализ искусства. Она говорит, несомненно, о громадном скачке в развитии аналитического сознания древних греков и, вместе с тем, о крайнем несовершенстве этого анализа. Во-первых, группа «мусических» искусств охватила далеко не все виды искусства — в ней не нашлось, как мы видим, места ни для живописи, ни для скульптуры, ни для архитектуры; с другой стороны, в эту группу попали история и астрономия, являвшиеся, даже в ту эпоху, формами научного знания, а не художественного творчества. Во-вторых, эта мифологическая классификация искусств имела примитивно-однолинейный характер, и потому видовые (танец), родовые (эпос, лирика) и жанровые (трагедия, комедия и т. п.) формы творчества представали в ней как явления однопорядковые.
Трудно согласиться с Лосевым, что в данном мифе отразились древние представления о единстве искусства и с ремеслом, и с наукой: «Античные музы и есть эта тройная область, понимаемая как нечто единое и нераздельное, как нечто не тронутое никакой рефлексией и никакой профессиональной изоляцией» (395, 311). В действительности, сфера «мусических» искусств, вобрав в себя такие науки, как астрономия и история, не включала ни ремесла, ни пластических искусств. Это обстоятельство следует признать весьма примечательным. Оно заставляет вспомнить средневековое деление искусств на «свободные» и «механические», в котором, как мы вскоре увидим, будет сохранено и закреплено противопоставление словесно-музыкальных форм деятельности, как возвышенно-духовных, всем ремеслам и искусствам, связанным с ремеслом, с физическим трудом, с материальным миром.
Уже одно это наблюдение заставляет отнестись с максимальной серьезностью к первому историческому проявлению подобной классификации форм человеческой деятельности, которая, как мы можем заключить, была порождена начавшимся расхождением умственного труда и труда физического, духовной деятельности и материальной практики. Тут заслуживает внимания и такое любопытнейшее обстоятельство, как известное разделение труда между Аполлоном и Гефестом, который 14 был богом огня, «божественным кузнецом, артистически прекрасно исполняющим металлические работы» и одновременно строившим все жилища богов на Олимпе, т. е. олицетворял художественное творчество в сфере архитектуры и прикладных искусств. Эта сфера была связана отчасти и с именем Афины Паллады, использовавшимся, например, Гомером «как некий символ искусства» — прежде всего женского рукоделия, а также многих других художественных ремесел, и в какой-то мере инструментальной музыки (см. 396, 210 – 211).
Конечно, разделение функций между Аполлоном, Гефестом и Афиной не было сколько-нибудь жестким; тут можно говорить, по-видимому, лишь о намечавшейся тенденции к обособлению сфер влияния. Но несомненно, что такое разделение складывалось, и не только в греческой культуре — в этом убеждает замечательное сравнительное исследование мифов славян и ряда других народов, осуществленное сто лет тому назад А. Афанасьевым. Им было показано на богатейшем материале, как в мифологическом сознании разных народов объединялись представления о божественном происхождении именно того комплекса искусств, который греческие эстетики будут называть «мусическим» — речь идет о песнях, игре на музыкальных инструментах, пляске и поэзии (369, т. I, 323 – 324, 328, 332 сл., 393, 401 – 402, 413) — и которые отделялись от области ремесленно-художественной деятельности, включая изобразительные искусства и архитектуру. Точно такую же картину обнаруживаем мы в китайских мифах (см. 419, 55, 69 – 70, 75, 81, 91 – 92 и др.).
Что касается сферы ремесленно-художественной, то в ней мифологическое сознание не проводило каких-либо внутренних членений. Мы можем в полной мере принять вывод Лосева, что Гомер «не знает ни скульптуры, ни живописи» как самостоятельных искусств, но очень обильно и любовно описывает «разного рода художественные изделия»: дело в том, что «изобразительное искусство у Гомера вполне тождественно с ремеслом, и нет никакой возможности провести здесь определенную границу между тем и другим» (396, 212 – 213, 217).
Мы приходим, таким образом, к выводу, что в мифологии отражен исторический процесс формирования первых морфологически-эстетических представлений.
Представления эти послужили исходным пунктом для античной философской эстетики. Два направления размышлений на морфологические темы должны быть здесь отмечены.
1. Все более четко осознавались границы мира искусств, родство «мусических» и «технических» искусств — с одной стороны, 15 а с другой — отличие первых от наук и вторых от ремесел. Так, Симониду Кеосскому приписываются формулы, определяющие живопись как «немую поэзию», а поэзию — как «говорящую живопись»; так, иллюстрируя свое учение о гармонии, Гераклит сопоставляет живопись и музыку (хотя третьим членом в этом ряду еще оказывается грамматика — см. 66, т. I, 84). Так, Демокрит, разъясняя свое учение о подражании, ставит в один ряд ремесла, архитектуру и музыку: «От животных мы путем подражания научились важнейшим делам: [а именно, мы — ученики] паука в ткацком и портняжном ремеслах, [ученики] ласточек в построении жилищ и [ученики] певчих птиц, лебедей и соловья в пении» (там же, 86).
В дальнейшем объединение искусств и их отделение от ремесел станет еще более четким — Платон будет их решительно противопоставлять, поскольку ремесла «подражают» идеям, божественным архетипам вещей, а подражательные искусства занимаются «подражанием подражания», т. е. представляют собой качественно отличную и, как известно, осуждавшуюся Платоном, деятельность. При этом философ подчеркивал, что, когда поэзия становится на путь подражания, она оказывается «одинаковой» с живописью — этой идеальной моделью миметического искусства — и что подобного рода поэтов следует вместе с живописцами изгонять из государства, «организованного надлежащим образом» (46, 91 – 103 и 129 – 130). Вообще же у Платона понятия «мусические» искусства и «подражательные» искусства имеют разный смысл, определяют сферу искусства в разных измерениях: поэтому подражательный характер присущ у него не только «мусическим» искусствам, но и живописи и скульптуре, а музыка, да и поэзия, далеко не всегда подражательны. И все же согласимся с заключением Ю. Вальтера: «Членение искусства, которое выражало бы сознание их взаимосвязанности или тотальности, у Платона отсутствует» (439, 452).
Оно отсутствует еще и у Аристотеля. Сам термин «искусство» имеет у него, как уже было отмечено, предельно широкий смысл — это всякая практическая деятельность человека (46, 141). Однако очень часто понятие «искусство» употребляется Стагиритом в более узком смысле — эстетическом, и тогда он сближает в пределах искусства, например, музыку и скульптуру или деятельность архитектора и музыканта (там же, 144 – 146). Аристотель систематически проводит сопоставления между разными «мусическими» искусствами — поэзией и музыкой (там же, 151, 179) и между «мусическими» и «пластическими» искусствами (там же, 167, 178, 229 – 230), а в разделе, где обосновываются важные жанровые деления художественной 16 деятельности в зависимости от того, что искусство изображает — хорошее или дурное, — это деление последовательно просматривается на материале живописи, танца, музыки, поэзии, драматического искусства. Вместе с тем, в замечательном IX разделе, трактующем о специфической природе художественного подражания, Аристотель противопоставляет поэзию, с одной стороны, истории, а с другой — философии, прокладывая, таким образом, границы, отделяющие художественное освоение мира от иных форм познавательной деятельности.
В эпоху эллинизма и у римских мыслителей такой подход к искусству закрепился довольно прочно, но получал подчас иное обоснование. Приведем несколько свидетельств.
В поэме Лукреция «О природе вещей» разделяются две сферы человеческой деятельности, одна из которых преследует утилитарные цели, а другая — гедонистические:
Судостроенье, полей обработка, дороги и стены,
Платье, оружье, права, а также и все остальные
Жизни удобства…
а затем идет перечисление второго ряда деятельностей:
…
и все, что способно доставить усладу:
Живопись, песни, стихи, ваянье искусное статуй… (46, 243).
Этот же критерий мы встречаем у известного греческого ритора I в. до н. э. Дионисия Галикарнакского, когда он утверждал, что «есть два основных начала, к которым надлежит стремиться составителям и стихов и прозы: это — приятность и красота», причем потребности слуха приравниваются к аналогичным потребностям зрения: «ведь и зрение, взирающее на произведения скульптуры, живописи, резьбы и на прочие создания рук человеческих, испытывает чувство удовлетворения и больше уже ничего не ищет, если находит в этих произведениях приятность и красоту» (66, т. I, 180 – 181).
Так эпикурейское представление о назначении искусства приводило к тому же выводу, который Аристотель получил при генетически-гносеологическом его анализе. Впрочем, возможно было и третье — нравственно-дидактическое обоснование этого же положения. Его мы находим у обоих Филостратов, которые настаивали на родстве поэзии и изобразительных искусств, исходя из того, что, как писал Старший, «оба они, и поэт и художник, в одинаковой мере стремятся передать нам дела и образы славных героев» (там же, 216), или из того, что, как указывал Младший, живопись «имеет в известном смысле родство с искусством поэзии», ибо объединяет их «способность невидимое делать видимым; ведь поэты выводят на сцену перед нами воочию и богов и все то, в чем есть важность, достоинство и очарование; 17 также и живопись передает нам в рисунке то, что поэты выражают в словах» (там же, 219). Аналогичные суждения мы можем встретить и у Каллистрата, сравнившего, например, творчество Скопаса и Демосфена (там же, 220 – 221), и в знаменитой поэме Горация «Об искусстве поэзии» (там же, 195 – 196).
И все же в начале нашей эры это теоретическое завоевание античной философско-эстетической мысли стало заглушаться иным подходом, возрождавшим древнее представление о коренном отличии «мусических» искусств от искусств «технических» и подготавливавшим провозглашенный средневековьем антагонизм «свободных» и «механических» искусств. Судя по «Письмам к Люцилию» Сенеки, уже в I в. н. э. имело широкое хождение понятие «свободные искусства»: говоря о «свободных искусствах», он имеет в виду грамматику, включающую и риторику и поэтику, геометрию, музыку и, конечно, поэзию. А далее следует весьма характерное для стоика добавление: «Я не нахожу оснований для причисления к разряду свободных художников живописцев, скульпторов, ваятелей и остальных служителей роскоши. Точно так же я не считаю свободной профессию кулачных бойцов и вообще всякие тому подобные масляные и грязные занятия. В противном случае, пришлось бы еще, пожалуй, назвать свободными художниками парфюмеров, поваров и остальных людей, прилагающих свои таланты к услаждению наших прихотей» (там же, I, 144 – 146). Эти слова звучат как прямая полемика с Лукрецием, эпикурейцами, а пожалуй, и с самим Аристотелем3*, и как прямое предвосхищение аскетической средневековой эстетики.
Для римской эстетики первых веков нашей эры вообще характерна историческая переходность: она ориентируется на классическую мысль греков, но объективно подготавливает приход грядущей средневековой концепции. Так, с одной стороны, мы встречаем уже у Марка Теренция Варрона схоластическую антиномию «свободных» и «механических» искусств с отнесением к первым сначала девяти, а затем (у Марциана Капеллы) — семи форм словесно-теоретической, словесно-художественной и музыкальной деятельности; с другой стороны, в рассуждениях Цицерона об ораторском искусстве изобразительное творчество упоминается в одном ряду со словесными искусствами, 18 и в этом же ряду оказываются и геометрия, и медицина, и архитектура, и музыка, и диалектика…
Однако самое интересное в сочинении Цицерона «Об ораторе» — это теория самого ораторского искусства, поскольку первоначально оно не значилось в числе «мусических» искусств и только теперь включается в мир искусств, заняв в нем сразу самое видное место. Ораторское искусство выделяется и становится предметом специального внимания в V в. до н. э., в эпоху развития демократических отношений в полисе, сделавшую красноречие реальной потребностью социальной жизни. Теорией этого искусства стала риторика, впервые изложенная в не дошедшем до нас трактате одного из ранних софистов — Горгия (см. 172, 148 – 149).
Красноречие, как хорошо показывает этимология этого русского слова, есть «красивая (красная) речь»; на этом основании оно и было признано в древней Греции особым видом искусства, в котором утилитарная цель соединяется с эстетической во имя эмоционального воздействия на слушателей. В другой области мы называем такое соединение принципом «прикладного искусства», и это понятие можно в полной мере отнести к выросшему из бытового красноречия ораторскому искусству. Квинтилиан, во всяком случае, отличал ораторское искусство от поэзии именно как «прикладное» искусство от «чистого» (236, 5 – 6); декламацию он ставил ниже ораторских речей, так как в последних «тема реальна», а в первой — «искусственна»; оттого в ней «меньше огня и энергии» (там же, 25).
Так эстетическое сознание античности выделило еще один вид искусства, который вплоть до XIX в. будет занимать прочное место в системе искусств.
2. Второе направление морфологических размышлений классиков античной эстетики характеризуется поисками принципов внутреннего членения различных областей художественной деятельности.
Уже у Платона мы находим целый ряд суждений, в которых определяется различие между отдельными видами, родами и жанрами искусства. Отметим прежде всего, что в эстетике Платона вызревал, но так и не получил четкого и логически последовательного выражения принцип размежевания двух групп искусств, одна из которых основана на подражании, а другая имеет иной, не миметический характер. Правда, в ту пору провести такое членение сколько-нибудь четко было невозможно, т. к. идея подражания (то ли природе, то ли божественным ее архетипам) оставалась едва ли не единственно доступным объяснением происхождения человеческой деятельности. Вспомним, 19 что и Платон, и Аристотель, при всей противоположности их эстетических концепций, могли объяснить, например, музыку только как своего рода подражание — такое же, какое свойственно живописи, но только другому предмету (нравственно-психологическому). И все же Платон ощущал скрывавшиеся в данной концепции несообразности и пытался от них освободиться. Принцип «одержимости», «безумия», противопоставленный Платоном принципу «мимесиса», и должен был объяснить, как могут «мусические» искусства стать неизобразительными. Но дальше этого Платон пойти не мог, и оттого описание отвергавшегося им типа искусства оказывалось значительно более ярким и определенным, чем конструирование положительной программы.
В более развитой форме предстает у Платона принцип родового и жанрового членений искусства. Они зависят, думал философ, с одной стороны, от особенностей предмета подражания, а с другой — от применения того или иного способа изображения. Так различается два «вида плясок» — «воинственный» и «мирный», разные «виды песнопений» (46, 128, 121) и т. д. Вместе с тем Платон отмечает троякие возможности, заключенные в поэтическом творчестве: оно может осуществляться «простым рассказом, либо рассказом, развертывающимся при помощи подражания, либо смешанным способом» (там же, 78). Из разъяснения данной мысли, которое дается тут же, следует, что эти три способа нельзя рассматривать как лирику, драму и эпос — скорее, и первый и третий (смешанный) принадлежит к эпическому роду, а лирический тут никак не выделен.
Аристотель пошел значительно дальше своего учителя. В «Физике» им была сформулирована основополагающая для морфологического анализа искусства мысль: «Вообще же искусство частью завершает то, что природа не в состоянии сделать, частью подражает ей» (там же, 141). К сожалению, способность искусства продолжать сделанное природой Стагирит относил, по-видимому, к ремеслам, а все мусические искусства равно как и изобразительные, он традиционно интерпретировал как «подражательные». Но не будем требовать от эпохи того, чего она дать не в состоянии; заслуга Аристотеля заключалась в том, что он впервые сформулировал основные принципы всякого морфологического анализа искусства. «Эпическая и трагическая поэзия, — читаем мы в самом начале “Поэтики”, — а также комедия и поэзия дифирамбическая, большая часть авлетики и кифаристики — все это, вообще говоря, искусства подражательные; различаются они друг от друга в трех отношениях: или тем, в чем совершается подражание, или тем, чему
20 Исходная страница повреждена.
21 Исходная страница повреждена
2. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ДОГМАТИКА И РЕНЕССАНСНАЯ ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ
22 к тому, чтобы одобрить в церкви обычай пения, дабы через наслаждения слуха слабый дух возносился к чувству благочестия. Однако, когда мне случается увлечься пением более, чем предметом песнопения, я со скорбью сознаю свой грех и тогда желал бы лучше не слышать певца» (66, т. I, 263). Ничего удивительного, что некий александрийский епископ, по рассказу Августина, «приказывал произносить псалмы с незначительным колебанием в голосе, дабы оно более походило на чтение, чем на пение» (там же, 262)4*.
Позиция данного епископа будет через несколько веков в Византии развита иконоборцами, которым нельзя отказать в решительности и последовательности мышления. Ибо дело не только в том, что искусство опасно религии своим эстетически-гедонистическим потенциалом, но и в том, что оно основано на мимесисе, а бог не поддается изображению, поскольку он есть чистый дух. Потому всякая попытка изобразить, описать, чувственно представить бога есть кощунство, святотатство, профанация, живопись же и скульптура — по крайней мере до «открытий» Кандинского, Мондриана и Колдера — не могли вообще существовать, не изображая. Известно, что в некоторых «мировых» религиях — в иудаизме, мусульманстве — всякое изображение запрещено и пространственное творчество не выходит за пределы архитектурного, прикладного и орнаментального. Христианство же не приняло иконоборческой концепции — в частности потому, что, как говорил Григорий Великий, «изображения употребляются в храмах, дабы те, кто не знает грамоты, по крайней мере глядя на стены, читали то, что не в силах прочесть в книгах» (см. 392, т. I, 18).
Живописное и скульптурное убранство храма становилось «Библией для неграмотных», но при этом изобразительному искусству 23 приходилось искать практически то решение задачи, которое не мог логически сформулировать Платон, — представлять божественное, идеальное, оперируя формами земными, чувственными, изобразительными и не допуская их превращения в формы, адекватно изображающие реальность. Весьма показательно суждение Августина, что музыка и даже архитектура — имелась в виду, разумеется, архитектура храмовая — превосходят искусства изобразительные, поскольку последние «привязывают человека к вещам и отдаляют от творца» (см. 39, 61). В такой ситуации изобразительное искусство было обречено на компромисс, который оно и находило на пути аллегорическом, символическом, эмблематическом.
И все же неотрывность этих искусств от материального мира, от чувственности, от плоти безусловно их компрометировала и заставляла объединять не с «мусическими» искусствами, а с ремеслами. Отсюда — закрепление в христианской догматике противоположности «свободных» и «механических» искусств: первые охватывали только семь видов — грамматику, риторику, диалектику, арифметику, музыку, геометрию и астрономию и, в свою очередь, были подразделены Марцианом Капеллой на так называемый «тривиум» (первая тройка) и «квадривиум»; вторые включали все ремесла, а с ними вместе и изобразительные искусства, юридическое положение которых в средневековой Европе было тем же, что положение всего материального производства5*.
Примечательно, однако, что в число «свободных искусств» не входили не только изобразительные искусства — там не нашлось места и для поэзии! Тертулиан со свойственным ему радикализмом суждений объявлял, что «в глазах бога» поэтическое искусство «есть глупость» (см. 366, 90), а позднее более либеральный Гуго Сен-Викторский определял поэзию как всего лишь «приложение» к «свободным искусствам» (см. 35, 35). Ибо «свободные искусства» — это, в сущности, совсем не искусства, а теоретические дисциплины. Единственное исключение — музыка, но лишь потому, что она рассматривалась в эту эпоху отчасти как род математического конструирования, отчасти как культовая процедура6*.
24 Мог ли морфологический анализ искусства подняться в таких условиях на более высокий уровень, чем тот, который был достигнут в античности? По-видимому, даже удержать и сохранить достижения античной эстетики было немыслимо…
В этом отношении — как, впрочем, и во всех других — перелом произошел лишь с наступлением новой эпохи — эпохи Возрождения. И первой его ласточкой в теории искусства явился, пожалуй, «Трактат о живописи» Ченнино Ченнини, в котором было сказано нечто, прежде немыслимое: «… по праву заслуживает живопись того, чтобы ее поместить на втором месте за наукой и увенчать ее поэзией» (267, т. I, 252). Основанием для такой радикальной переоценки ценностей — для включения живописи в ряд «свободных искусств» и для ее сближения с поэзией — было у Ченнини признание равной творческой «свободы» обоих искусств: «Поэт благодаря своей науке свободно может создавать и связывать вместе “да” и “нет” по своему усмотрению, как ему захочется. И совершенно так же живописцу дана свобода создавать стоящую фигуру или сидящую, получеловека, полулошадь, как ему будет угодно, как ему подскажет фантазия» (там же).
Так Возрождение возвращает нас к тому пониманию единства художественного мира, которое было высшей точкой развития морфологических представлений античной эстетики. Не приводя многочисленных суждений мастеров ренессансного искусства, подтверждающих этот тезис (напр., Леонардо да Винчи, Альберти, Дюрера), мы ограничимся двумя, относящимися к истории русской эстетической мысли — к тому ее периоду, когда во второй половине XVII в. в России стали вырабатываться идеи ренессансного типа. Так, Иосиф Владимиров писал в своем «Трактате об искусстве», что «живописание святых икон» следует почитать крайне высоко — «больше прочих “земных” вещей», — поскольку оно подобно литературе: «Как писатели, так и живописцы изображают Христа, одни — украшая словом, другие же начертывая на досках… И для церкви оба они создают одну и ту же повесть, только евангелист повествует [описывая] словами, а этот [живописец] выполняет делом» (66, т. 1, 443).
Еще дальше в реабилитации изобразительных искусств шел Симон Ушаков, причем крайне любопытно, что он прямо опирался при этом на античные представления: ссылаясь на Плиния, Симон Ушаков утверждал в своем замечательном теоретическом сочинении «Слово к люботщательному иконного писания», 25 что в число «свободных искусств» входит «иконотворение» и что, более того, оно почиталось у древних греков «началодержательным» искусством (там же, 455). Крайне интересно и то, что под «иконотворением» Ушаков имел в виду не одну живопись, а всю сферу изобразительного искусства, которую он подразделял «на шесть видов: на статуарное искусство — из камня, дерева, кости и других материалов, поддающихся вытачиванию; на искусство лепное — из глины и извести, воска, муки и тому подобных материалов; литье — из золота, серебра, меди и других огнем растопляемых материалов; ваятельное [резное] искусство — на бисере [т. е. на раковинах] и на благородных камнях; резное — на медных досках — для [получения] изображений на бумаге. За ними следует писание красками, которое потому превосходит прочие виды, что тоньше и живее передает изображаемую вещь, яснее выявляя подобие всех ее качеств, почему оно чаще употреблялось в церквах» (там же, 455 – 456).
Таким образом, в число «свободных искусств» были включены все отрасли изобразительного творчества, которые более или менее решительно отрывались от ремесла и противопоставлялись ремеслу (см. 467, 233 сл.); но при этом отделения художественной деятельности от научной в пределах «свободных искусств» не происходило. Напротив, в «Книге о живописи» Леонардо мы сталкиваемся с упорно проводимой мыслью о теснейшей связи искусства и науки — математики, геометрии, физики, и саму живопись Леонардо с гордостью называет «наукой живописи» (253, 54 сл.), а Боккаччо относит поэтов «к числу самих философов» (Близкая к этому терминологическая ситуация обнаружится в начале XVIII в. в России, когда Татищев в своей классификации наук выделит «щегольские науки», имея в виду то, что несколько позднее у нас назовут, следуя французскому источнику, «изящными искусствами» (beaux-arts)). Получалось, что ряд искусств как бы замыкался с одного конца — там, где искусство соприкасается с ремеслом, с материальной практикой, но оставался открытым с другого конца, где оно соприкасается с духовной познавательной деятельностью и даже с теологией7*.
Сблизив «пластические» искусства с «мусическими», эстетическая мысль Возрождения не пошла, однако, по пути исследования 26 закономерностей внутреннего строения мира искусств, а продолжала двигаться по проторенной средневековьем метафизической дороге ценностного противопоставления разных искусств. Если теологическая эстетика относила музыку и отчасти поэзию к «свободным» искусствам как высшим, а живопись к «механическим» как низшим, то теперь Леонардо да Винчи обосновывает всестороннее превосходство живописи и над поэзией, и над музыкой (253, 60 – 82). И дело тут не в том, что Леонардо, как живописец, расхваливает свой род деятельности — архитектор Альберти, например, точно так же объявлял живопись «благороднейшим», «достойнейшим» и «замечательнейшим» искусством (267, т. 2, 19, 33, 56), — такова была господствовавшая в ту эпоху точка зрения.
Естественно, что подобный подход резко ограничивал возможность системного анализа искусства. И действительно, эстетика Возрождения не знает еще самого этого понятия «система искусств», она не доросла даже до охвата единым взором всего множества искусств, ограничиваясь простым сопоставлением живописи и поэзии, или живописи и музыки, или живописи и скульптуры. А такое метафизическое ценностно-иерархическое мышление предопределило и постановку вопроса о жанровом членении каждого вида искусства. В обоих этих отношениях Возрождение подготавливало классицистическую эстетику.
Вот крайне выразительный неоконченный сонет Микеланджело:
«Подобно тому, как в чернилах и пере таится стиль и высокий, и низкий, и средний, а в мраморе одновременно кроются образы и возвышенные и грубые, в зависимости от того, что умеет извлечь из них наш гений, — так, может быть, и в вашем сердце, дорогой мой синьор, столько же гордости, сколько и кроткой привычки к нежной и благодарной жалости, хотя мне и не удалось еще извлечь ее оттуда» (266, т. I, 183).
Это деление на три стиля, имевшее жанровую природу, было традиционным — оно унаследовано Возрождением от поздней античной эстетики, где сложилось в пределах риторики: высокий, средний и низкий стили (фактически — жанры; так их и называл Цицерон — genus dicendi) красноречия различались Цицероном, Квинтиллианом, Псевдо-Лонгином. Это деление признавалось и в средние века8*. В трактате Данте «О народной 27 речи» оно уже сформулировано в более широком плане: «Для трагедии мы пользуемся более высоким стилем, для комедии — более низким, для элегии предполагаем речь впавших в несчастье» (66, т. I, 482). Аналогичная ситуация складывалась во Франции: «Уже Ронсар и Плеяда, — пишет М. Бахтин, — были убеждены в существовании иерархии жанров. Эта идея, в основном заимствованная у античности, но переработанная на французской почве, могла укорениться, конечно, далеко не сразу» (370, 73).
Существо деления искусства на жанры состояло не просто в том, что эти членения фиксировали различия, как говорил Аристотель, в «предмете» изображения, а в том, что данные различия трактовались ценностно, и это неизбежно влекло за собой последствия стилевого характера. Различие жанров отливалось в различие стилей, потому что предмет изображения, оцениваемый как «высший», требовал соответствующих изобразительно-выразительных средств, способных запечатлеть и даже усилить его величие, равно как предметы «средней» ценности или совсем «низкие», вульгарные диктовали всякий раз соответствующий стиль их художественного воплощения.
Средневековая эстетика не знала такого подхода к жанровому членению искусства, т. к. все, что не обладало высшей — религиозной — ценностью, эстетика попросту не считала возможным изображать. Она признавала, таким образом, только один жанр — религиозно-мифологический, и если в реальной практике средневековой художественной культуры мы находим и целый ряд других жанровых образований, то все они существовали как бы «неофициально», игнорируемые господствующей эстетической доктриной. Правда, в преддверии Возрождения некоторые теоретики, не связанные с церковью, ставили вопрос о разделении поэзии на трагедию и комедию, но это свидетельствовало лишь о кризисе догматической средневековой эстетики и о прорастании новой, ренессансной концепции жанров (см. об этом подробнее 366, 92 сл., 112 сл.). Возрождение же, широко открыв доступ в искусство наряду с мифологической тематикой жизненной реальности, тем самым объективно встало перед проблемой жанра. И она приобрела гораздо более «острый» характер, чем в античности. Решение этой проблемы, найденное на путях аксиологических, тяготело, как мы могли убедиться, скорее к классицистической, нежели к реалистической концепции отношения искусства к действительности, хотя Возрождение не знает еще того жесткого, догматического и непреложного для художественной практики противопоставления «высоких» и «низких» жанров, какое принесет с собой классицистическая 28 доктрина XVII – XIX столетий. При этом можно сформулировать своего рода закономерность: чем демократичнее тот или иной мыслитель этой эпохи, тем меньшее значение имеет для него такое противопоставление. Особенно показательны тут эстетические взгляды Дюрера, говорившего, например, что «способный и опытный художник может даже в грубой мужицкой фигуре и в малых вещах более показать свою великую силу и искусство, чем иной в своем большом произведении» (212, т. II, 189; Ср. там же, 228 – 229, 231 – 232). И того более — Дюрер решительно утверждал, что «каждый мастер должен уметь сделать и благородное, и мужицкое изображение» (там же, 224).
Как справедливо отметил Бахтин, в эпоху Возрождения эта иерархия жанров «была пока еще только отвлеченной и не вполне четкой идеей. Должны были произойти известные социальные, политические и общеидеологические изменения и сдвиги, должен был отдифференцироваться и сузиться круг читателей и оценщиков большой официальной литературы, чтобы иерархия жанров стала выражением реального соотношения их в пределах этой большой литературы, чтобы она стала действительной регулирующей и определяющей силой.
Этот процесс завершился, как известно, в XVII веке…» (370, 73).
Добавим, что точно такая же ситуация складывалась и в других видах искусства — Вельфлин имел основания относить именно к этому времени возникновение в изобразительных искусствах «представления об идеально выраженном в противоположность естественному» (377, 318).
3. Морфологическая проблематика в эстетике XVII и первой половины XVIII в.
Эстетическая мысль XVII в. развивается в том же русле теоретического изучения отдельных видов искусства, который был проложен Возрождением. Поверхностному взгляду может даже показаться, что между Фомой Аквинским и Баумгартеном вообще не было эстетики в прямом смысле этого слова — недаром некоторые историки эстетической мысли перескакивали сразу от средневековья в XVIII в., минуя и Возрождение и XVII столетие. Между тем в эпоху Возрождения, как и в любую другую, эстетическая мысль, конечно, существовала, но в особой 29 форме. По ряду причин она должна была покинуть материнское лоно философии (в средние века теология поглотила эстетику вместе с философией и обе стали «служанками богословия») и на несколько веков погрузиться в недра конкретных искусствоведческих рассуждений.
Это должно было произойти прежде всего потому, что разрыв искусства с художественной системой, которая господствовала почти тысячу лет, и поиски новых методологических принципов требовали теоретической поддержки и теоретического осмысления; но для этого теории искусства нужно было выйти за традиционные для средневековья узкие границы описания чисто технологических проблем и обратиться к проблемам философско-эстетического масштаба. Однако такой масштаб анализа искусства был в это время возможен только в сочинениях по теории отдельных искусств, т. к. философы обнаруживали довольно прочное и единодушное безразличие к вопросам эстетического характера. Философская мысль Возрождения неотрывна от естественнонаучного знания, когда же она обращалась к человеку и его деятельности, то ограничивала себя нравственно-политической проблематикой, художественное же творчество оставалось изучать самим его мастерам — оттого-то все крупнейшие художники эпохи были одновременно и теоретиками искусства. В XVII в. эта сциентистская ориентация философской мысли сохранилась, и нельзя не согласиться с заключением К. Гилберт и Г. Куна, что «у критиков-искусствоведов того периода было больше понимания философии, чем у философов — чуткости к искусству» (380, 222)9*.
Такое положение эстетической мысли имело прямые последствия для развития морфологического изучения искусства. Раздробившаяся по теориям отдельных искусств, эстетика не имела возможности охватить их единым взором, и даже те сопоставления двух-трех искусств, которые были столь популярны в эпоху Возрождения, ныне, в XVII в., становятся крайне редкими. Такие сравнения будут, как мы вскоре увидим, снова производиться в самых широких масштабах в XVIII в., причем 30 их теоретический уровень окажется значительно более высоким, чем в XV – XVI вв. — сошлемся пока хотя бы на знаменитый лессингов «Лаокоон»; XVII же век потерял вкус к подобным сопоставлениям, довольствуясь признанием родства поэзии и живописи. Это родство было официально закреплено созданием Академий изящных искусств — сначала в Италии, затем во Франции, затем в Англии, в России, что юридически оформило отрыв пластических искусств от ремесла и их возвышение на уровень литературного творчества. Правда, и в XVII в. сохранялись старые, средневековые представления, причем парадоксально, что питала их демократическая идеология, поскольку она сопротивлялась подключению изобразительных искусств к поэзии, которая была в наибольшей степени подчинена мировоззрению господствующего класса. Весьма характерны в этом смысле теоретические трактаты французского гравера А. Босса, а также позиция Ш. Сореля, который в уже упоминавшемся нами философском сочинении «Всеобщая наука» поместил теорию изобразительных искусств, как «механических», и поэтику в разные разделы: первую — в раздел, посвященный материальной деятельности человека, а вторую — в раздел, характеризующий его духовную деятельность10*.
И все же расчленение искусства и ремесла произошло, получив даже терминологическое узаконение: от слова art, означавшего «искусство» и «ремесло» одновременно, теперь образуются два производных: artiste — художник, и artisan — ремесленник. Так закрепилось разделение понятий о возвышенно-духовном художественном творчестве и бездушно-прозаической деятельности ремесленника, и разделение это, по остроумному замечанию Ш. Лало, «зашло так далеко, что теперь проблема состоит скорее в том, чтобы их снова объединить, чем в том, чтобы их разделять: очень уж глубоким и пагубным оказался их развод!» (136, 110).
Нетрудно понять, что в новой историко-культурной ситуации ренессансная идея верховной ценности изобразительного искусства должна была уступить место иному взгляду, согласно которому идеальной моделью искусства является поэзия, а живописи следует брать с нее пример, следует уподобляться поэзии. «Живопись — это немая поэзия и риторика художника» — расширял в XVII в. член Французской Академии Тестелен формулу Симонида, призывая живописцев перенять у драматической поэзии даже… правила трех единств! (351, 153 – 154). «Да будет 31 художник поэтом!» — так начинался стихотворный трактат дю Френуа «De arte graphica»11*. В 1653 г. было опубликовано другое сочинение того же жанра — поэма И. Падера, имевшая характерное название «Говорящая живопись»; она получила восторженный отзыв Пуссена (289, 179 – 180. Ср. также 429, 27). Объясняется это тем, что для мастеров и теоретиков классицизма равнение живописи на литературу как «младшей сестры» на «старшую» — следствие стремления идеологизировать живопись, поднять ее над «ремеслом» (т. е. простым изображением видимости), наполнить духовным — моральным, философским — содержанием12*. Соответственно этому картина должна не столько восприниматься зрением, сколько постигаться разумом, как поэма. Поэтому в создании картины теоретики объявляют главным «сочинение», именуемое «божественным», ибо оно творится разумом, а рисунок и колорит третируются, как исполнительская, второстепенная, ремесленная часть. Такова была и точка зрения Пуссена. Неудивительно, что ортодоксальный Ле Брен, как и И. Падер, дойдут на этом пути до того, что возродят маньеристическую концепцию «двух рисунков» — внутреннего и внешнего, созданную Ломаццо (см. 425, 34 – 38). Только Роже де Пиль, в связи с общей его «рубенсистской» концепцией, попытался робко поставить вопрос о равенстве и о самостоятельности живописи и поэзии (359, 426 – 429 и 448 – 449), но в ту эпоху подобная точка зрения не могла восторжествовать.
Такое положение вещей сохранялось в европейской художественной культуре на протяжении всей первой половины XVIII в. В 1719 г. Дю Бо взял слова Горация ut pictura poesis эпиграфом к своему трактату «Критические размышления о поэзии и живописи». Четверть века спустя Батте утверждал: общность живописи и поэзии столь велика, «что их можно характеризовать совокупно, заменяя лишь понятия “поэзия”, “фабула”, “стихосложение” понятиями “живопись”, “рисунок”, “колорит”» (20, 164). «Принципы искусства, — говорил Д. Рейнольде, — будь то поэзия или живопись — имеют свое основание в разуме…» (267, т. 2, 418). Другая его речь, произнесенная в Академии 32 11 декабря 1786 г., насквозь пронизана идеей единства живописи и поэзии, поскольку они обращаются к воображению и чувствительности человека (там же, 424 сл.). Известное время подобным образом думал и Дидро, только в 80-е гг. изменивший свою точку зрения13*.
«Проблема отношения поэзии к живописи, — пишет В. Асмус, — выдвигается на передний план в теоретической литературе в конце XVII и в XVIII вв. Она привлекает к себе внимание в новых национальных литературах — английской, итальянской, французской, а вслед за ними и в немецкой. В обсуждение проблемы вступают из английских авторов — Шефтсбери, Спенс, Аддисон, Ричардсон, Гаррис, Уэбб; из итальянских — Алгаротти, Квадрио; из французских — де Пиль, дю Френуа, де Марси, Дидро, Вателе, Дю Бо; из немецких — Брейтингер и Бодмер.
Для всей этой литературы в целом характерна по-прежнему мысль, отождествляющая поэзию с живописью; специфические черты различия между ними не выдвигаются и не подчеркиваются» (368, 91 – 92).
Вместе с тем в XVIII в. центр тяжести в таких сочинениях постепенно перемещается, и все большее внимание теоретиков начинает привлекать именно момент различий между этими искусствами. «Первое предвосхищение будущих исследований Лессинга, — продолжает Асмус, — намечается у Шефтсбери (“Суд Геркулеса”)… Вслед за Шефтсбери вопрос о своеобразии изобразительных искусств и поэзии ставит Ричардсон. В “Теории живописи” (1715) он, так же как и Шефтсбери, указывает, что в скульптуре изображение всегда относится к одному-единственному моменту». Асмус ссылается, далее, на соответствующие суждения Дю Бо, Трубле, Уэбба, Клопштока, Мендельсона, подготавливавшие разработку этой проблемы Лессингом (там же, 92 – 93)14*.
Сделанное предшественниками Лессинга заслуживает, однако, в ряде случаев более внимательного к себе отношения, особенно в свете занимающей нас проблемы — исторического процесса формирования морфологического изучения искусства. Остановимся в первую очередь на трактате аббата Дю Бо.
33 Хотя он и избрал эпиграфом пресловутое «поэзия подобна живописи», хотя это положение было исходным пунктом всех его рассуждений и хотя сравнительный анализ живописи и поэзии велся им в целом на традиционном гносеологически-психологическом уровне, известном нам хотя бы по рассуждениям Леонардо15*, Дю Бо неожиданно повернул проблему в новой и принципиально важной плоскости, которую сегодня мы назвали бы семиотической (впрочем, нелишним будет вспомнить, что термин «семиотика» впервые прозвучал еще в XVII в., у Локка, и что одна из частей «Эстетики» Баумгартена, которую он не успел написать, была названа им «семиотика»). Именно, Дю Бо говорит о том, что, в отличие от поэзии, живопись пользуется не «искусственными знаками», а «естественными», замечая при этом, что применительно к живописи неловко даже пользоваться термином «знак», т. к. она словно «саму природу представляет нашему взору». Слова же — «произвольные знаки мыслей», а буквы — произвольные знаки слов. Поэтому путь от чтения к переживанию оказывается более далеким, чем от слушания, а еще сильнее впечатление, когда к слуховому восприятию добавляется зрительное. Тут Дю Бо обращается к театру и произносит ему форменный панегирик. Затем, переходя к характеристике музыки, он и ее рассматривает как своеобразную знаковую систему, говоря, что музыкальные звуки — это «естественные знаки страстей» (хотя относится это только к вокальной музыке, инструментальная же музыка оказывается подражанием природным звукам — 24, 413 сл., 430 сл., 466 – 467).
Заметим сразу же, что семиотический принцип классификации видов искусства будет принят многими мыслителями в XVIII в., а затем возродится двести лет спустя, в связи с чем нам хотелось бы особо подчеркнуть исторический приоритет Дю Бо в такой постановке вопроса.
Трактат Лессинга, вбирая в себя и «снимая» все, сделанное в этом направлении его предшественниками, содержал столь глубокое, точное и обстоятельное исследование соотношения изобразительных искусств и поэзии, что он не только сыграл огромную роль в развитии художественной культуры XVIII в., но и не утратил своей научной ценности по сей день. Эта работа 34 Лессинга слишком хорошо известна и так часто пересказывалась и комментировалась, что было бы нецелесообразно вновь излагать сейчас ее содержание. Достаточно сказать кратко, что в интересующем нас отношении ценность исследования Лессинга состоит, во-первых, в том, что он впервые раскрывал в подробном и доказательном анализе (какие бы возражения отдельные частные моменты этого анализа ни вызывали) свойственную обоим искусствам диалектику общего и специфического. Хотя отношение к действительности («подражание природе») и функции (возбуждать удовольствие от созерцания сотворенной человеком красоты) объединяют все искусства, каждый его вид преломляет это по-своему. Отсюда следует, что назначением каждого вида искусства «может служить только то, для чего приспособлено исключительно и только оно одно, а не то, что другие искусства могут исполнить лучше него». У Плутарха, — говорит Лессинг, разъясняя эту мысль, — есть такое сравнение: тот, кто захочет ключом наколоть дрова, а топором открыть дверь, испортит оба орудия и лишит себя пользы, которую оба могли бы ему принести (12, 452 – 453). Во-вторых, Лессинг показал, что общее и специфическое в искусствах соотносятся не как их содержание и форма, а пронизывают структуру искусства насквозь, захватывая и его содержательные, и его формальные слои. Ибо суть дела, по Лессингу, не просто в том, что у живописи и у поэзии разные предметы изображения (тела — в одном случае, действия — в другом) и разные материалы (рисунок, цвет, пластика и слово), но в том, что «средства выражения должны находиться в тесной связи с выражаемым» (там же, 187), а это создает сквозные различия двух художественно-образных структур — пластически-пространственной и словесно-временной.
Не следует, однако, забывать, что в «Лаокооне» были рассмотрены не все виды искусства, а только два, и что этот трактат не выходил, следовательно, за пределы традиционной постановки вопроса, ни в малой степени не претендуя на классификацию всех искусств. Впрочем, судя по черновым наброскам, замысел «Лаокоона» был значительно шире его исполнения — в черновиках есть заметки и о танце, и о музыке (см. там же, 410 – 434), но они так и остались нереализованными. Это связано, думается, с тем, что, по меткому замечанию Гердера, трактат этот «написан вообще скорее для поэта, чем для живописца» (55, 177). «Целью Лессинга, — отмечал также Асмус, — был не столько сравнительный анализ живописи и поэзии, сколько выяснение — с помощью этого анализа — эстетического своеобразия предмета и специфических средств именно поэзии. 35 Говоря в “Гамбургской драматургии” о музыке, Лессинг говорит о ней только в связи с драмой, то есть Драматической поэзией. И точно так же, говоря в “Лаокооне” о “живописи”, Лессинг стремится, проводя свое сопоставление, подчеркнуть специфические особенности поэзии. Изобразительное искусство было ему известно в гораздо меньшей мере, чем искусство художественной литературы, и анализ скульптуры у него еще недостаточно дифференцирован, не отделен от анализа живописи… Больше того, в “Лаокооне” Лессинга имеются в виду не столько задачи литературы “вообще”, сколько задачи современной Лессингу (прежде всего — современной немецкой) литературы. Речь шла о такой теории поэзии, которая могла бы указать путь к преодолению мертвящих норм и канонов эстетики придворного классицизма» (368, 94).
Наверно, именно с этим связано то, что Лессинг не реализовал свой первоначальный замысел и не рассмотрел различия между изобразительными искусствами, поэзией, музыкой, танцем в свете намеченного еще Дю Бо и развитого Мендельсоном представления об использовании искусством разных типов знаковых систем. А ему было тут что сказать. Ибо он не ограничился повторением уже известной мысли, что «различие между поэтическими и материальными образами» проистекает «из различия знаков, которыми пользуются живопись и поэзия» — различия между «естественными знаками в пространстве» и «произвольными знаками во времени» (12, 404). Лессинг пошел дальше, заметив, что если «сила естественных знаков» — в их «сходстве с вещами», то поэзии язык метафор и сравнений позволяет показывать вещь через ее сходство с другой, и таким образом живопись и поэзия имеют каждая свои специфические возможности и свою ограниченность (там же, 440). Тут же Лессинг распространяет этот семиотический подход на музыку и танец и пытается с этой же точки зрения объяснить различные сочетания искусств — музыки с поэзией, музыки с танцем и т. д. (там же, 428 – 434). А в письме к Ф. Николаи, уточняя и развивая идеи «Лаокоона» в связи с критикой трактата, Лессинг заключает, что, хотя поэзия использует произвольные знаки, она стремится к тому, «чтобы ее произвольные знаки воспринимались как естественные; только благодаря этому, — подчеркивает он, — она перестала быть прозой и становится поэзией» (т. е. художественной литературой). Все же, «приближая» произвольные знаки к естественным, поэзия не «превращает» первые во вторые. Именно поэтому в области поэзии есть «высший род» — тот, «который полностью превращает произвольные знаки в естественные». Это — драма (там же, 463).
36 Лессинг был, конечно, слишком предан литературе, и в частности драматургии, — предан как писатель, как мастер, который и теоретиком-то стал лишь ради постижения законов, управляющих этой областью творчества и расчищения пути для ее развития в прогрессивном направлении, — чтобы его теоретические рассуждения не имели «литературоцентристского», а точнее — «драмоцентристского» характера. Все другие виды искусства входили в поле его зрения лишь постольку поскольку. Понятно, что значительно большее внимание он должен был уделять актерскому искусству. Немало интересных соображений на эту тему мы можем найти в его теоретическом наследии. Лессинг определял, например, творчество актера как «серединное» между изобразительными искусствами и поэзией. Запомним это определение — нам придется сталкиваться с ним в недалеком будущем, в тех классификационных построениях, которые позднее станут делать немецкие эстетики.
С «драмоцентризмом» концепции Лессинга связан и характер его размышлений над другими морфологическими уровнями теории искусства — родовым и жанровым. Проблема жанра сводилась для него к соотношению жанров сценического искусства, проблема рода концентрировалась на драматической структуре, а эпос и лирика интересовали его, опять-таки, лишь постольку, поскольку они могли осветить своеобразие драмы.
Обратившись к этому кругу вопросов, мы должны, однако, вернуться в XVII в., потому что, если в деле изучения видового строения искусства теоретическая мысль этого столетия практически ничего не сделала, то в теории жанров она сделала так много, что влияние выработанной ею жанровой концепции чувствуется подчас и в наше время, а уж эстетическая мысль XVIII в. зависела тут в полной мере от того, что сделано было в веке семнадцатом.
Мы уже отмечали, что ренессансная мысль менее всего была склонна придавать проблеме жанра слишком большое значение и строить на этой основе жестко расчлененные жанровые лестницы. Такая позиция хорошо согласовалась с глубоко характерной для художественной практики этой эпохи тенденцией к универсальному и синтетическому охвату мира, сделавшей интегрирующие устремления творчества безусловно преобладающими над тенденциями дифференцирующими. Ренессансная живопись не знает изолированного изображения вещей, животных, ландшафтов, интерьеров; портретные изображения человека, как правило, включают природную и предметную среду, в которой 37 он реально существует; быт и миф еще не противостоят как самостоятельные и несовместимые сферы, напротив, мифологические сюжеты погружаются в обстановку современного быта. И в литературе этой эпохи различие между «высоким» и «низким» сюжетами, между трагедией и комедией не было жестким и догматически не абсолютизировалось. В XVII же веке классицизм — и в теории, и на практике — провел все демаркационные линии между жанрами со свойственными ему рассудочной четкостью и регламентационным педантизмом.
С предельной отчетливостью эта новая постановка вопроса обнаруживается в «Поэтическом искусстве» Буало, где дается последовательная характеристика идиллии, эклоги, оды, сонета, эпиграммы, баллады, рондо, мадригала, сатиры, а в следующей главе — трагедии, эпопеи и комедии, причем одним из правил эстетически полноценного творчества объявляется чистота каждого жанра, а другим — утверждение их неравноценности (184, 66 – 95). Еще более резкий пример — трактат-поэма Ш. Перро «Живопись», в котором описаны девять ее жанров (отметим, что трактат написан в соавторстве с таким авторитетным лицом, как Ле Брен). Жанры эти — исторический, гротескный (в пределах мифологической образности), вакханалия, портрет, пейзаж, архитектурный пейзаж, перспектива, анималистический, изображение цветов (357). Другие теоретики предлагали иные варианты жанрового членения этого искусства; разумеется, что применительно к поэзии, к театру, к музыке данный вопрос решался в каждом случае особым образом, в целом же расчленение каждого искусства на жанры и их иерархическое соотнесение стало в эстетике классицизма одним из основополагающих и устойчивых ее теоретически-идеологических принципов. Жанр рассматривался как такая структурная модификация того или иного искусства, которая обладает определенной мерой эстетической ценности, а эта последняя зависит от того, какова социально-эстетическая ценность изображаемого и в какой мере применяемые стилевые средства соответствуют, по своему эстетическому строю («высокий» стиль или «низкий»), предмету изображения. Так противопоставлялись трагедия и комедия, героическая поэма и сатирическая, историко-мифологическая живопись и бытовая, опера и опера-буфф, дворцовая архитектура и гражданская…16* Эта концепция получила в XVIII в. философско-эстетическое обоснование в трактате Баумгартена 38 (см. 368, 38 – 39). Даже проблема рода свелась, в сущности, в это время к проблеме жанра — эпос интересовал классицистическую поэтику только как признак «высоких» жанров и не более того; поэтому «эпическому» противостоит здесь не «лирическое», а «сатирическое» или «бытовое».
Нетрудно увидеть, что классицистическая теория жанров была прямой эстетической проекцией определенных идеологических установок — не зря Бомарше воскликнул однажды: «Несчастные короли и смешные горожане — вот весь возможный у нас театр»17*. Понятно, что демократическое искусство, его защитники и теоретики — от Сореля к Дидро, Лессингу, Хогарту, Плавильщикову — стремились в первую очередь опровергнуть такое понимание иерархии жанров. Это делалось разными способами — то, как у Сореля, с помощью выдвижения на первый план бытового романа, которому приписывалась высшая ценность (363, 88 сл.); то, как у Дидро — посредством конструирования нового «среднего жанра», который должен был преодолеть антагонизм трагедии и комедии и стать в драматическом искусстве примерно тем, чем реалистический бытовой роман становился в эпическом роде литературы (61, 87 сл.); то, как у Лессинга, разработкой единых для трагедии и комедии теоретических оснований, позволявших поддержать концепцию Лопе де Вега, которая признавала правомерность «сочетания обыденного с возвышенным, шуточного с серьезным, веселого с печальным» (254, 254). Но при этом оппоненты классицистической доктрины воевали с ней ее же оружием, т. е. принимали предложенный ею аксиологический подход к жанру, доказывая только, что высшей ценностью обладает не мифологический вымысел и не жизнь королей и вельмож, а реальная жизнь обыкновенных людей.
В этом смысле весьма показательно, что в собрании манифестов просветителей — в «Энциклопедии» Дидро и д’Аламбера, — в написанной Вольтером статье «Жанр» термин этот определяется как «жанр стиля» (!) и содержание его описывается таким образом: «Как жанр исполнения, применяемый всяким художником, зависит от предмета воплощения; и как жанр 39 Пуссена отличен от жанра Тенирса, архитектура храма — от жилого дома, а музыка трагической оперы — от оперы буффонной; так каждый литературный жанр имеет собственный стиль, в прозе и в поэзии» (43, 594 – 595). Неудивительно, что с этой точки зрения признается существование двух основных жанров — «простого» и «возвышенного».
Как видим, в этом разделе эстетика просветителей недалеко ушла от эстетики классицизма. Да и могло ли быть иначе, если автор цитированной статьи был и просветителем и классицистом в одно и то же время и если один из самых резких критиков классицизма — Дидро в конце концов склонился к эстетической программе, очень похожей на ту, с которой он много лет воевал…
Крайне типична тут и двойственная концепция хореографических жанров, сложившаяся у великого реформатора балета Новерра. Свои «Письма о танце» он начинает с того, что в полном соответствии с правилами эстетики классицизма провозглашает: «Великую ошибку совершает тот, кто пытается сочетать противоположные друг другу жанры, смешивая воедино возвышенное и комическое, благородное и низкое, галантное и шутовское», и готов осудить тех балетмейстеров, которые, подобно некоторым поэтам и живописцам, «растрачивают время и талант на то, чтобы создавать произведения низкого и пошлого жанра» (277, 63 и 98). Несколько дальше он говорит о «трех жанрах танца», один из которых близок к трагедии, второй — к высокой комедии и третий, гротескный — к комедии «веселого, развлекательного» характера, и о каждом из них он говорит как о достойном внимания («один будет величествен, другой галантен, третий забавен») (там же, 171 – 174). Наконец, еще дальше он делится своим желанием превратить в балеты «Отца семейства» и «Побочного сына» Дидро, понимая, что при этом должен возникнуть новый балетный жанр — «своего рода бытовая живопись» (там же, 294 и 296).
Остается добавить к сказанному, что аналогичной была позиция русских классицистов этой эпохи, которые исходили из учения риторов XVII в. (Макария и М. И. Усачева) о «трех родах глаголения», превратив его в концепцию трех художественных «штилей» (Ф. Прокопович, В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов)18*.
Решительный перелом в интересующем нас разделе эстетической мысли, а вместе с ним и в эстетике в целом произошел в середине XVIII в.
40 Глава II
СТАНОВЛЕНИЕ ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕЙ «СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ
ЭНЦИКЛОПЕДИИ»
ИСКУССТВ
1. ОТ Ш. БАТТЕ И М. МЕНДЕЛЬСОНА К В. КРУГУ
Середина XVIII в. стала крупным рубежом в истории эстетической мысли. Хорошо известно, что благодаря А. Баумгартену эстетика конституировалась как самостоятельная научная дисциплина — некоторые историки вообще считают этого философа «создателем» или «основоположником» эстетики как науки. Между тем, говоря о его действительной роли в истории эстетики, нужно учесть два обстоятельства, нередко упускаемые из виду. Во-первых, самоопределение эстетической теории в середине XVIII в. было исторически назревшей задачей, к решению которой самостоятельно шли ученые разных стран — во Франции Ш. Батте, в Англии — Э. Берк, Д. Юм и Г. Хоум, в Германии — М. Мендельсон. У каждого из них контуры и структура этой новой науки прорисовывались по-своему — в зависимости от исходных философских позиций, на которых она строилась, в зависимости от художественной программы, которую она выдвигала, в зависимости, наконец, от устанавливавшегося в каждом случае соотношения философской и искусствоведческой проблематики. Но во всех этих случаях мы можем констатировать решительный переход от сохранявшейся со времен Возрождения ситуации (когда философия пренебрегала рассмотрением вопросов эстетического характера, а теоретики искусства ставили их лишь применительно к «своему» виду искусства, отваживаясь в лучшем случае на сопоставление двух-трех видов) к новой, при которой проблемы красоты, вкуса и сущности искусства оказывались завязанными в один тугой узел, и искусство бралось при этом во всем многообразии его видовых форм, отчлененное от других областей человеческой деятельности — от ремесла, науки и т. п. — и сопоставленное с ними как деятельность своеобразная, устойчиво сохраняющая свою специфику при всех особенностях каждого представляющего ее вида.
41 Второе обстоятельство состоит в том, что учение Баумгартена и его ученика Г. Мейера гораздо менее широко охватывало область художественного творчества, чем концепции ряда их современников. «… Эстетические понятия Баумгартена, — свидетельствует Асмус, — складывались на довольно узкой основе изучения фактов литературы и риторики, преимущественно латинской. Чаще всего это ода и речь оратора, гораздо реже — эпическая поэма. О драме Баумгартен не говорит ни слова. Ссылки на факты живописи и даже музыки имеются, но они малочисленны и из них не извлекаются возможные теоретические выводы» (368, 7).
Показательно, что уже в 1753 г. Мендельсон подверг учение Баумгартена — Мейера критике за его литературоцентристскую ограниченность, утверждая, что эстетика должна с равным вниманием относиться ко всем видам искусства (145, т. IV, 314 – 317)19*. В этом же направлении развивалась эстетическая мысль и в Англии. Здесь в 1744 г. было опубликовано небольшое эссе Д. Хэрриса «Рассуждение о музыке, живописи и поэзии», беспрецедентное по широте постановки вопроса не только в английской, но в европейской литературе в целом (оно опередило на два года трактат Батте). Хотя теоретический уровень этого сочинения был довольно примитивен, оно выдержало в XVIII в. шесть изданий, что свидетельствует о популярности самой идеи сравнительного рассмотрения разных искусств. Хэррис исходил из того, что искусства разделяются на «необходимые» — например, медицина или земледелие — и «просто приятные», каковы музыка, живопись и поэзия. Затем формулировалась цель трактата: «выяснить, что является общим для этих трех искусств, чем они различаются и какое из трех самое превосходное». После короткого анализа Хэррис приходил к выводу, что «общее для всех трех искусств то, что все они миметические или подражательные. Различаются же они тем, что подражают разными средствами: живопись — изображением формы и цветом; музыка — звуками и движениями… средства же поэзии большей частью искусственные» (27, 53 – 58)20*.
Пять лет спустя в Лондоне был опубликован анонимный трактат, который нам не удалось, к сожалению, обнаружить 42 и который не описан никем из историков эстетической мысли; однако одного его названия достаточно, чтобы он был учтен в нашем исследовании: «Изящные искусства, или диссертация о поэзии, живописи, музыке, архитектуре и красноречии» (37). В этом свете воспринимается уже как нечто вполне естественное, что Д. Рейнольде в упоминавшейся речи, произнесенной в Академии 11 декабря 1786 г., не довольствовался традиционным сопоставлением живописи и поэзии, но все время говорил о многих искусствах, с которыми сближается живопись, в частности о поэзии, о театре, о садоводстве, об архитектуре, о музыке (267, т. 2, 424, 427, 430 – 433). Примечательна и постановка вопроса: «нельзя с успехом навязывать одно искусство другому. Ибо, хотя все искусства имеют одни и те же истоки, … все же каждое из них обладает своей особой манерой подражать природе или отклоняться от нее для достижения свойственной ему цели» (там же, 430).
При подобных установках морфологический анализ искусства должен был получить во второй половине XVIII в. такое значение, такой размах, такие возможности и перспективы, каких у него никогда еще не было. Так оно действительно и случилось. Первым из тех, кто поднял морфологический анализ искусства на новый уровень, должен быть признан Батте, трактат которого под характерным названием «Изящные искусства, сведенные к единому принципу», был опубликован в 1746 г., за несколько лет до выхода «Эстетики» Баумгартена.
В предисловии автор предупреждал читателя, что главное место в трактате будет занимать поэзия в силу ее «достоинства». Однако цель его сочинения состояла все-таки в том, чтобы рассмотреть всю сферу художественно-творческой деятельности и найти в ней место каждому искусству. Он начинает с того, что делит искусства — в широком смысле термина — на три группы: 1) те, которые имеют своей целью удовлетворение потребностей людей (по традиционной терминологии — «механические искусства»); 2) те, которые имеют целью доставление удовольствия («изящные искусства»); они объединяют музыку, поэзию, живопись, скульптуру и танец; 3) те, которые соединяют пользу и удовольствие; это — красноречие и архитектура (20, 4 – 5).
Все «изящные искусства» основаны на подражании природе, различия же между ними обусловлены тем, что природа имеет как бы две части — видимую и слышимую; первая есть предмет живописи, скульптуры, танца, вторая — музыки и поэзии (там же, 26). Но, с другой стороны, обнаруживается глубокая общность музыки и танца и их отличие от поэзии, ибо если слово есть «орган разума», то звук и жест — «органы сердца». 43 Они выражают страсти непосредственно, а слово — только через идею. Потому поэзия изображает действия, а музыка и танец — чувства и страсти. Но в жизни действия и страсти взаимосвязаны, и поэтому связаны они также в искусствах, только находятся в каждом виде искусства в особом, лишь ему свойственном соотношении (там же, 169 – 172).
Поэзия, музыка и танец становятся особенно прекрасными, когда они объединяются, заключает свой анализ Батте, но в этом объединении одно искусство должно обязательно главенствовать, а другое ему подчиняться; например, в драматическом театре главенствует поэзия, в опере — музыка, в балете — танец (там же, 193 – 197). Апофеозом сценического искусства и заканчивается трактат21*.
Обычно имя Батте фигурирует в истории эстетической мысли как имя одного из наиболее крупных представителей эстетики классицизма. Не касаясь этой стороны его учения, мы должны признать, что морфологические идеи Батте отличались оригинальностью, проницательностью и целый ряд его положений будет повторяться, варьироваться, углубляться на протяжении двух столетий (при этом мало кто знал, кому принадлежало их авторство).
В самом деле, впервые в истории мировой эстетической мысли Батте выделил «мир искусств», отделив его и от сферы ремесла, и от сферы науки, и от сферы, религии, и создал тем самым условие для анализа его внутреннего строения.
Во-вторых, впервые в истории мировой эстетической мысли было показано, что красноречие, с одной стороны, и архитектура, с другой, то причислявшиеся к миру искусств, то отлучавшиеся от него, имеют двойственную утилитарно-эстетическую природу и в этом отношении могут быть сопоставлены в системе искусств.
В-третьих, впервые в истории мировой эстетической мысли область «изящных искусств» была очерчена с такой полнотой, охватив пять видов искусства.
В-четвертых, Батте предложил принцип группировки этих пяти искусств, связанный со своеобразием чувственных контактов человека с внешним миром (область видимого и область слышимого).
В-пятых, впервые родственной паре искусств «живопись — поэзия» была противопоставлена другая родственная пара «танец — музыка», и впервые была объяснена неизобразительная 44 природа этих последних — ибо непосредственная сопряженность с эмоциональной сферой и делает их «подражающими» страстям, а не явлениям природы, вещам или внешним действиям человека.
Наконец, опять-таки впервые был открыт закон скрещения различных искусств, который выражается в том, что в синтетических художественных образованиях один из компонентов играет роль структурной доминанты.
Как видим, не так уж мало сделал Батте для постижения морфологических законов искусства! Думается, одно это дает нам право поставить его имя в истории эстетической мысли рядом с именем Баумгартена.
Работа Мендельсона «Об основаниях изящных искусств и наук» синтезирует сделанное, с одной стороны, Батте (хотя в некоторых пунктах он с ним полемизирует), а с другой — Баумгартеном. Конкретное наполнение мира искусств здесь остается тем же, что у Батте — поэзия, красноречие, музыка, танец, живопись, скульптура, архитектура (145, т. I, 282 – 283). Что касается их группировки, то она определяется становившимся популярным со времен Дю Бо семиотическим подходом: «Знаки, при помощи которых что-либо выражается, могут быть естественными или произвольными»; в первом случае они связаны с выражаемым прямо, во втором — имеют иероглифический или аллегорический характер. Так поэзия и красноречие отличаются от всех остальных искусств, которые пользуются естественными знаками (почему Мендельсон и называет их «изящными науками», а не искусствами); сами же они различаются по тому, к зрительному или к слуховому восприятию обращены эти знаки. Дальнейшее деление обусловлено тем, что зримые искусства могут изображать красоту в движениях (танец) или в недвижимых формах, которые являются либо плоскостными (живопись), либо объемными (скульптура и архитектура). Эти последние различаются тем, что архитектура сочетает красоту с удобством и прочностью создаваемых предметов и что она не основывается на изображении природы. Вообще же архитектура, в той мере, в какой она относится к изящным искусствам, должна рассматриваться лишь как «побочное искусство» (eine Nebenkunst), ибо она порождена практической потребностью, а не стремлением к удовольствию, как все остальные искусства (там же, 290 – 304).
Если в интересах наглядности представить эту схему в виде таблицы, подобной тем, которые часто составлялись в немецкой эстетике второй половины XVIII в., она примет следующий вид:
45 Табл. 2
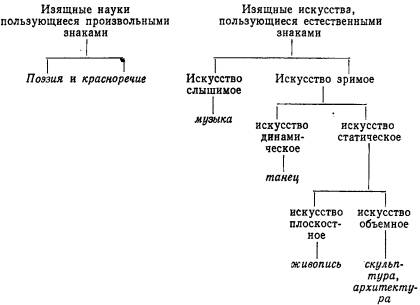
Оценивая эту морфологическую концепцию, следует сказать, прежде всего, что в ряде отношений она была шагом вперед по сравнению с концепцией Батте: систематизирующее начало проведено в ней более последовательно, доходя до определения места каждого отдельного искусства в общей системе. Вместе с тем в ряде пунктов классификация искусств у Мендельсона оказывалась явно неудовлетворительной. Вскоре В. Круг подвергнет ее критике за то, что не выделено в ней садовое искусство; за то, что красноречие и архитектура — искусства «относительно изящные» (т. е. соединяющие эстетическую функцию с утилитарной) не отчленены от искусств «абсолютно изящных» (т. е. лишенных всяких утилитарных целей); за то, что отсутствуют в ней все другие «относительно изящные» искусства; за то, наконец, что «составные искусства» не отделены в ней от «простых» (29, 56 – 57). Добавим, что несостоятельным является и противопоставление словесных искусств всем остальным — Мендельсон впервые сформулировал эту позицию, которая окажется, как мы увидим, весьма популярной вплоть до сего дня и которую у нас еще будет возможность подвергнуть критике.
46 Опыт создания классификации искусств, отсутствовавший в сочинении основоположника немецкой философской эстетики Баумгартена, но сделанный в русле его теории Мендельсоном, показался, по-видимому, немецким эстетикам второй половины XVIII в. крайне важным для построения эстетической теории, но недостаточно убедительным. Поэтому едва ли не в каждом эстетическом сочинении того времени мы встречаемся с повторением опыта Мендельсона, но с теми или иными изменениями «исходных данных», т. е. классификационных принципов: таковы работы Рейнгольда, Снелла, Эшенбурга и ряд других (их содержание кратко изложено в монографии Круга — см, 29, 59 – 60 сл.). Вместе с тем, наряду с семиотической в основе своей классификацией Мендельсона, в немецкой эстетике второй половины XVIII в. прощупывались и иные пути систематизации искусств: назовем их психологическим (Зульцер), экспрессивным (Кант), генетическим (Гердер) и структурным (Бендавид, Пелиц, Круг).
И. Зульцер, исходя из баумгартенова понимания эстетики как теории чувственности, делает ключевым для классификации искусств способ чувственного восприятия каждого из них. Определяя слух как «первое из чувств», открывающее доступ в человеческую душу, он заключает, что «первое и самое сильное из искусств — то, которое находит путь через слух к душе, а именно музыка». Правда, замечает он, и словесные искусства обращены к слуху: «Однако их главная цель состоит не в том, чтобы на него воздействовать. Их предмет дальше отстоит от непосредственной чувственной данности, и звучание речи есть одно из побочных средств, с помощью которого они придают своим представлениям дополнительную силу». Главная сила словесных искусств состоит «в значении слов, а не в звучании». Затем идет зрение, дающее не менее сильные, но более разнообразные впечатления. Ему открыто все богатство красоты, а вместе с ним — и совершенства, и добра. И этим путем обращаются к душе «рисующие искусства» (zeichnende Künste). Поскольку же воздействие на душу может осуществляться и с помощью представлений и понятий, которые не заключают в себе ничего телесного, постольку становятся возможными «словесные искусства».
Таковы три исходные ветви искусства. Однако человечество нашло способы объединять их: танец воздействует одновременно на зрение и на слух, в пении объединяются словесные искусства и музыка, а в сценическом искусстве могут соединяться все вместе, отчего оно является «высшим» и «совершеннейшим» из искусств (161, т. III, 91 – 92).
47 Деление искусств, в основе которого лежит способ их чувственного восприятия, будет, как мы увидим, часто повторяться в XIX – XX вв. в работах эстетиков психологической ориентации и самих психологов; никому из них не удалось, однако, преодолеть недостатки, которые отчетливо проявились уже в рассуждениях Зульцера. Они состоят в том, что, во-первых, непонятны аргументы, которые позволяют считать обращенность искусств к тому или иному органу чувства или к воображению основополагающим принципом их классификации. Конечно, то обстоятельство, что музыку мы слышим, живопись видим, а литературные образы воспринимаем воображением, имеет немаловажное значение, но совершенно очевидно, что это не исходное различие, а следствие фундаментальных различий в самом способе бытия произведений музыки, живописи и литературы. А это значит, что в основу классификации искусств и должны быть положены онтологические, а не психологические признаки. Во-вторых, к зрению обращены в равной степени скульптура и архитектура, к воображению — поэзия и художественная публицистика, к слуху — музыка и ораторское искусство, однако в каждом случае перед нами существенно разные искусства, а этим-то различиям, которые, как мы видели, начинали нащупывать Батте и Мендельсон, Зульцер не придал никакого значения; оттого одномерная, однолинейная его классификация оказалась весьма бедной в теоретическом смысле.
Столь же мало продуктивным был подход Канта. Он положил в основу деления искусств «аналогию искусства с тем видом выражения, которым люди пользуются в языке, чтобы с возможною полнотой сообщаться друг с другом». Поскольку таких «видов выражения» Кант выделил три — слово, движение и тон, постольку, утверждает он, существует и три типа искусств — словесные, пластические и искусства игры ощущений. К первым относятся красноречие и поэзия, ко вторым — скульптура, живопись, архитектура, прикладное искусство, садоводство, к третьим — музыка и искусство красок (69, 195 сл.).
После обстоятельного и глубокого анализа Асмуса (368, 244 – 258) нет необходимости подробно останавливаться на классификационной концепции Канта, тем более что он сам относился к ней весьма осторожно — он дважды оговаривался, что это деление он сделал лишь «для опыта», что «читатель не должен смотреть на данный проект возможного деления изящных искусств как на законченную теорию», как на «законченную дедукцию» (69, 195 и 198). Можно лишь заметить, что здесь сказалось главное внутреннее противоречие его учения об искусстве — противоречие между взглядом на искусство как на 48 выражение «эстетических идей» — и взглядом на красоту как на «игру формы». Отсюда столкновение двух критериев оценки искусств — содержательного (по выражаемому в них «духу») и чисто формального (по их соответствию требованиям «вкуса»). Применение первого критерия заставляло Канта признать высшим искусством поэзию, а применение второго обязывало его считать самым «чистым» искусством арабеску и отождествляемую с орнаментом инструментальную музыку (см. там же, 203 и 77). Вот почему морфологическая концепция Канта оказалась лишенной единства и последовательности; неудивительно, что ему самому она казалась сомнительной22*.
Классификация искусств не принадлежит к наиболее сильным местам эстетики Канта и намного уступает, например, той, которая была предложена его первым критиком И. Гердером. Гердер был во всех отношениях антиподом Канта — не только в концепционном, но и по самому складу мышления. Менее всего он был склонен к строгому систематизаторству, что отчетливо сказалось в его взглядах на интересующий нас круг вопросов. Взгляды эти не были оформлены как последовательная классификационная схема, но излагались в разных работах, в разной связи, в разное время и содержали подчас внутренние противоречия. Но за всем этим стояли гениальные эскизы мысли, которые мы не имеем права не оценить по достоинству.
Стоит отметить, прежде всего, что Гердер решительно отбросил столь популярные не только в XVIII, но даже в XX в. иерархические сопоставления видов искусства. В этой связи любопытна его оценка брошюры Хэрриса: назвав автора «проницательным англичанином», он, вместе с тем, выразил сожаление, что Хэррис, «вместо того, чтобы ограничиться определением различий между этими тремя искусствами, … занялся пустой затеей — определить преимущество одного вида перед другим. Такое разделение по рангам между совершенно различными вещами, — добавлял диалектически мысливший критик, — сводится к ученическому состязанию, вроде того, какое имело место несколько лет назад, когда живопись, музыка, поэзия и театральное искусство должны были торжественно и церемонно оспаривать друг у друга первенство, под наблюдением некоего магистра философии» (56, 176 – 177)23*.
49 Что касается морфологических идей самого Гердера, то их своеобразие состоит в том, что он пытался сочетать два разных подхода — психологический и историко-генетический. Первый проявился в ходе критики лессингова «Лаокоона». Гердер исходил здесь из того, что существенно отнюдь не различие пространственной и временной структур живописи и поэзии, а способы их воздействия на наше сознание: восприятие произведений изобразительных искусств имеет моментальный и целостный характер, а воздействие литературного произведения, как и музыкального, не только процессуально, «суксессивно», но главное — возбуждает душу заключенной в словах особой духовной «силой», «энергией» (там же, 157 сл.). Сближаясь в этом отношении с Зульцером, Гердер подразделял искусства на зримые, слышимые и осязаемые, считая, что скульптура обращена именно к осязанию, а не к зрению (там же, 179 сл.).
С другой стороны — и это, конечно, наиболее значительное завоевание мысли Гердера, — он подходил к проблемам морфологии искусства историко-генетически. Этому посвящена вторая часть его трактата «Каллигона». Критик возрождал чисто аристотелевское понимание искусства как единства «знания» и «умения» (127, тт. 2, 3). Критикуя кантову антитезу «искусство — ремесло» и называя «делением варварских времен» средневековое понятие о «семи свободных искусствах», Гердер заключал; «То, что человечество создает, является свободным, благородным человеческим искусством» (там же, 16 – 17). «Свободные искусства» он понимает, таким образом, как формы творческого труда, утверждавшие и обеспечивавшие свободу человека в его практической жизни. Эти искусства характеризуются органическим единством пользы и красоты, утилитарных и эстетических устремлений.
Рассматривая их возникновение исторически, Гердер выделяет, прежде всего, «первое свободное искусство человека» — строительное искусство. Затем возникло «второе свободное искусство человека» — «садовое искусство» (понятие «сад» берется здесь в широком смысле слова как обозначение всякой культивированной человеком природы). «Третье свободное искусство человека» — искусство одежды. К нему относится и «искусство домоводства», носительницей которого является женщина. Мужские же занятия и битвы образуют «четвертое свободное искусство человека», и, наконец, «пятое свободное искусство человека» — язык. Поэзия была начальной формой существования языка, а ее первой формой был эпос. Затем возникает красноречие, затем — изобразительные искусства и музыка (там же, 18 – 147).
50 Резюмируя этот поразительный очерк истории человеческой деятельности, Гердер, предвосхищая Горького, говорит, что «человек по природе своей художник»; проявляя истинно диалектический подход к проблеме, он утверждает далее, что человек есть сам «творение искусства», ибо «только искусство сделало его таким, каков он есть» (там же, 44 – 45). Нужно ли говорить, что Гердер категорически отверг предложенную Кантом классификацию искусств?
Изложенная в «Каллигоне» постановка вопроса — явление уникальное в философско-эстетической мысли этого времени. Ибо дело тут не только в историзме как принципе подхода к проблеме — в конце концов, такой подход мы встречаем в XVIII в. и у некоторых других мыслителей. В этой связи заслуживает быть специально отмеченным очень интересный трактат Д. Броуна «Замечания о поэзии и музыке, их возникновении, союзе, воздействии, развитии, разделении и упадке»; вышедший в свет в 1763 г., в котором была предвосхищена историческая методология Гердера и таких мыслителей XIX в., как А. Шлегель и А. Веселовский. Броун впервые рассмотрел в этой работе исходную ступень развития художественной культуры — первобытное искусство, в котором он, опираясь на этнографические описания быта американских индейцев, увидел синкретическое единство поэтического, музыкального и хореографического начал (271, 577 – 586). Гердер опирался на исследование Броуна, но пошел дальше него, показав, что изначально все искусства были укоренены в утилитарно-практической деятельности человека и неотрывны от нее, что все они имели у истоков культуры «прикладной» характер и что неправомерна поэтому абстрактно-метафизическая абсолютизация антагонизма искусства и ремесла, красоты и целесообразности.
Конечно, многое в рассуждениях Гердера наивно — и определение последовательности возникновения искусств, и сама их «номенклатура», и полное подчас отождествление — в полемическом пафосе — эстетического и утилитарного моментов; однако при всех этих издержках замечательный немецкий мыслитель так глубоко схватывал важнейшие аспекты генетического взгляда на искусство, что предвосхитил не только историзм эстетического учения Гегеля, но и некоторые фундаментальные идеи марксистской теории искусства.
Последний подход к морфологическому изучению искусства, наметившийся в немецкой эстетике в конце XVIII в., — структурный. Он представлен прежде всего в концепции незаслуженно забытого философа Лазаруса Бендавида.
Бендавид исходил в своих рассуждениях из уже известной 51 нам мысли о знаковой природе искусства. Но дальше он повернул проблему иначе, чем Мендельсон, обратившись к типологии материальных структур художественных знаков; они могут быть, заключал он: 1) либо рядоположением неких элементов на бумаге, холсте и т. д., 2) либо последовательным чередованием элементов — например, слов, 3) либо сочетанием того и другого типа (110, 246 – 250). Отсюда проистекают и три разных способа восприятия искусств. Затем следовало внутреннее членение каждого типа творчества. Поскольку все вещи, находящиеся в пространстве, имеют три измерения, постольку произведения пространственных Искусств могут строиться либо в трех измерениях — пластика, либо в двух — искусство рисунка (Zeichenkunst), либо в одном — каллиграфия. На следующем морфологическом уровне пластика распадается на скульптуру и архитектуру; искусство рисунка — на плоскостное изображение вещей без помощи перспективы, остающееся благодаря этому в пределах двухмерного пространства — это называется «искусством рисунка в собственном смысле слова», и на живопись, которая с помощью перспективы создает на плоскости иллюзию трехмерности; каллиграфия членится на «изящное искусство письма» и на арабеску (там же, 254 – 259).
После очень интересной детализации данного анализа автор переходил к рассмотрению внутреннего членения временны́х искусств. И тут он выделил три вида творчества: литературу, музыку и искусство колорита, создающееся с помощью движущихся красок. Деление литературы дается следующим образом: сначала различаются «описательная поэзия» и «поэзия, описывающая действия» (handelnde). Первая никаких собственных подразделений не имеет, а вторая делится на изображающую «телесные действия» (битвы, приключения и т. п.), «духовные действия» и одновременно те и другие. Все эти три разновидности поэзии имеют родовые формы: «историческую», описывающую прошлое, и «драматическую», представляющую действие на глазах у зрителя. Поэзия, описывающая духовные действия, может быть «дидактической» и «лирической». Дидактическая распадается на жанровые «ветви»: прямое поучающее стихотворение, сатира, эпиграмма, басня и аллегория; лирические жанры — гимн, героическое стихотворение (Heroide), элегия, ода, песня. «Все эти разновидности литературы не встречаются обычно в области драматической поэзии», а поэзия, описывающая одновременно телесные и духовные действия, выступает в виде «эпопеи» или «героического стихотворения» в историческом роде или «трагедии» в драматическом, в виде «романа» в историческом роде и «комедии» в драматическом, в виде 52 «сказки» в историческом роде и «оперы» в драматическом, в виде «идиллии» в историческом роде и «оперетты» в драматическом (там же, 340 – 345). Затем следует подробная и снова интересная характеристика каждого литературного жанра. Музыку Бендавид не подразделяет на роды и жанры, а лишь характеризует ее структурные компоненты (ритм, мелодию и т. п.) и переходит к описанию «искусства колорита». Здесь дается очень любопытное сопоставление цветовых и звуковых отношений и вывод, что возможность составить «цветовой клавир» позволяет говорить об искусстве движущихся красок, подобном арабеске, т. е. неизобразительном, «доставляющем удовольствие чистой формой и не содержащем никакой эстетической правдивости» (там же, 446 – 447)24*. Что касается пространственно-временны́х искусств, то они охватывают: а) сценическое искусство, б) садовое искусство, в) танец и г) искусство освещения, включающее фейерверк.
Согласимся снова с Кругом, что в целом классификация искусств Бендавида «не столь парадоксальна, какой она кажется с первого взгляда», что «главное деление искусств на искусства пространства, времени и пространства и времени делает честь проницательности автора, т. к. проливает яркий свет на существенные особенности изящных искусств, на их различия и связи. Но дальнейшие уровни деления не удовлетворяют в полной мере. Чистые и прикладные искусства, простые и составные четко не расчленены, и, с одной стороны, некоторых искусств здесь не хватает, а с другой — их тут слишком много» (29, 61 – 62). При всех этих и некоторых других просчетах морфологический анализ Бендавида интересен прежде всего тем, что впервые была сделана попытка сведения в единую систему всех морфологических уровней деления форм, художественной деятельности — классов искусств, их видов, разновидностей, родов, жанров. Нельзя не отдать должное смелости этой попытки и серьезности некоторых полученных философом решений.
Вслед за Бендавидом по этому пути пошел Вильгельм Круг. Он хотел сохранить достоинства морфологического подхода своего предшественника, избежав, однако, допущенных им просчетов. В начале своей работы он уделил большое внимание обоснованию 53 общего понимания искусства и методологических позиций, избираемых им при построении «систематической энциклопедии» изящных искусств. Хотелось бы отметить здесь полную правомерность проводимой Кругом аналогии между изучением закономерностей внутренних членений в мире науки (постановка этой проблемы уже завоевала в то время права гражданствами в мире искусства. Так теоретически обосновывалась возможность системного анализа искусства. Более того — при выработке метода такого анализа философ хотел использовать опыт естественнонаучных классификаций: он отмечал, в частности, необходимость четко разграничивать разные уровни деления искусств — их деление на «классы, роды, виды и разновидности» (там же, V – VII).
Само морфологическое исследование начинается у Круга с утверждения, что произведение искусства как реальный и чувственно воспринимаемый предмет может конструироваться либо во времени (как последовательно развертывающийся процесс), либо в пространстве (как рядоположение элементов), либо во времени и пространстве одновременно. Таким образом, все изящные искусства распадаются на три основных класса:
I. Искусства времени — звуковые искусства.
II. Искусства пространства — пластические искусства.
III. Искусства времени и пространства — мимические искусства.
Однако в каждой из этих трех групп возможно применение «таких средств или знаков, которые, рассмотренные сами по себе, являются естественными (напр., неартикулированные звуки, телесные массы, жесты), или таких, … которые можно назвать искусственными или произвольными (напр., артикулированные звуки и слова, контурный рисунок, произвольные телодвижения)». При этом данные средства или знаки могут использоваться искусством не только «изолированно» друг от друга, но и «объединение»; отсюда Круг делает очень важный методологический вывод: «в силу этого при классификации изящных искусств следует тщательно различать простые способы изображения и сложные, составные (напр., пение как объединение литературы и музыки, высший вид танца как объединение обыкновенного танца и искусства жеста). Соответственно произведения искусства принадлежат либо к одному виду (напр., стихотворение или соната), либо к нескольким, которые взаимно друг друга опосредуют и выступают в результате как одно целое (напр., песня)» (там же, 48 – 49).
Затем Круг говорит о необходимости еще одного принципиального разграничения — разделения «абсолютных или 54 чистых» искусств, т. е. таких, где «творчество свободно и имеет чисто эстетические цели», и искусств «относительных или прикладных», где эстетическое творчество связано с достижением каких-то иных целей. При этом Круг установил, что данная дихотомия имеет место не только в сфере пластических искусств (как полагают, между прочим, даже многие современные теоретики), но и во всех других, т. к. «эстетическая способность человеческого духа действует повсюду». Так становятся в один ряд «изящное ораторское искусство, изящная архитектура, изящное искусство шрифта, изящное искусство верховой езды и т. д.». Учет этих двух форм существования искусства важен еще и потому, что «только абсолютно изящные искусства образуют завершенную в себе и замкнутую систему», а искусств прикладных насчитывается «бесконечное множество». Вместе с тем те из них должны учитываться в системе искусств, которые обладают «известной самостоятельностью и аналогичны абсолютно-изящным искусствам» (там же, 50 – 51).
Совершенно очевидно, что в этих рассуждениях Круга сказалось прямое влияние Гердера. Преодолевая, однако, известную аморфность концепции Гердера, Круг четко определил различие между «чистыми» и «прикладными» искусствами и утвердил это различие в качестве важного морфологического принципа деления искусств.
На таком методологическом фундаменте и развертывается конструируемая Кругом «систематическая классификация изящных искусств», которую мы приведем полностью (там же, 52 – 54).
Табл. 3
I. Звуковые искусства в широком смысле.
А. Абсолютные или чистые
1) простые:
а) искусство изящного представления с помощью неартикулируемых звуков — звуковое искусство в узком смысле слова,
б) искусство изящного представления с помощью артикулируемых звуков или слов — литература.
2) составное искусство — пение.
Б. Относительные Или прикладные
1) простые:
а) искусство украшения неартикулируемых звуков, проявляющееся в произношении — изящное искусство речи,
б) искусство украшения артикулируемых звуков, проявляющееся в логической композиции — изящное искусство красноречия.
2) составное — изящное ораторское искусство.
55 II. Пластические искусства в широком смысле
А. Абсолютные или чистые
1) простые:
а) искусство изящного изображения с помощью телесных масс — скульптура — пластическое искусство в узком смысле,
б) искусство изящного изображения с помощью очертаний — живопись.
2) составное — садовое искусство.
Б. Относительные или прикладные
1) простые:
а) искусство украшения телесных масс, имеющих разное назначение, но главным образом постройки — изящная архитектура,
б) искусство украшения таких объектов, которые соединяются на плоскости как шрифт — изящное искусство шрифта.
2) составное, относящееся прежде всего к монетам — изящное монетное искусство.
III. Мимические искусства в широком смысле
А. Абсолютные или чистые
1) простые:
а) искусство изящного представления с помощью движения различных частей человеческого тела — мимическое искусство в узком смысле,
б) искусство изящного представления с помощью движений всего человеческого тела — низший вид танца.
2) составное — высший или театральный вид танца вместе с актерским искусством.
Б. Относительные или прикладные
1) простые:
а) искусство украшения движений отдельных частей человеческого тела при фехтовании — изящное фехтовальное искусство,
б) искусство украшения движений всего человеческого тела при верховой езде — изящное искусство верховой езды.
2) составное — изящное турнирное искусство.
Оценивая эту «систематическую энциклопедию изящных искусств», нужно заключить прежде всего, что три принципа деления искусств, лежащие в ее основе, являются несомненными и важными, причем не только каждый сам по себе, но именно в их сочетании и соотнесенности. Беда заключается в том, что четвертый принцип, сформулированный Кругом вначале — семиотический, — потерялся, так сказать, по дороге и никак не отразился в сконструированной им схеме. Поэтому данная схема не могла запечатлеть существенных различий между искусствами, изображающими реальность, и искусствами неизобразительными — 56 например, между литературой и музыкой, между скульптурой и архитектурой, между актерским искусством (мимикой) и танцем.
Вторая существенная претензия, рождающаяся при изучении таблицы Круга, вызывается назойливостью проводимого в ней «принципа триады», напоминающего излюбленные гегелевские построения и приводящего подчас к нелепым натяжкам при заполнении схемы (вроде различения трех видов ораторского искусства или объявления садового искусства синтезом скульптуры и живописи и т. п.).
Книга Круга подытожила сделанное в области морфологии искусства в XVIII в. и показала всю значительность данной проблематики для эстетической науки. Тем самым была поставлена определенная веха на пути развития морфологического изучения художественной деятельности — оно вошло в эстетику как ее существенный и необходимый раздел.
2. ОТ А. ШЛЕГЕЛЯ К Г. ГЕГЕЛЮ
Романтизм был поворотным пунктом в истории европейской художественной культуры и эстетической мысли. Принесенное им новое понимание природы и сущности искусства столь радикально отличалось от господствовавших прежде воззрений, что это не могло не иметь серьезных последствий и для морфологического изучения искусства.
В вышедшей несколько лет тому назад книге В. В. Ванслова «Эстетика романтизма» есть специальная глава «Виды искусства в романтической эстетике». Проблема эта рассматривается в ней весьма обстоятельно, и мы могли бы полностью на нее опереться, если бы не один странный и необъяснимый пробел его работы — отсутствие в ней анализа концепций основных представителей философской романтической эстетики — А. Шлегеля, Ф. Шеллинга, А. Шопенгауэра, не говоря уже об их последователях и эпигонах.
Первый тезис Ванслова, к которому мы можем полностью присоединиться, состоит в том, что романтики, в отличие от своих предшественников, более тонко и гибко понимали своеобразие каждого вида искусства, освободившись от классицистической догматики и просветительской рассудочности: «у них специфика искусства выступала не в виде проблемы творческих “правил”, границ и соотношений, а в виде проблемы индивидуальной 57 неповторимости и потому особой художественной ценности каждого отдельного искусства» (376, 234). «Каждое искусство, — приводит Ванслов выразительное суждение Новалиса, — имеет свою индивидуальную сферу. Кто не понимает этого, не может быть настоящим художником» (там же, 235). Вместе с тем, «как бы ни любовались романтики особыми возможностями и индивидуально неповторимыми качествами каждого искусства, как бы ни ценили действие его специфических черт и средств, все-таки отдельные искусства для них всегда были лишь равными голосами единого хора»25*. Аналогичной в принципе была и позиция романтиков по отношению к жанрам искусства, что справедливо подчеркнул Ванслов (там же, 250 – 251. Ср. суждения об этом Асмуса — 367, 414 – 418). Таким образом, преодолевая метафизичность эстетики XVIII в., романтики нащупывали диалектическое понимание связи общего и специфического в мире искусств, избегая отождествления разных форм творчества (видов, родов, жанров) в такой же мере, как и их абсолютного противопоставления.
Второй вывод Ванслова, на который мы можем сослаться, состоит в том, что у романтиков «была популярна мысль о делении искусств на изобразительные, которые необходимо и непременно воспроизводят действительные формы, и неизобразительные, в которых воспроизведение действительных форм не необходимо и обычно отсутствует». Такое деление исследователь справедливо связывает с появившимся у романтиков «повышенным вниманием к внутреннему содержанию искусства, а также человека и мира вообще». А поскольку главной задачей искусства является, с их точки зрения, не «подражание природе», а «выражение внутреннего, то воспроизведения внешнего в отдельных искусствах совсем может не быть. Возможность отсутствия изображения является доказательством того, что оно вообще в искусстве не играет определяющей роли, а имеет лишь значение, подчиненное выражению» (там же, 239)26*.
58 Отсюда проистекает следствие, которое Ванслов оценил по достоинству, выделив в данной главе специальный параграф «Музыка как самое романтическое из искусств». В этом параграфе весьма убедительно, с привлечением обильного и разнообразного материала, показано, что «в романтической концепции искусств музыка занимает особое место. В ней романтики видели наиболее адекватную форму жизни искусства вообще. Она была для них самым полным и ярким осуществлением их эстетических концепций. Во многих случаях они ставили музыку выше всех других искусств» (там же, 254 – 255). К этому следует лишь добавить, что в некоторых случаях верховное место в мире искусств занимала у романтиков не музыка, а поэзия — так думали А. Шлегель (157, т. II, 102 – 103), К. Зольгер (159, 218).
Мы вправе заключить, что при всей диалектической направленности мышления романтиков они не могли все же освободиться от традиционного, типично метафизического иерархического сопоставления искусств, только на верхнюю ступеньку лестницы, на которой находилась в эпоху Возрождения живопись, а в XVII – XVIII вв. драматическое искусство, романтики ставили музыку или поэзию, возвращаясь, таким образом, хотя и на несколько иной основе, к той шкале художественных ценностей, которую выработало… средневековье.
Наконец, последний вывод Ванслова, на который мы можем смело опереться, — признание «чрезвычайной специфичности» для романтической эстетики проблемы синтеза искусств (376, 254). Сказанное исследователем характеризует эту тему достаточно полно, избавляя нас от необходимости дополнительных суждений.
Обратимся теперь к анализу разработанных в философской эстетике романтизма теоретических концепций системы искусств, которым Ванслов не уделил почти никакого внимания. Между тем они интересны не только сами по себе, но и потому, что предваряли и подготавливали гениальную эстетическую теорию Гегеля.
Первое явление, которое в этой связи заслуживает пристального внимания, — это лекции Августа Шлегеля, читанные им с огромным успехом в 1801 г. в Берлине, но впервые опубликованные в 1884 г. Исходя из того, что искусство чувственно представляет мир явлений и что существуют две формы чувственного восприятия — пространство и время, Шлегель заключает, что возможны два типа искусств: представляющие явления либо как одновременные, либо как последовательные (157, т. II, 100). Произведения искусств первого типа обращены к зрению, второго — 59 к слуху. С другой стороны, Шлегель противопоставляет изобразительное искусство и музыку, находя новые аргументы в споре, который велся на эту тему с середины XVIII в.27* Самым же интересным и значительным в его лекциях было то, что идя вслед за Броуном и Гердером Шлегель ввел в морфологию искусства исторический угол зрения: так, он выделил в ряду изобразительных искусств «мимический танец», рассматривая его как «древнейшее искусство среди тех, которые воспроизводят мир в зримых формах». Однако танец есть искусство, в котором соединяются образы пространства и времени; поэтому в ряду «скульптура, живопись, танец, музыка, поэзия» он стоит между живописью и музыкой. В древности же три основных способа выражения — звук, слово и движение — были слиты воедино, подчиняясь единым законам темпа, такта и ритма. «В этом едином праискусстве лежит корень всего разветвленного дерева, в которое затем искусство разовьется». Изобразительные же искусства — это «дочери танца», и точно так же инструментальная музыка в самостоятельном своем существовании возникает позже, чем пение (там же, 105 – 106).
Параллельно с этим, по выражению Шлегеля, «рядом или шкалой искусств» встает другой ряд, образуемый «соединением прекрасного и полезного» и являющийся переходным звеном от «свободных и изящных искусств к механическим, чисто утилитарным». «Главный закон» этих искусств состоит в том, что «внутренняя целесообразность никогда не должна страдать под красотой внешнего облика». Шлегель очень тонко понимает связь этих моментов, доказывая возможность их органического соединения («das Schöne bequemt sich, als der Nutzbarkeit dienend aufzutreten» — там же, 107 – 108).
Еще одно важное положение морфологической концепции Шлегеля — включение в систему исполнительских искусств. Шлегель выделяет музыкальное исполнительство, декламацию («высоко ценившуюся у древних, но заброшенную в наше время») и «актерское искусство, соединяющее декламацию с игрой движений» (там же, 109 – 110).
Хотя Шеллинг изучал «Философию искусства» А. Шлегеля и высоко ее оценивал, к решению морфологической задачи он подошел с иной стороны. Это различие было обусловлено, главным 60 образом, особенностями склада сознания обоих лидеров романтического движения: Шлегель обладал, по выражению Гегеля, «по существу как раз не философской, а критической натурой» и не мог претендовать «на репутацию спекулятивного мыслителя» (55, т. XII, 67). И действительно, в своих морфологических построениях Шлегель исходил из реального положения вещей в сфере художественной культуры, из глубокого знания и тонкого ощущения самого материала искусства во всем его разнообразии и конкретности. Что же касается Шеллинга, то он был именно «спекулятивным мыслителем», философом чистой воды и принадлежал к той философской школе, в которой теории дедуцировались спекулятивным образом, в отвлечении от «беззаконности» эмпирической реальности. Знание самого искусства, ощущение своеобразия каждой из его неповторимых видовых, родовых и жанровых форм было нужно Шеллингу не более, чем, например, Канту. Система искусств конструировалась им такой, какой она должна была бы быть, исходя из высших принципов, постулированных философом при определении сущности искусства — не случайно он определял свою задачу именно как «конструирование форм искусства».
Искусство по Шеллингу есть слияние реального и идеального, но обе его стороны обладают относительной самостоятельностью и по-разному друг с другом соотносятся. «Реальную сторону мира искусства» представляют образные (bildende) искусства28*, к которым философ относит музыку, живопись и пластику (последняя включает и архитектуру), а «идеальная сторона мира искусства» воплощена в словесных искусствах (100, 184 – 190). И те и другие рассматриваются в их внутренних членениях. Живопись предстает у Шеллинга как ряд жанров, каждый из которых есть своего рода ступень в движении от изображения материального к выражению духовного: так, «низшая ступень» — это натюрморт, изображающий неорганические объекты, «вторая ступень» — изображение цветов и плодов; «третья ступень» — анималистическая живопись, затем следует пейзаж и, наконец, «последняя и высшая ступень» — изображение человека. А тут возникает новая, внутренняя лестница: ее «низшая ступень» — портрет, а высшая — «изображение идей», которое возможно в живописи только в аллегорической или символической формах. Самым полным воплощением последней является исторический жанр (там же, 247 – 261). Перед нами, в сущности, 61 чисто классицистическая концепция жанров, которая получает, однако, новое обоснование, переключающее ее из плана социально-идеологического в план отвлеченно философский. И то же самое движение от материального к духовному, от реального к идеальному обусловливает переход от живописи к пластике, которая как бы синтезирует односторонние возможности музыки и живописи. Сначала данный синтез происходит в такой разновидности пластики, как архитектура, которую Шеллинг называет «музыкой в пластике», всячески подчеркивая родство архитектуры и музыки (он рассуждает тут так же, как Гете, Ф. Шлегель и многие другие романтики), затем выступает барельеф — «живопись в пластике» и, наконец, скульптура как пластика в собственном смысле (там же, 275 – 307). Шаткость этой отвлеченной конструкции очевидна.
Переходя к анализу поэзии, Шеллинг и тут идет по пути конструирования «иерархии», как сам он говорит, ее отдельных форм. Начинает он с лирической поэзии, которая в пределах словесного искусства соответствует музыке, затем переходит к эпосу, который сопоставим с живописью и который рассматривается в представляющих его жанрах, и, наконец, в драме, которая является «синтезом всей поэзии» (там же, 345 – 399). «… Изо всех этих трех форм драма — единственная истинно символическая форма именно потому, что она не просто обозначает предметы, но ставит их прямо перед глазами. Следовательно, она среди словесных искусств одна соответствует пластическому искусству и в качестве последней целокупности замыкает собой эту сторону мира искусства, как пластика завершает, другую». Две основные жанровые формы драмы, которые Шеллинг описывает, — трагедия и комедия.
Заключительные абзацы «Философии искусства» мы позволим себе привести полностью:
«После того, как драма в двух своих формах достигла высшей целокупности, искусство слова может только вернуться к изобразительному (т. е. к образному. — М. К.) искусству, но не развиваться дальше.
В песне поэзия возвращается к музыке, в танце, будь то балет или пантомима, — к живописи, в драматическом искусстве — к пластике в собственном смысле слова, ибо спектакль есть живая пластика.
Как было сказано, эти искусства зарождаются в связи с обратным стремлением от словесного искусства к изобразительному (образному. — М. К.), ввиду чего и образуют свою собственную сферу вторичных искусств; исходя из задач нашего конструирования, я считаю нужным лишь упомянуть о них, ибо 62 их законы, как законы составных искусств, вытекают из законов тех искусств, из которых они составлены…
Отмечу еще только то, что совершеннейшее сочетание всех искусств, объединение поэзии и музыки в пении, поэзии и живописи — в танцев синтезированном виде составляет самое сложное явление театрального искусства. Такова драма античного мира, от которой нам досталась только карикатура, т. е. опера; она легче всего могла бы вернуть нас обратно к исполнению античной драмы, связанной с музыкой и пением, при более высоком и благородном стиле поэзии и прочих участвующих здесь искусств» (там же, 443 – 444).
Размышляя над этой могучей в теоретическом отношении концепцией, приходишь к заключению, что она стоит как бы на перепутье двух веков, и не знаешь, с каким из них — XVIII или XIX — она более тесно связана. При всей остроте полемики Шеллинга с классицизмом, ему не так уж далеко удается уйти от классицистического понимания морфологических проблем эстетики, т. к. взгляд на искусство как на вознесение от реальности к идеалу романтизм унаследовал от своего предтечи (см. 372, 12), а на этой общей основе все другие расхождения приобретали уже второстепенное значение. Отсюда — и противопоставление поэзии всем остальным искусствам, и ее над ними возвышение, и сохранение традиционной родовой и жанровой иерархии, и ориентация на сценический синтез как на высшую форму художественного моделирования идеала. С другой же стороны, методология шеллинговой морфологии искусства оказывалась новой, оригинальной и во многом предвосхищала гегелеву: система искусств развертывалась здесь как бы изнутри, дедуцированная из единого основания, а не образованная простым сопоставлением эмпирических данных, описывающих параметры каждого вида или жанра. Поэтому, в отличие от достигнутой эстетикой к концу XVIII в. широты охвата многообразных форм художественного творчества — эта широта сохранялась и в работах ряда теоретиков начала XIX в., например Ф. Шлейермахера (155), Ф. Фикера (121), Моргенштерна (147), — у Шеллинга мы находим только «классическую» пятерку искусств, которой, кстати сказать, ограничит себя и Гегель, т. к. этого было достаточно для «конструирования» системы искусств на принятых обоими философами основаниях. Ибо Шеллинг мог бы сказать здесь в свое оправдание буквально то же, что скажет Гегель: «Эти пять искусств образуют внутри самих себя определенную и расчлененную систему… Кроме этих пяти искусств имеются, правда, еще и другие, несовершенные: искусство разведения садов, танец и т. д.; о них мы 63 будем иметь возможность упомянуть лишь мимоходом. Ибо философское рассмотрение должно держаться лишь понятийных различий, развить и постигнуть адекватные им истинные формы» (55, т. XIII, 186).
Так одно из высоких достижений философской мысли — методология системного анализа, имеющего в своей основе выявление способности некоей сущности к внутренней дифференциации («… деление должно всегда иметь свое основание в том понятии, обоснованием и делением которого оно является», — утверждал Гегель) (55, т. XII, 80) — оборачивалось произвольным «конструированием» системы и столь же произвольным делением искусств на «истинные» и «несовершенные».
Быть может, ярче всего промежуточный характер учения Шеллинга сказался в том, как связал он теоретический и исторический аспекты исследования. В отличие от просветителей, Шеллинг широко распахивает двери своей «Философии искусства» для исторического взгляда на вещи, но по сравнению с Гегелем он не пронизывает теорию историей, не делает исторической саму морфологическую схему, а сополагает историю и теорию и лишь время от времени скрещивает их. Оттого при обилии тонких и глубоких частных замечаний общая его морфологическая концепция не выдерживает сравнения с концепцией Гегеля.
Известно, сколь широким и сильным было влияние эстетики Шеллинга — не только в Германии, но и за ее пределами. Это касается и шеллинговой морфологии искусства, хотя она была популярна в гораздо меньшей степени, чем его общая теория искусства29*.
У нас нет возможности подробно рассматривать каждую модификацию морфологических идей Шеллинга у его последователей — у К. Зольгера (159, 257 – 345), у Ф. Боутервека (107, т. I, 142 – 249), у Ф. Фикера (121, 100 – 144), у К. Бахмана30*, 64 но об этом не стоит сожалеть, т. к. в них перепевались, в сущности, уже знакомые нам положения — как самого Шеллинга, так и различных немецких эстетиков XVIII в. Остановимся лишь на двух русских вариантах шеллингианской морфологии искусства.
Один из них был предложен Александром Галичем в его незаслуженно забытом сочинении «Опыт науки изящного» (1825 г.)31*. Галич имел возможность слушать в Германии лекции Шеллинга, но сохранял при этом в ряде случаев несомненную самостоятельность мышления. Это касается и морфологического анализа искусства, которому посвящена вторая часть его трактата. Изложенная здесь концепция во многом оригинальна — хотя Галичу известны соответствующие работы его предшественников, в том числе Круга, Зольгера, Эшенбурга, Батте, Боутервека, Лессинга, Канта, Гердера, Шлегеля (эти имена он сам называет в введении) и, конечно, Шеллинга (хотя его имя в этой книге Галич предпочел не называть) — и вызывает живейший интерес как один из самых серьезных опытов морфологического анализа искусств в философской эстетике XIX в. Опыт этот тем более интересен, что русская эстетика XIX в., жившая в гораздо большей степени художественно-практическими интересами, нежели философско-теоретическими, не придавала серьезного значения морфологической проблематике. В работах И. Рижского. (294), А. Мерзлякова (269), И. Давыдова (207), в ряде анонимных сочинений этого времени (279; 17) проблемы морфологии искусства рассматривались бегло и неглубоко. Мы коснемся далее работ Л. Якоба, М. Розберга, Н. Надеждина и, конечно же, В. Белинского и Н. Чернышевского, которые уделяли этому кругу вопросов сравнительно больше внимания, хотя и у них морфологический подход к искусству имел третьестепенное значение. Тем интереснее для нас «Опыт» Галича — самое обстоятельное в русской эстетике рассмотрение морфологической проблематики.
Свой анализ системы искусств Галич начинает совсем по Шеллингу: «А как Вселенная, — пишет он, — представляет либо внешним чувствам нашим рассеянное множество явлений, либо внутреннему сосредоточенное в воображении всеединство оных; то необходимое разделение искусств есть разделение на искусства 65 чувств внешних, движущиеся преимущественно в пространстве, и на искусство внутреннего чувства, движущееся преимущественно во времени. Первые составляют натуральную их область, и я называю их художествами, второе идеальную, т. е. поэзию» (52, 78). Однако дальнейший ход рассуждений оказывается самостоятельным.
Все художества Галич делит на три группы:
«а) художества, преимущественно относящиеся к пространству — образовательные;
в) художества, преимущественно относящиеся ко времени — тонические;
с) художества, относящиеся равно и к пространству, и ко времени — театральные, сценические».
Первые две группы художеств — «по природе своей односторонние и простые», третья группа — «сложные или смешанные» (там же, 82 – 83).
«Образовательные» искусства (т. е. чувственно-образные) подразделяются в свою очередь на «пластические» (скульптура и архитектура), «очертательные» или «рисовальные», высшей формой которых является живопись, и смешанные, «пластически-живописные», к коим относятся «мозаика, вышиванье и прекрасное садоводство» (там же, 84 – 119). В области тонических искусств — музыки — никаких внутренних подразделений Галич не намечает, а в «художестве актера» он видит три его формы — пантомиму, танец и декламацию (очень тонко подчеркивая их связь с тремя сферами искусства — изобразительной, музыкальной и словесной). Опера же, в которой осуществляется синтез «всех искусств театральных», есть их «олимпийское празднество», говорит Галич (там же, 131 – 147), предвосхищая то, что будет вскоре писать об опере Р. Вагнер.
Переходя к анализу поэзии, Галич объясняет, почему это «идеальное искусство» существует только одно, в отличие от многих «натуральных искусств», почему оно пользуется «искусственными, произвольными, такими же бестелесными знаками, каковы и сами изображаемые вещи, т. е. мысли». Отношение поэзии к другим искусствам определяется истинно диалектически — она имеет и известные преимущества перед ними (в широте изобразительных возможностей), и известную ограниченность («со стороны силы и разительности чувственных впечатлений») (там же, 151 – 155). Что же касается внутреннего членения поэзии, то Галич выделяет три ее рода — эпос, лирику, драму, «соответствующие Пластике, Музыке и Сценике», затем рядом с этими «самостоятельными» формами поэзии ставит «относительные» ее формы — дидактическую поэзию, идиллию 66 и сатиру, наконец, «совершеннейшей» синтетической ее формой объявляет роман, который сопоставим только с оперой — чем она является в ряду натуральных художеств, тем роман является в ряду поэтическом (там же, 159 – 160 и 216).
Своеобразие путей развития эстетической мысли в России в первой половине XIX в. не позволило идеям Галича оказать сколько-нибудь серьезное влияние на теорию искусства. По-видимому, они не были известны даже Н. И. Надеждину, который несколько лет спустя, в 1831 – 1832 гг., в курсе лекций, читанном им в Московском университете, предложил морфологическую конструкцию, близкую к той, которая была разработана Галичем32*.
Все искусства были подразделены Надеждиным на «символические» и «человеческие», поскольку формы художник берет или «из внешней природы», или «из самого себя». Первые суть «художества» и охватывают «образовательные» искусства (т. е. пространственные), «тонические» (т. е. музыкальные) и синтезирующие их «сценические»; вторые именуются «поэзией» и делятся на эпическую, лирическую и драматическую; деление это оказывается параллельным делению художеств, т. к. эпическая поэзия подобна пластике, лирическая — музыке, а «драма, соединяющая оба рода поэзии, совокупляется с искусством сценическим».
Есть все основания полагать, что под прямым влиянием этой концепции сложились представления молодого Белинского (который был, как известно, учеником Надеждина) о литературе как верховном искусстве и о драме как высшем поэтическом роде. Однако влияние это было довольно быстро вытеснено гегелевским. Вернемся поэтому в Германию и рассмотрим два наиболее значительных и влиятельных после Шеллинга учения, пошедшие в разные стороны от его морфологической концепции: одно из них было создано Шопенгауэром, другое — Гегелем.
Анализ системы искусств Шопенгауэр начинает с архитектуры, поскольку в ней воплощаются «низшие ступени объективности воли». К ней тяготеет «изящная гидравлика» — имеется в виду искусство фонтанов. Затем следует «изящное садоводство», представляющее «высшую ступень» природы. Затем идет живопись, вначале ландшафтная, потом анималистическая (на 67 этой ступени к живописи подключается и скульптура), потом историческая (тут имеется в виду всякое изображение человека, в том числе и бытовой жанр). От изобразительного искусства Шопенгауэр переходит к поэзии, «венцом» которой является трагедия. Что же касается музыки, то она «стоит совершенно особенно от, всех других искусств», т. к. музыка — «это непосредственная объективация и отпечаток всей воли… Музыка, следовательно, в противоположность другим искусствам, вовсе не отпечаток идей, а отпечаток самой воли» (102, 223 – 266).
Таким образом, концепция Шопенгауэра радикально отличается от эстетической системы Гегеля и сближается с системой Шеллинга33* прежде всего в том, что он выстраивает все виды искусства не в один возвышающийся ряд, а в два, только у Шеллинга особое положение самостоятельной и высшей сферы художественного творчества занимает поэзия, а у Шопенгауэра — музыка. В этом смысле позицию Шопенгауэра нужно признать, с одной стороны, более последовательной с точки зрения основных принципов эстетики романтизма, а с другой — предвосхищающей то вознесение музыки надо всеми искусствами, которое будет не раз провозглашаться идеалистической эстетикой в XX в. Неудивительно, что в эту пору влияние Шопенгауэра окажется неизмеримо большим, чем влияние Гегеля, — даже Бенедетто Кроче, отталкивавшийся во многом от учения Гегеля, в своем отношении к музыке окажется солидарным именно с Шопенгауэром.
Дело, однако, не только в том, в какой последовательности выстраивал искусства на их пути к абсолюту тот или иной корифей немецкой идеалистической эстетики; более существенно то, как аргументировалось данное построение. А тут Шопенгауэр еще резче противостоит Гегелю своим полным антиисторизмом: сконструированный им ряд искусств предстает как нечто вечное, неизменное, раз и навсегда данное, абсолютное.
В этом отношении Гегель пошел от Шеллинга в радикально ином направлении. Если взять построенную им систему видов искусства саму по себе — как ряд «архитектура — скульптура — живопись — музыка — поэзия», — то она не обнаружит каких-либо принципиальных преимуществ по сравнению со схемой Шеллинга, равно как и ее теоретическое обоснование — изменение «пропорций», духовного и материального в каждом из искусств (55, т. XIII, 183 – 186). Аргументация эта, даже если отвлечься от мистифицированной трактовки «духовного» 68 в эстетике Гегеля, является ложной в своей основе и неизбежно ведет к иерархическому толкованию сравнительной ценности разных искусств. Так оно у Гегеля и произошло — поэзия оказалась «высшим» искусством, ибо она «наиболее духовна», поскольку полностью «подчиняет духу и его представлениям тот чувственный элемент, от которого уже музыка и живопись начали освобождать искусство» (55, т. XII, 92 – 93). Этот тезис многократно постулировался и в XVII и XVIII вв., и в начале XIX в., и дело не изменилось от того, что у Гегеля поэзия, достигнув вершины художественного могущества, неожиданно и парадоксально приводила искусство к… самоуничтожению: «Однако именно на этой высшей ступени искусство поднимается также и выше самого себя, так как оно покидает здесь стихию примиренного воплощения духовного в чувственной форме и переходит из поэзии представления к прозе мышления» (там же).
Этот антиромантический итог гегелевской эстетики, конечно, весьма интересен и важен, но морфологии искусства он ничего не дал. Своеобразие и величайшая ценность гегелевской морфологической концепции определяются другим — тем, что впервые структурный анализ мира искусств был слит — и слит органически! — с анализом историческим. Зерна историзма, брошенные в почву эстетики Броуном, Гердером, Шиллером, А. Шлегелем, дали богатейшие всходы, хотя идеализм гегелевского мировоззрения искажал обретавшиеся на этом пути теоретические выводы.
Для Гегеля «система отдельных искусств» — не неподвижная, застылая структура, а живое, подвижное, изменчивое — но меняющееся закономерно! — соотношение форм художественного творчества. Эта система сложно-динамическая, как сказали бы философы сегодня, т. е. изменяющая исторически свои состояния при сохранении целостности и качественной определенности. Гениальная спекулятивная дедукция Гегеля совпала в данном пункте с истинным положением вещей; в результате оказалось, что построение мира искусства не остается стабильным в разные исторические эпохи, что цветение каждого вида искусства, роль, которую оно играет в художественной культуре, влияние, какое оно оказывает на другие искусства, — все это переменчиво, все это исторически конкретно и все это, вместе с тем, отнюдь не случайно и не произвольно. Ибо системный ряд искусств Гегель рассмотрел в свете своего учения о законах исторического развития художественного сознания, проходящего три фазы — символическую, классическую и романтическую.
Мы не будем сейчас более подробно останавливаться на гегелевой философии истории искусства — она достаточно хорошо 69 известна — и подчеркнем лишь, что при всем схематизме, надуманной «триадности» и любых иных, понятных нам сегодня, грехах этой концепции она была великим открытием эстетической мысли. Впервые эстетика установила, что закономерное историческое развитие есть способ существования искусства, что историзм должен быть поэтому имманентным эстетике подходом к изучаемому ею материалу, что именно и только историзм, а не субъективизм и не агностицизм, оказывается научно полноценной альтернативой нормативности. Когда же Гегель совместил представление о трех исторических формах бытия искусства с системным рядом видов искусства, этот последний ожил, «затрепетал», раскрыл заключенный в нем заряд исторической истинности. А при этом раскрылся неизвестный до того эстетике закон неравномерного развития видов искусства, один из основных законов художественного развития человечества.
Суть его состоит в том, что в каждую эпоху, в пределах каждого художественного направления (стиля или метода, как сказали бы мы сегодня) разные виды искусства развиваются не одинаково широко, полно и свободно; каждый вид искусства связан с определенным историческим типом творчества и только на его основе способен развернуть все заключенные в нем эстетические потенции. Так, «символическое искусство достигает своей наиболее адекватной действительности и величайшего применения в архитектуре, в которой оно господствует соответственно полноте своего понятия и еще не низведено на степень как бы неорганической составной части другого искусства. Напротив, для классической формы искусства скульптура есть безусловная реальность, архитектуру же она приемлет лишь как создающую ограду, а живопись и музыку она еще не в состоянии довести до такого развития, чтобы они служили абсолютно адекватными формами для воплощения ее содержания. Наконец, романтическая форма искусства овладевает живописным и музыкальным выражениями самостоятельным и безусловным образом, равно как и поэтическим изображением» (там же, 94).
Правда, закон неравномерного развития искусств интерпретируется Гегелем предельно схематично. По логике его теории получается, что каждый из пяти «признанных» им видов искусства способен лишь однажды в истории культуры достичь полноты самовыявления и что, с другой стороны, каждая эпоха может быть адекватно представлена только одним видом искусства. Реальный ход истории художественной культуры оказывается значительно более сложным; историко-художественный процесс нельзя раскладывать как карточный пасьянс. Но такова уж глубочайшая драма эстетики Гегеля — как, впрочем, 70 и всей его философии, — что гениальные открытия неотделимы в них от идеалистических и схематических искажений действительных законов бытия.
В гегелевской морфологии искусства существенно также обоснование принципов родовой и жанровой дифференциации творчества. И здесь поучительны параллели с концепцией Шеллинга. Внешне близкое ей по целому ряду признаков, учение Гегеля оказывалось опять-таки неизмеримо более глубоким и прогрессивным по своему содержанию и по своим теоретическим основаниям. Сравнив, например, сам подход к проблеме жанра в изобразительном искусстве у Шеллинга и у Гегеля (55, т. XIV, 44 сл.), мы убедимся, как далеко ушел последний от догматически-иерархической ее трактовки, хотя у него, как и у Шеллинга, точкой отсчета является мера одухотворенности пластического образа. Показательно в этом смысле, что принцип жанрового деления вообще не занимает в эстетике Гегеля того места, какое он имел у Шеллинга, не говоря уже об эстетике классицизма. Что же касается принципа родового деления, то ему оба мыслителя придавали одинаково большую роль и трактовали его иначе, чем это было принято в эстетике XVII – XVIII вв., хотя и здесь между их обоснованиями есть весьма существенные различия.
Отметим прежде всего, что Гегель принимает от своего ближайшего предшественника идею родового членения поэзии как нечто для нее специфическое, отличающее ее от других искусств. Но если у Шеллинга это объяснялось, как мы помним, тем, что в мире словесного искусства возникает возможность и необходимость вновь «разыграть» движение от музыки к живописи и от нее к пластике, то у Гегеля родовая триада «лирика — эпос — драма» обосновывается диалектикой отношений объекта и субъекта: эпический род представляет объективность бытия, лирический раскрывает субъективный мир человека, драматический находит возможность воплотить единство внешнего и внутреннего, событийного и психологического, действенного и мотивационного. Такое членение делает многообразие способов художественного освоения мира доступным одному лишь поэтическому искусству, потому что слово обеспечивает ему всю «полноту» художественных возможностей, тогда как остальные искусства связаны «односторонностью своего материала и… специальным способом выполнения» (там же, 224 сл.).
Нужно признать, что выделение Шеллингом и Гегелем трех родов поэзии было шагом вперед по сравнению с господствовавшей в XVII – XVIII вв. концепцией, которая признавала лишь два поэтических рода — эпический (или эпико-лирический) и 71 драматический34*. Сделанное в этом плане Гегелем может быть сейчас обогащено, дополнено, развито, но оно остается поныне и, думается, останется навсегда истинным и радикальному пересмотру не подлежащим.
Так «Лекции по эстетике» Гегеля завершили еще один этап в развитии морфологического изучения искусства, выявив с наибольшей рельефностью возможности и ограниченность эстетики классического философского идеализма.
72 Глава III
Основные направления морфологического анализа искусства в буржуазной
эстетике второй половины XIX и первой половины XX в.
После Гегеля положение на исследуемом нами участке эстетической науки становилось все более сложным — и в силу умножения опытов построения системы искусств, и в силу методологической разнородности предпринимавшихся в этом направлении усилий. Мы встаем, таким образом, перед нелегкой задачей отбора наиболее характерных, представительных теорий и группировки отобранного материала.
Понимая условность устанавливаемых нами членений, мы считаем возможным выделить следующие главные направления морфологического изучения искусства: 1) умозрительно-дедуктивное, 2) психологическое, 3) функциональное, 4) структурное, 5) историко-культурное, 6) эмпирическое и 7) скептическое. Обоснованность каждого из этих обозначений станет ясной по мере изложения соответствующих концепций.
1. УМОЗРИТЕЛЬНО-ДЕДУКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
ОТ Х. ВЕЙССЕ К А. БЕЛОМУ
Развитие позитивистских идей имело одним из своих следствий «бунт» против классической философской эстетики («эстетики сверху», как назвал ее Г. Фехнер), умозрительно-дедуктивному методу которой был противопоставлен метод эмпирико-аналитический (по его же терминологии — «эстетика снизу»). Вполне естественно, что новая методология должна была сказаться, в частности, и на морфологическом изучении искусства; мы увидим вскоре, как это конкретно происходило, сейчас же отметим, что традиции классической эстетики, отступая все 73 дальше и дальше под натиском новых сциентистских устремлений, все-таки сохраняли известную силу и в середине, и в конце XIX в., и даже в начале века двадцатого. На этом пути нельзя было уже, по-видимому, сказать что-то принципиально новое, но какие-то, более или менее любопытные, вариации старых идей и их новые комбинации в это время создавались, и они должны быть зафиксированы историком. Поскольку же этот процесс протекал с некоторым своеобразием в различных странах, постольку каждую его национальную ветвь целесообразно рассмотреть самостоятельно.
Мы начнем с Германии, где влияние старой философии было, естественно, сильнее, чем где бы то ни было. В интересующей нас конкретной области оно обнаруживает себя, прежде всего, в эстетических учениях Х. Вейссе и Ф. Фишера.
В основе их морфологических концепций лежала гегелевская схема, однако в одном пункте они оба ее пересматривали, словно желая найти некий компромисс между точками зрения классиков немецкой идеалистической философии. Выразилось это в том, что данная система приобрела и у Вейссе, и у Фишера уже не однолинейный — как у Гегеля, и не двухслойный — как у Шеллинга, а трехъярусный характер: поэзия противостоит другим искусствам, и ее трехродовое деление соответствует трем формам существования пространственных искусств, но музыка выделяется в самостоятельную и тоже трехчленно делящуюся область (инструментальная, вокальная и драматическая); находится она, однако, не внизу лестницы искусств, как у Шеллинга, и не наверху, как у Шопенгауэра, а на том именно месте, на какое поставил ее Гегель, — между пластическими искусствами и поэзией35*. Фишер подводит под это деление солидную философскую базу, используя то соотнесение объективного и субъективного, которое у Гегеля объясняло родовое членение литературы. Так, по Фишеру, пространственные искусства — это искусства «объективной художественной формы», музыка — искусство «субъективной художественной формы» (это касается и рассматриваемого в приложении к музыке танца), а поэзия (и «прилагаемое» 74 к ней сценическое искусство) — искусство «субъективно-объективной художественной формы» (165).
С различными перепевами гегелевско-фишеровского спекулятивно-идеалистического и иерархически-ценностного подхода к построению системы искусств мы будем встречаться и позднее — у Э. фон Лазо (31), у Э. фон Гартмана (126), у Г. Гитмана (124), у М. Дица (117). Любопытно, однако, что морфологический анализ искусства мог сохранять отвлеченно-спекулятивный и иерархический характер даже тогда, когда он основывался на антиидеалистических, но метафизических философских принципах. Характерным примером может служить учение И. фон Кирхмана, издавшего в 1868 г. трактат «Эстетика на реалистической основе». В предисловии автор объясняет, что на протяжении всей истории философии существовало только две системы — идеалистическая и реалистическая, что все попытки примирить их заканчивались безрезультатно и что он делает попытку — как в предыдущей своей чисто философской работе «Философия знания», так и в данной книге — последовательно развить «реалистическую» точку зрения. Однако постоянная полемика с Гегелем и Фишером не помешала Кирхману сохранить выработанную ими общую схему (133)36*.
Во Франции наиболее раннюю в XIX в. попытку построения системы искусств в этом методологическом ключе мы находим у Катрмэра де Кэнси, который сумел удивительным образом соединить архаический уже в его время взгляд на искусство как на «подражание» с чисто гегелевским обоснованием иерархического восхождения видов искусства от архитектуры к поэзии, вознесенной на высшее место «на подражательной лестнице изящных искусств» (155, 144 – 145). Ф. Ламенне, исходя из мистико-идеалистических философских оснований, пришел, однако, в конструировании системы искусств к аналогичным выводам. Единственное, что отличает его построения от тех, которые мы видели у его предшественника, — это взятый у Гегеля и крайне примитивно проведенный исторический способ обоснования данной системы (138, 145 – 162). Еще один французский вариант усвоения идей немецкой классической эстетики мы находим у В. Кузена, крайне популярного в середине века философа эклектического толка. Отталкиваясь от эстетики Шеллинга, в трактате «Об истине, красоте и добре», где целая глава посвящена 75 «различным искусствам», Кузен приходит к… гегелевской схеме: здесь фигурирует тот же набор искусств и та же иерархическая соотнесенность (114, 202 – 219). Столь же малозначительные варианты все той же концепции можно найти в работах А. Пикте (153, 245 – 297) и Ш. Левека (141, т. 2, 15 – 19).
О проникновении этих же идей в английскую эстетику свидетельствует трактат В. Найта «Философия красоты», содержащий главу «Соотношение видов искусства» и ряд следующих за ней специальных глав о поэзии, музыке, архитектуре, скульптуре, живописи, танце (134). Но и тут мы не найдем никаких оригинальных и заслуживающих внимания идей. Назовем, наконец, в этом ряду и сочинение В. Джиоберти (итальянца, преподававшего в Бельгии) «Опыт о красоте» (125).
Влияние гегелевской морфологии искусства проникло и в Россию. Первый ее вариант предложил профессор Дерптского университета М. Розберг, издавший в 1838 г. свою докторскую диссертацию «О развитии изящного в искусствах и, особенно, в словесности». В этой работе содержится и классификация искусств.
Исходя из того, что «всякая жизнь заключает в себе двойство внешнего и внутреннего», т. е. материального и духовного, Розберг говорит о возможности «трех родов представления» — «вещественного», «духовного» и такого, где «ощутительность и отвлеченность соединены». Отсюда и возникают «три рода художественного изложения, именно — пластика, музыка, поэзия». Неудивительно, что их соотношение определяется иерархически — они «выказывают основные ступени искусства». Пластика, в свою очередь, предстает как зодчество, ваяние и живопись. Переходные формы — барельеф, сближающий ваяние с живописью, и орхестика (мимические танцы), сближающая пластику с музыкой. Поэзия — высшее искусство, выступает как «поэзия пластическая» — эпопея, «поэзия музыкальная» — лирика и как «поэзия поэзии» — драма (92, 32 – 50). Затем следует характеристика основных жанров в каждом из трех поэтических родов.
Очевидно, что мы имеем здесь дело с попыткой синтезировать идеи Гегеля и Шеллинга, но самостоятельной теоретической ценности этот синтез не имел. Неудивительно, что вышедшее в следующем же году второе издание книги Розберга было встречено язвительной рецензией Белинского. Белинский высмеивал отвлеченный от художественной реальности чисто умозрительный характер этого сочинения и, в частности, предложенное его автором обоснование деления поэзии на роды (эпос — 76 изображение прошедшего, лирика — настоящего, драма — будущего), считая его столь же надуманным, как обоснование И. Давыдова (драма — изложение настоящего, а лирика — будущего). «Как посмотришь на все это поближе да повнимательнее, — заканчивал свою рецензию Белинский, — так и перестанешь удивляться, что многие добрые люди исподтишка подсмеиваются над подобными теориями, а если еще эти теории украшаются эпиграфами из Гегеля (такой эпиграф был в книге Розберга. — М. К.)… невольно вздохнешь и о несчастном Гегеле и о бедной философии…» (48, т. III, 280).
Белинский обещал «при случае» поговорить «об этом предмете поболее». Такой случай вскоре представился — в статье о «Горе от ума», написанной и опубликованной в том же 1839 г. Белинский начинал ее с критики морфологических позиций классицистической эстетики, их классификаторского педантизма и формализма. В подобных пиитиках поэзия разделялась, иронизирует Белинский, «на лирическую, эпическую, драматическую, дидактическую, описательную, эпистолярную, пастушескую, сатирическую, эпиграмматическую и проч. и проч. — всего не перечтешь. На нем основывалось это разделение? — На внешних признаках, на условной форме, существовавшей отвлеченно от идеи, из которой необходимо должна выходить всякая форма». Затем, разделив поэзию на роды, эти теоретики «приступали к подразделению родов на виды» (т. е. на жанры) (там же, 420 – 421).
Такому подходу к морфологии искусства Белинский противопоставляет историко-теоретический анализ, в котором легко узнается изложение концепции Гегеля (там же, 423 – 428), хотя, в отличие от немецкого философа, Белинский считает романтизм не завершающей стадией художественного развития человечества, а очередной преходящей формой, на смену которой придет новый тип искусства — «поэзия действительности, поэзия жизни» — т. е. реализм (там же, 434). Это не помешало ему, однако, изложить концепцию родового членения поэзии по Гегелю.
Вскоре Белинский вновь вернулся к морфологической проблематике, в связи с начатой им большой специальной работой по эстетике и теории литературы. В рукописном фрагменте этого труда, известном под названием «Разделение поэзии на роды и виды», говорилось, что природа каждого искусства и их соотношение определяются противоречивым соединением духовного содержания и материальной формы, которая не только выражает содержание, но и «сковывает» — в силу своей материальности — возможности его наиболее полного, адекватного воплощения; 77 поэтому виды искусства следует выстроить «лестницей», на нижней ступеньке которой оказывается архитектура, на следующей — скульптура, затем — живопись, затем — музыка, а на вершине «лестницы» — поэзия, представляющая собой «высший род искусства» (48, т. V, 7 – 9). Нетрудно узнать в этой схеме хорошо нам известную гегелеву систему искусств.
В середине 40-х гг. Белинский полностью освободился от влияния Гегеля и прочно встал на материалистические философские позиции; оказалось, однако, что его представления о морфологическом строении искусства не претерпели существенных изменений. «Определить поэзию, — писал он в 1845 г., — значит определить искусство вообще, т. е. столько же определить и архитектуру, и скульптуру, и живопись, и музыку, сколько и поэзию…» Этот ряд искусств сохраняет, как видим, прежний состав, прежнюю последовательность и прежний «лестничный» характер, т. к. Белинский подчеркивает, что словесный «способ выражения» делает поэзию «выше всех других искусств» (48, т. IX, 158).
Чем можно объяснить подобную устойчивость взглядов, независящих как будто от радикального изменения философско-эстетических основ мировоззрения Белинского? Такой вопрос приобретает особую остроту в связи с тем, что Чернышевский, как мы вскоре увидим, при всей резкости своей полемики с гегелевой эстетикой, тоже оставался верен ее морфологической схеме (только еще решительнее, чем Белинский, он обошелся с архитектурой: согласно Белинскому зодчество «это еще не искусство в полном значении, а только стремление, первый шаг К искусству» (48, т. V, 8), а Чернышевский вообще отбросил архитектуру за пределы художественного мира, в котором остались лишь поэзия, музыка и изобразительные искусства).
Объясняется это, по-видимому, двумя причинами. Во-первых, тем отвлеченно-философским конструированием модели искусства, которое классики русской революционно-демократической эстетики переняли у классиков немецкой идеалистической эстетики. Представляя себе эту модель как явление чисто гносеологического порядка — как способ познания субстанциональной основы бытия, — эстетика должна неминуемо выстраивать искусства либо по шопенгауэровскому ранжиру (если высшая форма этого познания представлялась интуитивно-иррационалистической), либо по ранжиру гегелевскому (если самым могущественным органом познания признавался разум). При этом определение самого предмета познания приобретало в данном случае второстепенное значение: эволюция эстетических взглядов Белинского показывает, как мало изменялось его понимание 78 структуры искусства при переходе от начальной шеллингианской формулы: искусство должно воспроизводить «идею всеобщей жизни природы» (48, т. I, 32) к последующей, строго материалистической: искусство есть «воспроизведение действительности во всей ее истине» (48, т. X, 294). Неудивительно поэтому, что иерархическая концепция соотношения видов искусства и определение литературы как «высшего» искусства оказывались общими и у просветителей, и у таких умеренных романтиков, как А. Шлегель, и у Гегеля, стоявшего как бы на рубеже романтической и реалистической художественных систем, и у Белинского на обеих фазах его духовного развития, и у последовательного материалиста и теоретика критического реализма Чернышевского37*.
Во-вторых, неравномерное развитие видов, родов и жанров искусства интерпретировалось метафизически мыслившими эстетиками таким образом, что те формы творчества, которые выдвигались на авансцену художественной культуры XIX – XX вв., объявлялись вообще «высшими», абсолютно «высшими». Поразительно, но тем более показательно, что даже могучий диалектик Гегель не устоял в этом пункте своей эстетики и превратил диалектический тезис о поэзии как высшем романтическом искусстве (т. е. искусстве, вышедшем, на передний край художественной культуры в ту историческую эпоху) в метафизический тезис о поэзии как высшем искусстве вообще, безотносительно к истории. Впрочем, такая подмена диалектики метафизикой была у Гегеля лишь проявлением его общей идеи конечного самопознания абсолюта в прусской государственности и в его, гегелевской, философии.
Подобная аберрация исторического зрения — абсолютизация особенностей современной художественной культуры — была свойственна и русским просветителям. Отчетливо видя, что в развертывавшемся на их глазах реалистическом движении искусства литература играет «первую скрипку», что именно в ней и прежде всего в ней критический реализм находит свое наиболее полное, яркое и последовательное выражение, Белинский, Чернышевский, а за ними и Писарев объявляли ее «высшим» 79 искусством, а все другие его виды «подстраивали в затылок» литературе по мере сходства с нею, близости к ее законам. Мера духовности содержания оставалась тут главным критерием, только сама эта «духовность» имела уже не абстрактный нравственно-философский, а конкретный социально-политический смысл: Чернышевский отчетливо его выявил, когда утверждал, что литература воспроизводит общеинтересное человеку в жизни, объясняет жизнь, выносит приговор над жизнью и тем самым становится учебником жизни. При такой расшифровке духовного содержания искусства архитектура и весь мир прикладных искусств должны были, конечно, остаться за его пределами, а изобразительное творчество и музыка — оказаться второстепенными по сравнению с литературой, ибо так успешно, как она, ни одно другое искусство не может выполнять данные идеологические функции. Понятно заключение Чернышевского: литература стоит «неизмеримо выше других искусств» по своему содержанию, т. к. «все другие искусства не в состоянии сказать нам и сотой доли того, что говорит поэзия» (99, т. II, 63 и 85 – 86)38*.
И все же у нас есть основания полагать, что тонкое историческое чутье Белинского помогло ему в 40-е гг., когда он стал на материалистические позиции, в какой-то мере преодолевать умозрительно-дедуктивный и абстрактно-иерархический подходы к морфологическим проблемам теории искусства. Об этом свидетельствует изменение его взгляда на соотношение двух основных жанров современной литературы — драмы и романа.
Вопрос этот имеет два аспекта. Один, ставший в недалеком прошлом предметом дискуссии, был очень точно, на наш взгляд, освещен Ю. Манном, и нам остается лишь сослаться на его исследование (400, 257 – 264; Ср. также нашу статью — 9); речь идет о том, что первоначально Белинский, как и классики немецкой эстетики, видел в романе новый жанр эпического рода, а затем приходил к мысли, что роман есть синтетическое образо-
80 Исходная страница повреждена.
81 Исходная страница повреждена.
82 художественной формы, не помешали тому, что классификация искусств, изложенная в «Символизме», предстает как вариант шопенгауэровской: перед нами тот же восходящий ряд из пяти искусств, в той же последовательности, и, разумеется, без какого-либо исторического аспекта их соотнесения. И в этом нет ничего удивительного, т. к. эстетика символизма непосредственно выросла из романтической концепции, развивая ее до самых крайних теоретических и практических следствий. Поскольку для Белого материальная форма искусства есть нечто враждебное духовному содержанию и поскольку соотношение видов искусства определяется взаимодействием этих начал, постольку музыка оказывается для него высшим искусством, ибо она «изображает смену переживаний, не подыскивая им соответствующей формы видимости» (49, 178). Заметим, что этот вывод стал исходным пунктом в теоретическом обосновании В. Кандинским абстракционизма, которое было сформулировано в том же 1910 г. (132)39*.
Так умозрительно-дедуктивный подход к проблеме, исчерпав уже в классической немецкой эстетике все свои возможности, обнаруживал у ее последователей и эпигонов свою полную научную несостоятельность. Отсюда можно было, однако, сделать два разных вывода: либо вообще отказаться от морфологического изучения искусства, либо искать иной его путь, базирующийся не на отвлеченных теоретических дедукциях, а на исследовании фактических отношений между эмпирически данными видами искусства.
Первым направлением поисков позитивного решения проблемы стал психологический подход к классификации искусств.
2. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
ОТ М. ЛАЗАРУСА К Ш. ЛАЛО
Мы видели, что уже в XVIII в. делались попытки психологического обоснования многообразия видов искусства, заключавшиеся в группировке искусств в соответствии с характером их чувственного восприятия. Отвергнутый в немецкой философской 83 эстетике, такой подход, естественно, возродился в психологической эстетике XIX – XX вв. Мы встречаемся с ним уже в 50-х гг. в капитальном сочинении М. Лазаруса «Жизнь души», написанном в смешанном философско-психологическом ключе. Здесь был осуществлен обстоятельный анализ искусств, исходя из их деления на зримые и слышимые, причем автор остался в пределах традиционного набора из пяти «великих» искусств (139). Позднее Д. Кюльпе уточнит: искусства делятся «с психологической точки зрения» на оптические, акустические и оптико-акустические (см. 35, 184 – 185).
Главным уязвимым пунктом такого деления является необходимость противопоставить литературу всем остальным искусствам, ибо она обращена не к зрению и не к слуху, а к воображению; между тем эта ее особенность имеет явно второстепенное значение по сравнению с теми, которые сближают ее с одними искусствами и отличают от других: так, повесть родственна картине («словесная живопись») и резко отлична от сонаты, а с другой стороны, она еще более радикально отличается от архитектурного сооружения, которое, однако, ориентировано на то же самое зрительное восприятие, что и картина; вместе с тем, литературное произведение может быть воспринято слухом или обращено непосредственно к воображению (если мы читаем книгу глазами, а не слушаем, как ее читают вслух), но от этого оно само существенно не меняется; неудивительно, что в одних классификациях литературу причисляют к искусствам слуховым, вместе с музыкой, а в других отделяют ее от музыки, образуя тройное деление (искусства, обращенные к зрению, к слуху и к воображению), и оба эти решения проблемы одинаково правомерны и одинаково неосновательны.
К тому же, как показал опыт, сенситивный подход к классификации искусств сразу поставил перед теоретиками вопрос: а почему только к зрению и к слуху обращены искусства? Не правильнее ли считать, что у каждого органа чувств должно быть свое искусство? Если к тому же предполагалось, что целью искусства является наслаждение, неизбежно следовал вывод: любая форма деятельности, стремящаяся доставить наслаждение тому или иному органу чувства, должна расцениваться как вид искусства. В XIX в., при популярности позитивистской редукции духовного к биологическому, психологического к 84 физиологическому, такой вывод делался с особой легкостью и приобретал видимость научного заключения, опровергающего свойственную философам-идеалистам дискриминацию так называемых «низших» органов чувств и получаемых ими наслаждений. Правда, у Г. Спенсера и Г. Аллена эстетическая привилегированность зрения и слуха еще подтверждается и даже получает физиологическое обоснование (см., напр., 106, 134), но уже М. Гюйо объявляет полное эстетическое равенство всех анализаторов.
Критикуя в ряде пунктов эстетическую концепцию английских позитивистов, Гюйо принял, однако, их психофизиологический подход к искусству и даже захотел провести его более последовательно: все органы чувств, утверждал он, обладают способностью эстетического восприятия, оттого «парфюмерное дело — тоже род искусства», равно как и кулинария, а поэтический образ «есть продукт взаимодействия всех наших чувств» (60, 52 – 66)40*.
Так будут рассуждать вплоть до нашего времени как специалисты-психологи (см., напр., 149, 26), так и специалисты-эстетики (108, 218 – 219).
Дальше всех пожалуй, зашел на этом пути Ш. Лало. Маститый ученый, немало сделавший в свое время для утверждения социологического подхода к искусству, в последние годы жизни изменил методологическую ориентацию. В 1951 г. один из номеров французского «Журнала нормальной и патологической психологии», целиком посвященный проблеме «виды искусства», открывался статьей Лало «Эскиз структурной классификации изящных искусств». Проведенный здесь подход к проблеме — гештальт-психологический. Искусство, по Лало, — это «всякая человеческая и искусственная деятельность, в той мере, в какой она дает контрапунктические ощущения, гармонизирующие различные гетерогенные пути, или же ощущение искусственной 85 суперструктуры, состоящей из множества более или менее естественных инфраструктур» (130, 37). Соответственно в мире искусств выделяются, прежде всего, семь «специфических суперструктур» — слуховая, зрительная, двигательная, действенная, конструктивная, языковая и чувственная. В каждой из них выделяются подструктуры:
в первой — различные музыкальные явления,
во второй — различные живописные явления,
в третьей — различные хореографические явления и «гидравлическая пиротехника» — фонтаны и пр.
в четвертой — различные театральные явления,
в пятой — различные архитектурные явления, прикладные и промышленные искусства, садовое искусство и скульптура,
в шестой — литература,
в седьмой — «искусство любить и внушать любовь к себе», со всеми нормальными и патологическими формами «эротизма», затем гастрономия, парфюмерия и «осязательные и тепловые структуры».
Конечно, если стать на путь подобного гедонистического формализма, действительно исчезнет всякое различие между теми способами, с помощью которых человек получает наслаждения, — между объятиями и чтением романа, между вдыханием аромата духов и слушанием симфонии, между вкусным обедом и посещением музея. Дело, однако, в том, что на этом пути мы полностью теряем сокровеннейшую специфику искусства — его связь с духовными, а не с физиологическими ощущениями, связь, которая и подымает его на иной уровень «наслаждений» и «гармонизации», чем тот, на котором находятся чисто чувственные удовольствия. Надо ли доказывать, что в изложенном нами взгляде на искусство выражается истинно буржуазная и пошло буржуазная точка зрения?
Неудовлетворенность «достижениями» психологического подхода к анализу системы искусств заставила некоторых представителей буржуазной эстетики испробовать еще один путь решения задачи. Назовем его условно функциональным, поскольку здесь делалась попытка классифицировать искусства в зависимости от того, какую роль они призваны играть в человеческой жизни.
86 3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ОТ Г. ЗЕМПЕРА К П. ФРАНКАСТЕЛЮ
Мы видели, что уже в XVIII в. на смену возникшему в эпоху кризиса античной культуры, канонизированному средневековьем и отвергнутому в новое время противопоставлению «свободных искусств» и «механических» пришел новый принцип деления искусств — на «чистые» и «прикладные». По сути дела, уже в эпоху Возрождения началась своего рода «перегруппировка сил»: из «механических искусств» стали вычленяться искусства изобразительные, а с ними архитектура и садовое искусство, и все они сближались с поэзией и музыкой; в мире «механических» искусств оставались лишь продукты художественного ремесла. Эстетика немецкого идеализма узаконила такое положение вещей, ограничивая себя изучением одних только «чистых» искусств, «свободных» от всякой утилитарности — единственное исключение делалось при этом для архитектуры, но при том условии, что она, как это было у Гегеля, допускалась лишь на нижнюю ступеньку «лестницы» искусств.
Правда, демократическое направление в немецкой эстетике XVIII в. (Гердер, Бендавид, Круг) решало этот вопрос по-иному, и Лотце имел все основания говорить о двух тенденциях в развитии немецкой эстетической мысли, одна из которых выражалась в ограничении сферы искусства несколькими чисто художественными формами деятельности, а другая, напротив, в размыкании ее границ и утверждении связей мира искусств с окружающим его миром практики (430, 441 – 442).
Эта последняя тенденция не возобладала, однако, в наиболее авторитетных эстетических учениях XIX в. Напротив, самое широкое распространение получает сейчас деление искусств на «высшие» и «низшие», закреплявшее высокомерно-пренебрежительное отношение к последним41*. Ограничимся двумя — но достаточно характерными — примерами.
87 Последователь Канта и Гегеля и весьма популярный на рубеже XIX и XX вв. немецкий эстетик Э. Мейман, строя довольно примитивный вариант системы искусств, заключил, что архитектура и прикладные искусства в эту систему не входят, т. к. не являются «чистыми» искусствами, а соединяют художественное начало с производственно-целесообразным: «художественно-ремесленная форма, всецело определяемая целью, возникает прежде всего из совершенно иного мотива, чем форма художественная…» Этим мотивом и является целесообразность, которой нет при создании «чистой» художественной формы (81, 180 – 181). Другой пример — позиция авторитетного современного американского ученого Т. Грина, который прямо говорит в своей известной работе «Виды искусства и искусство критики», что в наше время деление искусств на «высшие» и «низшие» «считается чем-то само собою разумеющимся, хотя его основания нелегко сформулировать» (26, 33). Поскольку же «не может быть сомнения в том, что музыка и танец, скульптура и живопись, архитектура и литература являются высшими искусствами…» (там же, 34), постольку именно их и только их он характеризует в своей книге. Как видим, исключение изо всей сферы «утилитарных искусств» сделано тут для одной архитектуры, хотя логики в этом никакой нет.
Правда, Грин должен признать, что, вообще говоря, деление искусств на «высшие» и «низшие» в известной мере условно, т. к. не во все времена и не во всех культурах оно признавалось, а когда оно принималось, то толковалось по-разному (там же, 33), но никаких последствий эта оговорка не имела.
Хотя в русской эстетике XIX – XX вв. подобная терминология не прижилась, отношение эстетики — даже самой прогрессивной, материалистической! — к прикладным искусствам и архитектуре было примерно таким же — вспомним хотя бы позицию Чернышевского (99, т. II, 53 – 55) и Писарева (86, т. 3, 423 – 429). Правда, причины, ее обусловившие, были своеобразны — они заключались, несомненно, в том, что политический пафос эстетики революционных демократов привлекал их внимание в первую очередь к литературе, архитектура же и тем более прикладные искусства оказывались при этом как бы вне поля идеологического зрения эстетики.
Между тем ход развития культуры и, в частности, неодолимое сближение художественного творчества и промышленного производства, особенно активное в XIX в. на Западе, вступали в противоречие с традиционной точкой зрения «высоколобой» философской эстетики, стимулируя иной подход к определению границ мира искусств. В последние годы советские ученые 88 начали активно изучать теоретическую разработку проблемы «искусство и промышленность» в эстетике XIX в. — Д. Рёскиным и У. Моррисом, Г. Земпером и Я. фон Фальке, а затем, в XX в., представителями эстетики техницизма, конструктивизма, функционализма, теоретиками дизайна, и нет смысла повторять сделанное тут В. Тасаловым (410; 411), К. Кантором (232), В. Глазычевым (197), Г. Сунягиным (310). Мы ограничимся поэтому только той стороной вопроса, которая представляет интерес для понимания эволюции морфологического изучения искусства и которая наименее затронута в исследованиях упомянутых авторов, равно как и в сочинениях зарубежных ученых — Л. Мамфорда, З. Гидиона, П. Франкастеля.
После того, как Земпер в своем исследовании стиля как эстетической категории обобщил материал именно «технических и тектонических искусств», а не «высших» изобразительных (361; 220) и после работы его ученика и последователя Я. фон Фальке «Эстетика художественного ремесла», в которой доказывалось, что нет сколько-нибудь четких границ между «свободными» и «связанными» (т. е. прикладными) искусствами и что «царство искусства везде одно и то же» (346, 4 – 5), эстетика не могла не сделать соответствующих выводов. Показательно, что уже в 1865 г. в книге К. Лемке «Популярная эстетика», отражавшей, как это свойственно литературе такого жанра, современное состояние научной мысли, отвергалось пренебрежительное отношение к прикладным искусствам, которые автор именует вслед за Земпером не «низшими», а «техническими» искусствами или «полезными» искусствами, подчеркивая их родство с «высоким» искусством архитектуры (140, 294 – 295 сл.).
Немалая заслуга в изменении традиционных воззрений принадлежала Рёскину, который настойчиво и темпераментно защищал прикладные искусства, как полноценную отрасль художественной деятельности (см., напр., 91, 210). С аналогичной постановкой вопроса мы встречаемся и во французской эстетике у Ф. Польана, который выделил в своей книге об искусстве специальную главу «Промышленные искусства и орнаментация». Он начинает ее с анализа архитектуры, ставя ее на первое место в ряду прикладных искусств, затем рассматривает другие их формы, включая одежду, ювелирное искусство и кончая… кулинарией — от нее французской эстетике, видимо, никуда не деться! (151). Позднее, в 20-е гг., Де Уитт Паркер назвал одну из глав своего исследования законов художественного творчества «Парадокс промышленных искусств», построив ее на материале архитектуры, которую он определил как «самое 89 интересное из промышленных искусств» (150, 128). Вопрос был поставлен так: «Отношение между красотой и пользой параллельно отношению между жизнью и изящными искусствами. Последние являются не самой жизнью, а реализацией в воображении ценностей жизни. Точно так же… красота утилитарных искусств есть не ценность их практического использования, а ценность воображаемых возможностей их пользы… Прекрасный дом — это “мечта о доме”. И точно так же, как человек, неспособный переживать страсти, которые являются субстанцией поэзии, не может оценить красоту поэмы или песни, так не может он оценить красоту горшка, чашки или дома, если он ими никогда не пользовался». «Изящные и утилитарные искусства в равной мере вырастают из самой жизни и выражают ее интересы» (там же, 132).
Подобная постановка вопроса все чаще встречается в эстетике XX в. — у Ш. Лало (136), у Р. Кайуа (112) и многих других авторов (см. также 428, 208 – 209), что не могло не иметь прямых последствий для классификации искусств. Наряду с обычными дихотомическими делениями искусств на «чистые» и «утилитарные» или «прикладные» или «технические» (эти группы искусств назывались также «функциональными» и «нефункциональными» — см. напр. 118), мы встречаемся и с любопытной идеей Р. Гамана, предложившего разделить искусства на три группы: «чистое искусство», «декоративное искусство», включающее все прикладные искусства, а в сущности и архитектуру, и «искусство художественной рекламы», включающее и изобразительные, и музыкальные, и поэтические элементы (53, 59 – 83).
При всех преимуществах этой точки зрения по сравнению с консерватизмом защитников привилегированного статуса «высших искусств», она заключает внутреннюю опасность, которой ее сторонникам не часто удается избежать, — опасность полного растворения искусства в практической жизнедеятельности человека. А это не только ошибочно само по себе, но и полностью снимает возможность морфологического изучения искусства. Два наиболее ярких примера — концепция В. Таппенбека, сложившаяся в конце прошлого столетия, и концепция нашего современника П. Франкастеля.
Первый назвал свою книгу «Религия красоты», имея в виду широчайшее внедрение эстетических ценностей во всю практическую жизнь человека. Пользуясь введенным К. Фидлером и получившим широкое распространение понятием «эстетическая видимость», Таппенбек ограничивает сферу его действия только тремя видами искусства — живописью, скульптурой и литературой, 90 поскольку лишь они обладают способностью изображать действительность. В основе же музыки и архитектуры лежит иной принцип — «эстетическая упорядоченность (Ordnung)». Этот принцип проявляется и в иных, разнообразнейших формах, бесконечно расширяя число искусств, ибо он начинает действовать в любых обстоятельствах, вызывающих у человека неудовлетворенность уродством и пошлостью его жизни и стремление убежать от «страшной борьбы за существование». Поэтому «искусства эстетической упорядоченности» играют значительно бóльшую роль в человеческой жизни, чем «искусства эстетической видимости», — ведь «эстетическая упорядоченность пронизывает всю нашу жизнь. Куда бы ни пришел человек, он сразу же начинает вносить в нее эстетический порядок… В этом смысле нет человека, который не был бы художником». «Эстетические упорядоченности нам необходимы не в меньшей степени, чем повседневный хлеб. Можно себе представить человеческую жизнь без скульптуры, без живописи, без литературы, ко жизнь без эстетических упорядоченностей — это скотская жизнь».
Таким образом, сфера действия «искусств эстетической упорядоченности» — от Кельнского собора до этикетки на школьной тетради, и даже в том, как хозяйка намазывает масло на кусок хлеба, сказывается обычно стремление к эстетической упорядоченности, так же, как в уборке и наведении порядка в комнате, на письменном столе и т. п. (163, 51 – 57). Отсюда и вытекает заключительный вывод автора: истинное освобождение человека от драматически сложной борьбы за существование дает не религия, не христианство и не буддизм, а только «религия красоты» (там же, 96).
То, что в конце XIX в. выражалось в типичной для того времени метафорической форме религиозно окрашенной социальной утопии (напоминающей эстетические концепции Льва Толстого или теоретиков символизма), в середине XX в. приобрело сухой, деловой и строгий характер техницистской теории. Исходная позиция Франкастеля — «не может быть никакого противопоставления Искусства и Техники», поскольку искусство само является родом технической деятельности (349, 234); поэтому нет никаких существенных различий между всеми разновидностями пластических искусств — изобразительными и неизобразительными, станковыми и промышленными, так как все они способны создавать «пластические объекты», обладающие художественной ценностью (там же, 107 – 109, 141 – 142).
Как видим, метафизический строй мышления привел Франкастеля к полному отказу от какой-либо классификации искусств. 91 Подобный итог был тут столь же логичен, как, например, в эстетике Д. Дьюи, но и столь же для нас неприемлем. Неприемлем он, однако, не только в свете общих теоретических рассуждении, но и с чисто практической точки зрения, ибо интересы художественной практики и художественного образования непреложно требуют выявления закономерных различий и связей между многочисленными формами бытия искусства. Весьма показателен в этом смысле проделанный недавно во Франции опыт построения системы пространственных искусств. В 1968 – 1969 гг. в Высшей Национальной школе декоративных искусств в процессе разработки коллективом преподавателей и ученых программы перестройки образования была сформулирована оригинальная концепция, представленная в следующей интересной схеме, названной авторами «Схема локализации видов деятельности, связанных с процессом формообразования в современном потребительском обществе» (23, 41) (табл. 4).
Эта концепция интересна прежде всего тем, что она решительно отвергает иерархическое представление о «высших» и «низших» искусствах, не теряя при этом точного понимания существенных отличий, с одной стороны, между изобразительным и неизобразительным способами художественного формообразования (горизонтальная ось схемы), а с другой — между искусствами «чистыми» и «утилитарными» (вертикальная ось). К сожалению, это построение охватывает сферу художественной культуры однобоко — лишь область пространственных искусств (остается удивляться, как «залетели» сюда кино и телевидение); но нужно иметь в виду, что оно вообще было нужно лишь постольку, поскольку помогало решить практические проблемы перестройки художественного образования дизайнеров.
Сильные стороны данной концепции связаны с тем, что ее авторы сделали попытку выйти за пределы традиционных функциональных дихотомий и осуществить структурный анализ всего мира пространственных искусств. На этом пути они не были одиноки. Еще с начала XIX в. многие теоретики, разочарованные в спекулятивном способе конструирования системы искусств и не находившие полноценной альтернативы ни в психологическом, ни в функциональном подходах, отправлялись на поиски иного пути решения проблемы, который лежал бы между Сциллой абстрактного теоретизирования и Харибдой описательного эмпиризма. Таким путем оказывался двухкоординатный структурный анализ взаимоотношений между искусствами, первые подходы к которому уже делались, как мы видели, рядом немецких теоретиков в конце XVIII в.
92 Табл. 4
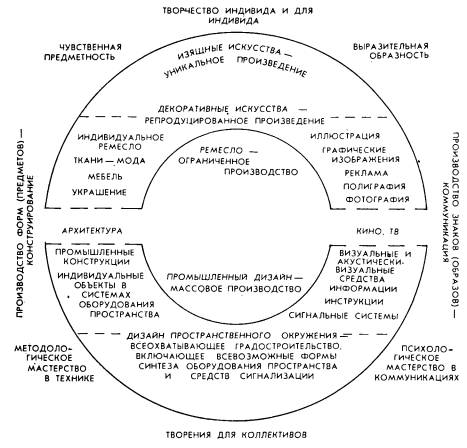
4. СТРУКТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
ОТ Л. ЯКОБА К Э. СУРИО
В 1813 г. в Санкт-Петербурге Главным управлением училищ императорской Академии наук было издано сочинение коллежского советника и кавалера Л. Г. Якоба «Начертание эстетики, для гимназии Российской империи». Эта книга до последнего 93 времени была забыта и игнорировалась даже специалистами — она не упоминается, например, в монографии Ю. Манна «Русская философская эстетика». «Открытие» этого интересного теоретика — одна из заслуг П. Соболева (см. 409, 38 – 39 и 78 – 79). Нас книга привлекает своей морфологической проблематикой. Ибо впервые в XIX в. мы встречаем здесь такой подход к классификации искусств, который на Западе завоюет признание лишь во второй половине XIX и первой половине XX в.
«Начертание эстетики» распадается на три части: первая — «О всеобщих началах эстетических суждений», вторая — «Об эстетической природе» и третья — «Об эстетических искусствах». Эта часть начинается с краткого указания на деление искусств (термин берется в традиционном по тому времени широком смысле) на «механические» и «свободные», а также на «приятные, полезные и изящные». Последние Якоб и предлагает именовать «эстетическими искусствами» (104, 53). Их классификация основана на том, что «эстетическое искусство может частью производить прекрасные вещи, частью прекрасные представления вещей». Соответственно следует различать искусства «вещественные» и «символические». «Вещественные» искусства обращаются либо к зрению, либо к слуху и охватывают, с одной стороны, музыку, а с другой — «1) изящную архитектуру, 2) изящное садоводство, 3) искусство потешных огней, 4) искусство одеяний и мебелей». «Символические» искусства делятся по тому же признаку на «1) ваяние, 2) рисование и живопись, 3) мимику и искусство телодвижений», поскольку эти искусства употребляют «знаки для взора», и на «употребляющие удобослышимые знаки» — красноречие и стихотворство (или поэзию). Затем выделяются «сложные и смешанные» искусства — «1) музыкальное искусство, в котором соединяется музыка и искусство телодвижений и мимика; 2) театральное искусство, в котором стекаются все почти изящные искусства…» (там же, 61 – 63).
Смысл деления искусств на «вещественные» и «символические» состоит, как мы видим, в том, что в одном случае художественное произведение предстает в виде некоей материальной конструкции, не имеющей подобия в реальном мире, — сегодня мы называем такой способ творчества неизобразительным, а во втором случае речь идет об искусствах, изображающих мир, создающих «символы» (т. е. образы) реальных вещей и явлений. Если мы для наглядности представим выстроенную Якобом систему искусств в виде таблицы, использовав при этом современную терминологию вместо некоторых устаревших терминов Якоба, она примет следующий вид:
94 Табл. 5
|
|
Искусства неизобразительные простые |
Искусства смешанные или сложные |
Искусства изобразительные простые |
|
Искусства, обращенные к зрителю |
Архитектура Садоводство Фейерверк Прикладное искусство |
Синтез архитектуры и изобразительных искусств. Музыкально-хореографическое и музыкально-драматическое искусство. Театральное искусство |
Скульптура Живопись Графика Мимика |
|
Искусства, обращенные к слуху |
Музыка |
Поэзия Красноречие |
Эта таблица позволяет удостовериться не только в том, что классификация Якоба вполне оригинальна в сравнении со всеми другими, созданными в конце XVIII – начале XIX в.42*, но и в том, что Якоб показал недостаточность любой линейной классификации искусств и плодотворность двухмерного построения системы искусств.
Морфологический анализ завершается в книге Якоба главой «Сравнение изящных искусств из разных точек зрения». И здесь ход его рассуждений оказывается весьма оригинальным. Правда, начинается глава банальным тезисом: «Между всеми изящными искусствами поэзия занимает первое место», и далее лестница искусств строится таким образом: красноречие, живопись, ваяние и зодчество, садоводство и музыка, а театральное искусство с мимикой «есть токмо вспомогательное искусство» и «потому не может сравниться ни с одним из творческих искусств»; еще ниже стоят искусство потешных огней и танцевальное искусство, как наиболее отдаленные от нравственности и занятий разума. Однако тут выясняется, что виды искусства могут быть сопоставлены и в другой плоскости — по их способности «к изложению изящного», и тогда возникает другая лестница: на верхних ее ступеньках оказываются живопись, ваяние и музыка, затем зодчество и садоводство, а «словесным искусствам надлежит тут стоять напоследок, ибо их знаки не так изящны и представления, в воображении ими возбуждаемые, 95 уступают всегда в живости чувственным» (там же, 115 – 120).
В высшей степени интересно, что Якоб сополагает оба эти иерархических ряда, приходя к уникальному в истории эстетики и, по существу, диалектическому выводу: поэзия, как и каждое искусство, обладает превосходством только в каком-то одном отношении, а в другом она слабее, беднее, ограниченнее остальных искусств; но это означает, что все искусства в принципе равноправны и равноценны.
Нельзя не отметить, что эта мысль была высказана в истории русской эстетической мысли еще до Якоба — в 1806 г. на страницах издававшегося Иваном Мартыновым журнала «Лицей». Здесь, в разделе «Эстетика», была опубликована очень интересная статья «Язык и свойства искусств»43*. Ее автор — очевидно, сам И. Мартынов — исходил из истинно диалектического представления о единстве ограниченности и преимуществ у каждого вида искусства, а отсюда — приходил к выводу об их принципиальном равноправии и о необходимости выяснения неповторимой специфики каждого (17, т. 1, 42 – 44). Эту задачу он решает, сопоставляя поэзию и живопись и делая это достаточно оригинально по сравнению с Лессингом (там же, т. 2, 25 сл.; создается впечатление, что «Лаокоон» был ему вообще неизвестен). Что же касается классификации искусств, то свой подход к этой проблеме он излагает в самой общей форме, опираясь, очевидно, на западноевропейскую эстетику XVIII в.: «Природа без сомнения каждому искусству назначила непреложную область; ни одно из них не может завладеть тем, что принадлежит каждому из них в отдельности; непременные границы определяют вещественное их наследие; сии границы естественно находятся в разности органов, к коим каждое искусство принуждено прибегать; в разности относительных орудий, ими употребляемых, и знаков, язык их составляющих» (там же, т. 1, 39).
К сожалению, в начале XIX в., особенно в России, морфологические идеи Мартынова или Якоба некому было оценить по достоинству, и никакой преемственности в разработке этого раздела эстетической теории у нас не сложилось.
Следующий шаг на пути структурного анализа системы искусств был сделан почти полвека спустя немецким ученым Адольфом Цейзингом, который принципиально отверг всякие однолинейные классификации видов искусства, и в частности 96 гегелевскую, зольгеровскую, фишеровскую. Своеобразие каждого вида искусства и его место в системе искусств определяется, по Цейзингу, не каким-либо одним, а двумя перекрещивающимися параметрами. Соответственно построение системы искусств может быть передано в двухкоординатной таблице:
Табл. 6
|
Архитектура |
Инструментальная музыка |
Искусство танца |
|
Скульптура |
Пение |
Пантомима |
|
Живопись |
Поэзия |
Сценическое искусство |
На каких же основаниях оказалась построенной эта таблица Цейзинга?
Он исходил из гегелевой концепции двусторонности искусства, соединяющего материальную форму с духовным содержанием, однако взаимоотношения конкретных искусств должны определяться, по его убеждению, не чисто количественным нарастанием (или убыванием) духовности и материальности, а качественными различиями как в характере содержания, так и в характере формы. Последняя может выступать в трех ипостасях — пластической, звуковой и мимической; содержание же способно быть либо «макрокосмическим», т. е. создающим «образ мира» и передающим «космическую идею» непосредственно, без помощи индивидуализации, либо «микрокосмическим», т. е. «индивидуализирующим» создаваемые им образы, либо, наконец, объединяющим оба способа познания божественной сути бытия — «историческим». К первому типу относятся архитектура, инструментальная музыка и танец; ко второму — скульптура, вокальная музыка и пантомима; к третьему, синтетическому — живопись, поэзия и сценическое искусство (168, 473 – 485).
Совершенно очевидно, что не только терминология, но и весь ход рассуждений Цейзинга полностью определяются традициями взрастившей его идеалистической философии. Вместе с тем результаты его размышлений оказались весьма отличными от тех, какие получали классики немецкой философско-эстетической мысли. Такой двойственности не следует удивляться, потому что она была характерной не Только для данного 97 раздела эстетических воззрений Цейзинга — известно, например, что в историю науки он вошел совсем не как эпигон эстетики Гегеля, а как гербартианец, провозгласивший идею «золотого сечения» в качестве ключа к разрешению проблем эстетики (см. 380, 540), как своего рода посредник между гегелевской «эстетикой сверху» и фехнеровской «эстетикой снизу» (см. 430, 306). Такая противоречиво-переходная позиция не была в середине века редкостью, но во всяком случае в области морфологии искусства она помогла Цейзингу вырваться из узких рамок тех операций с перестановками пяти искусств на лестнице эстетических ценностей, которые осуществлялись Шеллингом, Шопенгауэром, Гегелем и многочисленными их последователями. Разумеется, взятые сами по себе, оба направления деления искусств, которые мы находим в таблице Цейзинга, ничего принципиально нового в себе не заключали; новой была тут скорее терминология, сами же эти плоскости дифференциации искусств уже были — и не раз! — зафиксированы в эстетике XVIII в. Новым в построенной Цейзингом системе явилось именно то, что она была системой, т. е. что ее автор скрестил два принципа членения искусства и обосновал теоретически необходимость такого скрещения двухмерной, содержательно-формальной структурой искусства.
Правда, конкретные итоги такого подхода к решению морфологической задачи были еще достаточно ограниченными. С одной стороны, таблица Цейзинга не только не охватывала все известные виды искусства, но была намного беднее, чем, например, схемы Бендавида или Круга; с другой стороны, Цейзинг допустил ошибку, от которой предостерегал все тот же Круг и которой избег Якоб, — он поставил в один ряд «простое» искусство скульптуры, составное, двухэлементное искусство пения и синкретическое (или синтетическое) искусство пантомимы; точно так же рядом оказывались у него сложное, многоэлементное сценическое искусство — и поэзия, и живопись. Это произошло, видимо, потому, что Цейзингу нужно было заполнить все девять клеток априорно составленной им таблицы44*. Но все эти недостатки и просчеты не должны помешать нам увидеть и по достоинству оценить плодотворность самого подхода Цейзинга к морфологическому исследованию искусства, ибо только в сопряжении разных плоскостей классификации лежал ключ к постижению законов системных отношений, связывающих и разделяющих виды искусства.
98 Неудивительно, что многие теоретики оценили должным образом путь, открытый Цейзингом, а некоторые приходили к аналогичным выводам самостоятельно. Если придерживаться хронологии, то следующим, насколько нам известно, встал на этот путь М. Шаслер, обнародовавший в 1872 г. результаты своих размышлений на данную тему. Деление искусств он основал «на простой противоположности покоя и движения», но при этом образовались два ряда искусств, которые — как выяснилось при ближайшем рассмотрении — попарно друг другу соответствуют: живопись — литературе, архитектура — музыке, скульптура же, не имевшая в классических построениях парного ей динамического искусства, нашла его в танце. «Если мы вместе со Шлегелем назовем архитектуру застывшей музыкой, то с еще большим основанием мы могли бы назвать скульптуру застывшим танцем, или танец — движущейся пластикой», — заметил Шаслер (156, т. I, XXV – XXVI).
Десять лет спустя он опубликовал монографию «Система искусств, выведенная из нового принципа членения, который коренится в самой сущности искусства», вышедшую в 1885 г. вторым изданием. После книги Круга это была первая монография, специально посвященная данной теме. Здесь подтверждалось, что существует всего шесть подлинных искусств, поскольку только в них осуществляется «конкретное единство чувственного и духовного, взаимопроникновение и слияние идеального содержания и реального формообразования» (138, 12 – 13. Что касается прикладных искусств, то тут, по мнению Шаслера, понятие «искусство» употребляется в другом смысле, и потому в сферу художественного творчества они не входят). Эти шесть искусств распадаются на две триады, поскольку в одной творчество выражается в сопоставлении одновременно существующих форм, а в другой — в сопоставлении сменяющих друг друга элементов; внутри же обеих триад обнаруживается «ступенчатое изменение соотношения идеи и воплощающего ее материала» (там же, 59), что порождает — как и у Гегеля — иерархическое соотнесение видов искусства, только у Шаслера возникает не одна пятиступенная лестница, а две трехступенчатые.
Свою идею теоретик стремился передать в самом начертании построенной им таблицы (там же, 68).
Табл. 7
|
1. Архитектура 2. Скульптура 3. Живопись |
4. Музыка 5. Мимика 6. Поэзия |
99 Дальнейший анализ ведет к выявлению жанрово-родовых уровней морфологии искусства, а также к расчленению временны́х искусств на «продуцирующие» и «репродуцирующие» (или «вспомогательные») (там же, 124). В результате возникает такая, более детально разработанная схема:
Табл. 8
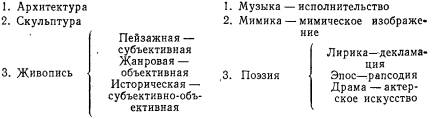
Эта схема вызывает, естественно, целый ряд недоумений и возражений45*; нельзя, однако, не оценить само стремление теоретика выйти за пределы классификации одних только видов искусства и совместить — как это пытались сделать некоторые теоретики в XVIII в., Шеллинг и Гегель — все уровни дифференциации художественно-творческой деятельности.
В конце XIX – начале XX столетия подобный подход к построению системы искусств становился все более популярным — мы встречаем варианты таблиц, подобные тем, что строили Цейзинг и Шаслер, в эстетических трактатах М. Пило (154), Ю. Мильталера (146)46*, О. Крака (71), М. Дессуара (115)47*, С. Колвина (22), И. Фолькельта (166)48*, но существенного продвижения в этой области все-таки не происходило.
100 Такое движение обнаружилось несколько позднее — прежде всего в ряде статей, опубликованных в организованном в 1906 г. Дессуаром первом периодическом издании по вопросам эстетики — «Журнале по эстетике и всеобщему искусствознанию».
В 1907 г. здесь была опубликована статья К. Визе «О взаимосвязи игры, искусства и языка», где предлагалась, в частности, классификационная схема, развивавшая уже известные нам идеи (45, 178).
Табл. 9

По сути дела, эта таблица заключала в себе ту же двухмерность систематизации искусств, что и рассмотренные нами выше, только построена она не слишком удачно. Более отчетливо таблица передавала бы концепцию автора, имей она такой вид:
Табл. 10
|
|
Временны́е искусства — словесные |
Пространственные искусства — изобразительные |
Пространственно-временны́е искусства — искусства движения |
|
|
трехмерные |
двухмерные |
|||
|
Пробуждение определенных представлений |
Литература |
Скульптура |
Живопись и рисунок |
Пантомима |
|
Пробуждение неопределенных представлений |
Музыка |
Архитектура и художественные ремесла |
Декоративное искусство |
Танец |
101 Необходимо отметить новые элементы, которые появились в данной морфологической конструкции. Это, во-первых, расчленение единой у Шаслера, Мильталера и Дессуара рубрики «искусства движения» или «временны́е» на две — собственно «временны́е» и «пространственно-временны́е»; так возвращался Визе к делению Якоба и Цейзинга, но более точно его формулировал. Во-вторых, в данной таблице мы встречаемся с объединением прикладных искусств и архитектуры как единого в основе своей способа художественного творчества. В-третьих, Визе выделил декоративное искусство как дополнительное по отношению к изобразительно-плоскостной живописи и графике (аналогичное намерение было уже у Мильталера, который рядом с архитектурой поставил орнаментику).
В 1921 г. в этом же журнале было опубликовано второе выступление на интересующую нас тему — статья испанского теоретика Х. де Уриес-и-Асара «О системе искусств». Полемизируя по ряду пунктов с Дессуаром и поддерживая идеи Визе, он построил таблицу, в которой попытался сочетать видовое и родовое деления искусств (42, 458).
Табл. 11

102 В этой таблице отражено, как мы видим, совмещение четырех принципов классификации, которые попарно связаны между собой, но не вполне тождественны. По сути же дела оказывается, что определяющими системную структуру мира искусств являются все-таки два направления дифференциации способов творчества, одно из которых характеризует способы материального существования искусства, а другое — его изобразительно-выразительные возможности.
Спустя еще два года в том же журнале появилась новая статья «О системе искусств» (18, 258 – 261). Ее автор — Л. Адлер — разделил искусства прежде всего на «непосредственные» и «опосредованные», иначе именуемые «мусическими» и «изобразительными». Это — мимика, музыка, литература и архитектура, скульптура, живопись. Материал первых — «естественный», принадлежащий самому человеку, вторые находят свои материалы в природе. Потому водном случае произведения искусства оказываются неотделимыми от их создателя, а в другом они ведут самостоятельное существование. Так возникает «первая система»:
Табл. 12
|
Опосредованные изобразительные искусства |
Непосредственные мусические искусства |
|
Архитектура Скульптура Живопись |
Музыка Мимика Литература |
Таблица показывает, вместе с тем, и горизонтальные соответствия искусств: пара «музыка — архитектура» — это искусства «абстрактные или субъективные», а две другие — «конкретные или объективные».
Затем, подключая последовательно все новые и новые параметры, в том числе очень важную историческую координату, Адлер строит все более сложные схемы, пока не приходит к результирующей (табл. 13).
Отпугивающая сложность этой схемы обусловлена тем, что теоретик захотел в одной таблице зафиксировать все возможные плоскости членения искусств, включая моменты историко-генетические. Если же оценивать саму концепцию, а не ее графическое изображение, ее нужно квалифицировать как очень серьезную, глубокую и прогрессивную — не только в собственно 103 морфологическом аспекте, но и в методологическом отношении — в стремлении соединить воедино структурный подход с подходом историческим. Это было крайней редкостью в буржуазной эстетике после Гегеля.
Табл. 13
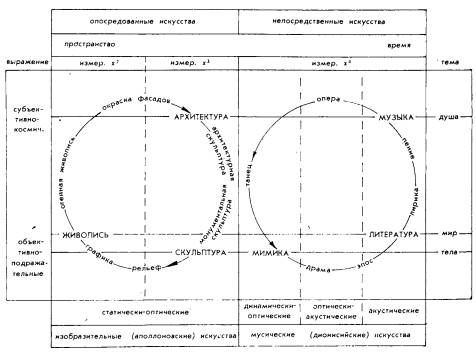
Спустя четверть века структурный подход к изучению взаимоотношения видов искусства получил поддержку со стороны двух крупнейших представителей буржуазной эстетики — Николая Гартмана и Этьена Сурио.
Первый не рассматривал эту проблему специально, но лишь в связи с решением своей главной задачи — анализом многослойного строения произведения искусства. Очевидные различия в характере этих слоев и в их взаимоотношениях заставляли поставить вопрос о закономерности таких различий. Так постулирует Гартман наличие пространственных и временны́х искусств (54, 30), а затем — наличие искусств «изобразительных» (пластика, живопись и поэзия) и «неизобразительных» (музыка, архитектура, орнамент) (там же, 141).
104 В отличие от своего немецкого коллеги, французский ученый обратился к морфологической проблематике специально, посвятив этому монографию «Взаимосвязь видов искусства». Результаты своего исследования Сурио зафиксировал в таблице (40, 97), которая выглядит несколько неожиданно на фоне конструировавшихся прежде, от Цейзинга до Адлера:
Табл. 14

Разберемся в предлагаемой схеме.
Внешней ее особенностью, которая и придает ей совершенно необычный характер, является секториально-кольцевое построение, 105 отличающее ее от всех предшествовавших ортогональных таблиц. Не будем, однако, переоценивать оригинальность этого графического приема, т. к. по сути дела он фиксирует ту же самую методологию морфологического анализа — двухмерность, двухкоординатный принцип моделирования системы искусств49*. По-видимому, Сурио избрал необычный графический прием не ради его оригинальности, а для того, чтобы сделать наглядной ту особенность системного анализа мира искусства, которая не выявлялась таблицами ортогонального характера, — исчерпывающий охват морфологическим исследованием всех возможных форм существования художественной деятельности.
Не будем переоценивать и значения той необычной терминологии, которую Сурио избрал для описания принципов деления своего круга на кольца и на сектора: один из таких терминов — «чувственные qualia», что означает: специфические чувственно-воспринимаемые качественные определенности материала, с которыми работает художник (линии, объемы, звуки и пр.); другие термины того же рода — «первичная» и «вторичная форма», «искусства первого уровня» и «искусства второго уровня». Нетрудно установить, что за этими математическими понятиями и латинскими словами стоят сравнительно простые и не столь уж оригинальные представления — представление об искусствах, изображающих мир и неизобразительных50*, а с другой стороны — представление о пространственных, временны́х и пространственно-временны́х искусствах, которые лишь даны у Сурио в более подробном членении (к первым относятся qualia 1, 2, 3, ко вторым — 6 и 7, к третьим — 4 и 5).
Таким образом, в новом облачении перед читателем предстает хорошо уже известная ему схема, и крайне сомнительно, улучшило ли ее то, что Сурио свел все qualia на один морфологический уровень, тогда как их деление должно быть по крайней мере двухступенчатым. В результате просодия или тональный рисунок стали такими же видами искусства, как живопись или литература, и на тех же правах самостоятельных видов вошли в систему искусств «искусство освещения» (оказавшееся на поверку 106 использованием света в театре и при оформлении выставок) и — конечно же! — «чистая живопись», т. е. абстракционизм (который, как к нему ни относись, все-таки видом искусства провозглашен быть не может).
Приходится заключить — мы не даем сейчас всесторонней оценки данной книги, в которой есть много интересного, умного и тонкого, а характеризуем лишь изложенную в ней концепцию системы искусств, — что в разработке двухмерной морфологической модели мира искусств Сурио пошел скорее назад, нежели вперед, по сравнению с некоторыми своими предшественниками и современниками — даже с Н. Гартманом. Мы не можем не согласиться с основательной и в целом справедливой критикой этой концепции, которую дал Г. Морпурго-Тальябуэ (431, 399 – 400, 405 – 406), и с общим выводом историка: «что бы ни говорил Сурио, несмотря на трансцендентальный аспект его эстетической концепции, равно как и ее эмпирический аспект, она не выходит за пределы формалистической эстетики» (там же, 406)51*. Мы добавили бы только, что опыт Сурио лишний раз подтвердил, сколь ограниченны возможности структурного подхода к анализу строения мира искусств, если он отъединен от подхода исторического. К сожалению, устремления некоторых его предшественников к соединению этих двух аспектов морфологического исследования искусства не были подхвачены и развиты Этьеном Сурио.
Между тем изучение развития эстетической мысли на протяжении последнего столетия показывает, сколь существенными были попытки повернуть морфологический анализ искусства в историческую плоскость, даже ценой подмены структурного подхода историческим.
5. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
ОТ И. ТЭНА К В. ВУНДТУ И ОТ Ф. НИЦШЕ
К О. ШПЕНГЛЕРУ
Историзм — одно из великих завоеваний научной мысли XIX в. — не мог не проявиться и в интересующей нас области эстетической науки, особенно после великого примера, поданного здесь Гегелем. Этого не произошло, однако, в тех масштабах, 107 на которые, рассуждая априорно, можно было бы рассчитывать. Объясняется это, с одной стороны, тем, что, как хорошо известно, во второй половине XIX в. в буржуазной философии наметился резкий поворот от Гегеля к Канту, или к Конту, или к Шопенгауэру, и объективно-рационалистический историзм казался «скомпрометированным» — в частности тем, что наследником этой стороны гегелевской философии стал марксизм. С другой стороны, в той мере, в какой историзм в области литературоведческо-искусствоведческой все же сохранял свой научный авторитет, он отрывался от структурно-морфологического анализа искусства, чурался всяких «схем» и обобщений, выходящих за рамки эмпирического материала или частных, специфичных для отдельных видов искусства, закономерностей. Так складывался и углублялся разрыв диахронического и синхронического разрезов анализа, приводивший к разработке теории вне истории и истории вне теории.
Показательнейший пример — позиция Р. Циммермана, которого Б. Бозанкет называет «чистым формалистом в эстетике» и который критиковал Гегеля именно за совмещение логического и исторического подходов к классификации искусств; по его мнению, история должна быть так же решительно выброшена из эстетики, как «история» с ньютоновым яблоком — из астрономии (см. 423, 349).
Тем большего внимания заслуживают работы ученых, двигавшихся в XIX в. по пути, открытому морфологии искусства Броуном, Гердером, Гегелем. Одним из первых должно быть названо здесь имя Ипполита-Тэна.
Тэн сохранил в своей «Философии искусства» «классический набор» из пяти «великих искусств», но сопоставил их не в традиционном иерархически-ценностном плане, а в плане их соотношения с действительностью. И тогда оказалось, что три из них являются «в большей или меньшей степени подражательными», а музыка и архитектура — неподражательными, основанными на математических отношениях (96, 10 и 25 – 26). На этом классификационная работа теоретика, собственно, и закончилась, ибо сама по себе она его не слишком интересовала. По складу мышления и направленности интересов Тэн был историком, а не теоретиком, и морфологические проблемы волновали его лишь постольку, поскольку они могли помочь понять закономерности исторического развития искусства. Вот почему в эстетике Гегеля он сумел по достоинству оценить именно учение о неравномерности развития искусств и развил его, исходя из своей концепции социальной детерминации историко-художественного процесса.
108 Эту сторону концепции Тэна, равно как и его последователей, мы рассмотрим подробнее, когда будем специально исследовать неравномерное развитие различных форм художественной деятельности человека (этому мы собираемся посвятить следующую книгу). Пока же отметим, что, наряду с развитием обоснованных Гегелем принципов подлинного историзма, пусть и в ограниченных позитивизмом рамках, в философско-эстетической мысли второй половины XIX в. началось и другое движение, которое мы назвали бы мнимым историзмом. В интересующей нас области оно проявилось весьма рельефно уже в эстетике Ницше.
Отталкиваясь от эстетической теории Шопенгауэра, Ницше ушел от «музыкального монизма» своего учителя в сторону своеобразного дуализма: в основе художественной деятельности лежат, по его убеждению, два начала, названные им «аполлоновским» и «дионисийским» и олицетворяющие изобразительно-пластическое творчество (или, вернее, принцип творчества) и творчество музыкально-экспрессивное (82, 134 – 135). Вместе с тем Ницше пытался, подобно Гегелю, совместить философско-теоретическое («метафизическое», как он сам определял) обоснование своей концепции с историческим, обратившись для этого к анализу эллинской художественной культуры. Однако историзм этот оказался поистине мнимым: хотя Ницше создает видимость исследования происхождения трагедии «из духа музыки», ее дальнейшей деградации под натиском «сократической» культуры, ориентированной на рациональное познание мира, затем возникновения в эпоху Возрождения оперы как неудачной попытки возродить принципы античной трагедии и т. д., подлинная основа этого кажущегося исторического движения остается неизменной, незыблемой — ведь аполлоновское и дионисийское начала, как выясняется, это «вечные истины»52*.
Нельзя, вместе с тем, не отметить, что за покровом всех этих, скорее поэтических, чем научных, формул скрывалось интересное прозрение — прозрение изначальности двух истоков, двух корней, из которых выросла художественная культура: за тем, что Ницше называет «дионисийским», реально стоит «мусическое» искусство древности с его музыкальным стержнем и «выразительной», непосредственно раскрывающей духовный мир человека, содержательной основой, а за «аполлоновским» — искусство пластическое, изобразительное, создающее отчужденные 109 от человека образы, воплощающее их в чужеродных ему природных материалах, обращенное к «видимости» и выступающее как своего рода «видение», иллюзорное удвоение мира. Мы имеем здесь, таким образом, дело с одним из тех случаев, о которых писал В. И. Ленин, говоря о произрастании идеализма из преувеличенного, раздутого и мистифицированного преображения реальных «черточек познания» (451, т. 29, 322).
Нетрудно понять, почему исторический подход к искусству оборачивался в первую очередь подходом генетическим. XIX в. предоставлял для этого все более обширный и разнообразный фактический материал — литературоведческий и искусствоведческий, затем этнографический и лингвистический, затем археологический и спелеологический. Так укреплялись и возможность, и потребность пересмотра концепции Гегеля о происхождении и последовательности возникновения различных видов и родов искусства.
Уже в середине XIX в. гегелево представление о появлении вначале эпоса, потом лирики и потом драмы стало предметом острой полемики. Его противники утверждали, что история словесного творчества началась с лирики, а не с эпики53*. Обеим этим точкам зрения историко-этнографическая школа противопоставила тезис — впервые, как мы помним, мысль эта была высказана Д. Броуном — об изначальности синкретической формы творчества, в которой сплетались в одно «хоровое» целое и разные роды поэзии, и разные виды искусства (поэзия, музыка, танец, пантомима). «Подобно тому, — писал, например, Л. Уланд в 1866 г., — как всякое развитие в природе начинается с ростка, так и юная поэзия появляется сперва не только в объединении с родственными ей искусствами пения и пляски, но и в ее собственной области основные поэтические формы — лирико-дидактическая, эпическая, драматическая сосуществуют без более строгого разграничения и только постепенно развивают присущие им возможности (Ansätze), смотря по предмету и потребностям, в самостоятельные поэтические жанры» (цит. по 188, 628). В дальнейшем эта точка зрения легла в основу «Поэтики» В. Шерера (360) и одновременно была развита наиболее глубоко и последовательно Веселовским в его университетских курсах 1881 – 1886 гг. и в статье «Из введения в историческую поэтику» (1893 г. См. 188).
Одновременно с обсуждением вопроса, какой из родов словесного искусства старше, в эстетике велись дебаты о сравнительном 110 старшинстве разных видов искусства. Полемизируя с Гегелем, который считал древнейшим искусством архитектуру; А. Потебня утверждал: «Поэзия предшествует всем остальным (искусствам. — М. К.) уже по одному тому, что первое слово есть поэзия… Прежде дается человеку власть над членораздельностью и словом, как материалом поэзии, чем умение справиться со своим голосом, а тем более, чем та степень технического развития, которая предполагается пластическими искусствами. Отсюда, между прочим, можно объяснить, почему гомерические песни многим древнее времени процветания ваяния и зодчества в Греции, почему вообще совершеннейшие произведения народной поэзии относятся к таким временам, когда люди не в состоянии были бы ни понять, ни произвести что-либо достойное имени картины или статуи» (285, 162 – 163).
Если бы автор этого категорического суждения узнал об открытии палеолитических пещерных росписей, он, видимо, присоединился бы к тем ученым, которые сказали «не может быть!» и решили, что их мистифицируют. Однако пластические искусства и в самом деле были более древними, чем эпос гомеровского типа, что отнюдь не предполагало, как думал Потебня, «уже обособление и выделение из массы личности художника» и решительно опровергало его предположение, будто «в начале слово и поэзия сосредоточивает в себе всю эстетическую жизнь народа» (там же). Реальная картина зарождения и первоначального развития художественной деятельности была более сложной.
Эту же концепцию во Франции обосновывал социально-психологически Г. Тард. Поэзия, утверждал он, древнейшее искусство, из коего произошли все другие, даже музыка и архитектура, ибо «первое размерное (ритмическое) слово должно было предшествовать первой песне и первому правильному и симметричному построению» (95, 102). Факты показывали, однако, что генезис художественной культуры имел иной облик — примерно такой, каким, в отличие от Потебни и Тарда, реконструировал его Веселовский: «В начале: песня — сказ — действо — пляска» (188, 328).
Смысл морфологической концепции Веселовского трудно изъяснить более кратко и точно, чем это сделала в свое время О. Фрейденберг: «Основное значение в построении Веселовского имеет его учение о синкретизме, т. е. о том смешанном состоянии, в котором первоначально находились зародыши будущих литературных жанров: обрядовое действо, неотделимое от пляски и пения — вот откуда вышли все жанры. Итак, поэтические роды имеют свою праисторию, в которой еще отсутствует 111 между ними различие. Сперва поэзия поется и пляшется; это период, когда эпос не отделим от лирики, лирика от драмы… “затем” из синкретического обряда выделяются лиро-эпические элементы, распадающиеся далее на эпос, а там и на лирику… Наконец, драма — это не самая молодая, а, напротив, наиболее древняя часть, выделившаяся из синкретического прадейства на почве культа. Выросшая из народных игр при годовых праздниках, драма получает художественный генезис в момент этого выхода из культа. Корифей обрядового хора расчленяется тогда на актеров, хор обособляется, диалог между актерами выступает на первое место» (321, 16 – 17).
«Эта концепция Веселовского, — писал академик В. Жирмунский, — является в подлинном смысле историческим открытием, хотя отдельные ее элементы уже были подготовлены предшествующим развитием мировой науки» (188, 27). И действительно, дальнейшее развитие научной мысли подтвердило правильность всех основных положений этой концепции, и мы будем в дальнейшем их не раз вспоминать по ходу нашего анализа54*. Сейчас скажем лишь, что гениальный план его исторической поэтики остался, к сожалению, лишь наброском первых ее глав, и тем менее возможным оказывался для Веселовского выход за пределы поэтики в общеэстетическую проблематику. Мы можем, однако, рассматривать как продолжение дела ученого не только труды его прямых учеников55*, но и работы его зарубежных коллег. Мы имеем в виду в первую очередь Ф. Брюнетьера.
112 В своем знаменитом исследовании «Эволюция жанров в истории литературы» Брюнетьер выделил следующие вопросы, на которые необходимо было дать четкие ответы. Прежде всего — это вопрос о самом существовании жанров: «Быть может, жанры являются только словами, категориями, выдуманными критикой для собственного облегчения? Или, напротив, жанры действительно существуют в природе и в истории? обусловлены ли они ею? и живут ли они, наконец, своей собственной жизнью, независимой не только от нужд критики, но даже от капризов читателей и художников?» Если же жанры существуют, то возникает второй вопрос — «как они вычленяются из первоначального состояния неопределенности, как происходит их дифференциация?» Третий вопрос — «как фиксируются жанры», приобретая на какой-то исторический отрезок времени вполне самостоятельное существование (что и позволяло некогда считать, будто они разделены непроходимыми границами и барьерами). Четвертый вопрос — о силах, модифицирующих жанры в их историческом развитии, и пятый — о трансформации жанров, т. е. о том, есть ли общие законы эволюции жанров, или каждый жанр развивается по своим собственным закономерностям (341, 11 – 13). При этом руководящая и вдохновляющая идея Брюнетьера — аналогия эволюции жанров литературы и эволюции биологических видов, открытой Дарвином и Геккелем56*.
Брюнетьер приходит к выводу, что многообразие художественных жанров объясняется тремя причинами: 1) разнообразием средств, свойственных каждому искусству, 2) разнообразием предметов разных искусств, 3) разнообразием духовных типов (families d’ésprit), определяющих характер эстетических потребностей и вкусов (там же, 19 – 20). Если мы сравним это деление с тем, которое было сформулировано за двадцать пять веков до этого Аристотелем, то убедимся, что в истории науки новое действительно бывает иногда хорошо забытым старым. Впрочем, это сказано нами не в осуждение французского литературоведа — возрождение аристотелевского подхода к классификации жанров было необходимым актом перехода от классицистической догматики и от романтического волюнтаризма к подлинно научному их исследованию. А поскольку такое исследование могло быть только историческим, постольку главной заслугой Брюнетьера и стала постановка проблемы жанра как проблемы историко-морфологической.
113 Этот путь анализа стал завоевывать признание в буржуазной поэтике XX в. Один из характерных примеров — «Поэтика» Р. Мюллера-Фрейнфельса. Автор положил здесь в основу традиционного деления поэзии на роды «способ передачи» содержания: в эпических произведениях оно «передается в спокойном повествовательном тоне», в лирических передача имеет «более повышенный и оживленный характер» и почти всегда привлекает на помощь музыкальные средства, а драма «представляет мимический диалог». Разумеется, в ряде случаев «реальное художественное творчество смело переходит границы, навязанные ему эстетикой», и образует смешанные формы. В древности «эпос, лирика и драма не отделялись друг от друга, а соединялись посредством музыки и танца в одно целое», которое он называет «мусическим праискусством». На ряде примеров он показывает, что в этом комплексе обнаруживается и мимический, т. е. актерско-изобразительный элемент. Он видит также непосредственную связь этого синкретического праискусства с общественно-практической деятельностью людей (трудом, магией), но дифференциацию отдельных искусств Мюллер-Фрейнфельс пытается объяснить чисто психологически, приходя, естественно, к малоубедительным выводам (273, 117 – 121)57*.
На рубеже XIX и XX вв. генетический аспект морфологии искусства стал освещаться все более глубоко благодаря открытию палеолитического искусства и расширению этнографической эрудиции ученых. Новые факты позволили заглянуть в неведомые прежде дали историко-художественного процесса — в эпоху действительного зарождения искусства. Сочинения Э. Гроссе, К. Бюхера, И. Гирна, А. Гернеса, Г. Кюна и многих других исследователей первобытной художественной культуры показывали, какая дистанция отделяет искусство цивилизованного общества от искусства «диких» народов, которое было крайне близко к искусству первобытному, к мифологическому сознанию, к магическому обряду.
Вполне естественно, что исследователи древнейшей фазы истории художественной культуры стали уделять большое внимание морфологической проблематике. Так, Гроссе предпослал аналитической части своей известной книги «Происхождение искусства» постановку вопроса о «делении искусств»; правда, он 114 оговорил, что не придает ему «никакого особого значения», что вопрос этот имеет для него «чисто практический» характер, однако реальное содержание его труда свидетельствует, что понимание морфологических закономерностей приобрело для автора «Происхождения искусства» большое и принципиальное значение. Гроссе принял классификацию искусств, предложенную Фехнером и сводящуюся к делению искусств на «искусства покоя и движения» или на «пространственные» и «временны́е». Первые включают в себя «искусство украшения» тела человека и его утвари и оружия, как древнейшие разновидности пластических искусств, а затем «свободную пластику», т. е. живопись и скульптуру, «которые не служат декоративным целям в качестве украшений, а имеют самостоятельное значение». Далее, незаметно уточняя классификацию Фехнера, Гроссе выделяет танец как «переход от искусства покоя к искусствам движения» (в полном согласии с морфологическими системами, в которых танец и мимика образовывали самостоятельный ряд «пространственно-временны́х» искусств), а потом характеризует поэзию и музыку как искусства движения в чистом виде (58, 47 – 49). Что касается архитектуры, то это, считает Гроссе, единственное искусство, которого вообще нет у первобытных народов — причиной тому их кочевой образ жизни (там же, 284).
Существенно важным, однако, оказалось для Гроссе не это членение само по себе, а то, как оно должно было «работать» при историческом освещении материала искусства. Ибо тут выяснялось, что, вообще говоря, «по мере культурного развития гегемония переходит от одного искусства к другому» — так подтверждался знаменитый тезис гегелевской философии истории искусства, проведенный и подтвержденный Гроссе на новом материале, но на этом материале и уточненный (там же, 185, 213 – 214, 250 – 251, 254 – 257, 291).
Обращение к морфологической проблематике и ее историко-генетический поворот оказались необходимыми и другому исследователю первобытного искусства — Гирну, только его выводы были несколько отличны от выводов Гроссе. Гирн положил в основу классификации определение искусства как «наиболее действенного средства, благодаря которому особь становится способной перенести на более широкие круги сожителей душевное состояние, подобное тому, которое охватывает ее самое». Потому «простейшей из художественных форм», способной выразить самые «простые» чувства, является «такт-ритм», применяющийся в примитивнейших формах музыки и танца. Здесь «такт-ритм» помогает эмоционально объединить большие массы людей «самым общим и самым простым состоянием душевного 115 волнения, например, торжественным настроением или воинственным пылом». Ту же способность выразить простейшие чувства имеет и пространственный ритм, поэтому «орнамент, это чисто народное искусство, может по своему действию быть уподоблен простым народным танцам и мелодиям» (57, 64 – 68).
Таким образом, «с логической точки зрения» (а Гирн предупреждает, что со строго исторической точки зрения трудно доказательно раскрыть историю возникновения искусств) существует три «первоначальных искусства» — «гимнастический танец (в отличие от “пантомимического”. — М. К.), геометрический орнамент и немелодическая, чисто ритмическая музыка или пение». «Интеллектуальное содержание» у них предельно скудно, но они «в высшей степени способны волновать чувства», потому их можно назвать «чисто лирическими» формами искусства. Они могут передавать «с недосягаемой точностью» «общие и неопределенные настроения как чувство довольства, освобождения от какой-либо тягости, уверенности, могущества и т. д.». Но рядом с ними возникают и драматические формы танца, основанные на пантомиме (чистых «гимнастических танцев» практически нет). Этот изобразительно-мимический элемент помогает конкретизировать выражаемое чувство, придает ему уже некоторую определенность. Вторая, более высокая и сложная форма — «эпическая в широком смысле этого слова», основанная на «подражании природе», т. е. «изображении объективных фактов и вещей» самыми различными способами. Она возникает оттого, что «такт-ритм» становится «недостаточным средством» передачи более сложных душевных состояний, включающих уже известные «интеллектуальные элементы» (там же, 68 – 74).
Совершенно очевидно, как уточнились и обогатились выводы, полученные Гирном при развитии того историко-морфологического подхода к анализу происхождения искусства, который в первом приближении был применен Гроссе. Особо хотелось бы здесь подчеркнуть то значение, которое Гирн придал различиям между изобразительными и неизобразительными искусствами, показывая содержательный характер этих различий и пытаясь установить их историко-генетическое соотношение.
Описанные нами и аналогичные достижения научной мысли делают понятным появление в начале XX в. работы, в которой была сделана попытка широко синтезирующего историко-культурного осмысления морфологии искусства — мы имеем в виду специальный том «Искусство» фундаментального исследования Вильгельма Вундта «Психология народов».
Вундт говорит здесь о своем отрицательном отношении к концепции разновременного образования различных искусств (не 116 может быть речи «о приоритете какой-то из первоначальных форм искусства по сравнению с другими»). В действительности все внешние проявления деятельности фантазии тесно друг с другом связаны и выступают одновременно с самого начала истории культуры. Поэтому, заключает он, нельзя представлять систему искусств как историческую смену различных видов. Если в процессе истории культуры действительно образуются новые формы творчества, то они не являются чем-то «совершенно новым», а всего лишь преобразованиями существовавших уже ранее ростков и возможностей (167, 104 – 107).
Вундт различает две основные формы художественной деятельности фантазии — «изобразительные и мусические искусства». С самого начала они взаимосвязаны и взаимодействуют. Первые находят свои материалы вовне и одухотворяют их, вторые непосредственно выражают человеческие переживания его собственными средствами. Таким образом, они дополняют друг друга (там же, 107 – 108).
Это выделение двух корневых форм художественно-творческой деятельности, подтверждаемое, как мы видели, становлением античного эстетического самосознания и, как мы еще увидим, самим материалом древнейшего искусства, мы склонны считать главной заслугой Вундта в историко-морфологическом изучении искусства. По сути дела он развил мысль, содержавшуюся в рукописных набросках Потебни, и пошел в этом направлении дальше Веселовского — ибо если этот последний имел перед глазами один лишь мусический комплекс (вспомним его формулу «песня — сказ — действо — пляска»), то Вундт указал на существовавшую рядом с ней столь же изначально недифференцированную группу пластических искусств.
К сожалению, приходится признать, что методология Вундта, явившаяся развитием тех устремлений к историзму, которые шли от Гегеля через Каррьера, Тэна, Веселовского, не получила в буржуазной науке XX в. достойного продолжения. Мы можем указать лишь на крайне редкие выступления, продолжавшие эту традицию — например, на очень интересную методологическую статью Ф. Медикуса «Проблема сравнительной истории видов искусства», опубликованную в Германии в 1930 г. (34), или на труд Т. Манро «Эволюция в искусствах» (434). Господствующая же тенденция буржуазной науки на пути исторического осмысления системы искусств оказалась связанной в XX в. с другой традицией — традицией ницшеанского выхолащивания исторического метода Гегеля. Эта традиция представлена наиболее ярко завоевавшей громкую, но печальную славу книгой Освальда Шпенглера «Закат Европы».
117 Шпенглер отрицал правомерность того аспекта морфологического анализа, который призван выявить закономерности видовой, родовой и жанровой дифференциации искусства, считая возможной только типологическую морфологию культуры и искусства, сводящуюся к выделению «аполлоновой», «фаустовской» и «магической» «праформ», «душ» и их воплощений в искусстве, науке, политике и т. п. Шпенглер понимал каждую такую культурную сферу как замкнутую, самодовлеющую и лишенную точек соприкосновения с другими; при этом устойчивые признаки того или иного вида или жанра искусства теряли вообще какое-либо значение. Скажем, пространственная и временная структура искусств, или их обращенность к зрению и к слуху, изображение человеческого лица в портретном жанре и т. д. и т. п. — все это чисто внешние, по его убеждению, приметы, несоизмеримые по своей значимости с особенностями каждого вида и жанра в различных культурах. Мы никогда ничего не поймем в истории искусства, утверждает Шпенглер, «если будем считать различия оптических и акустических средств не только чем-то внешним. Не это разделяет искусства. Искусство для глаз и для уха — этим еще ничего не сказано» (103, 230).
Шпенглер подвергает, таким образом, критике не ту или иную конкретную морфологическую конструкцию, но само представление о видовой дифференциации искусства, к каким бы системным построениям оно ни приводило. «Педантичность систематиков, — язвительно говорит он, — и поверхностная потребность удобного распределения материала больше всего вредили успеху художественно-философских Исследований. Всегда в первую голову старались по самым внешним признакам художественных средств разделить бесконечную область искусства на мнимонеподвижные отдельные виды искусств — с неизменяющимися принципами формы. Разделяли музыку и живопись, музыку и драму, живопись и пластику, потом давали определения “живописи”, “пластики”, “трагедии”. Но осязаемый результат технических способов выражения не что иное, как маска самого произведения… Кто не чувствует, что рисунки Рафаэля и Тициана, из которых один работал контурами, а другой пятнами света и тени, принадлежат к двум разным искусствам, что искусство Джотто или Мантеньи и искусство Вермеера или ван-Гойена не имеют почти ничего общего между собой, что одни мазками кисти создают род рельефа, а другие из красочной поверхности — род музыки, тогда как фреска Полигнота и равеннская мозаика даже по технике и материалу не могут быть соединены в один общий с предыдущими вид, — тот вообще не способен проникать в глубину вопроса». И далее следовал 118 обобщающий резкий вывод: «Границы искусства — границы его мира форм — могут быть только историческими, а не техническими или физиологическими. Искусство — организм, а не система. Нет рода искусства, который проходил бы через все века… Каждая культура имеет свои собственные виды… Есть аполлоновский, фаустовский, магический виды искусства, по сравнению с чем различение искусства поверхностей и искусства тел — только второстепенный признак» (там же, 231 – 232).
Нельзя не согласиться с автором этого темпераментного, но весьма нестрогого в теоретическом смысле монолога, что человек, не чувствующий радикальных художественных различий между стилем Рафаэля и стилем Тициана и т. д. … «вообще не способен проникать в глубину вопроса» и такому человеку следовало бы заниматься не философией искусства, а каким-нибудь другим делом. Но тот человек, который не менее остро, чем Шпенглер, чувствует все эти и им подобные различия, не обязан присоединяться к формулируемому им выводу, ибо в основе этого вывода лежит чисто метафизическая логика, дополненная к тому же некорректным применением правил формальной логики. Ведь, в самом деле, различия в стиле двух живописцев и общность стиля одного из них и стиля некоего композитора никак не означает исчезновения видовой общности произведений живописцев и превращения стиля искусства в вид искусства, который объединил бы живописные и музыкальные творения.
Те стилевые характеристики, которые дает Шпенглер художественным произведениям, в данном случае, как и в подавляющем большинстве других в «Закате Европы», проницательны, тонки, метки, однако перевод этих конкретных эстетических наблюдений в теоретические выводы осуществляется в этой книге, как правило, на уровне, недостойном серьезного философа.
Критиковать «Закат Европы» в плане культурно-эстетическом — отнюдь не означает, что нужно полностью отвергнуть саму идею культурно-исторической типологии. В этой идее есть, на наш взгляд, много здравого и требующего к себе внимательного отношения ученых-марксистов. Культура древнего Египта, например, и культура древней Греции действительно различны и идеологически, и — это в данном случае особенно важно — социально-психологически; какими бы терминами или символами эти особые структуры ни обозначать, их необходимо выявлять, описывать и изучать. При этом нельзя думать, что данная проблема покрывается проблемой национального своеобразия культуры — в ряде случаев мы сталкиваемся и с межнациональными общностями (скажем, «европейская культура» или «культура 119 народов Средней Азии», или «африканская культура», или «латиноамериканская культура», или «романская культура»), в основе которых лежит, несомненно, известная устойчивость социально-психологической структуры интернационального масштаба. Совершенно очевидно, что в каждой такой культуре тот или иной вид, род, жанр искусства преломляется в соответствии с ее требованиями, традициями и т. д. Но отсюда никак не следует, что живопись перестает быть живописью, а музыка музыкой, т. е. что культурно-стилевые вариации полностью растворяют инвариантные черты данного вида, рода, жанра искусства. Что же касается пренебрежительной трактовки Шпенглером самих этих черт как чисто технических или чисто физиологических и потому совершенно «внешних» для искусства, то на это можно лишь ответить: в искусстве нет «внешнего», не связанного с «внутренним», нет бессодержательной формы, нет неодухотворенной материи, и потому от характера «внешнего», материального, формального непосредственно зависит характер выражаемого с их помощью духовного, содержательного, внутреннего. Как великолепно выразил это глубокий диалектик Гете
Nichts ist
drinnen, nichts ist draußen,
Denn was innen, das ist außen,
то есть
Нет ничего внутри и нет ничего снаружи,
Ибо все, что внутри, выходит наружу.
Последний пункт нашей полемики со Шпенглером касается его утверждения, что обосновываемые им принципы дифференциации и интеграции художественных форм являются «историческими, а не техническими или физиологическими». На самом же деле историзм Шпенглера, как и Ницше, мнимый, иллюзорный. Развитие Шпенглер признает лишь в рамках бытия каждой культуры, а связи разных культур никакими историческими закономерностями не определяются, и никакой исторической преемственности между этими культурами не существует. Концепция Шпенглера показывает, таким образом, не только несостоятельность очередной попытки изгнать из эстетической науки морфологическую проблематику, противопоставляя ей аргументы от историзма, но и удивительную способность буржуазного метафизического мышления извратить сам историзм, превратив его из «алгебры революции» в контрреволюционную идеологию циклической замкнутости и бесперспективности социального развития.
Очень интересно в этой связи суждение другого буржуазного ученого, обладающего, однако, более высоким уровнем 120 исторического сознания: «Концепция Шпенглера в целом, — пишет Т. Манро, — рассматривается ныне скорее как продукт творческого воображения, нежели как трезвое обобщение фактов» (434, 204). Более того, Манро показал, что столь же далекими от адекватного описания реального историко-художественного процесса являются новейшие варианты «теории циклического типа» — например, концепции А. Тойнби, П. Сорокина, А. Крёбера, К. Закса. И в них историзм растворяется в разного рода дихотомиях, подобных ницшеанской («аполлоновский» — «дионисийский») и заксовской («этос» — «пафос»), или же в строившихся Тойнби и Крёбером моделях замкнутого и повторяющегося в каждом типе культуры движения от ее рождения к ее разложению и гибели.
Мы можем резюмировать, что развитие историко-культурного подхода к решению морфологических проблем теории искусства было в высшей степени плодотворным, когда историзм оказывался действительным методом анализа, а не маской, скрывавшей глубоко метафизический взгляд на культуру. Подлинный историзм не отвергал морфологию искусства, а дополнял необходимыми данными и точками зрения те выводы, которые давал структурный анализ мира искусств. И все же даже на вершинах своих буржуазная наука не в силах была выработать целостное, методологически продуманное, крепкое единство этих двух подходов. Решение такой задачи может быть по плечу только марксистской эстетике. В буржуазной же науке ошибки и слабые места подобных опытов, равно как и чисто структурного, или чисто психологического, или чисто функционального, или тем более спекулятивного построений, делали единственно приемлемым в глазах многих ученых простое эмпирическое перечисление различных форм творчества, через которое не прорисовывались никакие закономерности их взаимных связей и оппозиций.
6. ЭМПИРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ОТ АЛЕНА К Т. МАНРО
Данное направление морфологического изучения искусства находило прочную опору в позитивистских установках буржуазной философии послегегелевской поры.
Весьма характерно в этом смысле решительное заявление К. Фидлера: «Нет искусства вообще, есть лишь отдельные искусства» (122, 185). В результате подрывались условия существования 121 самой эстетики как науки об «искусстве вообще», а морфологический подход к искусству вырождался в простое сопоставление ряда очерков — характеристик разных его видов (или родов, или жанров).
Правда, поначалу эмпиризм этот был сравнительно умеренным, накладываясь в работах буржуазных эстетиков на какой-то один принцип группировки искусств. Это могло быть их деление на статичные и динамичные, принятое Г. Фехнером (120, т. 2, 5 – 6), или на изобразительные и неизобразительные, признанное Сюлли-Прюдомом (160), или даже упоминание о двух-трех разных принципах деления, которые, однако, сочетались чисто механически и применялись просто по мере надобности — так обстояло дело в эстетических трактатах столь авторитетных, казалось бы, теоретиков, как И. Кон (70, 90 – 93), Т. Липпс (75, 396 – 397), Э. Утитц (164, т. II, 28 сл.), С. Пеппер (152, 147 – 148), С. Лангер (157, 75 – 89).
Однако чисто формальное принятие таких группировок делало их все менее и менее нужными. В результате в 1920 г. могла появиться книга Алена — третье после монографий Круга и Шаслера и первое в истории французской эстетики специальное исследование проблем морфологии искусства, — которая, хотя и была названа «Система изящных искусств», совсем не соответствовала такому названию, ибо никакой системы искусств в ней не оказалось. Более того, ее автор, исходя из того, что «прекрасное недоказуемо», настаивал на невозможности логически вывести систему искусств из некого единого принципа (19, 7 – 8) и соответственно построил свою книгу как серию очерков, описывающих в известной последовательности различные виды искусства. По сравнению с книгой Шаслера, не говоря уже о работе Круга, это была явная деградация морфологии искусства58*.
К сожалению, такой подход оказался весьма устойчивым в буржуазной науке XX в. Он характеризует упоминавшуюся уже нами в другой связи монографию Т. Грина «Виды искусства и искусство критики», в которой исследуются всего только шесть видов искусства (музыка, танец, архитектура, скульптура, живопись, литература), отобранные по принципу «великие и чистые» и никак друг с другом всерьез не соотнесенные (26). Рассуждая аналогичным образом, Э. Жильсон добавил в своей 122 книге к этим шести искусствам седьмое — театр. Жильсон считает Алена своим методологическим предшественником: хотя Ален, пишет он, назвал свою книгу «Система искусств», «одной из первых его забот было подчеркнуть, что виды искусства не образуют системы» (25, 23). По какому же принципу оказываются в таком случае отобранными виды искусства? Объясняя свою позицию, Жильсон вводит новое весьма выразительное понятие — «искусства красоты» (les arts du beau) взамен традиционного beaux-arts, т. е. «изящные искусства». Смысл этого терминологического новшества состоит в том, что если в любой человеческой деятельности — технической, спортивной, бытовой — соответствие средств цели рождает красоту, «которая становится, если так можно выразиться, естественной красотой созданных человеком предметов» (там же, 28), то «искусства красоты» имеют последнюю не просто результатом деятельности, а ее целью, если не единственной, то главной. Потому к этим искусствам не относятся не только прикладные искусства, но и декоративные, не только художественная гимнастика, но и киноискусство, не только ораторское искусство, но и роман (!)59*, а если архитектура включается в их число, то лишь с той существеннейшей оговоркой, что «не всякая архитектура с необходимостью является изящным искусством, а только такая, которая имеет главной целью создание красоты…» (там же, 45). Как видим, при такой общей установке приходится платить дорогую цену за право сохранить архитектуру в мире «высших искусств» — в середине XX в., в эпоху конструктивизма, функционализма, дизайна, приходится объявить «главной целью» зодчества… красоту! Впрочем, если этот эстетик может в наше время стремиться возродить учение Фомы Аквинского, то всему остальному удивляться уже не приходится…
Название монографии П. Вайсса «Девять основных искусств» (44) показывает, что он пошел дальше Жильсона, но только в количестве выделенных искусств, а не в подходе к их изучению. Впрочем, и это преимущество американского теоретика оказалось мнимым, так как девять видов искусства получились у него лишь благодаря тому, что музыку он разбил на два вида — на музыкальнее сочинительство и музыкальное исполнительство, а литературу — на повествовательную и поэтическую. В книге польской исследовательницы Я. Макоты (ученицы Р. Ингардена, 123 снабдившего книгу своим предисловием) сохраняется то же число искусств, что у Вайсса, но образуется оно иным (хотя столь же произвольным) членением: здесь наличествует одна музыка и одна литература, но зато рисунок отделен от живописи и обычная скульптура — от полихромной (33)60*.
К этому же направлению примыкает и капитальная монография лидера современной американской эстетики Т. Манро «Виды искусства и их взаимоотношения», которую следует признать самым основательным во всей истории эстетической мысли исследованием этого круга проблем (35). Достаточно отметить, что, в отличие от всех своих предшественников, Манро дает обширную, хотя и далекую от полноты историографию проблемы (там же, 157 – 208), что он предпринял также описание «практических классификаций искусств, применяемых в художественных музеях, в системе образования и в издательском деле» (там же, 209 – 243). Подводя итоги сделанному до него в данной области, Манро прежде всего подверг критике иерархически-ценностный подход к соотнесению искусств и справедливо заметил, что «пережитком такой оценки искусств является условное, но широко распространенное их деление на “высшие” и “низшие”». Современная тенденция, отмечает он, состоит «в признании все более высокой ценности и значения так называемых “низших” искусств и в меньшем преклонении перед поэзией как “верховным” искусством» (там же, 207 – 208). Что касается двухмерных «немецких систематизации», то в них, по мнению Манро, «есть большая доля истины» и, хотя в целом они «упрощенно и чрезмерно упорядоченно» трактуют взаимоотношения искусств, они могут служить отправным пунктом для дальнейших исследований.
Сам Манро сначала дает общее определение искусства, затем рассматривает различные «классы искусств», определяющиеся наличием или отсутствием утилитарной функции, ориентированностью на тот или иной орган чувств и т. д., потом посвящает три главы сравнительному анализу искусств, различаемых «по материалам или средствам», «по характеру творческого процесса или техники», «по природе и форме создаваемого продукта». Последняя часть книги посвящена «индивидуальным характеристикам искусств», особенно важных в наше время и в будущем и, наконец, «обобщениям и рекомендациям».
В соответствии с таким построением исследования Манро предлагает не однолинейную и даже не двухмерную, а трехмерную 124 классификацию, которую он и представляет наглядно такой схемой (там же, 434).
Табл. 15
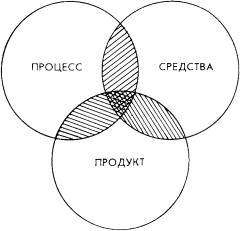
Каждый вид искусства характеризуется во всей полноте своей индивидуальности этими тремя параметрами, хотя, вообще говоря, классификация видов и типов искусства может осуществляться в восьми различных плоскостях — физической, технической, технологической, физиологической, психологической и т. д. (там же, 263 – 264).
При многих достоинствах исследования Манро, очевидных уже из этого краткого изложения, есть в нем главный просчет, из-за которого гигантская работа ученого оставляет скорее разочаровывающее, чем удовлетворяющее впечатление. Этот методологический просчет имеет в конечном счете позитивистское происхождение: речь идет об игнорировании различий в уровнях дифференциации, на которых располагаются различные конкретные формы художественно-творческой деятельности. Оттого Манро мог насчитать сто (!) «зрительных и слуховых искусств», перечисляя в этом списке в одном ряду виды, разновидности, отрасли и вообще любые различные формы художественной (и даже не художественной) деятельности: рядом стоят, например, музыка, создание музыкальных инструментов, опера и тут же литература, литография, мозаика, кинофильм и т. д. и т. п. (там же, 140 – 142). Разумеется, при таком методе никакая система искусств построена быть не может.
125 И еще одно существеннейшее обстоятельство должно быть при этом отмечено — полное отвлечение теоретика от исторического анализа проблемы. Было бы преждевременно сделать отсюда вывод, что Манро вообще игнорирует необходимость исторического подхода к искусству — следующая крупная его монография была специально посвящена именно этому кругу вопросов (434). Однако в ней говорилось об исторической смене различных стилей, направлений, школ, проблема же динамического соотношения видов искусства, неравномерного развития искусств была затронута лишь мельком, ибо проблемы морфологии искусства и его исторической типологии лежат, по Манро, в разных и непересекающихся плоскостях.
Приходится заключить, что эмпирический подход к изучению строения мира искусств не был способен вывести буржуазную эстетику из тупика. Что же оставалось делать ученым, когда шесть различных направлений морфологического изучения искусства оказывались в конечном счете неплодотворными?
Оставалось занять скептическую, а подчас и чисто негативную позицию по отношению к самой возможности морфологического изучения искусства.
7. СКЕПТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
ОТ Г. ЛОТЦЕ К Г. МОРПУРГО-ТАЛЬЯБУЭ
Поначалу такого рода скепсис был довольно умеренным и объяснялся причинами не принципиального характера. Хотя Фолькельт ставит рядом имена Лотце и Кроче как противников изучения законов системной связи искусств (166, т. III, 368 – 369), позиции этих эстетиков были тут далеко не идентичны. Что касается первого, то его «История немецкой эстетики» писалась в середине 60-х гг. XIX в., когда в интересующей нас области было сделано еще сравнительно немного и известные основания для скепсиса в это время были. К тому же следует отметить, что в этом пункте эрудиция Лотце была, как это ни странно, весьма скромной61*. Наконец, по складу мышления Лотце не был 126 теоретиком, и оттого ему, видимо, просто чужды были проблемы систематизаторского характера. Во всяком случае, сомнения свои он высказывал весьма осторожно и — более того — сам пытался наметить позитивное решение проблемы, оказавшееся, однако, эклектическим и мало интересным (430, 459 – 460).
Столь же непоследовательной нужно признать позицию Ионаса Кона. В своей «Общей эстетике» он очень точно отмечал принципиальное расхождение двух подходов к решению морфологической проблемы: один — это «построение системы искусств», а второй — «изыскание принципов различения искусств». Первый подход отличается от второго тем, что на его основе пытаются показать, как «из принципов эстетической области ценностей можно вывести необходимость этих и только этих искусств»; этого, по убеждению Кона, сделать невозможно, и потому научно состоятелен только второй подход (70, 91). Применяя его, Кон формулирует несколько различных «отправных точек для разделения искусств» (там же, 90 – 93), между которыми не оказалось, однако, никакой внутренней связи и которые тем самым были бесплодны для теоретического анализа. Поэтому Кону следовало бы возразить, что либо эстетика способна осуществить системный анализ искусства, либо она вообще не нуждается в морфологическом к нему подходе62*.
Значительно более серьезной, принципиальной, последовательной и мотивированной оказалась антиморфологическая позиция Кроче, Джентиле и Дьюи, что позволяет назвать ее уже не скептической, а негативистской. Понимая искусство как интуитивную духовную деятельность, Кроче свел к нулю роль материальной стороны в художественном творчестве. Поскольку, рассуждал он, все классификации искусств — и всякая вообще классификация! — могут основываться только на различении каких-то материальных признаков, особенностей формы, постольку классификация как таковая имеет в искусстве дело с тем, что не есть искусство, а то, что есть искусство, в принципе несистематизируемо. «Так называемые искусства, — утверждал он, — не имеют эстетических границ, поэтому всякая попытка эстетической классификации искусств лишена смысла… 127 Все эти тома, посвященные классификациям и системам искусств, можно было бы без всякого ущерба предать огню…» (72, 130).
Кроче безусловно прав, когда сущность искусства видит не в технической стороне творчества, не в материализации замысла, не в конструировании произведения, а в специфическом духовном содержании, которое вырабатывается в сознании художника и которое материальная «оболочка» формы должна лишь закрепить и передать другим людям. Беда, однако, в том, что, желая быть более последовательным, чем Гегель, Кроче пришел к метафизическому разрыву замысла и воплощения, творчества и конструирования, духовности и телесности произведения искусства. В действительности же — повторим сказанное в ходе критики концепции Шпенглера — эти стороны искусства связаны друг с другом столь тесно, что одна без другой вообще не существует и существовать не может: цветовая, звуковая и т. д. конструкция, в которой нет никакой духовной художественной наполненности (которая не несет никакой художественной информации, сказали бы мы сегодня), является не произведением искусства, а природным, техническим или научным объектом; с другой стороны, художественный замысел, живущий в сфере воображения и обладающий, казалось бы, чисто духовным бытием, является действительно художественным лишь в той мере, в какой телесность присутствует в воображении в снятом виде, как «мысленное звучание», «представляемый колорит», видимое «внутренним взором» пластическое отношение.
Следовательно, хотя в искусстве форма, материализация, воплощение, техника имеют служебный характер и зависят от содержания, духовного смысла творимого произведения, существует и обратная обусловленность: само духовное может вырабатываться, самоопределяться и развиваться в зависимости от того, какие возможности и какие ограничения предоставляет ему его «материальная база» — данная знаковая система. Если, например, композитор и живописец не способны, как бы они того ни хотели, создать тождественные по духовному содержанию ценности, перекодируя на язык своего искусства произведение другого вида, это объясняется тем, что с помощью звуков нельзя «сказать», выразить — а значит, нельзя и постичь, интуитивно выработать! — то, что можно передать с помощью цвета, и обратно. Вот почему, классифицируя способы воплощения художественной духовности, типы сигналов и знаков в художественных языках, мы пробиваемся к связям и различиям содержательного, духовного порядка. А это значит, что возражения 128 Кроче приходится решительно отклонить — они не выдерживают диалектической критики63*.
Столь же неосновательна антиморфологическая аргументация последователя Кроче и Де Сантиса известного итальянского эстетика Дж. Джентиле: «Множество искусств, — говорит он, — равно множеству техник, в которых искусство реализуется». Поэтому существует «не пять искусств, и не шесть, и не сто — их число бесконечно, потому что бесконечно число произведений искусства». То же самое можно сказать о родах литературы — «другом столь же неопределенном эстетическом понятии» (123, 186 – 191).
Вряд ли нужны пространные доказательства несостоятельности аргументов итальянского эстетика — очевидно, что мы сталкиваемся здесь еще с одним метафизическим ходом мысли, с типично позитивистской абсолютизацией единичного, с полным игнорированием той диалектики единичного, особенного и общего, которая и позволяет группировать явления, какой бы высокой ни была мера их индивидуального своеобразия.
Подходя к искусству с иных позиций, нежели Кроче и Джентиле, Джон Дьюи приходил к тому же, в сущности, выводу: «Если искусство есть внутреннее качество активности, мы его не можем разделять и подразделять» (116, 214). Всякая классификация искусств, развивает свою аргументацию философ, исходит из ошибочного отождествления в произведении искусства эстетического объекта с «физическим предметом», поскольку опирается на различение физических свойств этих предметов — их статичности и динамичности, зримости и слышимости и т. п. Но эстетическое содержание произведения не имеет отношения к его физическим свойствам, говорит Дьюи, повторяя уже известные нам ошибочные доводы некоторых своих коллег (там же, 214). Столь же неосновательны его попытки опровергнуть 129 правомерность деления искусств на изобразительные и неизобразительные ссылкой на то, что архитектура, например, тоже воспроизводит, только не натуральные формы предметов, а «воспоминания, надежды, опасения, намерения», и что вообще нельзя разделять скульптуру и архитектуру, т. к. исторически они были теснейшим образом связаны — в древности «скульптура была органической частью архитектуры» (там же, 221 – 222).
И все же ни огромное влияние эстетики Кроче в первой четверти нашего века, ни столь же могучий авторитет Дьюи в 30 – 40-е гг. не парализовали, как мы могли убедиться, дальнейшего продвижения эстетической науки в морфологической области. Размышляя над этим фактом, но будучи не в силах преодолеть скептическое отношение к морфологическим изысканиям в эстетике, Г. Морпурго-Тальябуэ заметил, что такого рода исследования были, видимо, правомерны в прошлом, когда существовали те или иные, шедшие от художественной практики, «мотивы для того, чтобы их делать»; сейчас же, уверял он, эта проблематика имеет лишь узкопрофессиональный интерес для преподавателей эстетики, и потому ей нельзя придавать серьезного значения (431, 403). Впрочем, оценивая специальные сочинения на эту тему, появившиеся в конце 40-х – начале 50-х гг., итальянский историк эстетики был вынужден признать, «что мы можем вновь заинтересоваться некоторыми попытками классификации искусств, например, теми, которые были сделаны Э. Сурио и Т. Манро» (там же, 404).
Этот вывод можно, пожалуй, признать точным выражением той методологической растерянности, которая является «последним словом» буржуазной морфологии искусства.
Сам же Манро так охарактеризовал современное состояние морфологических исследований искусства в буржуазной эстетике: «Эстетика находится сейчас в состоянии, в известном смысле аналогичном тому, в котором биология находилась в начале XVIII в., прежде чем Линней выработал систему для изучения растений и их видовой классификации. Донаучные представления о видах и их взаимоотношениях были тогда расплывчатыми, неопределенными и полными мифологических и фольклорных пережитков. Такое же положение существует сегодня в наших рассуждениях о формах искусства» (148, 190).
Но невозможность плодотворного исследования законов внутреннего строения мира искусств на методологической базе буржуазной эстетической науки означает лишь необходимость поисков иных путей решения этой задачи. Такие поиски развернулись в ходе развития марксистской эстетики.
130 Глава IV
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСКУССТВА В
ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ МАРКСИСТСКОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
История разработки морфологической проблематики в советской и в зарубежной марксистской науке начинается с 1924 г., когда в журнале «Печать и революция» была опубликована статья Федора Шмита «Живопись, ваяние, зодчество»; ее реальное содержание оказалось более широким, чем ее название. Достаточно сказать, что в этой статье была предложена таблица, весьма широко охватывавшая сферу художественной деятельности (16, 114).
Табл. 16
|
|
Искусства акустические |
Искусства моторные |
Искусства оптические |
|
Искусства изобразительные |
1 — словесность |
3 — драма |
5 — изобр. живопись 6 — изобр. ваяние |
|
Искусства неизобразительные |
2 — музыка |
4 — танец |
7 —неизобр. живопись 8 — неизобр. ваяние 9 — зодчество |
|
III |
Искусства времени |
Искусства времени и пространства |
Искусства пространственные |
|
IV |
Искусства мусические |
Искусства пластические |
|
131 Надо думать, что советский ученый знал об аналогичных опытах построения таблиц, предпринимавшихся на Западе (хотя в его статье нет никаких ссылок и указаний); во всяком случае мы имеем здесь дело с первой в истории советской науки и в ряде отношений оригинальной морфологической концепцией, которая объективно связывает разработку данной проблематики в марксистской и в домарксистской эстетике.
Шмит отчетливо сознавал в это время неудовлетворительность всех буржуазных эстетических теорий, проистекающую, по его убеждению, из разрыва теории и истории, при котором теория искусства «строилась на предпосылках идеалистического миропонимания, с историческими фактами не вязалась и не считалась и на практике была неприложима», а история искусства «имела дело только с фактами, только регистрировала, описывала, повествовала, никаких выводов не делала и разве что добавляла иллюстративный материал для “всеобщей истории”». Шмит отвергал также характерный для классической буржуазной эстетики литературоцентризм, возобладавший, «несмотря на то, что вопрос о существенном единстве всех искусств был поставлен уже теоретиками XVIII века» (101, 18 – 20).
Отсюда и проистекает, с одной стороны, стремление Шмита рассматривать художественное творчество во всем многообразии его видовых проявлений, а с другой — желание объединить теоретический и исторический углы зрения при анализе данной системы.
Оценивая результаты, к которым пришел ученый на этом пути, отметим, прежде всего, выявленную в построенной им таблице связь психологического, онтологического и генетического принципов деления искусств. Оказалось, что искусства, которые создаются на основе деятельности «зрительного центра», являются пространственными по форме своего бытия и восходят к пластическому творчеству древнего человека, мусическое же творчество породило в процессе дифференциации искусства чисто временны́е и пространственно-временны́е искусства, что с психологической точки зрения объясняется самостоятельной творческой активностью «слухового центра» и «моторного центра» (16, 109 – 110. Тут ход мысли Шмита весьма близок к рассуждениям Адлера).
Второй момент, который нужно подчеркнуть, — это точное выделение Шмитом двух возможных в искусстве способов формообразования и самое четкое изо всех, до тех пор предлагавшихся, их наименование. Правда, примененную далее терминологию нельзя признать вполне удачной: Шмит называет «драмой» то, что обычно эстетики именовали «мимикой», а вернее 132 всего было бы назвать «актерским искусством», т. к. речь идет не о драме как литературном творении и не о драматическом искусстве в целом как искусстве синтетическом, а именно об актерском изобразительном творчестве, использующем мимические, жестикуляционные, пластико-динамические средства — т. е., условно говоря, о «мимическом» или «пантомимическом» искусстве, но уж никак не о «драме»; столь же неловко звучат понятия «неизобразительная живопись» и «неизобразительная скульптура», ибо тут имеется в виду не абстрактное искусство, а в одном случае — искусство орнаментально-декоративное, а в другом — объемное прикладное (мебель, посуда и т. д.). Надо добавить также, что явно неудачной оказалась попытка Шмита, сделанная уже не в статье, а в последовавшей за ней книге, объяснить социально-исторически происхождение изобразительного и неизобразительного способов творчества (см. 101, 44 – 45). Однако при всех этих издержках, равно как и при том, что Шмит лишь оговаривал наличие взаимных переходов и взаимного проникновения изобразительного и неизобразительного способов художественного творчества, но не придавал этому должного морфологического значения и не фиксировал этого в своей таблице, его концепция, взятая в целом, была хорошей первой наметкой морфологического анализа искусства, которая могла быть «принята за основу» и развита марксистской эстетической наукой.
Этого, к сожалению, по ряду причин не произошло. В 20-е гг. на отношении к инициативе Шмита не могла не сказаться общая слабость марксистских позиций в нашей науке об искусстве64*. В это время одностороннее и неумеренное увлечение советских ученых, желавших быть марксистами, социологическим анализом искусства уже само по себе не позволяло им уделять должного внимания изучению его морфологических законов. Весьма характерны в этом смысле сочинения А. Богданова, Б. Арватова, В. Фриче, в которых морфологическая проблематика либо полностью игнорировалась, либо «снималась» противопоставлением так называемого «производственного искусства» всем остальным его — «станковым» и якобы умирающим — видам. Поэтому во второй половине 20-х – начале 30-х гг. вопросы 133 морфологии искусства ставились лишь спорадически и попутно. А. Луначарский слабо интересовался этими проблемами; в своих ранних теоретических работах он их бегло касался, но замечал при этом, что может сказать тут «мало нового» (78, т. 7, 12 – 14 и 93 – 94), а в начале 20-х гг. ограничивался тем, что в полемике с производственниками подчеркивал наличие двух равноправных групп искусств — «идеологических» и «промышленных» (там же, 263 – 265). Н. Марр, исследуя происхождение языка, обращал внимание на синкретичность древнейшей формы художественной деятельности: «Как известно, пляска, пение, музыка первоначально не представляли трех отдельных искусств, а входили нераздельно в состав одного искусства» (456, т. 2, 85 – 90). Для доказательства этого тезиса Марр привлекал, в частности, эллинскую мифологию — трактовку в ней образов муз, Аполлона и Орфея65*.
Развитие этих идей А. Веселовского и Н. Марра мы находим в глубокой и глубоко оригинальной книге О. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра», однако лишь в узких пределах ранних фаз историко-литературного процесса. Здесь говорилось: «Центральная проблема, которая меня интересует в данной работе, заключается в том, чтоб уловить единство между семантикой литературы и ее морфологией». Такая установка позволяла, не игнорируя устойчивые признаки видов, родов и жанров искусства, показывать, что жанр, например, это — «не автономная, раз навсегда заклассифицированная величина», что поэтому «его классификация вполне условна. И сюжет и жанр имеют общий генезис и нераздельно функционируют в системе определенного общественного мировоззрения», и оттого жанр обладает одновременно устойчивостью и изменчивостью (321, 9).
В это время советские ученые ставили вопрос и о неравномерности развития разных видов искусства на последующих стадиях истории художественной культуры. Уже В. Фриче, отталкиваясь, правда, не от Гегеля, а от Тэна, применял этот закон к сфере пластических искусств, но огрубленно и упрощенно, трактуя «смену гегемонии» архитектуры, скульптуры и живописи как некий фатально повторяющийся и имеющий, конечно же, экономическое обоснование, исторический цикл (98, 71 – 78). Глубже и тоньше вопрос этот был поставлен в начале 30-х гг. Н. Берковским. Обращаясь непосредственно к великому 134 открытию Гегеля и подчеркивая его значение, ученый писал: «В истории всегда какое-либо из искусств ведет за собою остальные. Равной судьбы для всех искусств история не знает. Это уже хорошо понимал Гегель (“Эстетика”). Искусство, чья “природа” особенно благоприятствует господствующему классовому мировоззрению, искусство, которое сильнее остальных способно выразить это мировоззрение, становится преобладающим и образцовым для всей художественной практики в целом. Остальные искусства подтягиваются к “главному”, стараются по-своему решить выполняемые им задачи. Здесь есть “мера” для особой индивидуальности каждого искусства и каждого жанра. В борьбе с новыми задачами одни из них глохнут, так как задачи эти им не по силам, другие справляются, третьи (все это зависит от исторических обстоятельств) гибнут, и гибнут по особым причинам, — они должны выступить из своих индивидуальных границ и создать из себя же новое искусство или новый жанр» (371, 87 – 88).
В конце 20-х – начале 30-х гг., морфологический подход к искусству оказался в центре внимания И. Иоффе66*. К сожалению, влияние односторонне-социологического, а подчас и вульгарно-социологического взгляда на искусство заставило этого одаренного ученого противопоставить социально-историческое осмысление художественной культуры ее структурному анализу. «Какое научное значение, — утверждал он в первой своей работе “Культура и стиль”, — может иметь термин “роман”, объединяющий в одну рубрику произведения Тургенева, Достоевского и Золя; или термин “новелла”, объединяющий Боккаччо, Чехова, О. Генри? Эти термины имеют такую же определенность, как термин “пейзажная живопись”, объединяющий Лоррена и Сезанна, или термин “портретная живопись”, объединяющий Рафаэля и Рембрандта… Термины теории искусств только тогда получили бы научный смысл, если бы классифицировали произведения по их конструкции, по приемам организации материала, по стилям» (6, 64). Поэтому и различия между видами 135 искусства отступают на задний план перед тем, что их объединяет в пределах одного исторического стиля; эта мысль привела Иоффе уже в 20-е гг. к охвату материала живописи, музыки и литературы в пределах трех больших стилей, детерминированных социально-экономически; затем, в 30-е гг., в «Синтетической истории искусства», этот же принцип был проведен на более широком историческом материале (7); еще позднее, в фундаментальной работе «Синтетическое изучение искусства и звуковое кино» (8), было предложено развернутое теоретическое обоснование такого взгляда на искусство. Разумеется, его приходится признать односторонним и совершенно неправомерно отбрасывающим другую сторону дела — структурные различия между видами и жанрами искусства, которые остаются таковыми при всех социально-исторических изменениях.
В предисловии к «Синтетической истории искусства» автор, подобно Шмиту, отмечал такие пороки буржуазной науки об искусстве, как разрыв теоретического и исторического методов его изучения («теория и история искусства стоят как две независимые науки: теория дана вне истории — формалистически, и история дана вне теории — эмпирически»), как «разобщенность отдельных искусств, независимость их историй и теорий друг от друга» (7, VII). Подобно Шмиту же, Иоффе ставил перед собой задачу преодолеть эти методологические ошибки, но делал он это несколько прямолинейно, и в результате родственность разных искусств заслоняла в глазах ученого особенности и относительную самостоятельность развития каждого из них. «Теории различных искусств одного стиля, — четко формулировал он свое методологическое кредо, — ближе между собой, чем теория одного искусства различных стилей» (там же, X). При таком взгляде на вещи, весьма близком шпенглеровскому, нельзя было, конечно, преодолеть разрыв между диахронией и синхронией в изучении искусства и трудно было оценить должным образом открытый Гегелем закон неравномерного развития искусств — ведь в каждой стилевой фазе нужно было обнаружить именно и только единство литературы, живописи, музыки!
В первой половине 30-х гг. отвергнутой односторонне-социологической ориентации нашей науки об искусстве была противопоставлена не менее, увы, односторонняя гносеологическая ее ориентация. Искусство стало рассматриваться уже не как «форма классовой психоидеологии», а лишь как «форма отражения и познания действительности». При этом совершенно естественным было возрождение того литературоцентризма, который господствовал в эстетике XVIII – XIX вв. и от которого, как мы видели, разными путями стремились уйти теоретики 136 20-х гг. Идея «синтетического изучения искусства», которую продолжал упорно пропагандировать Иоффе, резко выделялась на этом фоне и казалась чуть ли не чудачеством, несовместимым со строго научным отношением к искусству. Далеко не случайно, что единственная в 30-е гг. книга, в которой была сделана попытка дать более или менее полное и систематическое изложение марксистской эстетической концепции, называлась «Вопросы марксистской поэтики»; и действительно, для ее автора — И. Виноградова — не существовало никакой принципиальной разницы между понятиями «искусство» и «художественная литература», а потому в его в целом очень интересной книге не оказалось вообще места для морфологической проблематики (см. 190).
Преодоление литературоцентризма имело место в это время только в тех случаях, когда он вытеснялся киноцентризмом — так, например, как это формулировалось Н. Лебедевым: «… Кино, соединяя в себе лучшие стороны двух наиболее богатых из старых выразительных форм — словесной и театральной, — является новой, более высокой ступенью в общем ходе развития форм объективации человеческого сознания», ибо оно «потенциально больше, чем другие выразительные формы, имеет возможность отражать всю многосторонность объективной действительности в ее многообразных связях, движении и развитии, а также всю многогранность чувств и мыслей, вызываемых ею в нашем сознании» (13, 99. — Разрядка автора). К тому же кино — «самое массовое» искусство.
В 1936 г. в Лондоне вышла в свет книга молодого философа-марксиста Кр. Кодуэлла «Иллюзия и действительность» — первая в англо-американской литературе и как будто не повторившаяся там попытка создать общий набросок марксистской эстетической теории. Книга эта, как и работа Виноградова, находится где-то на грани эстетики и поэтики — сам автор предупреждал в предисловии, что, «хотя здесь рассматриваются и другие виды искусства в их отношении к обществу, автор предпочел сосредоточить внимание на одном виде — поэзии». Кодуэлл объясняет это, с одной стороны, удобством постановки на материале поэзии «самых существенных эстетических проблем», а с другой, вполне откровенно — «особыми симпатиями автора» к данному виду искусства (240, 35. Тут следует учесть, что Кодуэлл сам был поэтом, а не только ученым). И все же такая ориентация интересов не привела Кодуэлла к превознесению поэзии над всеми другими искусствами и не помешала ему — в отличие от Виноградова — включить в свою книгу главу «Структура видов искусства». Правда, внимание, уделенное 137 этой проблематике, и глубина ее исследования оказались здесь весьма и весьма недостаточными. Кодуэлл ограничился тем, что разделил все виды искусства в зависимости от того, используют ли они «звуковые символы» или обращены к зрительному восприятию. К первой группе он отнес музыку, поэзию и прозу (на правах самостоятельных видов искусства!), ко второй — живопись и скульптуру, архитектуру и все прикладные искусства, а также танец, драму и кино. Дальше этой самой общей группировки Кодуэлл не пошел, хотя в ходе анализа он высказал ряд интересных соображений как о своеобразии каждой группы искусств и каждого вида, так и об их взаимной близости и различиях (там же, 308 – 332).
Наибольший интерес в этой главе — как, впрочем, и во всей книге — представляет целеустремленный поиск ее автором того единства логического и исторического подходов к проблеме, которое столь характерно для марксистской методологии вообще и которое, как мы уже могли убедиться, было с первых шагов советской эстетической мысли провозглашено ее методологическим идеалом. Показательно в этом смысле, что начинается книга Кодуэлла с главы «Рождение поэзии», что в морфологической главе автор все время характеризует исторические изменения в структуре отдельных искусств. Более того, он заключает этот раздел утверждением, что «виды искусства можно классифицировать по историческому признаку, начиная с их появления в едином комплексе, когда человек занимался собиранием плодов и охотой, и кончая их сложным развитием в классовом обществе, обеспечившем расцвет индивидуальности». При этом автор выделил три основных периода в художественном развитии человечества: первый (палеолитический) характеризуется тем, что первобытный человек ищет «самого себя в природе»; второй (неолитический) — тем, что он «вбирает природу в общественное, хотя еще и не дифференцированное Я, живущее общиной»; третий (классовое общество) — тем, что «социальное Я» расщепляется «на отличающихся друг от друга индивидуумов, в то же время изображая природу как постоянно обновляющуюся дифференцированную Вселенную» (там же, 332. Мы цитируем по русскому переводу, который, к сожалению, весьма далек от совершенства).
Не будем сейчас обсуждать саму эту концепцию философии истории искусства и обнажать все ее уязвимые для критики моменты. Важнее, как нам представляется, подчеркнуть другое: при всем несовершенстве конкретного проведения исторической точки зрения, она заключает в себе, во-первых, несомненное рациональное зерно, что позволило автору сделать с ее помощью 138 много тонких наблюдений над особенностями различных фаз историко-художественного процесса; во-вторых, — и это нам сейчас особенно важно — исторический подход был признан Кодуэллом необходимым не только при общем анализе искусства — его сущности, социальной роли и т. д., но и при его морфологическом рассмотрении. К сожалению, дальше постановки вопроса, да и то весьма эскизно намеченной, талантливый английский теоретик тут не пошел.
В советской эстетической науке резкая активизация интереса к морфологическому изучению искусства падает на вторую половину 50-х гг., что было связано с наметившимся в это время общим подъемом эстетической мысли. Морфологической проблематике посвящаются теперь статьи, брошюры, главы монографий, сборники67*, и более того — в учебники и в программы вузовских курсов по эстетике включается раздел «виды искусства». Своеобразным «эпиграфом» к этой главе истории нашей эстетики можно было бы избрать слова Н. Дмитриевой, сказанные ею в 1962 г. во вступлении к ее превосходному исследованию «Изображение и слово»: «Эстетика не может развиваться чисто умозрительным путем, как не может она и исходить из практики какого-либо одного искусства, хотя бы и ведущего. Все искусства должны быть в поле ее зрения, с учетом их специфики и взаимосвязей, границ и возможностей, меняющейся исторической роли и особых требований, предъявляемых к ним современностью». Такая установка объясняется тем, что «каждый вид искусства обладает особыми, ему свойственными содержательными возможностями, недоступными или менее доступными другим видам. Это и есть его специфика…, которая дает ему право на самостоятельное существование» (3, 6).
Правда, освоение морфологического подхода к изучению искусства давалось нашим ученым нелегко. Так, в учебниках «Очерки марксистско-ленинской эстетики» (1956 г.), «Основы марксистско-ленинской эстетики» (1960 г.), «Марксистско-ленинская эстетика» (1968 г.) раздел «Виды и жанры искусства» хотя и наличествовал, но был построен как ряд совершенно самостоятельных кратких очерков об основных видах искусства, которым лишь предпосылалось короткое общее введение. В этих введениях (написанных во всех учебниках Ю. Колпинским) говорилось, что виды искусства можно классифицировать по-разному, что любая подобная классификация «условна» (?) 139 и что поэтому лучше всего, не мудрствуя лукаво, охарактеризовать каждый вид искусства как таковой (см. 85, 200; 84, 470; 80, 157). Такая позиция, уже известная нам по истории буржуазной эстетики — от Алена до Жильсона — и весьма популярная в ней, в марксистской науке кажется по меньшей мере странной и может быть объяснена, пожалуй, только тем, что она является просто самым легким способом разделаться с весьма нелегкой теоретической проблемой.
К сожалению, подобный подход к проблеме стал распространяться в учебных пособиях по эстетике, создававшихся в 60-е гг. и в нашей стране, и в ряде социалистических стран — например, в работах А. Зися (64, 133 – 198), Э. Иона (130, 200 – 206), И. Сигети (162, 62 – 136. См. также коллективный труд венгерских эстетиков — 144, 535 – 549). Правда, ни у одного из этих авторов мы не встречаем того пренебрежительного отношения к классификации искусств, которое столь откровенно и настойчиво высказывал Колпинский.
Для данного периода в истории марксистской эстетики весьма показательной является позиция Д. Лукача, которая, по сути дела, теоретически обосновывала сложившийся в это время подход к морфологической проблематике. Лукач впервые изложил свои взгляды на этот предмет в своей капитальной монографии «Своеобразие эстетического», первая часть которой вышла в свет в 1963 г. Здесь говорилось о решающем значении исследования исторически изменчивых взаимоотношений между всеми областями творчества для решения проблемы, «которая обычно всплывает в истории эстетики как проблема системы искусств». Лукач признает, что проблема эта «была и остается реальной и даже центральной проблемой эстетики», что взаимоотношения между искусствами имеют не случайный, а закономерный и «системный» характер, однако утверждает, что «дифференцирующие принципы» должны быть выведены тут «не из эстетической “идеи” (красоты), но из системы других — в конечном счете, общественных — потребностей, которые детерминируют возникновение и существование отдельных искусств». Таким образом, природа системы искусств — «историко-систематическая» (142, 628). Отсюда проистекает его отрицательное отношение ко всем попыткам «академической эстетики» каталогизировать искусства по образцу описательного естественнонаучного знания — подобно тому, например, как это делал Линней.
Противопоставить этому каталогизаторству «историко-системный» анализ соотношения видов, родов и жанров искусства Лукачу все же не удалось, и не удалось потому, что литературоцентристская 140 ориентация, столь ярко выраженная в его общей эстетической концепции и приведшая его к тому, что самую сущность искусства он определил понятием «мимесис», заставила его рассматривать литературу как некую идеальную модель художественного творчества, а все другие искусства измерять уже этой мерой. Поэтому Лукач вел анализ общих свойств искусства почти исключительно на материале литературы и изобразительных искусств, а затем выделил специальную главу для рассмотрения особенностей музыки, архитектуры, прикладных искусств, садово-паркового искусства, киноискусства и «сферы приятного», назвав эту главу «Проблема границ эстетического мимесиса». Таким образом, перечисленные области художественной деятельности предстали как более или менее странные модификации сущности искусства, поскольку «мимесис» имеет в них, как признавал сам теоретик, «совсем особенные формы». Естественно, что при подобной постановке вопроса рассмотрение искусства как подлинной системы видов оказалось невозможным.
Вместе с тем уже в начале 60-х гг. в советской науке стал намечаться иной подход к решению интересующей нас морфологической проблематики. Одной из первых ласточек была тут лекция В. К. Скатерщикова «Виды искусства», опубликованная в 1961 г. В ней основное внимание уделялось уже не характеристике отдельных видов искусства, а именно видовому строению искусства в целом. Соответственно автор видел задачу эстетики в данном ее разделе в том, чтобы «выявить принципы классификации искусств, установить связи и взаимовлияния различных искусств между собой» (см. 15, 155). Исходные позиции решения этой задачи Скатерщиков определил так:
1) Марксистско-ленинская эстетика дает «научную основу классификации искусств».
2) Эту классификацию «нельзя проводить по какому-либо признаку, взятому отдельно»; сравнение, например, музыки и литературы показывает, что они близки друг другу как временны́е искусства, но по «типу образности» музыка «сближается не с литературой, а скорее с архитектурой». Различие указанных двух «типов образности» автор определяет понятиями «изобразительный» и «выразительный», оговаривая условность этих обозначений. К «выразительным искусствам» относятся «музыка, некоторые виды танца, архитектура, некоторые виды прикладного, декоративного искусства».
3) Особую группу составляют синтетические искусства, которые «сочетают в себе особенности и выразительного, и изобразительного искусства».
141 4) Существенно разделение искусств на «зрительные» и «слуховые».
5) Еще одно важное направление классификации — деление искусств на три группы: «искусства, использующие природный материал (мрамор, дерево, металл в скульптуре, архитектуре, прикладном искусстве), искусства, которые используют в качестве материала слово (художественная литература прежде всего), и искусства, где в качестве материала выступает сам человек (исполнительские искусства)».
6) Помимо перечисленных принципов деления, которые автор считает основными, существуют еще и дополнительные: это — деление искусств на «утилитарные» или «прикладные» и «чистые», а также их деление на «первичные» и «вторичные», т. е. исполнительские.
7) «Разделение искусств — продукт исторического развития. Первобытное искусство не знало деления на виды в собственном смысле слова, оно было синкретным, различные виды искусств не были обособлены, как самостоятельные области человеческой деятельности» (там же, 166 – 179).
В итоге Скатерщиков предлагает впервые в нашей эстетической литературе теоретическое определение вида искусства: «вид искусства — это особая область художественной деятельности людей, отличающаяся по тому, какие стороны жизни она преимущественно отражает, по характеру и типу образности, по способу удовлетворения эстетической потребности человека, по материалу и по законам создания художественного образа» (там же, 173).
Перед нами как бы тезисно изложенная программа большой работы по изучению системы искусств, которую нельзя не признать в высшей степени плодотворной, хотя и эскизной, а потому и несколько сумбурной: выделенные теоретиком плоскости членения искусств не соотнесены друг с другом, и оттого четкого понимания строения мира искусства мы тут пока еще не получаем.
Еще один эскиз решения этой задачи был намечен в это же время в книге Г. Поспелова «О природе искусства», в которой мы находим небольшую главу «Роды искусства». Позиция автора близка к точке зрения Скатерщикова и резко отлична от установки Колпинского: Поспелов считает отнюдь не условным, а безусловным наличие у разных искусств таких общих и различных черт, которые позволяют осуществить классификационную задачу. Он выделяет, прежде всего, три группы искусств — пространственных, временны́х и пространственно-временны́х; затем указывает на различие между искусствами «односоставными» 142 и искусствами «синтетическими»; далее говорит о наличии двух «родов» искусства, различающихся в зависимости от того, является ли у них «исходным моментом» воспроизведение объективного мира или субъективной стороны человеческой жизни; проводя аналогию с эпосом и лирикой как родами литературы, Поспелов называет эти две группы искусств «изобразительными» и «экспрессивными» (89, 132 – 136).
Хотя Поспелов не воспользовался традиционным методом графического закрепления итогов классификации искусств, мы сделаем это за него, дабы придать его концепции большую наглядность и чтобы ее удобнее было сравнивать с концепциями других ученых, выраженными в таблицах:
|
|
|
Экспрессивные искусства |
Изобразительные искусства |
|
Односоставные искусства |
Пространственные искусства |
Архитектура |
Живопись Скульптура |
|
Временны́е искусства |
Музыка Лирическая словесность (поэзия) |
— Эпическая и драматическая словесность (литература) |
|
|
Пространственно-временны́е искусства |
Художественный танец |
Пантомима |
|
|
Синтетические искусства |
|
Пение Хореография |
— — |
|
|
Драма Опера Балет |
||
Эта таблица позволяет сделать следующие выводы: во-первых, морфологическая концепция Поспелова лежит в том же ряду известных нам двухмерных классификаций, которые были впервые представлены в истории советской науки системой Шмита, причем обе координаты системы Поспелова являются тем же, что у Шмита68*; во-вторых, в отличие от системы Шмита 143 (чисто терминологических отличий мы не касаемся, ибо существенного значения они не имеют), система Поспелова строго отделяет синтетические искусства от «односоставных», а с другой стороны — расчленяет искусство слова на два самостоятельных вида — литературу и поэзию, что приводит к тому, что музыка как «экспрессивное» временное искусство лишается своей пары в ряду «изобразительных искусств» (образующуюся при этом системную лакуну Поспелов никак не объясняет). Особый статус словесного искусства теоретик мотивирует тем, что оно обладает «гибким и универсальным» средством воспроизведения жизни — речью. Данный тезис говорит о сохранившейся в эстетических взглядах Поспелова общей литературоцентристской ориентации, которая неизбежно порождает те или иные ложные построения в морфологии искусства (не говоря уже о том, что при такой ориентации морфологической проблематике отводится в книге самое скромное место — пять страниц из двухсот!)69*.
В том же 1960 г. вышла в свет брошюра В. Кожинова «Виды искусства» — первая в истории советской науки книга, специально посвященная данной теме. Оказалось, что в ней обосновывалась та самая концепция, которая более кратко излагалась в книге Поспелова70*. В этом можно убедиться, сравнив таблицу, построенную Кожиновым (11, 24), с той, в которой мы представили итог рассуждений Поспелова (см. табл. 17 и 18).
Отличия морфологической схемы Кожинова имеют, как видим, частный характер: они выразились в том, что теоретик расширил описанный Поспеловым мир искусств, поставив рядом с архитектурой прикладные искусства и орнамент, а рядом с театром — киноискусство, и — что важнее — найдя музыке изобразительную «пару»… в некоем «звукоподражании»; остальные отличия имели чисто терминологический характер — Кожинов предпочел терминам «пространственные», «временны́е»
|
|
|
Выразительные искусства |
Изобразительные искусства |
|
Статические искусства («произведения — предметы») |
объемные тела
линии и краски на плоскости |
архитектура (и прикладные вещи) орнамент — |
скульптура
живопись фотография |
|
Динамические искусства («произведения — виды деятельности») |
движения тела
звуки голоса и инструментов |
танец
музыка |
пантомима
звукоподражание (как элемент ряда искусств) |
|
Искусство слова |
|
лирическая поэзия |
эпос и драма |
|
|
движения тела, звуков, речи, движение линий и красок на плоскости экрана, сопровождаемые музыкой и речью |
балет и опера
— — |
театр (драматический) мультипликация кино |
и «пространственно-временны́е» искусства понятия «статические» и «динамические», что повлекло за собой, однако, ненужное укрупнение классификации (искусства временны́е и пространственно-временны́е оказались неразличимыми под общей шапкой «динамических» искусств), а термин «экспрессивные» был заменен словом «выразительные», что также приходится признать не слишком удачным. Отметим в этой связи (а вернее повторим, т. к. мы уже имели возможность об этом говорить — 67, 366 – 367), что «выразительность» не есть способ художественного формообразования, подобный «изобразительности»; «выразительность» — это необходимое и неотъемлемое качество всякого искусства, которое характеризует его связь с выражаемым им духовным миром художника, тогда как «изобразительность» — это по крайней мере один из двух возможных путей формообразования, с помощью которых выражаемое образно воплощается в искусстве. Поэтому, как ни плох термин Шмита «неизобразительные искусства» (поскольку он имеет негативный характер) и как ни соблазнительно заменить его 145 каким-то позитивным по смыслу обозначением, однако ни крайне узкое понятие «экспрессивные», ни крайне широкое понятие «выразительные» для этой цели решительно не подходят.
Но наиболее существенной ошибкой схемы Кожинова было то, что литературу, занимавшую в системе Шмита место на скрещении временны́х и изобразительных искусств, он, как и Поспелов, выделил в качестве самостоятельного ряда искусств, параллельного искусствам «статическим» и «динамическим»71*, возрождая таким образом литературоцентристские представления Мендельсона, Шеллинга и др. А это должно было неизбежно повлечь за собой драматические для всей системы последствия.
Понимая необходимость найти музыке как искусству «выразительному» изобразительную «пару», Кожинов решился ввести в мир искусств какое-то «звукоподражание», причем ввести его на правах вида искусства — именно такое место занимает оно в его таблице (правда, здесь следовала оговорка, что звукоподражание есть лишь «элемент ряда искусств»; но если это так, то на каком основании такой «элемент» выделен в таблице наряду с полноправными видами художественной деятельности?). Что же касается «раскола» литературы на два самостоятельных вида искусства — на лирическую поэзию и на эпико-драматическую литературу, то эпос и драма объединены здесь просто потому, что в данной схеме драму больше некуда было девать; впрочем, вскоре Кожинов откажется от этой идеи (хотя без какой-либо самокритики), когда будет в одной из статей «Теории литературы» рассматривать эпос, лирику и драму традиционным образом, как роды литературы (315)72*.
Несколько лет спустя интересующая нас тема оказалась центральной еще в одной брошюре, названной ее автором «Всестороннее развитие личности и виды искусства». В. Ванслов высказал здесь целый ряд резонных критических замечаний по поводу морфологической концепции Кожинова, однако вместе с ее действительными недостатками отверг и лежавшие в ее основе принципы членения искусств: их деление на изобразительные 146 и выразительные он отклонил полностью, хотя и без достаточно весомой аргументации, а деление искусств на пространственные, временны́е и пространственно-временны́е признал производным, а не основополагающим. Основополагающими же, по его мнению, следует считать различия, возникающие в мире искусств в результате движения художественно-творческой деятельности от прямой связи с трудом — в прикладных искусствах — к связи с игрой (где утрачивается всякая утилитарная функция и искусство превращается в чистое зрелище). Таким образом, виды искусства расположились по однолинейной шкале (2, 102 – 103).
Табл. 19
|
Прикладные («трудовые») искусства |
Изобразительные искусства |
Литература |
Музыка |
Зрелищные («игровые») искусства |
Согласимся, что в таком соотнесении искусств есть известный смысл, однако избранный Вансловым классификационный принцип нельзя считать ни единственным, ни даже определяющим в морфологическом отношении. Связь художественного творчества с другими формами человеческой деятельности — с трудом и с игрой — характеризует лишь один момент в различиях между искусствами, имеющий для них скорее внешний, чем внутренний, структурный характер. Неудивительно поэтому, что системный анализ искусства и свелся у Ванслова к сопоставлению данных пяти отраслей художественного творчества — дальше этого по избранному им пути двигаться было некуда.
Еще одна точка зрения на интересующий нас круг вопросов была высказана в опубликованной в 1965 г. книге Ю. Борева «Введение в эстетику», в которой автор выделил специальный раздел «Виды искусства». Его построение возвращает нас к сложившейся в советской науке традиции: краткое вступление «Принципы классификации видов искусства» предваряет серию параграфов, последовательно описывающих одиннадцать областей искусства, от архитектуры и до телевидения. В этом вступлении и изложена точка зрения автора на существо проблемы. Три момента следует отметить в его позиции:
1) Традиционность общего взгляда, согласно которому виды искусства можно классифицировать и так, и этак — их можно разделять «на пространственные и временны́е, звуковые и слуховые, функциональные и не функциональные, исполнительские и не исполнительские», но ни одно из этих делений «не дает большого научно-теоретического эффекта» (50, 252).
2) Странность заключительного вывода, который противопоставляет всем перечисленным делениям видов искусства как 147 теоретически непродуктивным тот принцип классификации, который был предложен… «еще Аристотелем — принцип разделения искусств по предмету (чему?), способу (как?) и материалу (в чем?) подражания» (там же). Мы помним, однако, что у Аристотеля эта трехступенчатость деления относилась к трем разным морфологическим уровням — жанровому, родовому и видовому; к сожалению, Борев не объяснил, как же осуществить на этой основе классификацию видов искусства.
Наибольшего внимания заслуживает в его взглядах третий момент —
3) Принципиальность исторического подхода к проблеме, выразившегося, во-первых, в указании на «два встречных процесса», протекающих в истории искусства: движение от исходного синкретизма к самостоятельному существованию отдельных видов искусства и «обратный процесс синтеза искусств», а, во-вторых, в указании на неравномерное развитие искусств, в силу которого в каждую эпоху какой-то вид становится «ведущим»; на этом основании утверждается равноценность всех искусств (там же, 248 – 249). Естественно, что в небольшой книге популярного характера развить эти идеи не представлялось возможным. К сожалению, когда такая возможность представилась — мы имеем в виду следующую большую работу Ю. Борева обобщающего характера «Эстетика» (51), — он ее почему-то не реализовал.
Попытку решить такую задачу — охарактеризовать систему искусств в исторической динамике ее становления и развития — предпринял в это же время Н. Крюковский в своей большой монографии «Логика красоты» (73). По сути дела, вся ее вторая часть — «Эстетическое в искусстве» — строится как последовательный анализ шести видов искусства (прикладного, архитектуры, орнаментально-декоративного, музыки, изобразительного и литературы), предваренный кратким введением, в котором ставятся общие вопросы классификации искусств и обосновывается предлагаемый автором порядок их рассмотрения. Таким образом, оказывается, что в целом Крюковский принимает и повторяет известную нам схему исследования, пытаясь, однако, найти ее теоретическое обоснование. Он идет тут вслед за Гегелем, но, к сожалению, слабые стороны методологии Гегеля оказались в работе советского ученого не преодоленными, а, напротив, гиперболизированными: речь идет о его пренебрежении к действительному историческому ходу становления и развития художественной культуры во имя чисто логического конструирования идеальной модели этого процесса («прежде всего, — говорит он, — необходимо установить логическую, но не историческую (!) 148 картину возникновения различных жанров искусства»); неудачной вариацией мысли Гегеля выглядит и принцип расположения искусств на ступеньках лестницы, основанный на постепенном убывании чувственного начала и нарастании начала рационального, что соответствует (!) движению от условности к образности. Если к этому добавить, что в данном разделе книги есть немало вульгарно-социологических элементов, придется заключить, что опыт Крюковского оказался решительно неудачным.
Полной его противоположностью является опыт Н. Дмитриевой в ее блестящей статье «Литература и другие виды искусства», опубликованной в 1967 г. в четвертом томе Краткой Литературной Энциклопедии и пронизанной подлинным историзмом. Весь анализ проблемы построен здесь на немногословном, но емком и удивительно точном описании неравномерного развития видов искусства и изменчивости их взаимоотношения в ходе развития художественной культуры (4). Два момента оставляют все же в этой статье чувство неудовлетворенности. Во-первых, ход неравномерного развития видов искусства освещается здесь так, что идея первенства литературы проводится способом, напоминающим — опять-таки — логику Гегеля; поэтому создается впечатление, что верховное положение, завоеванное литературой в XIX в., она сохранит навсегда (даже киноискусство — это самое влиятельное искусство нашего времени — «подверстывается» здесь к литературе, тогда как на самом деле этот новый вид творчества вобрал в себя литературу и «снял» ее своей синтетической образной структурой). Во-вторых, историзм оказался в этой статье явно противопоставленным логическому анализу структуры мира искусств (если бы такой анализ был проведен достаточно строго, литературоцентристские выводы автора были бы немыслимы).
Таким образом, если книга Крюковского доказала бесплодность чисто логического анализа строения мира искусств, противопоставленного реальной истории художественной культуры, то статья Дмитриевой не менее убедительно показала, что исторический подход к данной проблеме, как бы он ни был необходим, не может все же обойтись без логико-теоретико-структурного анализа. С пониманием этой неразрывности структурно-логического и исторического аспектов морфологии искусства мы встречаемся в интересной, но, к сожалению, небольшой, статье румынского эстетика Иона Яноши «Единство и многообразие искусств» (28). Здесь соотношение видов и жанров искусства рассматривается с точки зрения диалектического закона раздвоения единого, действие которого приводит к тому, что различные 149 художественные структуры образуют оппозиции типа объективное — субъективное, изобразительное — неизобразительное, эпическое — лирическое, абстрактное — конкретное и т. п. При этом оказывается, что конкретное соотношение искусств в пределах каждой из таких оппозиций определяется социально-историческими причинами, и в результате в одну эпоху все искусства тяготеют к «лиризации», а в другую — к «эпизации», в одну эпоху они равняются на структуру музыкального творчества, а в другую — на литературный способ изображения жизни. Яноши не поставил, однако, вопроса о системной связи всех этих дихотомических делений искусства, которые выглядят пока как неупорядоченная россыпь произвольно избранных делений.
В 1964 – 1966 гг. вышли в свет вторая и третья части первого издания «Лекций по марксистско-ленинской эстетике», написанных автором этих строк. Несколько глав были специально посвящены здесь морфологическому анализу искусства. В издании такого типа решение проблемы могло было быть дано, конечно, лишь в первом приближении, как предварительная наметка идей и принципов, детальное развитие которых оставалось целью специального исследования. Мы не будем поэтому характеризовать это предварительное решение сколько-нибудь обстоятельно, отметим лишь, что параллельно с ним аналогичные выводы были сформулированы в книге В. Гусева «Эстетика фольклора» (205)73*.
Название этой монографии не предвещало как будто широкого рассмотрения в ней интересующей нас проблемы. Оказалось, однако, что анализ народного творчества был осуществлен автором — едва ли не впервые — в широком морфологическом контексте, что дало очень интересные и важные результаты как для эстетики, так — смеем думать — и для фольклористики. Двоякого рода теоретические устремления повели исследователя по этому пути: во-первых, рассматривая фольклор как специфический вид искусства, он встал перед необходимостью «определить место фольклора в системе искусств» (там же, 81); во-вторых, богатство конкретных проявлений народного творчества обязывало осуществить внутреннюю их классификацию, т. е. рассмотреть фольклор как систему родовых и жанровых подразделений, чему автор и посвятил специальную главу.
Нельзя не отметить высокий теоретический уровень постановки морфологических проблем в данной работе. Отвергая 150 релятивистский скептицизм, свойственный, как мы видели, не только многим буржуазным, но и некоторым советским ученым (как эстетикам, так и фольклористам), Гусев уверенно поддержал, как сам он выразился, «основной пафос исканий В. Проппа, его убеждение в необходимости строгой, логически обоснованной, научной классификации фольклора» (хотя и пошел тут несколько иными путями, чем Пропп). При этом Гусев очень удачно сформулировал самые принципы системного морфологического анализа: «Всякая классификация, если она стремится быть научной, должна строиться не на эмпирическом выделении и не на произвольной компоновке видов, а должна исходить из объективно присущих предмету изучения свойств…» (там же, 102 – 103). Соответственно в основу классификации искусств Гусев положил «различия в способах и средствах художественно-образного отражения действительности в разных видах искусства»; это позволило ему выделить искусства «временны́е» или «динамические», искусства «пространственные» или «статические» и искусства «пространственно-временны́е»; с другой стороны, он выделил искусства изобразительного характера и искусства, «которые могут быть условно названы “выразительными”». Вместе с тем Гусев счел необходимым ввести в систему искусств третью «координату», характеризующую различия в способе их восприятия; соответственно он выделил искусства, воспринимаемые зрением, слухом и одновременно обоими этими органами чувств (там же, 80 – 83)74*.
Подойдя к решению главной своей задачи — определению места фольклора в системе искусств, — Гусев охарактеризовал фольклор как «искусство сложное, пространственно-временное, пользующееся как зрительными, так и слуховыми образами» и сочетающее «изобразительные» и «выразительные» средства; в этой связи он поставил вопрос о наличии в системе искусств 151 синтетических и синкретических видов, к коим и принадлежит фольклор. Тут Гусев снова солидаризировался с нашей постановкой вопроса и привел предложенные нами в «Лекциях» схемы синкретических и синтетических искусств (там же, 84 – 86). Что касается других морфологических уровней, представленных в книге Гусева — родового и жанрового членений самого фольклора, — то эта классификация проработана им, естественно, гораздо более обстоятельно, и итоги ее вполне оригинальны и крайне интересны. Заслуживает внимания, прежде всего, что автор соотносит родовое деление фольклора и выделение в нем «разрядов» или «групп» жанров, отличающихся «по средствам художественной изобразительности или выразительности, по характеру комбинации этих средств». Результаты такого соотношения зафиксированы в следующей таблице (там же, 106):
Табл. 20
|
Род |
Сочетание составных элементов (групп) |
|||||
|
слово — мимика |
слово — музыка |
музыка — мимика |
музыка — танец |
слово — музыка — танец |
слово — музыка — танец — мимика |
|
|
Эпический |
Прозаические жанры |
Песенные жанры |
— |
— |
— |
— |
|
Лирический |
— |
Песенные жанры |
Музыкально-хореографические жанры |
Песенно-хореографические жанры |
||
|
Драматический |
— |
— |
— |
— |
Обрядовое действо, игра, народный театр |
|
Переходя к проблеме жанровой дифференциации фольклора, Гусев отметил отсутствие в фольклористике общепринятой жанровой классификации и отсутствие «какого-либо единого критерия» такой классификации, что неизбежно порождает всевозможные «несообразности» и «логические противоречия». Стремясь к преодолению этой теоретической сумятицы, он приходит к выводу, что здесь неправомерна «абсолютизация единственного признака», равно как и эклектическое приятие «совокупности всех признаков». И тут Гусев поддерживает мысль Проппа (см. 286; 287) о необходимости «выявления основополагающих признаков» жанра, считая, что таким признаком является объективно присущее жанру «единство проблематики, художественной формы и общественно-бытовой функции» (205, 106 – 108). 152 Проведение этой системы критериев позволяет создать обобщающую таблицу родовых, групповых, жанровых и видовых форм фольклора (там же, 162 – 163. Заметим, что данная таблица, слишком большая, чтобы мы могли ее здесь привести, не в полной мере отвечает теоретическому анализу автора).
Оценивая систематизаторскую работу автора «Эстетики фольклора», необходимо учесть, что до сих пор в марксистской эстетической науке не осуществлено теоретическое осмысление рода и жанра как морфологических категорий общехудожественного масштаба. До тех пор, пока эта задача не будет решена, теории отдельных искусств будут неизбежно вращаться в кругу разнопланных, самодеятельных и потому теоретически неосновательных классификаций. Так, В. Волькенштейн положил в основу деления жанров драматургии типологию «драматической вины» (192, 127), нимало не заботясь о том, как это может быть связано (и может ли быть вообще связано!) с принципом жанрового деления в других видах искусства. Неудивительно, что значение самих понятий «род» и «жанр» является смутным, расплывчатым и неоднозначным.
В 1930 г. в статье «Жанры», опубликованной в четвертом томе «Литературной энциклопедии», А. Цейтлин отмечал «неопределенность и двусмысленность» термина «жанр», который употребляют как для обозначения собственно жанров, так и для обозначения литературных родов. Оспаривая эту практику, автор данной статьи утверждал: «Жанровые образования относятся к эпосу, лирике и драме как виды к роду» (325, 109 – 110). Проходят пять лет, и в девятом томе той же энциклопедии Б. Розенфельд в статье о поэтических родах предлагает, помимо того, вычленять два типа жанров, поскольку в пределах общих жанровых признаков существуют устойчивые разновидности структур (напр., роман бытовой, роман авантюрный, психологический и т. п.) (296, 728 – 729). Что же касается самой проблемы рода, то, по свидетельству Розенфельда, ее теоретическое изучение «представляется одним из сложнейших и вместе с тем наименее разработанных» разделов марксистско-ленинского литературоведения (там же, 729 – 730).
В какой мере изменилось это положение?
В 1948 г. Г. Поспелов писал в специальной статье: «Несмотря на то, что вопрос о поэтических жанрах интересовал еще Аристотеля, что в этой области создан целый ряд таких капитальных исследований, как, например, первая глава “Исторической поэтики” А. Н. Веселовского или “Evolution des genres” Брюнетьера, — все же надо признать, что проблема жанра до сих пор не только не решена, но даже еще и не поставлена» 153 должным образом. Это объясняется тем, что классифицировать жанры по какому-то одному признаку невозможно и нужно совместить два пересекающихся принципа деления: один — определяющий тип выразительной системы, второй — обозначающий способ трактовки характеров (283, 58 – 59)75*.
Концепция Поспелова не получила поддержки в нашем литературоведении, и авторы создававшихся впоследствии учебников по теории, литературы и введению в литературоведение возвращались к традиционным представлениям. В результате, в 1956 г. Г. Абрамович отмечал, что общепринятой трактовки понятий «род» и «жанр» «до сего времени пока не установилось. Одни, основываясь на этимологическом значении слова, вместо род поэзии говорят жанр и называют формы его употребления видами и подвидами. Другие придерживаются того деления, которое нами, как более употребительное, и дается. В этом случае под родом понимается способ изображения (эпический, лирический, драматический); под видом — та или иная определенная форма эпической, лирической и драматической поэзии (роман, ода, комедия); под жанром — какой-либо подвид существующих видов поэзии (исторический роман, сатирическая поэма)», причем различия видов и жанров определяются, в конечном счете, «характером предметов изображения» (169, 225). В это же время и Л. Щепилова признавала, что «единой трактовки термина “жанр” не существует. Иногда им обозначается род литературного произведения (лирический жанр), но чаще всего вид (роман, комедия). Иногда его употребляют для обозначения видовых различий (жанры романа — исторический, психологический, философский и т. д.)». Сама она предпочитает «употреблять для характеристики собственно родовых признаков произведения термин форма литературного творчества», а для обозначения видовых различий — термин жанр (333, 187). (Впрочем, нередко она использует эти термины и в других значениях).
Прошло еще десять лет, и в третьем издании «Основ теории литературы» Л. И. Тимофеев вынужден был сказать теми же словами — «точная терминология здесь еще не установилась», 154 собственная же его точка зрения состоит в том, что членение литературных форм должно быть трехступенчатым — род — вид — жанр (так же, как это представляли себе Розенфельд и Абрамович). Правда, тут же говорилось, что последнее деление является «слишком дробным и излишним» (?), и потому можно употреблять термин жанр «в смысле род», а термин жанровая форма — «в смысле вид» (318, 340 – 341).
В первой половине 60-х гг. сотрудниками Института литературы Академии наук СССР была создана во многих отношениях интересная трехтомная «Теория литературы»; один из томов специально посвящен проблеме литературных родов и жанров. К сожалению, и этой работе не суждено было осуществить радикальный сдвиг в теоретическом исследовании проблемы. Помещенная здесь статья В. Кожинова «К проблеме литературных родов и жанров» (315), страдающая крайней противоречивостью, никакой ясности в дело не внесла, как и его статья «Жанр» в Краткой Литературной Энциклопедии (241). Сравнивая эту последнюю с тем, что писалось о жанре в старой Литературной энциклопедии, убеждаешься, что в этом разделе наша поэтика вперед не ушла76*.
Правда, в самое последнее время положение вещей в советском литературоведении начинает меняться — об этом свидетельствует книга Г. Гачева «Содержательность художественных форм»77*.
Этому талантливому и глубоко оригинальному сочинению трудно дать общую краткую характеристику, ибо есть в нем наряду с многими содержательными и формальными достоинствами один досадный недостаток — неумеренность в проведении основных принципов исследования и основных способов аргументации. Оттого верные мысли и обоснования начинают подчас оборачиваться чуть ли не самопародией: безусловно правильное положение — «форма есть не только конструкция, но и миросозерцание» (195, 39) абсолютизируется так, что всякая 155 частность формального решения возвышается до идеологической представительности78*, а постоянное обнажение внутренней формы слов начинает подчас казаться навязчивым приемом, если не просто филологической игрой. Однако главным в книге, невзирая на все эти издержки, является убедительное применение по отношению к родам и жанрам искусства (в частности, литературы) общего эстетического закона содержательности формы — применение, показавшее, что род и жанр — не «голые», «пустые», придуманные педантами и отжившие свой век формальные структуры, а такие формы, в которых исторически происходит «отвердение и закрепление содержания». Это объясняется тем, что «литературные структуры, которые мы теперь, омертвив и превратив в схемы, подводим под категории рода и вида: драма, сатира, элегия, роман — при своем рождении были живым истечением литературно-художественного содержания…» Поэтому речь должна идти в науке о литературе не о простой «инвентаризации» поэтических форм, а об объяснении их генезиса и содержательного смысла (там же, 16 – 17). В этом-то — генетически содержательном — отношении книга Гачева открыла очень много важного и интересного в трех основных литературных родах и их жанровых модификациях.
Что касается проблемы родового и жанрового членения других искусств, то тут дело обстоит не лучше, чем в теории литературы. Проблемы рода теория живописи или музыки вообще не знает, а определения «эпическая», «лирическая», «драматическая» по отношению к картине или симфонии употребляются хотя и крайне часто, но отнюдь не в смысле обозначения родовой принадлежности данных произведений. Правда, в теории хореографического искусства была сделана недавно — в книге П. Карпа «О балете» — любопытная, но все же теоретически несостоятельная, попытка определить три его «основных жанра» с помощью прямой переброски в сферу балета… родового деления литературы (234, 150 – 151). Если же говорить о жанровых членениях в строгом смысле слова, то в рассуждениях о живописи критики пользуются до сих пор принципом тематического различения жанров, сложившимся в эстетике классицизма (пейзаж, портрет, натюрморт и т. п.)79*, тогда как 156 в музыке понятие жанр употребляется совсем в другом смысле, вернее — в разных и никак не скоррелированных между собой смыслах.
В «Кратком музыкальном словаре» А. Должанского, вышедшем несколькими изданиями в 50 – 60-е гг., говорилось, что жанр — это «разновидность музыкальных произведений, часто определяемая по различным признакам (строению, составу исполнителей, характеру, обстоятельствам исполнения и т. п.)» (211, 111). Несмотря на появление после этого ряда теоретических исследований, специально посвященных данной проблеме или частично ее затрагивавших, — работ Т. Поповой (282), Л. Мазеля (262), В. Цуккермана (326) и др., А. Сохор был вынужден в 1968 г. начать свою книгу «Эстетическая природа жанра в музыке» с тезиса: «Понятие жанра в музыке имеет много толкований. Теоретики и практики единодушны лишь в том, что жанр в соответствии с буквальным значением слова — это род (вид, разновидность, тип) музыкальных произведений. Но определяются и классифицируются жанры по-разному» (306, 6).
В этой книге и в развившей ее идеи специальной статье (362) было выдвинуто такое понимание музыкального жанра: «жанр в музыке — это вид музыкальных произведений, определяемый прежде всего той обстановкой исполнения, требованиям которой объективно соответствует произведение, а также каким-либо из дополнительных признаков (форма, исполнительские средства, “поэтика”, практическая функция) или их сочетанием» (там же, 28). Это определение, сохраняя отмечавшиеся музыковедами прежде разные плоскости членения жанров, выдвигало «в качестве исходного и главного» один признак. При этом автор, в отличие от всех своих предшественников — не только музыковедов, но и искусствоведов и литературоведов, — прорвал границы замкнутого в сфере данного вида искусства анализа жанра и вышел на путь сравнительного изучения принципов жанровой дифференциации в разных искусствах. Для общей теории жанра это было движением в высшей степени прогрессивным, хотя по данному пути Сохор пошел сравнительно недалеко: сопоставление музыки с другими искусствами оказалось ему нужным не столько для того, чтоб найти диалектическую связь общих и специфических законов жанрового членения всех искусств, сколько для того, чтобы нащупать своеобразие ситуации, имеющей место в музыке.
Мы можем заключить, что, хотя на нынешнем этапе развития марксистской эстетической мысли — и в нашей стране, и за ее рубежами — в изучении эстетикой всего круга морфологических 157 проблем найден ряд плодотворных подходов, многое, очень многое остается еще неясным, спорным, неисследованным.
В настоящей работе сделана попытка продвинуть решение этой задачи. Поскольку же залогом успешной разработки теоретических проблем является верность и четкость методологических позиций, мы считаем целесообразным специально остановиться на тех принципах нашего исследования, которые вытекают, с одной стороны, из основоположений марксистской эстетической теории, а с другой — из описанного нами опыта разработки морфологии искусства в истории мировой эстетической мысли.
158 Глава V
УРОКИ ИСТОРИИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО
ИЗУЧЕНИЯ ИСКУССТВА В МАРКСИСТСКОЙ ЭСТЕТИКЕ
1. Первый вывод, который мы вправе сделать, обобщая весь ход развития мировой эстетической мысли в рассмотренном нами ее разделе, — это признать неоправданным скептическое — и тем более чисто негативное — отношение к возможностям морфологического анализа искусства. Такая позиция проистекает, как можно было убедиться, либо из ложного взгляда на природу и сущность искусства, либо из простой лености мысли и нежелания ломать голову там, где можно как будто обойтись описанием внешних примет разнообразных художественных явлений.
Обращаясь к изучению искусства как системы классов, семейств, видов, разновидностей, родов и жанров, мы исходим из того, что в данной области, как и во всех иных, должны действовать некие объективные закономерности, что художественное творчество не является царством субъективистского произвола и хаоса. Не подлежит сомнению, что в искусстве роль субъекта и его творческой активности исключительно велика, что она, быть может, значительно выше здесь, чем во всех других сферах человеческой деятельности. Мера объективности — т. е. независимости от воли, сознания и желаний субъекта — в художественном развитии человечества, конечно же, иная, нежели в биологической эволюции или во взаимодействии физических частиц и химических элементов. Поэтому, как бы мы ни стремились сделать эстетику и искусствознание точными науками, следование за биологией, физикой или математикой имеет тут свои пределы. Но, вместе с тем, если бы художественно-творческая деятельность людей не имела в своей основе никаких объективных законов, бессмысленным было бы само существование науки об искусстве. «И лишь закон свободе даст главенство» — писал в этой связи Гете в стихотворении «Природа и искусство».
159 Правда, тут можно вспомнить и слова Дидро: «В искусстве нет законов, которые гений не мог бы нарушить», или же знаменитый афоризм Пушкина: «Художника надо судить по законам, им над собой взятым»; но эти суждения нельзя толковать вырванными из контекста всей системы эстетических воззрений Дидро и Пушкина и вне соотнесения с их собственным творчеством. Если же мы рассмотрим эти изречения в таком контексте и в таком соотнесении, станет вполне очевидным, как далеки были творчество и эстетическая программа классиков реализма прошлого от полного отрицания объективных законов художественно-творческой деятельности человека. Они не признавали тех законов, которые формулировала эстетика классицизма, но они были абсолютно убеждены в том, что существуют и могут быть познаны действительно объективные закономерности, определяющие, например, отличие литературы от живописи и сценического искусства или же отличие драмы от повести. Дидро опровергал истинность классицистического толкования отличия комедии от трагедии, но и эта полемика, и осуществленная им практическая разработка «среднего жанра» — высокой комедии или бытовой трагедии покоились на уверенности в том, что есть у каждого жанра объективные границы и что в то же время есть объективная возможность «гибридизации» жанров. Точно так же бессмертный «роман в стихах» Пушкина или «поэма в прозе» Гоголя рождались не из абсолютного отрицания каких-либо законов жанра, не из писательского своеволия, а из стремления раскрыть возможности, которые таятся в воздействии одного жанра на другой. Ибо жанр есть «память искусства», к которой оно постоянно обращается и которой оно, однако, как свободное творчество никогда не довольствуется.
Очень поучительна в этой связи полемика замечательного итальянского марксиста А. Банфи с Б. Кроче. Последний представил съезду Пенклуба в Венеции в 1949 г. тезисы, в которых, в частности, вновь отрицал возможность научной классификации литературных жанров: цель такой классификации, говорил он, «не в том, чтобы утвердить истину, а в том, чтобы создать удобство». Критикуя эту точку зрения, Банфи писал: «Я в самом деле не в состоянии понять, как мыслитель, носящий репутацию поборника историзма, может ограничиться утверждением того, что художественные80* или литературные жанры являются простыми абстрактными схемами-классификациями». Если 160 в древности, продолжает Банфи, «мысль, проникнутая ложным формализмом и философским эссенциализмом, могла определять их как неизменные сущности и качества», то, отвергая подобный взгляд, «безрассудно… считать их простыми классификационными ярлыками», чисто условными понятиями. Художественные и литературные жанры складываются в реальной эстетической практике под влиянием различных ее ориентации и существуют исторически — «мы являемся свидетелями их рождения, их дифференцированного развития, их истощения». Это значит, что нельзя толковать понятие «жанра» и границы между жанрами догматически, как некие «абстрактные структуры», как «художественный канон», их надо рассматривать как исторически возникающие и меняющиеся реальные художественные структуры (444, 85 – 87)81*.
Такова диалектика проблемы, которую нетрудно увидеть, обращаясь и к другим структурным инвариантам — к роду искусства, к его виду или разновидности. То или иное конкретное художественное произведение может не иметь строгой и однозначной жанровой, родовой или даже видовой определенности. Но такова уж природа конкретного — оно, как подчеркивал В. И. Ленин, всегда богаче общего. Общее, устойчивое, инвариантное есть лишь «вытяжка» из многообразных конкретных явлений, но оно существует столь же реально, как отдельное и неповторимое. Поэтому определение общих признаков видовых, родовых, жанровых структур всегда будет неполно характеризовать мир конкретных художественных творений; но без знания этого общего сама их конкретность оказывается непостижимой.
Из всего сказанного следует, что морфологический анализ 161 искусства и возможен, и необходим; вопрос состоит лишь в том, как и для чего он осуществляется.
2. В основе всякого системного исследования лежит известная классификация систематизируемых явлений; поэтому успех в деле моделирования некоей системы зависит в первую очередь от примененных в данном случае принципов классификации. Мы не будем останавливаться на характеристике общих классификационных правил, которые устанавливает логика (хотя, как показал наш историографический обзор, правила эти весьма часто нарушались и нарушаются, отчего самые хорошие замыслы системных построений рушились подчас как карточные домики). Специального разговора заслуживают лишь те классификационные принципы, которые вытекают из природы изучаемого нами материала.
а) Необходимо в этой связи прежде всего установить, какая плоскость классификации искусств должна быть признана исходной и определяющей. Ибо, как показала история эстетической мысли, виды искусства можно сравнивать и различать по многим признакам: по особенностям используемых материалов (слово, звук, камень, телодвижение и т. п.); по способу восприятия художественных произведений (зрительному, слуховому и т. д.); по способу их создания (индивидуальному и коллективному, «первичному» и «вторичному», т. е. исполнительскому); по способу отражения действительности (изобразительному и неизобразительному); по формам бытия художественного образа (статическому, динамическому или пространственному и временному) и т. д. и т. п. Это обилие возможных плоскостей сравнения способно повергнуть в уныние (отсюда и рождаются не раз встречавшиеся в истории буржуазной и советской эстетики умозаключения: если виды искусства можно группировать и так, и этак, значит, все эти классификации относительны, все равно приемлемы и предпочесть одну другим можно только из соображений «удобства» в данном конкретном случае — при построении библиотечного каталога, музейной описи или книги о видах искусства).
Выход из положения состоит в том, чтобы выявить связь — координационную и субординационную — самих классификационных плоскостей. Ибо давно уже было подмечено, что искусства статичные или пространственные являются одновременно и искусствами оптическими, что разделение творчества на первичное и вторичное (исполнительское) имеет место только в искусствах динамических, которые одновременно являются акустическими и оптико-акустическими… и т. д. и т. п. Множественность классификационных разрезов проистекает прежде 162 всего из того, что каждый из них имеет свою «точку отсчета»: художественные произведения могут рассматриваться по отношению к акту творчества, или к акту восприятия, или к отраженной в них реальности, или к материалам, в которых они строятся, или к способу их собственного бытия в пространстве и времени, но вряд ли можно считать все эти отношения равноправными или просто рядоположенными. В действительности перед нами некая системная связь, центральным звеном которой является, несомненно, реальное бытие произведения искусства. Вполне очевидно, что характер его восприятия непосредственно зависит от того, что представляет собой само это воспринимаемое произведение — объемную конструкцию, которую можно и нужно видеть, или звуковую конструкцию, которую можно и нужно слышать. То же самое следует сказать и об особенностях художественного созидания — и они определяются характером созидаемого продукта: картина создается не так, как симфония, поэма или фильм, потому что в каждом случае структура творческого процесса детерминирована структурой творимого предмета. Кажется поэтому естественным, что в основу классификации искусств должны быть положены не различия способов создания художественных ценностей и не различия способов их восприятия, а те различия, которые характеризуют бытие и строение самих произведений искусств.
б) Второе исходное методологическое положение, которое отчетливо осознается в результате изучения опыта наших предшественников, состоит в том, что, — как об этом очень хорошо писал уже Круг, — при классификации искусств необходимо с самого начала отделить «простые» структуры от «сложных», т. е. искусства, образная ткань которых однородна по материалу, от искусств синкретических и синтетических. Речь идет при этом не только о сложных, многоэлементных структурах, подобных фольклору или сценическому искусству, но и о самых простых, бинарных соединениях — например, о пении, в котором словесно-поэтические средства соединяются с музыкальными. Разделение искусств с гомогенной и гетерогенной структурой должно быть признано не только необходимой, но одной из первичных плоскостей классификации, ибо очевидно, например, что Менделеев никогда не открыл бы закономерности периодической системы элементов, если бы строго не отделил простые вещества от сложных — например, водород, кислород и серу от воды и серной кислоты82*.
163 в) Третий классификационный принцип, который следует признать одним из основополагающих для морфологии искусства, — деление искусств на монофункциональные и бифункциональные. Мы видели, как складывалось отношение к этому делению в истории мировой эстетической мысли — от простого выталкивания из мира искусства «низших» искусств как якобы неполноценных, до полного растворения «высших» искусств в совершенном мастерстве, независимо от рода деятельности, в техническом творчестве, в «жизнестроении». Опыт истории науки учит нас, по-видимому, тому, что обе эти крайности теоретически несостоятельны и практически опасны. Их преодоление требует предельно четкой постановки вопроса о двух формах бытия искусства, которые именовались прежде «чистой» и «прикладной», или «свободной» и «связанной», или «высшей» и «низшей», и которые мы сочли целесообразным обозначить понятиями «монофункциональная» и «бифункциональная» (67, 372 – 378). Ибо речь идет о том, что художественная ценность может создаваться как таковая, с единственной для нее функцией художественного воздействия на людей, и может создаваться на базе иного рода ценности — утилитарной, как в архитектуре, прикладных и промышленных искусствах; агитационно-пропагандистской, как в ораторском искусстве или в искусстве рекламы; культовой, как в различных религиозных обрядах; спортивной, как в художественной гимнастике или в фигурном катании; документально-хроникальной, как в художественной фотографии, художественном очерке, документально-художественном фильме; научно-просветительской, как в научно-популяризационных жанрах литературы и кинематографа, или в жанрах пластических искусств, участвующих в создании экспозиций исторических, этнографических и прочих музеев. Эти две формы бытия искусства по-разному соотносятся друг с другом на разных этапах истории культуры и на различных участках мира искусств, но они всегда наличествуют в нем как два необходимых способа художественно-творческой деятельности, в принципе равноправных, равноценных и равно нужных человеку. Поэтому их нельзя ни отождествлять, ни полностью отрывать один от другого.
3. Как бы ни были, однако, четко сформулированы и успешно реализованы принципы классификации видов искусства, решение морфологической задачи на одном этом уровне не может нас удовлетворить. В этой связи хотелось бы еще раз подчеркнуть 164 важность мысли, высказанной еще Ионасом Коном, о принципиальном различии между классификацией и систематизацией искусств (правда, этот теоретик считал, что взаимоотношение видов искусств допускает классификационный подход, но не допускает подхода систематизирующего). Чем же отличается систематизация от классификации?
Во-первых, если классификация исходит из эмпирических данных и имеет индуктивный характер, то систематизация исходит из анализа способности данной сущности к дифференциации и имеет поэтому дедуктивный характер; во-вторых, системный подход требует выявления необходимости тех различий, которые классификация просто фиксирует; в-третьих, моделирование некоей системы требует сопряжения нескольких классификационных плоскостей, поскольку эта многомерность обуславливается сложностью изучаемых объектов, многоплановостью их связей и взаимоотношений; наконец, это сопряжение должно предстать как координация и субординация различных направлений классификаций.
Видовое членение искусств есть, по-видимому, лишь центральная плоскость его морфологического анализа, т. к., с одной стороны, виды искусства группируются, образуя целые «гнезда» — классы и семьи (скажем, «пространственные искусства», «изобразительные искусства», «пластические искусства» и т. п.), ас другой, каждый вид искусства сам предстает перед нами как глубоко и разносторонне расчлененная система разновидностей, родов и жанров.
В этой связи перед наукой встает целая серия проблем: а) является ли это многообразие конкретных форм творчества закономерно организованной системой или же хаосом случайно возникших форм? б) если правильно первое предположение, то следует ли считать, что принципы, образующие данную систему, в каждом виде искусства совершенно особые и что раскрывать их должны поэтому теории отдельных искусств, или же есть основания думать, что мы имеем тут дело с некими дифференцирующими силами, общими для всех видов искусства, коренящимися в структуре художественного творчества как такового и подлежащими, следовательно, изучению эстетики, а не теории литературы, теории живописи, теории музыки и т. д.? в) если верна последняя гипотеза, то чем объяснить многопланность внутренних членений в каждом виде искусства, откуда все эти членения возникают и как они взаимосвязаны, какую «систему сил» они образуют?
В этой книге и будет сделана попытка изучения соотношения классов и семей искусств, видов искусства, их разновидностей 165 и отраслей, наконец, родов и жанров искусства как единой и сложной системы художественных форм, стихийно образовавшейся в ходе развития мировой художественной культуры, но образовавшейся именно как объективно существующая система, историческая подвижность которой не «отменяет», а проявляет лежащие в ее основе структурные закономерности.
4. Для того чтобы эта сложная задача могла быть решена, нужно с предельной четкостью осознать и с предельной последовательностью реализовать следующие методологические установки.
Необходима, прежде всего, выработка строгих критериев различения морфологических уровней, которая оградила бы нас от повторения столь частых в прошлом и в наше время произвольных перемещений того или иного художественного явления с одного уровня на другой — когда, например, лирика, эпос, драма объявляются то видами искусства, то разновидностями литературы, то ее родами, а то жанрами словесного искусства, когда роман или сатира фигурируют то как жанры, то как литературные роды и т. д. и т. п. Вводя, таким образом, понятие «морфологический уровень», мы должны установить, какие именно уровни дифференциации существуют в искусстве и каковы, следовательно, критерии четкого различения художественных «электронов» и «атомов», «атомов» и «молекул», «молекул» и «клеток». Этим сопоставлением с миром физических, химических и биологических структур мы воспользовались не для красного словца, а для того, чтобы подчеркнуть: речь идет не о терминологических уточнениях чисто формального порядка, не о дани некоему морфологическому педантизму, а о понимании законов объективной соотнесенности разнородных, разномасштабных, разнопланных художественных явлений.
Теоретически неразвитому мышлению кажется, что совершенно безразлично, каким словом — «жанр», «род», «вид» и т. п. — станем мы именовать роман, поэму, натюрморт, симфонию, комедию — важно, мол, знать, чем именно комедия отличается от трагедии, симфония от фуги, натюрморт от пейзажа, поэма от эпиграммы и роман от повести… Развитое теоретическое сознание, отдавая себе отчет в том, что всякая терминология, конечно, условна и что в принципе несущественно, будем мы называть те или иные художественные структуры видами, или жанрами, или родами, или типами, или еще как-то иначе, видит, однако, что существо проблемы и ее теоретическая важность заключены совсем не в выборе названий, не в ярлычках. Говоря о значении структурной типологии форм художественного творчества, мы имеем в виду, прежде всего, давно уже 166 осознанную в мире естественных наук и, к сожалению, еще не признанную в сфере наук гуманитарных, необходимость выработки такой системы терминов, которая отражала бы реальную систему отношений в изучаемом объекте и делала бы невозможным обозначение одним и тем же словом принципиально различных отношений, закономерностей и качеств (вспомним, например, какую роль играет в биологии четкая и строгая субординация понятий «род», «вид», «семейство», «отряд» и т. д.); именно по этой причине нельзя пользоваться одним и тем же термином «жанр» для научно состоятельного определения существенно различных принципов членения художественных явлений в пределах каждого вида искусства. Еще важнее то, что речь идет сейчас не о простом терминологическом облачении уже вскрытых научным анализом законов структурной дифференциации каждого вида искусства, а именно о поисках этих законов, т. е. о настоятельной теоретической потребности понять, почему художественное творчество в сфере литературы, живописи, музыки и т. д. распадается на известные нам, а не на какие-либо иные типы, каковы, следовательно, объективные структурные особенности каждого из них и их объективные связи, соотношения, взаимодействия.
5. Другая методологическая установка, которая должна быть специально оговорена, — подход к границам, разделяющим смежные виды, разновидности, роды или жанры искусства, не как к непроницаемым стенам или непроходимым рвам, а как к пограничным зонам, в которых происходит постепенное перерастание одного явления в другое. Мы назвали бы эту установку «спектральным» пониманием взаимосвязи смежных художественных явлений. Согласимся с А. Амбросом, что «пограничные линии» между искусствами представляют собой в действительности не линии, а более или менее широкие «полосы», которые «окутаны таинственным полумраком», ибо то, что в них находится, не принадлежит безусловно ни одному, ни другому искусству. И этому не приходится удивляться, замечал теоретик, так как такие же «темные переходные области» есть в самой природе — например, «между животным царством и растительным или растительным и минеральным» (1, 143 – 144. Ср. аналогичное суждение Волькенштейна — 192, 126 – 127).
В наше время относительность границ между видами, родами и жанрами искусства выявляется, по-видимому, еще резче. В одной из своих статей Г. Товстоногов, характеризуя взаимосвязь театра и кинематографа, остроумно заметил: «Повсеместно идет перетаскивание пограничных знаков; кинематограф вторгся в исконно театральные “земли”, театр — в кинематографические» 167 (319, 75). Думается, с не меньшим правом ложно было бы сказать то же самое и о взаимоотношениях киноискусства и литературы, литературы и музыки, графики и живописи. В результате сопряжение смежных художественных явлений — видов, разновидностей, родов, жанров — и приобретает спектральный характер: одна структура переходит в другую постепенно, по закону перехода количественных изменений в качественные. Конечно, сказанное не означает, будто границы между разными структурами исчезают, что науке, как уверяет Кожинов, вообще не нужна «формальная классификация» жанров (315, 46 – 47) или же что начиная с эпохи романтизма в литературе происходит, как утверждает Сквозников, «атрофия жанра», делающая бессмысленной постановку данной проблемы применительно к современному состоянию искусства слова (там же, 205 – 210). Как бы плавно ни перетекала литература в музыку и музыка в литературу, какой бы шкалой переходных форм ни были связаны поэзия и проза, как бы ни взаимопроникали друг в друга лирика и эпос, повесть и драма, драма все-таки всегда остается драмой, лирика — лирикой и повесть — повестью, а пушкинский «роман в стихах» или «поэма в прозе» Гоголя возможны только потому, что реально, непреложно и неустранимо существует качественное своеобразие романа и стихов, поэмы и прозы.
Таким образом, в марксистской эстетике морфологический анализ искусства предполагает не грубо метафизическое установление жестких демаркационных линий между видами, родами и жанрами искусства, а диалектическое выявление качественного своеобразия всех конкретных форм художественного творчества и одновременно их взаимосвязей, переходов одной в другую, их взаимовлияний и скрещений; в результате качественное своеобразие каждой из них окажется относительным, а не абсолютно устойчивым, подвижным, а не статичным, способным к трансформации, а не застылым и мертвым. Для того же, чтобы обнаружить и объяснить эту живую динамику взаимосвязей между всеми формами художественного творчества, нужно рассматривать систему искусств в ее историческом движении, т. е. возможно теснее соединить логический и исторический методы исследования.
6. Принцип единства логического и исторического давно уже признан одним из основополагающих и универсальных принципов марксистской методологии. Нам кажется поэтому излишним приводить многочисленные суждения на сей счет Маркса, Энгельса и Ленина — они должны быть хорошо известны читателю этой книги. Не будем останавливаться и на том, какое 168 специальное значение имеет данный методологический принцип для эстетической науки — об этом в последние годы немало написано в работах эстетиков-марксистов. Сейчас нам представляется необходимым остановиться лишь на том, какова роль соединения логического и исторического при изучении законов морфологии искусства; впрочем, в данной связи придется коснуться и некоторых общеметодологических проблем, поскольку советские ученые не достигли еще единодушия в понимании того, как конкретно должно выглядеть слияние исторического и логического подходов в эстетической теории.
В ходе обсуждения трехтомной академической «Теории литературы», имеющей программный подзаголовок «Основные проблемы в историческом освещении», и в последнем издании своей книги «Основы теории литературы» Л. Тимофеев высказал сомнение в том, не превращается ли теория литературы в историю литературы при таком проведении принципа историзма, который характерен для обсуждавшегося издания (318, 8). Не касаясь сейчас того, сколь основательны были эти сомнения в данном случае, мы хотели бы только указать, что принцип единства логического и исторического заключает в себе самом некое диалектическое противоречие, ибо он выступает как действительное единство противоположностей. Оттого развертывание этой диалектики предполагает возможность «перевеса» одной стороны противоречия над другой, т. е. превалирование моментов логических над историческими или, напротив, исторических над логическими. Бесспорно, однако, что «историческая поэтика» и «историческая эстетика» должны оставаться поэтикой и эстетикой, т. е. теоретическими науками, не превращаясь в суммарное описание конкретного хода исторического развития изучаемой сферы человеческой деятельности, и столь же несомненно, что теоретический анализ не может абстрагироваться от конкретного хода истории, пренебрегая реальным его движением или навязывая ему логически сконструированные схемы.
Учитывая в этом смысле и плодотворный, и плачевный — но всегда поучительный! — свежий опыт нашей науки и современной зарубежной эстетики, равно как и драгоценный опыт Гегеля и Белинского, Веселовского и Тэна, мы стремились в настоящем исследовании возможно органичнее связать исторический и логический аспекты анализа взаимосвязей между видами, разновидностями, родами и жанрами искусства. Необходимость такой связи диктовалась в данном случае не только общеметодологическими, но и специальными, вытекающими из особенностей самой темы, соображениями. Соображения эти состоят в следующем.
169 Во-первых, даже поверхностный взгляд на мировую историю искусства обнаруживает весьма существенные изменения в морфологической структуре художественно-творческой деятельности людей в разные эпохи. Тех видовых, родовых и жанровых членений, которые были свойственны, например, античной художественной культуре, не знает искусство первобытного общества, и во многом иными они оказываются в средние века. В ходе исторического развития одни виды и жанры художественного творчества рождаются, другие умирают, третьи радикально преобразовываются; одновременно постоянно меняются границы мира искусств и соотношение различных его областей. Поэтому морфология искусства не может не быть исторической морфологией, т. е. не может отвлечься от процесса формирования, от многократных последующих изменений и неизбежных грядущих преобразований системы искусств. Она не имеет права абсолютизировать какой-либо конкретный исторический тип этой системы — даже современный, потому что и нынешнее состояние художественной культуры также является преходящим и подлежит поэтому рассмотрению в его исторической динамике, в перспективе его дальнейших трансформаций.
А отсюда следует, во-вторых, что последовательное проведение единства логического и исторического взглядов на систему искусств необходимо не только для постижения важных структурных закономерностей всего предшествующего хода развития художественной культуры, но и для верного, не противоречащего интересам художественной практики, освещения возможного пути ее движения в нашу эпоху. Ибо борьба в сфере искусства с субъективизмом, с одной стороны, и с догматизмом, с другой, требует от теории, чтобы она была именно исторической логикой современного этапа художественного развития человечества, т. е. чтобы она вскрывала закономерности сложившейся в наше время системы искусств, но не канонизировала ее, не пыталась нормативно увековечить тот «набор» видов, родов и жанров искусства и те соотношения между ними, которые сейчас существуют. Только в этом случае морфология искусства будет иметь не чисто теоретическую, но и практическую ценность.
В этом смысле перед морфологией искусства стоят те же задачи, что и перед современным науковедением, которое активно разрабатывает проблему систематизации наук, учитывая в полной мере историческую динамику научного познания — сошлемся на фундаментальный труд академика Б. Кедрова, «Классификация наук» (449) или на работу Б. Ананьева «Человек как предмет познания» (440). «Нельзя ничего понять в классификации 170 наук, — решительно утверждал Ж. Пиаже, — если их рассматривать статично, тогда как познание находится в вечном становлении и в непрерывном формировании». По этой причине «система наук не может быть линейной», резюмировал выдающийся швейцарский психолог и высоко оценил «нелинейную» классификацию наук, предложенную Кедровым (459, 74).
Создание аналогичной «нелинейной классификации искусств», т. е. выявление системных отношений, которые связывают и разделяют классы, семейства, виды, разновидности, роды и жанры искусства, складываясь и изменяясь в историческом процессе развития художественной культуры, и является задачей, подлежавшей решению в данном исследовании. Она определила и построение книги.
Вслед за первой частью, историографической и методологической, следует часть вторая — историческая. Не выходя в ней из сферы теории и не пытаясь дать краткое описание всего хода развития мировой художественной культуры, мы поставили здесь целью выявить: а) закономерности формирования художественной деятельности человека как деятельности синкретической; б) закономерности процесса дифференциации этого первоначального художественного синкретизма и образования самостоятельных художественных структур; в) закономерности рождения новых художественных образований на высоких ступенях развития искусства и отмирания некоторых старых форм творчества; г) закономерности процесса интеграции, т. е. образования гетерогенных художественных структур в результате скрещения структур гомогенных.
Третья часть имеет чисто теоретический профиль. В ней рассматриваются результаты анализа историко-художественного процесса, но в отвлечении от его конкретного хода, в силу чего все формы искусства предстают как бы одновременно существующими (по известному выражению Ф. Энгельса, мы встречаемся здесь с «тем же историческим методом, только освобожденным от исторической формы…» — 455, т. 13, 497). Это позволяет нам: а) определить границы мира искусств и законы его внутреннего строения; б) выявить все морфологические возможности, которые заключены в художественном освоении мира, но которые на каждом этапе истории искусства, в том числе и на нынешнем, реализовывались не полностью; в) обнаружить все морфологические уровни, на которых конкретизируется художественно-творческая деятельность человека, и показать их системную связь друг с другом.
Наконец, четвертая и последняя часть нашего исследования, над которой автор сейчас работает и которую он должен опубликовать 171 в недалеком будущем, строится как историко-теоретическая. Это означает, что она призвана синтезировать подходы двух предыдущих частей, соединив их в некоем относительном равновесии. Тут речь пойдет об изучении реальной исторической динамики системы классов, семейств, видов, разновидностей, родов и жанров искусства, динамики, обусловленной столкновением постоянно изменявшихся социально-детерминирующих факторов с теми внутренними возможностями, которые заложены в каждом искусстве. Необходимость изучения этих закономерностей связана с тем, что в истории художественной культуры меняется не только состав системы искусств, но и ее внутреннее строение, поскольку конкретное соотношение различных способов художественного освоения мира является в высшей степени динамичным. Только на этой ступени морфологического анализа окажется возможным раскрыть содержательные, а не только формальные особенности каждого способа художественного творчества, выявить степень их соответствия различным потребностям общества на разных этапах его развития, наконец, показать, как в ходе неравномерного развития искусств (видов, родов, жанров) не только меняется место каждого в общей системе, но и его способность влиять на другие или испытывать их влияние, и как тем самым расширяются или сужаются собственные изобразительно-выразительные возможности каждого искусства, его содержательная емкость.
Представляется, что такое построение работы отвечает существу изучаемой проблемы и одновременно реализует с максимальной полнотой внутренние потенции, заключенные в единстве теоретического и исторического методов исследования. Иначе говоря, мир искусств рассматривается нами как сложно-динамическая система, которая соответственно и требует системно-исторического к себе подхода.
7. Опыт наших предшественников показывает, что в каждом случае морфологическое изучение искусства покоилось на определенном понимании того, что вообще представляет собой искусство, каковы его сущность и его структура: оттого, например, представители формалистической эстетики придавали решающее значение своеобразию конкретного материала, в коем строится произведение искусства, а представители интуитивистской эстетики отрицали самую возможность классификации плодов художественного творчества. Естественно, что и нам надлежит сформулировать хотя бы кратко то понимание искусства, которое будет положено в основу всего морфологического анализа.
Повторяя то, что уже высказывалось нами на сей счет в ряде книг и статей последнего времени (448; 67; 68), мы определим 172 искусство как способ моделирования жизненного опыта человека, служащий получению специфической познавательно-оценочной информации, ее хранению и передаче с помощью особого рода образных знаковых систем (художественных языков). Эту уникальную структуру можно представить такой схемой:
Табл. 21
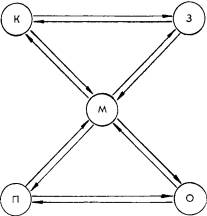
Символы «п» и «о» обозначают здесь неразрывно связанные двусторонней связью познавательный и оценочный элементы (точнее, подсистемы), взаимодействие которых образует заключенное в искусстве специфическое художественное содержание. Для того, чтобы данная информация могла быть объективирована и транслирована, она должна принять материальную форму, а эта последняя — приобрести знаковый характер. Соответственно символы «к» и «з» обозначают конструктивный и знаковый элементы (точнее, опять-таки, подсистемы), противоречивое единство которых образует внешнюю форму искусства. Что касается символа «м», то он обозначает центральное звено структуры искусства, в котором проявляется его способность моделировать жизненные отношения и которое играет роль внутренней формы, обеспечивающей переход духовного в материальное, возможность их органического сопряжения в целостной структуре художественного образа.
Из такого понимания многогранного строения искусства мы и будем исходить во всем дальнейшем исследовании.
173 Часть вторая,
ИСТОРИЧЕСКАЯ
От первобытного
художественного синкретизма к современной системе искусств
175 Глава VI
СИНКРЕТИЗМ ПЕРВОБЫТНОГО ИСКУССТВА
Две особенности начальной ступени художественного освоения человеком мира представляют интерес для морфологического анализа искусства.
Первая состоит в том, что изначально границы между художественной и нехудожественной (жизненно-практической, коммуникативной, религиозной и т. д.) сферами человеческой деятельности были весьма неопределенными, расплывчатыми, а подчас просто неуловимыми. В этом смысле часто говорят о синкретизме первобытной культуры, имея в виду характерную для нее диффузность разных способов практического и духовного освоения мира.
Вторая особенность исходной ступени художественного развития человечества состоит в том, что мы не находим там также сколько-нибудь определенной и четкой жанро-родо-видовой структуры. Словесное творчество еще не отделено в ней от музыкального, эпическое — от лирического, историко-мифологическое — от бытового. И в этом смысле эстетика давно уже говорит о синкретичности ранних форм искусства, морфологическим же выражением такой синкретичности является аморфность, т. е. отсутствие выкристаллизовавшейся структуры.
Обе эти особенности первобытной художественной культуры требуют, однако, более глубокого анализа. Начнем с первой из них.
1. БИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ПЕРВОБЫТНОГО ИСКУССТВА
С тех пор, как началось серьезное изучение древнейшего пласта истории культуры, эстетика постоянно сталкивалась с проблемой: можно ли считать искусством те формы деятельности 176 первобытного человека, которые внешне похожи на художественное творчество цивилизованных людей? Основание для такого рода сомнений — явная эстетическая «нечистота» палеолитических росписей, танцев и песен отсталых народов, их легенд и сказаний. Исследование показывало, что во всех этих случаях мы имеем дело отнюдь не с «чистым искусством», т. е. не с «художественным производством, как таковым», говоря словами К. Маркса (455, т. 12, 736), а с действиями, обладающими более или менее отчетливой утилитарной функцией — обрядово-магической, или практически-познавательной, или знаково-коммуникативной.
В этом свете вполне закономерным становится вопрос: имеем ли мы право говорить о первобытном искусстве, если формы человеческой деятельности, о которых идет речь, обладали утилитарной функцией, несли в себе внеэстетическое содержание и рассматривались самими первобытными людьми отнюдь не как художественное изображение жизни, а как орудие практической — производственной, культовой, коммуникативной — жизнедеятельности?
Казалось бы, есть все основания согласиться с теми, кто дает на этот вопрос отрицательный ответ. Но, прежде чем выносить окончательное суждение, примем во внимание следующие обстоятельства.
Во-первых, определение объективной природы и сущности того или иного общественного явления не может базироваться на субъективных представлениях об этом явлении людей, причастных к его созиданию или восприятию. Вспомним, как предостерегал Маркс от того, чтобы судить о людях и об исторических эпохах по тому, что сами они о себе думают… Самосознанию каждой эпохи свойственна определенная мера заблуждений, иллюзий, непонимания действительного смысла человеческих действий, и мера эта тем больше, чем глубже мы уходим в даль веков. Поэтому представления первобытного человека о сущности и цели его плясок, песен, мифов и украшений менее всего могут служить для науки критерием определения истинной природы и роли данных форм деятельности.
Во-вторых, в архитектуре и прикладных искусствах мы находим на протяжении всей их истории и утилитарную функцию и определенное внеэстетическое содержание, что не мешает нам квалифицировать эти области творчества как виды искусства. Правда, в истории эстетической мысли такая квалификация, как мы видели, не раз оспаривалась, но мы могли убедиться и в том, что подобная «эстетическая дискриминация» архитектуры и прикладных искусств встречала каждый раз решительное 177 сопротивление и признавалась теоретически несостоятельной. История нашей науки показывает, что только с позиций крайнего эстетизма, трактующего художественное творчество как свободную, индетерминированную, самоцельную игру форм и приходящего к абсолютному разрыву практического и эстетического, возможно логически последовательное изъятие прикладных искусств и архитектуры из мира искусств. Отвергая подобный взгляд на сущность искусства, мы не можем, тем самым, отрицать художественное качество первобытного искусства только на том основании, что оно имело в своей основе утилитарное назначение и жизненно-практическое содержание.
В-третьих, мы ведь не подвергаем сомнению художественную природу средневекового христианского искусства или же искусства буддийского, хотя их религиозный и по-своему магический характер не менее определенен и определяющ, чем в искусстве, родовой общины. Поэтому вплетенность древнейших форм художественной деятельности в систему тотемистического или анимистического культа не может служить «уликой» против первобытного искусства.
В-четвертых, как свидетельствует вся история художественной культуры, произведения искусства очень часто бывали — и бывают поныне — «отягощены» разного рода информационными, коммуникативными, сигнализационными и т. п. значениями. Именно таким двойственным, художественно-нехудожественным, смыслом обладает военная музыка, политический и производственный плакат, рекламные стихи, многие ювелирные изделия и украшения одежды (напр., знаки отличия монарха, офицера, священнослужителя), оформление средневековой рукописной книги и современное искусство шрифта и т. д. и т. п. Следовательно, сколь бы ни был значителен удельный вес подобных внеэстетических элементов в первобытном искусстве, это не должно воспрепятствовать нам рассматривать его все-таки как искусство, если мы обнаружим, что объективный смысл и реальное содержание данных форм деятельности не являются чисто информационными, чисто коммуникативными, чисто сигнализационными, но включают в себя важное, существенное и внутренне необходимое им специфически художественное начало.
Отсюда следует, что решение вопроса «существовало ли первобытное искусство?» зависит именно от того, обнаруживаем ли мы в древнейшем культурном слое специфически художественные образования, хотя бы они не имели самостоятельного бытия, а «прирастали» к другим, нехудожественным по своей сути формам человеческой деятельности. Поскольку положительный ответ 178 на этот вопрос был дан нами в другом месте (67, 237 – 265), остается выяснить, в каких конкретных отношениях художественная сторона деятельности древнейшего человека находилась с другими ее сторонами.
Оказывается, что художественные элементы первобытной культуры как бы вырастали из ее нехудожественных элементов и долгое время не отчленялись от последних. Так, древние танцы и пантомимы жили в лоне магического обряда, имевшего своей целью обеспечение успеха в охоте, на войне и т. д.; столь же отчетлива изначальная вплетенность песни в трудовые процессы, в разнообразные культовые обряды, в молитвенные заклинания шаманов и жрецов (ограничимся здесь ссылкой на классическое исследование К. Бюхера — см. 375); так, изображения животных на стенах пещер, на скалах, на орудиях труда чаете обнаруживают все ту же связь с магией, с тотемистическим культом, а иногда оказываются своего рода письменами, что делает понятным дальнейший процесс формирования пиктографии, т. е. изобразительной письменности; так, основной целью орнаментальной раскраски человеческого тела и его украшения всевозможными ожерельями, браслетами, подвесками было обозначение принадлежности индивида к племени, к роду, к тотему, а затем и обозначение его общественного положения, состояния, умения (вспомним «Письма без адреса» Г. Плеханова). Художественное начало органически вплеталось и в процесс изготовления всевозможных утилитарных изделий — оружия, орудий труда, бытовой утвари. Даже в такую сравнительно позднюю эпоху, как гомеровская, «мы находим полное совпадение художества и производства, — утверждает А. Лосев на основании детальнейшего анализа поэм Гомера. — Изображаемые у Гомера вещи одинаково являются и эстетической самоцелью, и предметом вполне утилитарным, вполне бытовым» (396, 217). Наконец, древнейшие сказания и легенды были не чем иным, как мифами, т. е. фантастическим повествованием о жизни природы, о происхождении человека, об отношениях между людьми и животными, растениями, стихиями, причем повествования эти представлялись их творцам совсем не художественным вымыслом, а описанием действительно произошедшего и происходящего — чем-то вроде исторической хроники, летописи, естественнонаучных «трактатов»; именно по этой причине они становились фундаментом всех религиозных представлений и обрядов. «Первобытную мифологию, — пишет Е. Мелетинский, — нельзя отождествлять ни с искусством, ни с религией, хотя мифология сыграла существенную роль в развитии того и другого. Отождествление неизбежно привело бы к альтернативе: или искусство 179 порождено религией, или религия — искусством. В то же время мифология и не “автономная область духа”, а специфическая для родового общества форма выражения идеологического синкретизма» (401, 22).
Невозможно согласиться поэтому с концепцией А. Анисимова, который пытался доказать, будто сказка старше мифа, т. е. будто внерелигиозная, чисто художественная деятельность фантазии предшествует религиозно-осмысленному мифотворчеству (442, 89 и 93. Ср. 443, 70)83*. Как ни заманчив такой способ доказательства генетической независимости искусства от религии, его нельзя убедительно аргументировать ни исторически, ни теоретически. Первичность художественно-образного сознания первобытного человека по отношению к его религиозному сознанию нельзя понимать как хронологическое предшествование. Речь должна идти о другом — о правильном толковании природы самого мифа, которую глубоко ошибочно было бы измерять одними религиозными параметрами. Напомним важнейшее положение К. Маркса, неоднократно называвшего мифологию «бессознательно-художественной переработкой» природы и общества в народной фантазии (455, т. 12, 737). Однако диалектика мифа состоит в том, что он был не чисто художественным явлением, а явлением художественно-религиозным, т. е. произведением искусства, которое мыслилось и функционировало не как художественный вымысел, а как точное описание некоей высшей «реальности». Миф — это религиозное представление, выступающее в форме искусства; потому-то в дальнейшем, утратив свое религиозное содержание, миф окажется для общества чистой художественной ценностью — так же, как языческие идолы, тотемные столбы или иконы84*.
180 Мы могли бы, таким образом, заключить, что первоначальная форма бытия искусства есть именно форма перехода от неискусства к искусству, обладающая двойной качественной определенностью и двойной функциональностью. Иначе говоря, искусство рождается как художественное осмысление, преобразование, «оформление» разнообразных способов практической деятельности первобытного человека — именно тех, социальная ценность которых была особенно значительной и требовала специального утверждения, закрепления и выявления. Возможность такого «прорастания» художественных форм в различных жизненно-практических способах деятельности и «обволакивания» последних первыми объясняется тремя причинами.
Во-первых, в ту пору все основные направления социальной жизнедеятельности — изготовление орудий труда, охота, добывание и хранение огня, магические заклинания стихий и животных, способы общения и передачи практически необходимой информации, воспитание и обучение подрастающих поколений, укрепление родовых и племенных связей — оказывались для первобытного человека не узкоутилитарным действием, но действием одновременно практическим и духовным, созидательным и выразительным, поскольку познание, осмысление и оценка человеком мира не были еще самостоятельными актами и могли осуществляться только в единстве с актами практическими.
Во-вторых, древнейший уровень сознания характеризуется тем, что оно еще не было способно расчленять материальное и духовное, природное и человеческое, производственное и идеологическое, реальное и иллюзорное, практическое и воображаемое. Невыделение человеком себя из природы, ее одухотворение и антропоморфизация, отсутствие границ между действительным и фантастическим — таковы особенности структуры первобытного сознания, которые могли адекватно воплотиться только и именно в художественно-образной форме.
В своем исследовании «Как возникло человечество» Ю. Семенов решительно возражает против господствующих в нашей науке представлений о том, что история человеческого сознания есть развитие и совершенствование одного-единственного типа мышления — мышления логического, и, опираясь на концепцию 181 Л. Леви-Брюля (см. 465; 466), говорит об изначальности двух типов мышления — логического и магического (460, 358 – 379). Полностью поддерживая стремление ученого раскрыть структуру древнейшей формы сознания, мы должны, однако, заметить, что он отдает магии значительно больше, чем ей действительно принадлежало, и неправомерно ставит «магическое мышление» на один уровень с мышлением логическим. «Магическое мышление» могло быть лишь производным от более глубокой и широкой формы сознания, развивавшейся в известной параллельности к логическому мышлению и отличавшейся от него тем, что предметом отражения и познания был для нее не объективный мир как таковой, а мир как ценность, мир очеловеченный, одухотворенный, рассмотренный в неразрывной связи с человеческой жизнью. Эту форму сознания мы имеем все основания назвать художественно-образной, ибо именно из нее вырастала вся художественная деятельность древних людей и именно она осталась поныне почвой художественного творчества. Очень точно писал об этом Э. Тэйлор: «Современный поэт и до сих пор, ради живописности, пользуется метафорами, которые в устах варвара являлись действительной помощью для изъяснения его мысли». Приведя в виде примера стихи Шелли
Как чудесна Смерть,
Смерть и ее брат, Сон!
Одна — бледная, как убывающая луна,
С ее мертво-синими губами;
Другой — розовый, как утренняя заря,
Когда, обратив в трон волны океана,
Она румянцем алеет над миром —
этнограф заключал, что весь этот язык метафор, сравнений, уподоблений «и есть та самая манера, которой следует человек первобытного варварского периода, изъясняющийся метафорами, заимствованными из природы, не ради поэтической аффектации, но просто ради того, чтобы подыскать самые ясные слова для передачи своих мыслей» (412, 163)85*.
Называя вторую изначально складывавшуюся форму мышления «пралогической», «мистической», как Леви-Брюль, или «магической», как Семенов, нельзя объяснить ни происхождения, ни масштабов распространения в древности способов художественного освоения мира. Если же мы увидим в этой второй, нелогической, форме сознания складывавшуюся по вполне понятным причинам образную структуру, которая открывала широкий простор 182 для выводов магически-мистического порядка, но по природе своей не была ни мистической, ни магической, мы сумеем объяснить и всепроникающий характер древнейшего художественного творчества, и его широчайшее использование магией, тотемизмом, а затем — развитыми формами религии. (Семенов не касается, к сожалению, в своей книге проблемы мифа, сущность которого может быть истолкована только при учете доминировавшего в первобытном сознании типа мышления.)
Неудивительно, что вся повседневная жизнь древнейших людей была пропитана художественной «субстанцией» в бесконечно большей степени, чем во все последующие эпохи. Лингвистическая палеонтология давно уже обнаружила удивительную насыщенность языка на первых фазах его исторического развития образно-поэтическими элементами — вслед за Гердером и Гумбольдтом Потебня считал даже, что язык был «первоначально тождествен поэзии» (285, 163 – 164). Нечто подобное можно увидеть и в других областях древней культуры — в гончарном производстве, в изготовлении орудий труда, оружия, одежды, в росписях пещер, скал, валунов; повсеместно мы обнаруживаем тем большую меру художественной активности, чем архаичнее исследуемый культурный слой. Эта закономерность обратной пропорциональности не должна казаться странной — ведь нечто подобное, только не в количественном, а в качественном аспекте, отметил К. Маркс, сравнивая античное искусство с искусством XIX в. (455, т. 12, 736 – 737). Речь идет тут, разумеется, не о руссоистского типа идеализации первобытного общества, а всего лишь о том, что и в онтогенезе, и в филогенезе развитой способности абстрактно-логического мышления предшествует иная структура психической деятельности, характерные признаки которой: а) отражение объективной реальности в ее отношении к человеку, а не в ее независимом от субъективного восприятия бытии; б) нераздельность познания и оценивания воспринимаемых явлений; в) целостность интеллектуально-эмоциональных операций, не допускающая обособления мысли и ее самостоятельных действий. Такая структура и является основой художественно-образного освоения мира, и именно она делает художественное воплощение естественным, органическим, спонтанным проявлением духовной активности первобытного человека, где бы активность эта ни сказывалась — в сфере материального производства, в речевом общении или в изобразительном закреплении житейского опыта86*.
183 В-третьих, внедрение художественно-образных элементов в повседневную практическую деятельность первобытных людей потому могло осуществляться с такой легкостью и так широко, что оно не требует каких-либо особых, лишь ему свойственных, материальных средств. Напротив, в этом отношении художественное освоение мира неразборчиво, всеядно и неутолимо в своем стремлении использовать любые средства объективации поэтической идеи — те, которые оно находит в самом человеке (жест, телодвижение, мимика, звучание голоса, речь), те, которые оно находит в природе (камень, глина, естественные красители и т. п.), и те, которые оно будет находить в плодах материального производства (ткани, металлы, керамические материалы, искусственные красители, звучание разнообразных специально сконструированных инструментов и т. п.). Поэтому первобытному художественному творчеству не нужно было искать для себя какие-то специальные средства материализации — оно легко использовало для этой цели все формы бытия практических человеческих действий.
Последующий исторический процесс художественного развития общества будет связан — как мы убедимся в свое время — с преодолением этого изначального «прикладного» характера художественного творчества, со стремлением отделить художественную сторону его содержания, формы и функций от стороны утилитарной ради получения «чистой культуры» художественности, или «чистой», «свободной», как говорил Кант, красоты. Мы увидим также, каковы объективные границы данного процесса и почему они оказались различными, например, для музыки и для архитектуры, для актерского искусства и для прикладного искусства, для живописи и для орнамента. Сейчас же нам важно установить, что у исторических своих истоков художественное освоение мира было вплетено в практическую жизнедеятельность людей и формировалось на широком фронте ее разнообразных проявлений.
2. «МУСИЧЕСКАЯ» И «ТЕХНИЧЕСКАЯ» ФОРМЫ ПЕРВОБЫТНОГО ИСКУССТВА
Использование первобытным искусством разнообразных средств материализации не было первоначально сколько-нибудь 184 дифференцированным. Напротив, в одном и том же художественно-творческом акте свободно сочетались самые различные материальные средства. Впрочем, такая «эклектичность» или всеядность характерна в ту пору не только для художественной деятельности — человеческие силы были еще так слабы, а «техника» всех человеческих действий столь примитивна, что естественным было стремление применять в любом действии все возможные средства и приемы, способствующие достижению цели. Технологическая дифференциация будет развиваться медленно, ощупью, интуитивно, и лишь постепенно будет изживаться исходный синкретизм функций и структур как в орудиях труда, так и в художественных творениях. Сначала же, подобно тому, как в борьбе со зверем первобытный охотник использовал и руку, и палку, и зубы, и камень, подобно тому, как в общении с другими людьми он пользовался и словом, и криком, и жестом, так и в первых опытах художественного творчества он оперировал и словесными, и музыкальными, и танцевальными, и пантомимическими, и графическими, и живописными, и скульптурными средствами. Средства эти поддерживали друг друга, скрещивались, переплетались, и менее всего первобытный человек способен был думать о целесообразности их расчленения и самостоятельного применения. Скорее напротив — чем многообразнее были данные средства, тем более эффективным представлялся сам творческий акт.
Видимо, по этой причине мы наблюдаем в архаических художественных культурах поистине ненасытное стремление сочетать разнообразнейшие материалы и приемы — танец и пантомиму, пение и звучание инструментов, раскраску тела и его украшение всевозможными ожерельями, браслетами, подвесками, замысловатые прически и головные уборы, актерские действия и скульптурные маски, короче — все доступные на данной ступени производства средства и способы художественной деятельности. Вспомним суждение А. Веселовского: «вначале: песня — сказ — действо — пляска». Проиллюстрируем это описанием танца, изображенного на щите Ахилла:
Юноши в хоре и девы, для многих желанные в жены,
За руки взявши друг друга, на этой площадке плясали.
Девушки были одеты в легчайшие платья, мужчины
В тканные прочно хитоны, блестевшие слабо от масла.
Девушки были в прекрасных венках, а у юношей были
Из серебра ремни, на ремнях же ножи золотые.
Быстро они на проворных ногах в хороводе кружились
Так же легко, как в станке колесо под рукою привычной,
Если горшечник захочет проверить, легко ли вертится.
Или плясали рядами, один на других надвигаясь.
Много народу теснилось вокруг, восхищаясь прелестным
185 Тем хороводом. Певец же божественный
пел под формингу,
Стоя в кругу хороводном; и только лишь петь начинал он,
Два скомороха тотчас начинали вертеться средь круга.
Гомер.
«Илиада», XVIII, 592 – 606.
«На ступени гомеровского отношения к искусству, — пишет Лосев, — мы только в порядке исключения могли бы находить музыку и пение во взаимно-дифференцированной форме, а музыка и пение, в свою очередь, здесь очень часто не разъединяются с танцами. Все эти искусства даны здесь на ступени, еще очень близкой к первобытному синкретизму, хотя ничего “первобытного” у Гомера, вообще говоря, нет: это — очень развитая культура» (396, 221).
Весьма показательно, что нечто подобное мы обнаруживаем в индейском охотничьем танце, который Тэйлор описывает следующим образом: «каждый индеец выносит из своего жилища специально имеющуюся на этот случай маску, сделанную из буйволовой головы, с рогами и хвостом, висящим сзади, и все принимаются плясать “буйвола”. Десять или пятнадцать пляшущих образуют круг, барабаня при этом и стуча трещотками, с песнями и завываниями. Когда один из них утомляется, он начинает проделывать пантомиму, представляя, что его убили стрелой из лука и после снятия шкуры разрезали на части, между тем как другой, стоящий наготове со своей буйволовой головой на плечах, занимает место выбывшего из пляски» (412, 167).
Перенесемся на другой континент — и тут та же картина: «“Музыка — песня — танец” — понятие, неразделимое в Африке, — утверждает исследователь. — Если упоминается какое-то из этих слов, то другие подразумеваются сами собой» (402, 275. Ср. также 394, гл. «Первый театр»).
Всеобщность этой закономерности подтверждается и древневосточной мифологией — например, китайским мифом, в котором рассказывается о праздновании Желтым императором военной победы. Во время пира исполнялись гимны под аккомпанемент барабана, исполнялись танцы и пантомимы, изображавшие военные сцены (419, 132, 70).
Следовательно, применительно к данной ступени художественного развития у нас нет права говорить о видах искусства как сколько-нибудь самостоятельных отраслях художественного творчества. Исходный пункт его исторического развития — это состояние нерасчлененности, диффузности, морфологической аморфности.
И все же, рассматривая первобытную художественную культуру более пристально, мы имеем возможность пойти дальше ставшего уже традиционным ее определения как синкретической, 186 ибо оказывается, что синкретизм этот имел даже в самом начале известные границы. Дело в том, что художественному освоению мира приходилось с первых шагов сталкиваться с двумя существенно различными возможностями: одну из них предоставляли те средства воплощения художественного замысла, которыми обладал сам человек — движения его тела и звук его голоса; другую возможность оно находило, обращаясь к внешним для человека, природным средствам — к камню, глине, дереву, кости, естественным красителям и т. п.
Различие между этими двумя, изначально данными, сферами художественного творчества было весьма существенным и имело далеко идущие последствия. Отметим, прежде всего, что в первой из них древний художник работал с таким материалом, который уже в повседневной жизни первобытных людей использовался как естественное средство выражения человеческих мыслей и чувств и одновременно как основное средство общения (словесный язык и «языки» мимики, жестов); поэтому для выражения художественного содержания и для его передачи данные средства оказывались наиболее приспособленными и осваивались легче других. Здесь человеческое содержание искусства воплощалось в человеческой же форме, т. е. в форме, максимально ему близкой, словно предназначенной самим бытием человека для данной цели. Во втором же случае средства воплощения этого человеческого художественного содержания были внечеловеческими, вещественными, мертвыми, отчуждавшими от человека его душевные состояния и придававшими им самостоятельное существование; «самовыражение» художника становилось здесь уже не непосредственным, а опосредованным, требуя согласования духовного содержания с чуждой ему структурой материального бытия. Понятно, что овладеть этим арсеналом внечеловеческих средств как носителем и знаком духовного человеческого содержания было делом значительно более трудным, «противоестественным».
Отсюда проистекало и другое важное различие между этими двумя сферами древнейшего художественного творчества: в первой оно имело процессуально-динамический характер, поскольку именно такова природа пластической жизни человеческого тела и звучаний его голоса, а во второй — плоды творчества были статичными, неподвижными, они останавливали течение жизни, увековечивая вырванные из тока времени мгновения. И в этом отношении второе русло развития искусства предоставляло художественному освоению мира иные объективные возможности, чем первое, усиливая значение опосредованности выражения художественной идеи.
187 Мы обнаруживаем, таким образом, изначальную группировку искусств, как бы выраставших двумя «пучками», или «кустами», или комплексами: в одном из них вызревали древнейшие формы словесного, музыкального, танцевального и актерского творчества, в другом — древнейшие формы прикладных искусств, архитектуры, скульптуры, живописи, графики. Вспомним — и это в высшей степени показательно, — что еще античная эстетика исходила из ясного сознания различия данных групп искусств, связывая первую с деятельностью предводительствуемых Аполлоном муз и называя ее соответственно «мусическими» искусствами, а вторую именуя «техническими» искусствами, родственными ремеслу и вообще всей области практического созидания — «техне». Покровителем этой группы искусств был бог огня Гефест и отчасти Афина Паллада, к Аполлону же они прямого отношения не имели87*.
В этой группе искусств синкретическая связь конкретных форм и способов художественной деятельности была не менее прочной, чем в искусствах «мусических» — графические, живописные и скульптурные изображения самым широким образом использовались во всех прикладных искусствах и в архитектуре. Лосев подметил характерную особенность описания произведений «технических» искусств в поэмах Гомера: там нет, оказывается, речи о самостоятельно существующих произведениях живописи или скульптуры; напротив, «изобразительное искусство у Гомера вполне тождественно с ремеслом, и нет никакой возможности провести здесь определенную границу между тем и другим…» (396, 217). Если верить новейшим исследованиям археологов и искусствоведов, наскальные росписи согласовывались с характером интерьера «естественной архитектуры» пещеры; позднее, с появлением архитектуры в точном смысле этого слова, изобразительные мотивы включались в саму конструкцию сооружения столь же органично, как это делалось издавна в орудиях труда, оружии и одежде88*.
188 Необходимо отметить, что исторически складывавшееся расхождение между «мусическими» и «техническими» искусствами было не абсолютным, а относительным. Ибо, с одной стороны, наши далекие предки распространяли творческую деятельность предметно-пространственного характера на самих себя, орнаментируя наряду с орудиями труда свое собственное тело, художественно конструируя наряду с бытовым инвентарем собственные прически, свое «второе тело» — одежду и всевозможные украшения, создавая, наконец, наряду с живописно-скульптурными изображениями зверей зооморфные маски, надевавшиеся на голову человека и становившиеся его «вторым лицом». По свидетельству Д. Ольдерогге, в африканском искусстве «маска неразрывно связана с характером движения танца, с танцевальным ритмом. Есть, например, маски, предназначенные для торжественных шествий. Большие и тяжелые, они медленно движутся среди толпы, слегка покачиваясь из стороны в сторону. В других обрядах движения танцора быстрые, он крутится в стремительном вихре, причем его одеяние из пальмовых волокон вздымается, окружая его, как облаком, в центре которого возвышается голова-маска. Наконец, некоторые маски изображают животных и применяются в танцах, имитирующих их движения. В зависимости от назначения рассчитан и вес масок» (405, 29).
Такого рода художественные произведения, делаясь на известное время (а многие украшения — даже на всю жизнь) частью человеческого облика, утрачивали в некоторой мере свою статичность и «оживали», включаясь в общую динамическую структуру танца, пантомимы, художественно-обрядового действа. Интересно в этой связи древнеиндийское представление о неразрывной связи танца не только с музыкой, но и с живописью: «Без науки танца правила живописи непонятны», — говорит мудрец Маркандейя в трактате «Читрасутра» (267, т. 1, 16). С другой стороны, первобытный человек нашел возможность вывести творческую деятельность «мусического» типа за пределы неотъемлемых от его физического бытия средств, научившись извлекать звуки искусственным образом, с помощью особых созидаемых им предметов — музыкальных инструментов.
Несомненно, однако, что такие выходы за пределы чистых «мусических» и «технических» форм художественной деятельности не устраняли их основополагающего различия, благодаря которому произведения пластических искусств могли жить самостоятельной 189 жизнью, не совокупляясь с творчеством словесно-музыкальным и танцевально-пантомимическим. Такой самостоятельностью обладали и первые архитектурные сооружения, и художественно сконструированные орудия труда, и наскальные изображения животных, и статуэтки, воссоздававшие облик женщины. Таким образом, о синкретизме первобытного творчества правомерно говорить лишь применительно к тому и другому «пучку» искусств, в каждом из которых соединение отдельных художественных «ветвей» имело уже не альтернативный, а едва ли не обязательный характер.
Правомерен вопрос: одновременно ли зародились эти два очага художественного творчества — «мусический» и «технический» — или один из них старше другого?
Подобный вопрос неоднократно возникал в эстетической мысли XVIII – XIX вв. применительно к генетическому соотношению различных видов искусства, причем древнейшим искусством называлась то архитектура, то музыка, то поэзия, то танец. Неверным было здесь, однако, само представление о возникновении всех видов искусства в «чистом» виде, как самостоятельных форм художественного творчества, и вполне естественно, что любая попытка наметить последовательность их появления вела к ложным выводам. Если же мы будем исходить из изначального существования двух синкретических художественных комплексов, то сможем с достаточной убедительностью решить проблему разновременности зарождения этих праформ художественно-творческой деятельности человека.
Поскольку «мусическое» искусство древности строилось в материалах, непосредственно данных человеку как формы его биосоциального бытия, и поскольку в этих материалах предмет художественного освоения мог быть воссоздан, образно смоделирован в присущей ему динамике, текучести, процессуальности, постольку «мусическое» искусство было, несомненно, доступнее человеку на заре его развития, нежели искусство «техническое», в котором он мог выразить себя лишь опосредованно и условно, овеществляя свой духовный мир и представляя изменчивое течение жизни в виде неизменных, абстрагированных от времени, статичных предметов. Показательно во всяком случае, что в самых ранних постройках первобытного человека — в так называемых «гнездах», в ветровых заслонах, шалашах, землянках — историкам архитектуры не удается найти никаких элементов художественности, и традиционная история архитектуры начинает описание развития этого искусства со значительно более поздних форм — дольменов и менгиров. Согласимся ли мы с таким пониманием древнейших образцов зодчества или не согласимся, 190 мы не можем, в отличие от Гердера, не различать вопрос о зарождении архитектуры как искусства и вопрос о зарождении строительной деятельности человека. Последняя намного старше, конечно же, чем первая89*, так же точно, как изготовление орудий труда, оружия и хозяйственной утвари началось задолго до возникновения прикладного искусства. Судя по археологическим данным, художественное конструирование (мы пользуемся в данном случае современным термином, который, однако, весьма точно обозначает зародившийся уже в эпоху палеолита способ создания произведений прикладного искусства) начинается в то же время, что и живописное и скульптурное творчество пещерного человека; архитектура же родилась гораздо позже90*. Но вряд ли можно сомневаться, что «мусическое» искусство, которое — увы! — невозможно датировать археологически, потому что его произведения не имеют вещественной закрепленности, начало развиваться в еще более древнюю пору.
Такое утверждение основывается не только на приведенных выше соображениях о большей доступности первобытному человеку этого способа художественного освоения мира, но и на толковании смысла самих произведений первобытного изобразительного и прикладного искусства. Изображение зверя на стене пещеры или на копьеметалке, равно как и женские статуэтки, было бы наивно, конечно, рассматривать как простую фиксацию зрительных впечатлений палеолитического художника, как некие «этюды с натуры». Как бы ни расходились ученые в интерпретации идейного содержания этих изображений, бесспорным является то, что за каждым из них стоит определенный круг мифологических представлений. Образ зверя — это модель тотемного животного, образ женщины — это воплощение мифологического персонажа, и орнаментальный узор на сосуде, на оружии или на лице охотника — это знак культового смысла, загадочный или 191 бессодержательный только для непосвященных91*. Но отсюда следует, что «мусическое» искусство, с помощью которого и создавались мифы, уже должно было существовать в ту эпоху, когда на его содержательной основе формировались изобразительная и орнаментально-декоративная ветви «технического» искусства. Их отношение к «мусическому» творчеству здесь, в сущности, то же, что и в последующие эпохи — в культурах древневосточной, античной и средневековой, где живопись, скульптура, архитектура, прикладные искусства реализовывали идеи и образы, предлагавшиеся им языческой или христианской мифологией; с другой стороны, способность первобытного человека к рисованию, гравированию, лепке развивалась на основе изобразительных жестов, которые были элементом охотничьей пантомимы.
Весомым доказательством правильности обосновываемой нами концепции являются археологические находки в ряде пещер неандертальца (Драхенлох, Петерсхем и др.). Хотя в интерпретации этих находок у ученых нет единства взглядов, нам кажется наиболее убедительной точка зрения тех исследователей, которые связывают найденные медвежьи черепа и кости с тотемистическим культом зоофагического типа92*. Многочисленные этнографические параллели свидетельствуют о том, что подобные обряды имели в своей основе определенные мифы, легенды, сказания, повествовавшие о родстве медведя и человека, о половых связях между медведями и людьми, об их взаимных превращениях и т. д. (460, 428, 327). Зоофагические праздники и были реализацией этих художественно-образных представлений с помощью разнообразных средств «мусических» искусств — ряжения, пантомимы, песен и т. п. Семенов прямо говорит о том, что пляски, основанные на имитации движений животного ряженными под него людьми, были одним из элементов «тотемистического праздника пралюдей» (там же, 439). Однако археологически засвидетельствовано, что в эту эпоху не было еще ни живописи, ни скульптуры, ни архитектуры, ни 192 прикладного искусства — их рождение относится лишь к позднему палеолиту.
В мустьерских стоянках (в Ля Ферраси и многих других) обнаружены лишь валуны с пятнами краски или каменные плиты с углублениями, залитыми красной краской. Многие исследователи расценивают это явление как исток изобразительной деятельности первобытного человека, как первую ступень исторического процесса формирования живописи (447, 46 – 47; 59, 50, 97). Несомненно, однако, что о живописи в точном смысле этого слова здесь не может быть речи — речь может идти только о выработке чисто технических способов использования минеральных красителей для каких-то целей — скорее всего магических. «Мусическое» же искусство существует, как мы видели, в эту эпоху в достаточно уже развитой форме — хотя бы в тех инсценировках охоты, в которых камни с красными пятнами «играли роль» раненого зверя. Нельзя, наконец, пренебречь в данном случае и свидетельствами онтогенеза, который своеобразно повторяет закономерности филогенеза: в художественном развитии ребенка «мусическое» творчество опережает рисование.
3. РОДОВАЯ И ЖАНРОВАЯ АМОРФНОСТЬ ПЕРВОБЫТНОГО ИСКУССТВА
Морфологический анализ исходной ступени развития мировой художественной культуры не может, однако, ограничиться выделением рассмотренных выше двух разных ее истоков. Обнаруживая характерный для каждого из них начальный внутренний синкретизм, мы провели анализ только на одном морфологическом уровне — на уровне видового членения художественного творчества и не касались других уровней, на которых пролегают членения родовые и жанровые.
И в этом отношении художественное освоение мира было изначально аморфно: в нем не найти сколько-нибудь определенных и самостоятельных родовых и жанровых модификаций. Самые ранние формы словесного творчества можно с таким же успехом считать лирическими, как и эпическими; наскальные росписи с таким же правом можно назвать монументально-декоративными, как и станковыми; древнейшее музыкальное творчество было в такой же мере вокальным, как и инструментальным; в праформах театрального искусства с равным основанием можно видеть истоки драматического театра, музыкального театра 193 и балета — даже в античном театре эти роды сценического искусства не отчленились еще друг от друга. Столь же сложно было бы искать однозначные определения жанровой природы начальных форм художественного творчества. Хотя термин «сказка» широко используется для квалификации складывавшихся в глубочайшей древности поэтических легенд, следует иметь в виду всю условность подобной дефиниции, ибо первобытная «сказка» была, в сущности, и своеобразным «историческим романом», и своеобразной «философской повестью», и своеобразной «эпической поэмой», точнее же — она жила вне возникших значительно позднее жанровых разграничений и содержала в себе не отделившиеся еще друг от друга ростки многих грядущих жанровых структур.
Эту аморфность первобытного искусства в родовом и жанровом отношениях можно объяснить, прежде всего, неразвитостью самого художественного освоения мира, еще не успевшего нащупать различные пути и способы образного моделирования жизни и не обнаружившего еще известных преимуществ такой «специализации» искусства. Существуют, однако, и более общие и более глубокие причины данного явления, коренящиеся в особенностях общественной практики и общественного сознания наших далеких предков — в примитивной цельности и недифференцированности их бытия, их отношения к природе и к самим себе, в еще недоступном им отчленении себя от природы и природы от человеческого коллектива. Показателен в этой связи вывод А. Окладникова: «Зверь и женщина, по законам первобытной логики, оказываются сопричастными друг другу, а мотив охоты скрещивается с темой любви» (458, 324. Ср. 365, 103). Вполне естественно, что на таком уровне социального развития родовая и жанровая дифференциации художественных моделей жизни оказывались невозможными93*.
Вычленение различных родов, так же как жанров или видов искусства, — процесс сравнительно поздний, выходящий за пределы первобытного искусства.
194 Глава VII
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДРЕВНЕЙШЕГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО СИНКРЕТИЗМА
Охарактеризовав начальную стадию истории мировой художественной культуры и переходя к рассмотрению дальнейшего ее движения, мы обнаруживаем прежде всего два резко различных русла художественного развития человечества. Одно из них — народное творчество, фольклор, другое — профессиональное искусство или, говоря словами К. Маркса, «художественное производство, как таковое». Их различие не может быть нами раскрыто всесторонне — такая задача выходит за пределы основной темы нашего исследования, морфологический же аспект этого различия нам необходимо выявить.
Он состоит, коротко говоря, в том, что фольклор упорно сохранял свойственный первобытному искусству двупланный синкретизм, тогда как в развитии художественного производства синкретизм этот целеустремленно и решительно преодолевался, приводя и к обособлению художественного творчества от всех других форм человеческой деятельности, и к внутренней дифференциации различных способов художественного освоения мира — видовой, родовой, жанровой.
1. ФОЛЬКЛОР КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ФОРМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
Теоретическое изучение фольклора оставалось до последнего времени одним из наиболее туманных участков науки об искусстве. Буржуазная эстетика по вполне понятным причинам вообще игнорировала народное художественное творчество, не считая его полноценной формой искусства — достаточно указать на то, что фольклор не учитывался, как мы могли убедиться, 195 ни в одной из классификаций видов искусства на протяжении всей истории его морфологического изучения. Хотя в марксистской эстетике отношение к фольклору принципиально изменилось, он по-прежнему не находил себе места в опытах конструирования системы видов искусства, да и самое его понимание было — и остается по сей день — весьма неопределенным. Обобщая итоги прошедшей у нас в начале 60-х гг. широкой дискуссии на данную тему, Л. Емельянов отметил, что среди ее участников «не было, пожалуй, и двух, чьи представления о фольклоре можно было бы назвать одинаковыми» (214, 42).
Неопределенными остаются, прежде всего, границы той сферы, которая охватывается понятием «фольклор»: на одном краю широкого диапазона бытующих в науке толкований мы встречаемся с представлением, согласно которому фольклор включает в себя едва ли не все формы деятельности народных масс, всю народную культуру, а на другом — с точкой зрения, сводящей фольклор к одному только «устно-поэтическому творчеству» (381; 205). В этих разногласиях нужно видеть не простые расхождения в терминологии, но выражение принципиальных различий в понимании соотношения искусства и неискусства.
Наш подход к проблеме будет определяться сказанным в методологическом резюме первой части настоящей книги. Такой подход уже был продемонстрирован в анализе первобытного искусства, и сейчас мы пойдем той же дорогой, тем более что в сравнении со всеми известными нам формами художественного творчества фольклор ближе всех — и исторически, и структурно — к первобытному искусству. В конечном счете, все наиболее общие характеристики последнего можно с известной степенью огрубления отнести и к фольклору. Несомненно, вместе с тем, что фольклор есть все-таки нечто иное, чем первобытное искусство, — во-первых, потому, что он является плодом длительного исторического развития, совершенствования и модификации начальных форм художественного творчества, а во-вторых, потому, что он создается и живет в иной социальной среде — уже не первобытнообщинной, доклассовой, а классово-антагонистической и одновременно раздвоенной в отношениях социальном (город и деревня), общекультурном (городская и сельская культура) и специфически художественном (фольклор и профессионализированное художественное производство города). Собственно говоря, первобытное искусство — это фольклор доклассового и социально недифференцированного общества. А отсюда следует — это можно утверждать даже априорно, — что фольклор должен быть и существенно близок к первобытному искусству, и в ряде отношений решительно от него отличаться.
196 Начнем с того, что фольклор сохраняет тот же «прикладной», бифункциональный, художественно-утилитарный характер, который был свойствен первобытному искусству. По точному определению В. Гусева, «фольклор является одновременно искусством и неискусством; познавательная, эстетическая и бытовая функции составляют в нем одно неразрывное целое, но это единство заключено в образно-художественную форму» (205, 78 – 79). Очень интересна в этой связи великолепная характеристика средневековых карнавалов — этой специфической формы раннего городского фольклора, которую дал М. Бахтин: «Основное карнавальное ядро» обрядово-зрелищной смеховой культуры средневекового города «вовсе не является чисто художественной театрально-зрелищной формой и вообще не входит в область искусства. Оно находится на границах искусства и самой жизни. В сущности, это — сама жизнь, но оформленная особым игровым образом.
В самом деле, карнавал не знает разделения на исполнителей и зрителей. Он не знает рампы даже в зачаточной ее форме. Рампа разрушила бы карнавал (как и напротив: уничтожение рампы разрушило бы театральное зрелище). Карнавал не созерцают, — в нем живут, и живут все, потому что по идее своей он всенароден. Пока карнавал совершается, ни для кого нет другой жизни, кроме карнавальной. От него некуда уйти, ибо карнавал не знает пространственных границ. Во время карнавала можно жить только по его законам, то есть по законам карнавальной свободы. Карнавал носит вселенский характер, это особое состояние всего мира, его возрождение и обновление, к которому все причастны» (370, 9 – 10).
Вместе с тем в фольклоре начинается и по мере его развития довольно далеко подчас заходит отщепление художественной функции от его утилитарных назначений: достаточно сказать, что здесь уже не создаются мифы — они лишь воспроизводятся, утратив свое исконное религиозное содержание, «демифологизируясь» и превращаясь в простые сказки; с другой стороны, столь характерный для фольклора героический эпос, при всей его внешней близости к мифу, отличается от последнего прежде всего тем, что в эпосе художественное освоение мира вышло за пределы обслуживания религии; добавим к этому, что именно на фольклорной стадии художественного развития человечества появляются художники-профессионалы или полупрофессионалы — бродячие певцы, сказители, жонглеры, скоморохи, представители разных отраслей художественного ремесла и т. д. Народное творчество не знает широкого развития «чистого» искусства, отъединившегося от удовлетворения религиозных или 197 производственных нужд и рассчитанного на одно лишь эстетическое созерцание, однако в ходе развития фольклора такие формы в ряде случаев появляются: возникает сказ — предтеча «театра одного актера»; рождается зрелище, специально разыгрываемое бродячими лицедеями, фокусниками, дрессировщиками; распространяется лубок; входят в быт своеобразные «концерты художественной самодеятельности» на околице села с частушками, плясками, хороводами, находящиеся уже вне какого-либо обряда. Фольклор, рассмотренный исторически — а он должен рассматриваться именно таким образом, потому что при всей незначительности и незаметности происходивших в нем изменений его многовековое существование и его прохождение сквозь разные социальные формации не могло не вызвать в нем известных эволюционных процессов, — предстает перед нами именно как движение, длительное и постепенное движение от полной погруженности художественной деятельности во все проявления жизненной практики к частичному самоопределению искусства. Вряд ли нужно специально пояснять, почему это самоопределение имело весьма и весьма ограниченные масштабы.
Второе направление сопоставления фольклора с первобытным искусством должно выявить общность и различия в их внутренней структуре. И тут нужно сказать, что фольклор сохраняет художественный синкретизм начального этапа истории искусства, сохраняет и свойственное ему различие «мусической» и «технической» форм творчества, но обостряет эту раздвоенность, одновременно расшатывая внутри каждой из данных форм связи между ее художественными «элементами».
Процесс этот заходит так далеко, что фольклористика чаще всего считает возможным ограничить себя изучением одного народно-поэтического творчества. Народная архитектура, произведения художественного ремесла, лепная игрушка, лубочные картинки — все это обычно вообще не относят к фольклору. Лишь немногие современные ученые настаивают на правомерности и необходимости включения в фольклор также народного прикладного и изобразительного искусства (см. 205, 69). В статье, специально посвященной сравнительному анализу народного словесного, изобразительного и хореографического творчества, П. Богатырев, один из крупнейших современных фольклористов, высказывал глубокое сожаление по поводу того, что «сравнительное изучение различных видов народного искусства не привлекало должного к себе внимания» (178, 422), хотя в реальности «отдельные виды народного искусства органически связаны между собой и составляют единое целое, единую художественную структуру» (там же, 430).
198 И все же большинство фольклористов если и не сводит фольклор к одному словесному творчеству, то в лучшем случае расширяет его границы до пределов «мусического» комплекса. Наиболее четко это выражено и теоретически обосновано Гусевым, который исходит из того, что «вся область практически-духовной деятельности народных масс отчетливо делится на две большие группы», в зависимости от того, получает она или не получает вещественное закрепление; фольклором именуется соответственно та сфера художественной деятельности, которая отличается «вещественно-незакрепленной формой образности» (205, 73, 75, 77). Правда, Гусев отмечает не только различие между этими двумя областями народного художественного творчества, но и их прямое родство, и их тесную взаимосвязь, отчего проблема их наименования теряет принципиальное значение. И все же нам представляется, что вернее было бы называть обе эти области «фольклором», лишь уточняя своеобразие каждой эпитетами «мусический» и «технический» (или «пластический»), — в этом случае сама терминология подчеркнула бы диалектику их связи и их различия.
Внутри обоих этих народных художественных комплексов длительное время сохраняется синкретическая гетерогенность творчества. Эпос, пишет В. Пропп, «слагается из песен, которые назначены не для чтения, а для музыкального исполнения… Признак музыкального, песенного исполнения настолько существен, что произведения, которые не поются, ни в коем случае не могут быть отнесены к эпосу. Музыкальное исполнение былин и их содержание не могут быть разъединены, они имеют самую непосредственную связь» (407, 6). И далее: «Весь стихотворный фольклор всегда поется. Форма устного стиха фольклору чужда, она возможна только в литературе» (там же, 7 и 56). Другой исследователь писал о фольклорной сказке: «Текст сказки без учета его исполнения — труп. И изучение этого трупа дает понимание анатомии сказки, но не жизни сказочного организма… Для фольклориста сказка обязательно должна быть чем-то более сложным, чем только записанный собирателями текст» (цит. по 206, 299).
Цитируя это суждение, К. Давлетов обстоятельно показывает в своей книге «Фольклор как вид искусства» взаимосвязь различных его компонентов — поэтического, словесно-актерски-драматического, песенно-музыкального, хореографического (206, 298 – 299, 303, 311). Еще дальше пошел в этом направлении Гусев. Убедительно показав неосновательность сведения фольклора к одной его словесной компоненте, теоретик представил его структуру в такой таблице (205, 90).
199 Табл. 22
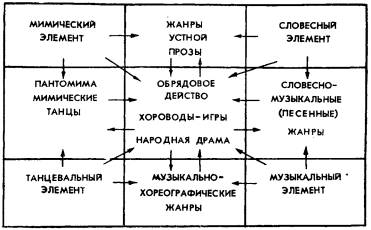
Таблица эта прекрасно показывает не только внутреннюю структуру «мусического» фольклора, но и ее поразительное сходство со структурой «мусического» искусства первобытного общества. То же самое мы могли бы показать и в анализе «пластического» фольклора, в котором, как и в его первобытном предтече, все составляющие изобразительные и неизобразительные (тектонические, архитектурные, орнаментальные) элементы еще не разделились и составляли целостную синкретическую структуру. Их взаимное обособление и обретение каждым самостоятельного существования было связано с историческим процессом распада фольклора.
Не повторяя сказанного нами на эту тему в другой работе (230), отметим лишь, что и обе формы фольклорного творчества связаны друг с другом тысячью видимых и невидимых нитей — вспомним хотя бы роль праздничной одежды в художественных обрядах, театры кукол, где «мусическое» и «пластическое» творчество объединялись в одно целое, использование масок и т. д. (см. об этом у П. Богатырева — 178, 103 – 119). Ярмарочные «увеселители подлого сословия» были, пишет Е. Кузнецов, «типичными универсальными артистами площадей»: они выступали как дрессировщики, как фокусники, как жонглеры, как петрушечники и одновременно «давали забавные, смешного характера пояснения» (250, 39).
И все же мера автономии обеих форм народного творчества оказывается значительно большей, чем в первобытной культуре, 200 так что мы имеем полное право говорить о возникновении в фольклоре двух самостоятельных видов искусства — именно видов, а не исторических форм: «мусического» и «технического» (или «пластического»).
Это же направление художественного развития приводило к тому, что фольклор постепенно преодолевал родовую и жанровую аморфность, свойственную первобытному искусству. Хотя Гусев особо подчеркнул, что «трудно говорить об оформившемся разделении драматического рода в фольклоре на четкие жанровые формы трагедии, комедии и драмы. Для многих произведений народной драмы характерно смешение трагических и комических элементов, их чередование и переход одного в другой» (характерный пример — популярная английская драма «Комическая трагедия или трагическая комедия о Панче и Джуди») (205, 161), — он все же строит развернутую классификацию родовых и жанровых структур «мусического» фольклора (там же, 162 – 163), что возможно лишь постольку, поскольку структуры эти получают в конце концов достаточно отчетливое самостоятельное бытие94*.
2. ВЫДЕЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Переходя к анализу художественного производства, мы обнаруживаем, прежде всего, что, в отличие от фольклорного типа творчества, искусство отрывается здесь от своей утилитарной основы и приобретает самостоятельное существование, становится особой отраслью культуры. В нашу эпоху искусство имеет в большинстве случаев именно такой вид: роман и поэма, картина и гравюра, спектакль и кинофильм, песня и симфония выступают как специальные художественные творения, т. е. создаются 201 под влиянием чисто художественного импульса и имеют целью своей удовлетворение именно и только художественных потребностей общества. Художественное содержание такого рода произведений, их художественная функция и их художественная ценность включают в себя, разумеется, моменты нравственные, политические, религиозные, научные, просветительские, педагогические, однако определяющим является в этих случаях то специфически художественное начало, во имя утверждения которого искусство и выделяется как особая отрасль человеческой деятельности. Нам нужно, следовательно, выяснить, почему и в каких пределах развернулся этот исторический процесс выделения «художественного производства как такового».
Обычно его объясняют формированием общественного разделения труда, которое выразилось сначала в отделении умственного труда от труда физического, а затем — в дифференциации различных областей духовной культуры (науки, религии, искусства и т. п.). Такое объяснение в целом верно, но оно слишком общо и потому не может прояснить многих существеннейших сторон интересующего нас процесса.
Обратим внимание, прежде всего, на явную неравномерность отделения искусства от других форм материального и духовного производства. Так, размежевание художественного творчества и научного познания произошло значительно раньше, чем эмансипация искусства от религии: уже античная культура решительно развела в разные стороны науку и искусство, тогда как подчинение художественного творчества религиозно-мифологическому сознанию сохранялось в основном вплоть до нового времени. Если же мы обратимся к анализу связей искусства с материальным производством, то окажется, что только некоторые отрасли художественного творчества были способны порвать изначальную связь с производственным процессом, другие же отрасли искусства — речь идет об архитектуре и прикладных искусствах — этой связи разорвать не могли и, по-видимому, никогда не смогут.
Исторически выработавшаяся социальная потребность внесения художественного начала во все группы предметов, которыми людям приходится себя окружать, приводит к тому, что художественно-конструкторское творчество создает вокруг человека замкнутую утилитарно-эстетическую среду и для этого как бы окружает его системой следующих друг за другом концентрических сфер. Оно начинает с украшения самого тела человека; затем конструирует для его тела художественно-значимую оболочку (одежду) и с ней сочетает разнообразные украшения; затем делает эстетически ценными все вещи, которыми человек 202 оперирует в своей повседневной жизнедеятельности, начиная от утвари — культовой, бытовой и производственной (инструменты, орудия, приборы) и кончая обстановкой помещений, где он живет, трудится и общается с себе подобными; оно придает художественный смысл архитектурным сооружениям, в которых и между которыми протекает вся его жизнь (к их числу относятся и здания, и разного рода специальные объекты, большие и малые — от моста и телевизионной мачты до киоска и урны); оно распространяет свою эстетическую активность на конструирование средств передвижения, наземных и подземных, водных и воздушных; оно вторгается, наконец, в саму природу, преображая ее эстетически (так называемая «зеленая архитектура» — см. табл. 23).
Еще одно обстоятельство, не менее примечательное — относительный характер самоопределения искусства даже в тех областях, в которых оно как будто обрело полную самостоятельность — в области литературы, живописи, музыки, актерского искусства, танца. Сфера искусства слова охватывает ведь наряду с такими чисто художественными жанровыми формами, как роман, повесть, поэма и т. п., формы далеко не «чистые», т. е. сохраняющие неразрывную связь художественного и утилитарного начал: такова, например, художественная публицистика в многообразии ее жанровых разветвлений или научно-художественная литература. Точно так же актерское искусство воплощается не только в творчестве сценическом или кинематографическом, но и в таком своеобразном — некогда высоко ценившемся эстетикой, а ныне пренебрегаемом ею — виде, как ораторское искусство, в котором, как и в художественной публицистике, начало художественно-образное слито воедино с началом утилитарным (дидактическим, агитационным, пропагандистским) и ему подчиняется. В области изобразительного искусства мы сталкиваемся с аналогичной ситуацией: рядом с чисто художественными образованиями — картиной, эстампом, декоративной росписью и т. п. — здесь существуют жанры утилитарно-художественные, типа плаката и политической карикатуры, основная функция которых идеологически-воспитательная, или мемориальные памятники и доски, главное назначение которых именно мемориальное, или иллюстрации научных изданий и т. п. В музыкальной культуре такое же двойственное, утилитарно-художественное значение имеют марши, гимны или колыбельные песни, а в хореографии — многообразные формы спортивно-художественных танцев, в которых художественный элемент оказывается опять-таки спаянным с элементом нехудожественным, спортивным.
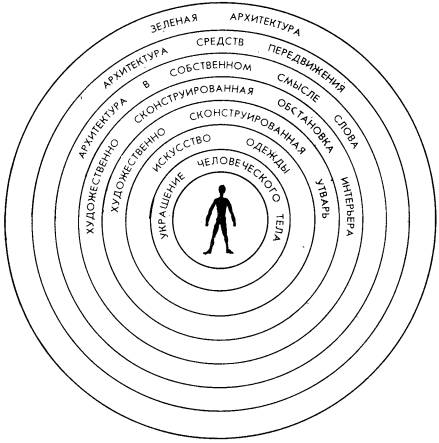
Если добавить к сказанному, что в современной культуре кинематограф, телевидение и радиовещание предоставляют особенно большое место для разнообразных художественно-публицистических, художественно-документальных и научно-художественных жанров, общая картина станет достаточно полной и выдвигаемая ею теоретическая проблема достаточно серьезной.
Первый вывод, который приходится сделать, размышляя над ней, состоит в том, что вычленение искусства в особую и самостоятельную сферу человеческой деятельности не является абсолютным. Иначе говоря, исторический процесс отделения художественного 204 творчества от всех форм нехудожественной деятельности людей не привел к образованию некоего замкнутого в собственных границах мира искусства, поэтическая субстанция которого была бы жестко и глухо отгорожена от прозаического «внешнего мира» утилитарной практики. В этом свете становится особенно отчетливой иллюзорность представлений корифеев романтической эстетики и развивавших их идеи апологетов эстетства в XX в. об абсолютной автономии «царства красоты», об «островке поэзии» в море житейской обыденщины, утилитарности, прозаических нужд, потребностей и действий. Научный анализ реального положения вещей показывает, что границы, отделяющие сферу художественного творчества от всех других сфер человеческой жизнедеятельности, исторически подвижны и что даже на самых высоких ступенях развития культуры мир искусств связан с окружающим миром социальной практики зоной двойственных, бифункциональных явлений, сохраняющих исходный синкретизм художественного и утилитарного начал. Схематически это положение можно обозначить следующим образом (табл. 24).
Обозначение двух пограничных линий пунктиром должно подчеркнуть, что мы не обнаруживаем резких, непроходимых границ между переходной зоной смешанных, утилитарно-художественных явлений и сферами чисто художественной и чисто утилитарной деятельности. Напротив, все переходы здесь плавные и нередко трудно заметные. Мы имеем тут дело с таким движением от сферы жизненной практики к сфере чисто художественного творчества, которое характеризуется постепенным ослаблением утилитарного значения и постепенным нарастанием художественной значимости во всех конкретных радиальных направлениях, которые можно представить себе на данной схеме.
Это не означает, разумеется, отсутствия качественных различий между искусством и неискусством. Закон перехода количества в качество, диалектика постепенности и скачкообразности действуют в данном случае столь же определенно, как и во всех иных. Следует лишь иметь в виду, что переходы от качества чистой утилитарности к качеству утилитарно-художественного синкретизма или от этого последнего к качеству чистой художественности характеризуют отношения данных сфер деятельности в их суммарном сопоставлении, позволяющем отвлечься от более тонких градаций (так же, например, как при определении качественного своеобразия основных фаз человеческой жизни — «детства», «отрочества», «юности», «зрелости», «старости»).
205 Табл. 24
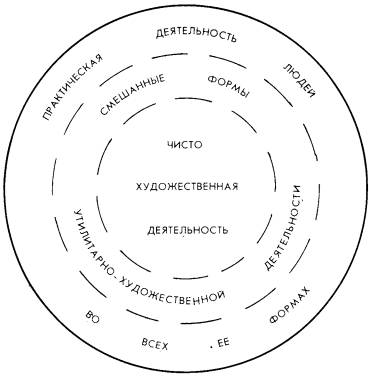
Мы должны заключить, что в истории культуры действуют две противоположно направленные силы — стремление художественного творчества освободиться от исходной своей связи с практической деятельностью и стремление сохранить эту связь или даже устанавливать новые того же рода. Чем объясняется такая диалектика художественного развития человечества?
По-видимому, простой ссылкой на возникновение и углубление общественного разделения труда обойтись тут не удастся. Придется искать дополнительные, специфические импульсы, обусловившие конкретное содержание исследуемого нами процесса.
Дело в том, что по мере исторического усложнения всей системы общественной жизни перед человечеством вставали две действительно противоположные задачи: с одной стороны, необходимость предельно эффективного использования тех своеобразных 206 и неповторимых возможностей искусства, которые все яснее осознавались обществом и которые оно все более высоко расценивало; с другой стороны, необходимость поддерживать прямые связи художественного творчества со всей практической жизнедеятельностью людей, ибо никакого иного пути выработки содержания у искусства нет. Если чисто художественное творчество связано с социально-практической жизнедеятельностью людей не столь явно и непосредственно, как творчество утилитарно-художественное, то связь эта все-таки наличествует и в нем, поскольку оно изображает, познает и оценивает различные стороны практической деятельности общества и тем самым вбирает в свое содержание моменты политические, этические, религиозные и т. п. Все эти моменты опосредуются здесь основной художественной установкой творчества и как бы растворяются в ней, а не доминируют, не подчиняют себе художественную установку, как это происходит в творчестве утилитарно-художественном, «прикладном»; потому-то и может казаться, будто содержание чисто художественного творчества не имеет касательства к «прозе жизни». На самом же деле его поэтическое содержание всегда представляет собой тем или иным образом переработанную жизненную прозу, полностью отрешиться от которой можно лишь ценой отказа от какой-либо содержательности и сведения художественного творчества к чистому формотворчеству.
Именно таким и оказался формалистический итог движения буржуазного искусства в XX в. к абсолютной эстетической изоляции художественного творчества от жизни. Опыт показал, однако, что в той мере, в какой искусству удавалось достигать этой цели, оно разрушало свою художественную структуру и превращалось в нечто иное — в простую игру форм, звуковых, словесных или пластических элементов; игра эта может, конечно, доставлять эстетическое удовольствие (как доставляют его нам все другие игры и даже «игра» подобных элементов в природе — скажем, птичье пение, естественная «орнаментальная» текстура камня или дерева, движение облаков на небе…), но художественное содержание оказывается тут полностью утраченным. В искусстве игровой момент всегда наличествует в той или иной мере, но наличествует именно и только как момент сложной гетерогенной структуры, связанный с другими формальными и содержательными моментами и им, в конечном счете, подчиненный. Когда же эта грань сложной и богатой художественно-образной структуры отслаивается от всех Других и претендует на то, чтобы заменить ее целостность, искусство — в традиционном, прямом и точном смысле этого слова — исчезает, разрушается, 207 отрицает само себя (см. об этом подробнее 67, 342 – 344). Глубоко прав Зедльмайр, говоря, что «революция», осуществленная модернистским искусством, была не очередным стилевым поворотом в истории художественной культуры, а разрывом со всем предшествующим искусством и попыткой утвердить новое понимание искусства, противоположное тому, которое до этого было свойственно человечеству (436, 110 – 111).
Почему же в таком случае человечество не удовлетворилось тем открытым и прочным типом связи искусства с жизненной практикой, который сложился в древнем синкретическом творчестве и сохранялся в формах утилитарно-художественной деятельности? Почему оказались необходимыми расчленение этого единства и концентрация художественного творчества в его отделенности от всяких утилитарных целей?
На эти вопросы эстетическая мысль дает двоякого рода ответы. Те представители буржуазной эстетики, которые отправлялись от известного тезиса Канта о незаинтересованности эстетического суждения и приходили к выводу, что художественная деятельность тяготеет по самой своей природе к полной изоляции от деятельности жизненно-практической, трактовали исторический процесс отделения художественного производства как прогрессивное движение самоочищения искусства от всяких инородных («анэстетических») примесей, как имманентное устремление искусства к идеалу чистого и самодовлеющего эстетического формотворчества (К. Фидлер, Р. Циммерман, К. Белл и др.). Однако уже в XIX в. некоторые представители демократического направления европейской эстетики — например, Д. Рёскин и У. Моррис, а вслед за ними в XX в. такие видные ученые, как Л. Мамфорд и З. Гидион, — расценивали данный процесс диаметрально противоположным образом: по их убеждению, разрыв художественного и материального производства был обусловлен рядом социальных и технических факторов, воздействие которых на искусство нужно признать не прогрессивным, а регрессивным, поскольку разрывались его связи с жизненной практикой и возникало некое противостояние иллюзорного «мира чистой красоты» и депоэтизированного мира практической жизнедеятельности. К аналогичным выводам приходили в нашей стране, в первые послереволюционные годы, так называемые «производственники», отвергавшие всякое «станковое» искусство как порождение и выражение буржуазной системы социальных отношений.
В недавнем прошлом эта концепция возродилась в советской эстетической науке — разумеется, освобожденная от тех наивных аргументов, которые были столь характерны для учений, английских мыслителей XIX столетия и от тех вульгарных 208 социологических упрощений, которые были не менее характерны для наших «производственников». В очень интересной брошюре Ю. Давыдова «Труд и свобода» говорилось, что в буржуазном обществе достигла кульминации историческая тенденция разрыва «внутреннего мира» человека как «мира свободы» и мира действительного как «мира несвободы», что первый «как бы замыкается в своеобразную “рамку”» и что соответственно искусство «также оказывается перед необходимостью заключить себя в некоторую “рамку” — размежеваться с окружающей действительностью». Такое «рамочное искусство», как иронически называл Давыдов станковое искусство (имея в виду не только живопись и скульптуру, но и драму и роман, т. е. все формы художественных ценностей, обретшие самостоятельное существование), трактуется им как один из продуктов уродливого процесса «отчуждения», порожденного капитализмом и обреченного вместе с ним (446, 91 – 92 сл.).
В полном согласии с Давыдовым Ю. Бородай писал: «Возникнув как продукт “отчуждения” — разделения труда, как результат разложения живой целостной человеческой деятельности, искусство с самого начала имело внутреннюю тенденцию очиститься, стать “чистым” искусством…»; логическим завершением «этого обусловленного историческим развитием методического убийства живого целостного творчества» оказался абстракционизм. Поэтому уничтожение капитализма должно привести к «ликвидации самого искусства в качестве узкоспециализированной области производства», т. е. к преодолению принципа «станковости», той «рамки», которая отделяет художественное воссоздание жизни от самой жизненной реальности (375, 10 – 11).
С наибольшей обстоятельностью и радикальностью эта концепция была изложена К. Кантором в его книге «Красота и польза». Искусство трактуется здесь как «убежище, куда укрывается красота, изгнанная из практического буржуазного мира» (232, 78, 184 – 185); поэтому гибель капитализма и построение нового мира будут означать превращение самой жизни в художественное произведение, и благодаря этому исчезнет необходимость в «обособленном» (т. е. том же «рамочном», «станковом», монофункциональном) искусстве; «искусство утратит характер особого вида деятельности, особого специфически эстетического способа ее (жизни. — М. К.) отражения»; красота разольется в самой жизни, станет «вездесущей», исчезнут не только противоречия, но даже различия между красотой и пользой («не будет ни пользы, ни красоты», они «уже будут неразличимы» — там же, 80 и 81, 176 – 177 и др.).
209 Следует признать, что в этой концепции выявлены существенные моменты социальной обусловленности исторического процесса самоопределения «художественного производства как такового». Вопрос состоит лишь в том, объясняют ли Давыдов, Бородай и Кантор данный процесс с должной полнотой и основательны ли поэтому их выводы — прогнозы грядущей гибели специально-художественного, чисто-художественного производства?
Думается, что выводы эти неосновательны, ибо интересующий нас историко-культурный процесс истолкован здесь односторонне и упрощенно. Он — если так можно выразиться — «засоциологизирован», и совершенно упущен из виду другой его крайне важный аспект — психологически-эстетический.
Дело в том, что воздействие на человека произведений, сочетающих художественную функцию с функцией утилитарной, обладает своей внутренней диалектикой. Его сила в том, что люди подвергаются художественному «облучению» в самом процессе своей практической жизнедеятельности, отчего их деятельность одухотворяется, организуется и активизируется, получает дополнительные эмоционально-эстетические стимулы, превращается из вынужденной в желанную и радостную. Так архитектура и прикладное искусство придают разнообразным областям обыденной жизни — труду, быту, социальному общению, культовому обряду и т. д. — соответствующий их содержанию идейно-эмоциональный «ореол» и возбуждают у человека, действующего в данной обстановке, определенный душевный настрой, отчего сами его действия оказываются более органичными, естественными и точными. Так, походный марш оказывает возбуждающее и организующее действие на солдат, а похоронный марш вводит шествие в иное эмоциональное русло, необходимое для данной ситуации. Так, ораторское искусство политического деятеля или адвоката бесконечно усиливает воздействие логической аргументации (а подчас даже компенсирует отсутствие таковой). Вот почему, как точно отметил В. И. Ленин, — «… нельзя говорить одинаково на заводском митинге и в казачьей деревне, на студенческом собрании и в крестьянской избе, с трибуны III Думы и со страниц зарубежного органа. Искусство всякого пропагандиста и всякого агитатора в том и состоит, чтобы наилучшим образом повлиять на данную аудиторию, делая для нее известную истину возможно более убедительной, возможно лучше усвояемой, возможно нагляднее и тверже запечатлеваемой» (451, т. 21, 21). Таким образом, именно эта необходимость целенаправленной организации человеческого сознания и, в частности, его эмоционально-волевых механизмов объясняет 210 формирование художественных «зарядов» в многообразных областях практической деятельности людей.
Однако противоречивость ситуации состоит в том, что при этом художественное воздействие оказывается в известном отношении ограниченным и неспособным реализовать заключенные в нем возможности. Потенциальная мощность художественного «заряда» является тут, иначе говоря, значительно более высокой, чем его актуальная, реализуемая мощность, ибо заряд этот «взрывается» и «поражает» человеческое сознание в процессе использования произведений утилитарно-художественного типа, а оно требует сосредоточения внимания именно на практической стороне данного процесса. Какова бы ни была сила художественного впечатления от храма, его внутреннего убранства, художественной структуры обряда, церковной музыки, поэтического звучания молитвы, впечатление это лишь сопутствует религиозному действу, а не является самодовлеющим. Точно так же художественное воздействие речи оратора, похоронного марша, военно-исторической панорамы или мемориального архитектурно-скульптурного сооружения не должно вытеснить или даже заслонить собой их существо, их внехудожественное содержание и назначение. И только тогда, когда это утилитарное назначение утрачивается, подобного рода произведения могут оказаться предметами чисто эстетического созерцания — как в наше время любая вещь, ставшая музейным экспонатом, или церковь, посещаемая одними туристами, или месса, исполняемая в концерте.
Вычленение художественного начала из первоначального синкретического комплекса и превращение этого начала в самостоятельный способ творчества, имеющий единственной своей целью художественное воздействие на сознание людей, было нужно именно для того, чтобы человек мог полностью и специально отдаться художественному переживанию, чтобы его реальная жизнедеятельность дополнялась «жизнью» в искусстве (см. об этом подробнее 67, 285 – 289). Но для этого искусству нужно было — и всегда будет нужно! — отрываться от утилитарности и создавать иллюзорное «удвоение» жизни, образные модели жизни. Именно и только там, где можно было осуществлять образное моделирование жизни как главную задачу искусства, художественное творчество выделялось из первоначального утилитарно-художественного единства и получало право на самостоятельное бытие.
В семье «мусических» искусств подобное вычленение протекало без особых препятствий, поскольку их человеческие средства позволяли успешно создавать модели человеческой же 211 жизни, но в группе «технических» искусств человечество столкнулось на этом пути с серьезными трудностями. Правда, изобразительные возможности живописи, графики, скульптуры позволяли воссоздавать реальный мир как человеческий мир, как «неорганическое тело человека» (К. Маркс), как компонент человеческого жизненного опыта; однако такой путь оказался неприемлем для архитектуры и прикладных искусств. Как бы широко ни применяли они разнообразные живописные, скульптурные и графические изобразительные приемы, основные принципы формообразования не могли здесь стать изобразительными. Оно и понятно — ведь форма любой утилитарной вещи или сооружения определяется их практическим назначением и технической конструкцией, изобразительный же принцип формообразования может быть тут применен лишь в тех ограниченных пределах, в каких он согласуем с решением формы, диктуемым функцией, техникой и технологией.
Отсюда становится понятным, почему только архитектура и прикладные искусства цепко сохраняли изначальную утилитарно-художественную двойственность содержания и функций, не выбросив ростков чисто художественного творчества. Точнее, такого рода ростки вышли и из их сферы, но не получили сколько-нибудь широкого развития. Мы имеем в виду те жанры архитектуры и прикладных искусств, которые в ходе изменения практических нужд людей лишались утилитарной ценности и сохраняли одну декоративную ценность. Такова была судьба многих типов ювелирных изделий — браслетов, ожерелий, подвесок, имевших некогда определенное практическое назначение и ставших впоследствии простыми украшениями; аналогична историческая судьба глиптики, первоначально сочетавшей практическую функцию печатей с функцией эстетической и сохранившей в дальнейшем только последнюю; то же самое произошло и с некоторыми типами архитектурных сооружений и предметами бытовой утвари — например, с городскими воротами и садовыми оградами, с подсвечниками и письменными приборами. Весьма показательно, однако, что на этой основе не выросла сколько-нибудь обширная и самостоятельная сфера художественного творчества, подобная сферам изобразительного искусства, литературы или музыки. Напротив, подобные явления оказывались нежизнеспособными и, раньше или позже, отмирали, вытесняясь новыми типами вещей и сооружений, в которых художественное начало органически сочеталось с порождавшими их новыми утилитарными функциями: так, электроарматура пришла на смену подсвечникам и вечное перо — на смену письменному прибору.
212 Таковы объективные историко-культурные факторы, определившие необходимость выделения чисто-художественных форм творчества наряду с формами утилитарно-художественными и одновременно положившие пределы этому обособлению художественного освоения мира от практической деятельности человека. Из сказанного следует, что и положительная, и отрицательная оценки данного процесса являются однобокими и не характеризуют действительной его внутренней противоречивости. Марксистский диалектический метод исторического анализа позволяет раскрыть его сложность и объективно оценить разные его аспекты. По-видимому, выделение чисто художественного производства отвечает известным непреходящим потребностям социальной жизни, социального общения, социального формирования личности, и никакие абстракционистские крайности не способны скомпрометировать общественную ценность «станковых», «рамочных» форм искусства (хотя порожденные капитализмом явления «отчуждения», подчинение искусства власти товарного производства, антагонизм вульгарно прозаической реальности и компенсаторной эстетической мечты, грезы, художественного вымысла действительно извращали истинное социальное призвание чисто художественных форм творчества).
Если для фольклора было глубоко органично сохранение унаследованного им синкретизма древнейшего художественного творчества и синкретизм этот удерживался до тех пор, пока фольклор сохранял свою жизнеспособность, то для художественного производства столь же органичным оказался быстрый и последовательный распад исходного синкретизма, ведущий к самоопределению различных видов искусства.
3. ПРОЦЕСС ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВИДООБРАЗОВАНИЯ
Распад этот выразился, прежде всего, в разложении изначальной целостности пространственно-временной структуры «мусического» искусства — в обособлении чисто временны́х искусств — словесно-музыкальных — от пространственно-временны́х — танца и актерского искусства.
Такое обособление опиралось на объективную возможность расчленения человеческим сознанием реального пространственно-временного континуума. Почему же возникла потребность образно моделировать временны́е отношения, отвлеченные 213 от отношений пространственных? Чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно иметь в виду следующие обстоятельства.
Все воспринимаемые нами в повседневной жизни звуки и шумы прочно связаны с пространственными представлениями: по изменению силы звука и другим его акустическим свойствам мы судим о характере и о движении источника звука — о том, велик он или мал, приближается он или удаляется, в каком направлении он движется и т. д., — потому-то слух позволяет человеку ориентироваться в пространстве даже в темноте или при потере зрения. У первобытных людей способность извлечения пространственной информации из слуховых ощущений была особенно развита, как обострена она у многих животных, играя существенную роль в борьбе за существование.
По мере овладения человеком речью информационная функция звука стала существенно меняться — ведь звучание слова характеризует не столько физические качества говорящего, сколько смысл того, что он говорит. В равной мере звуки поющего голоса имеют прямое эмоционально-выразительное, а не ассоциативное пространственно-изобразительное значение. Изобретение музыкальных инструментов, служившее расширению тембровых, высотных, силовых и темпо-ритмических возможностей человеческого голоса и звучания, ударов в ладоши, закрепляло независимость содержания звуковых отношений от отношений пространственных. И хотя мы по сей день нередко характеризуем музыкальную форму с помощью зрительных представлений — когда говорим, например, об «удаляющихся» или «приближающихся», «взлетающих» или «падающих», «мрачных» или «светлых» звучаниях, такая ассоциативность имеет в музыке частное значение, в подавляющем же большинстве случаев восприятие песни или симфонии обходится без посредства каких-либо пространственных картин. Определение музыки, данное Стравинским — «музыка есть упорядочение отношений между человеком и временем», — ошибочно лишь в той части, в какой оно игнорирует содержательную, идейно-эмоциональную природу музыкального творчества, но оно безусловно верно с той точки зрения, что в музыке течение времени действительно предстает в чистом виде, как бы освобожденным от всякого пространственного субстрата. Если позволительно воспользоваться здесь физической аналогией, то можно сказать, что в сфере музыкальных звучаний мы имеем дело с такой формой движения материи, в которой масса исчезает, растворяется, превращаясь в чистый поток энергии.
В словесном творчестве ситуация оказывается, конечно, более сложной. В той мере, в какой слово обозначает и соответственно 214 вызывает в нашем сознании различные пространственные образы, литературное творчество оказывается, как говорили еще древние теоретики, «словесной живописью». Однако слово способно обозначать и огромное количество представлений, ощущений, понятий, не имеющих никакого предметно-пространственного денотата. Поэтому в литературе предметно-пространственная изобразительность не может быть ее неотъемлемом и необходимым свойством. Это было очень точно осмыслено еще Лессингом, который доказал, что поэзия, в отличие от живописи и скульптуры, непосредственно изображает не тела, а действия, тела же она способна изображать лишь опосредованно, т. е. лишь постольку, поскольку это нужно для описания действия.
Способность «вычленять» временны́е отношения из целостности пространственно-временного жизненного процесса или создавать в воображении такую модель этого процесса, в которой пространственные отношения имеют второстепенное значение по, сравнению с отношениями временны́ми, сложилась исторически, будучи следствием достаточно высокого уровня развития человеческого сознания и неразрывно с ним связанной звуковой речи. Сложившись и утвердившись, эта способность и послужила объективной основой расщепления синкретизма древнего «мусического» искусства. Такое отделение процессуальных характеристик движения от изображения самих движущихся объектов нужно было потому, что в ходе развития культуры стала осознаваться относительная самостоятельность духовных процессов — движения мысли и чувства в человеческой психике, которые не имели никакого пространственно-пластического субстрата и адекватное воплощение которых требовало поэтому обособления средств моделирования временны́х отношений. Ибо единство пространства и времени есть факт физический, но отнюдь не духовный. Для духа, т. е. психологически, время есть внутренний фактор нашего бытия, а пространство — внешний; над пространством человек властен, время ему не подчиняется; пространство симметрично и потому обратимо, время — однолинейно и необратимо; пространство обращено к чувственному восприятию — оно зримо и осязаемо, время же можно ощущать лишь внутренне, переживать его и мыслить о нем, созерцать же его невозможно — оно бесплотно.
Вот почему развитие культуры не могло не привести на определенном этапе к распаду изначального синкретизма «мусического» творчества. Процесс этот начался с отделения словесно-музыкального «слоя» от «слоя» актерски-хореографического (показательно, что в древнегреческой культуре существуют специальные термины, обозначающие эти двучленные художественные 215 структуры, — лирика и орхестика). В дальнейшем каждое из этих художественных образований распадалось на составляющие их элементы — словесный и музыкальный, актерский и танцевальный.
Этот последний шаг на пути видовой дифференциации искусств данной группы также имел вполне объективные основания. Расчленение словесно-музыкального единства было обусловлено рядом причин. С одной стороны, общий процесс прогрессивного развития мышления и неотрывного от мысли языка делал все менее значительной связь словесного выражения со звуко-интонационным и все более важной семантическую, понятийную сторону высказывания. Могущественнейшим катализатором данного процесса стала письменность, которая полностью отделила слово от его звуковой формы, обнаружив несущественность этой связи для смыслового содержания языка. Если в древнейшем устном творчестве и в фольклоре, унаследовавшем от него изустность своего бытия, единство словесной и музыкальной выразительности в той или иной мере сохранялось всегда, то в письменной литературе оно было разрушено, и только поэзия в доступных ей пределах самоотверженно стремилась удержать звуковую выразительность своих словесных конструкций. Таким образом, расхождение литературы и музыки объясняется, прежде всего, возрастанием интеллектуального начала в содержании жизни и искусства, завоеванием интеллектуальным и эмоциональным механизмами человеческой психики все большей самостоятельности (разумеется, относительной, ибо полная их самостоятельность невозможна ни в психической жизни человека, ни в художественном творчестве).
С другой стороны, немаловажное влияние на исторический процесс расщепления исходного словесно-музыкального единства оказывало длительное, но неуклонное совершенствование музыкального инструментария. В конце концов оно привело к тому, что способы искусственного звукоизвлечения могли уже не ограничиваться своей первоначальной ролью аккомпанемента распевному сказу или танцу и музыкальные инструменты стали превращаться в самостоятельные — солирующие — орудия художественного творчества. Эстетика пифагорейцев с ее пристальным вниманием к инструментальной музыке и высочайшей оценкой последней свидетельствует достаточно убедительно об обретенном музыкой уже к этому времени положении в художественной культуре. Прогресс же в сфере инструментальной музыки оказывал, в свою очередь, существенное влияние на оценку музыки вокальной, ибо решительно возрастал, если так можно выразиться, общий эстетический авторитет звука как 216 полноправного художественно-содержательного знака, отличающегося от словесных знаков своими особыми выразительными возможностями. В условиях укрепления и углубления относительной самостоятельности интеллектуальной и эмоциональной сторон духовной жизни человека звуко-интонационные знаки музыки могли наиболее точно воплощать и передавать преимущественно эмоциональную, а знаки словесные — преимущественно интеллектуальную информацию. Мы говорим «преимущественно», так как содержание всякого искусства, в том числе музыки и поэзии, необходимо требует единства мысли и чувства. Однако в интеллектуально-эмоциональной структуре художественного содержания соотношение составляющих ее элементов может быть различным. Сравнение литературы и музыки показывает, что в одном случае мы имеем дело с непосредственным выражением мыслей и опосредованным выражением чувств (ибо язык есть «непосредственная действительность мысли», как определили его основоположники марксизма, и содержанием всякого слова является понятие, а не эмоция), а во втором — с непосредственным выражением чувств и опосредованным выражением мыслей (ибо интеллектуальную информацию прямо и точно передать чисто звуковыми средствами невозможно).
В свете всего вышесказанного становятся понятными и причины разделения актерского искусства и искусства танца — не случайно одно из них теснейшим образом связано с музыкой и родственно ей, а другое — столь же тесно соприкасается с литературой. Актерское искусство обязано своим самоопределением именно и только тому, что его жестомимические изобразительные средства могли использоваться в единстве со средствами словесными, материал для которых ему стала давать литература. Как бы ни был силен вначале импровизационный момент — вспомним, что он сохранял активнейшую роль еще в комедии дель арте, — все же несомненно, что своим развитием в качестве самостоятельной, внехореографической формы творчества актерское искусство обязано появлению и развитию драматургии, т. е. рода литературы, специально предназначенного для разыгрывания, для актерского воплощения. Что же касается танца, то он сконцентрировал в себе чисто пластические средства человеческого самовыражения, которые оказалось возможным использовать независимо от изображения бытовых движений и жестов человека.
Оказалось, что, с одной стороны, язык телодвижений и мимики, оторванный от словесного языка, способен — подобно музыке! — передавать мысли человека лишь опосредованно, непосредственно же он может воплощать только эмоциональную 217 информацию; с другой стороны, решение этой последней задачи требовало отказа от точного воспроизведения бытовых движений человека и выработки особого пластического «языка», способного рельефно и точно выражать движение человеческих чувств; тем самым хореографический язык все дальше уходил от языка актерского искусства и обнаруживал все большую близость к языку музыкальному — примечательно, что мы даже не мыслим себе танца без музыкального сопровождения, актерское же творчество в таком аккомпанементе не нуждается.
Нетрудно предвидеть, что в этом месте наших рассуждений у читателя должны возникнуть недоуменные вопросы, касающиеся творчества оперного актера-певца и танцующего актера в балете. На такие вопросы можно ответить пока только следующее: в опере и в балете мы имеем дело с синтезом различных искусств, а эта закономерность истории художественной культуры будет специально рассмотрена ниже. Пока речь идет об историческом процессе дифференциации различных форм художественного творчества, т. е. о том, как задолго до рождения оперы и балета протекало размежевание и самоопределение актерского искусства и искусства танца.
Расчленение синкретизма «мусических» искусств происходило еще в одном существенном направлении — в направлении отделения исполнительского творчества от творчества первосозидательного. Оговоримся сразу же, что терминология тут весьма условна: в первом случае мы имеем дело не с простой репродукцией чего-то готового, но с особого рода созиданием, активно интерпретирующим исполняемое художественное произведение. Поэтому исполнительская деятельность является полноценным видом художественного творчества, наряду с деятельностью писателя, композитора, драматурга, хореографа. Если же попытаться передать различие между ними более точно, следует назвать одну из них первичным творчеством, а другую — вторичным творчеством, ибо как бы это последнее ни было активно в своих интерпретационных возможностях, сама необходимость интерпретировать, воссоздавать нечто уже созданное говорит о зависимости исполнительского искусства, о его вторичности.
На первой ступени художественного развития человечества и в фольклоре такого раздвоения «мусического» искусства еще не было. Его синкретический характер выражался, в частности, в нераздельности созидания и исполнения. Поэт и композитор выступали как исполнители собственных творений — как певцы, ашуги, акыны, барды, баяны, менестрели, ибо другого пути объективации их художественных замыслов не существовало. Именно отсюда рождался тот специфический тип творчества, 218 который противоречиво сочетал в себе воспроизведение уже сложившихся и передаваемых устной и зрительной традицией форм с их импровизационным варьированием в каждом новом исполнительском акте. Коллективный и одновременно вариационный характер первобытного и фольклорного творчества объясняется именно этой нераздельностью сочинения и исполнения, необходимостью воссоздавать с известной степенью адекватности передаваемое из уст в уста произведение.
Так продолжалось до тех пор, пока развитие культуры не выработало других средств закрепления плодов художественного творчества. Значение письменности для истории искусства и состояло прежде всего в том, что искусство слова стало литературой и зажило самостоятельной жизнью; соответственно относительную самостоятельность получило исполнительское творчество; писатель и чтец, драматург и актер отделились друг от друга и разошлись в разные «районы» мира искусств. То же самое произошло и в сфере музыкального творчества, где исполнитель обособился от композитора, когда изобретение нотной записи позволило фиксировать сочиненную и еще не зазвучавшую музыку. Более сложной оказалась ситуация в сфере хореографической, так как сочинение танца не поддавалось запечатлению какими-либо иными средствами, кроме средств самого танца. Правда, рисунок танца может быть описан словесно с помощью специальных терминов, обозначающих отдельные его элементы, фигуры, па, ритмическая же канва танца определяется записанным для него музыкальным аккомпанементом. Однако подобные описания столь приблизительно, столь абстрагирбванно передавали реальный характер движения человеческого тела, что хореографическое «сочинение» не могло быть зафиксировано ими с той степенью точности, с какой это делалось в литературе и даже в музыке95*. Вот почему долгое время создание новых танцев оставалось стихийным процессом коллективно-анонимного творчества — и в крестьянском, и в городском бытовом танце; но и после того как появилась профессия балетмейстера в хореографическом театре, а затем и руководителя хореографического ансамбля, сочинение танца не достигало все же такой меры независимости от исполнения, какую давно уже завоевало творчество писателя, драматурга и композитора. Показательно, что балетмейстер является не только сочинителем, но одновременно и постановщиком танца, сочетая в одном лице две творческие специальности, которые в драматическом театре и в музыке существуют раздельно (профессии драматурга и режиссера или 219 композитора и дирижера). В творчестве хореографа создание танца неотрывно от его воплощения.
Уже отсюда можно заключить, что соотношение первичных и вторичных форм художественного творчества не одинаково в различных его отраслях. Но такой вывод подкрепляется и другими наблюдениями, позволяя вывести тут известную закономерность. В самом деле, литература обладает наибольшей степенью независимости от исполнительского искусства — ибо ее произведения обращены к чтению глазами и лишь допускают — но отнюдь не требуют! — чтения вслух. Так называемое «художественное чтение» или «искусство чтеца» — полноправный вид творчества, но его удельный вес в сфере исполнительского искусства несоизмерим с удельным весом основных родов актерского искусства — с творчеством драматического актера, оперного певца и артиста балета. Показательно во всяком случае, что искусство чтеца сравнительно недавно завоевало право на самостоятельное существование, тогда как искусство драматического актера сопутствовало драматургии на протяжении всей ее истории. Это объясняется тем, что драматургия есть особый род литературы, который предназначен именно для сценического исполнения, а не для чтения. Разумеется, пьесы Эсхила, Шекспира и Чехова можно читать, однако подлинное их бытие сценическое, а не книжное, и создавались они в расчете на постановку, а не на чтение96*.
Мы могли бы пойти еще дальше и сравнить отношение к исполнительскому творчеству эпического и лирического родов литературы. Тогда окажется, что последний испытывает значительно большую потребность в чтецком воплощении, нежели первый (хотя мастера художественного слова далеко не всегда отдают предпочтение поэтическим произведениям, однако среди повестей и рассказов они избирают обычно произведения ярко выраженного лирического склада — например, рассказы Чехова, Шолом-Алейхема, «Маленького принца» Сент-Экзюпери и т. п.). Такое тяготение лирики, и в первую очередь поэзии, к звучащей форме существования вполне естественно — ведь в ней музыкальное начало играет бесконечно большую роль, чем в повествовательно-прозаических жанрах (чем это объясняется, будет выяснено нами несколько позже). Музыкальность же — и в прямом, и в переносном, применительно к искусству слова, 220 смысле этого понятия — есть качество звучащего образа, и вне звучания ее вообще не существует. Вот почему в самой музыке значение исполнительского искусства по отношению к композиторскому оказывается еще большим, чем во всех рассмотренных выше случаях.
Асафьев был глубоко прав, утверждая, что реальное бытие музыки как искусства есть звучание, а не нотная запись. Конечно, клавир и партитура могут быть прочитаны глазами, но, в отличие от чтения стихов и даже драматических произведений, процесс этот, во-первых, доступен лишь узкому кругу специалистов-музыкантов, тогда как чтение поэмы и пьесы доступно всем, а во-вторых, сами музыканты — что подчеркивал Асафьев — не способны удовлетвориться чтением нот и нуждаются в их озвучивании. Поэтому мера самостоятельности композитора по отношению к исполнительскому творчеству меньшая, чем драматурга и тем более романиста. В этой связи становится понятным, почему композиторы так часто бывают одновременно превосходными, если не профессиональными исполнителями — дирижерами, пианистами, скрипачами, драматурги же редко оказываются актерами или режиссерами. Можно даже сказать, что композитору необходимо быть в той или иной степени исполнителем — хотя бы для того, чтобы в процессе творчества озвучивать создаваемые музыкальные образы, дабы слышать то, что он сочиняет, драматургу же достаточно представлять в воображении реальное сценическое воплощение сочиняемой пьесы.
Наконец, в сфере хореографического искусства мы сталкиваемся, как это уже было показано, с наименьшей степенью самостоятельности первичного творчества и с наибольшей ролью творчества вторичного, исполнительского. Здесь уже просто немыслимо эстетическое восприятие словесной или любой другой знаковой фиксации сочинения балетмейстера, потому что связь между танцевальным движением и обозначающим его знаком гораздо менее определенная, чем в музыке или драматическом искусстве. Оттого слияние в одном лице сочинителя и исполнителя (балетмейстера и танцовщика) является в хореографической области уже не частым случаем, как в области музыкальной, а неким правилом, исключения из которого достаточно редки.
Таким образом, характеризуемая нами закономерность выражается в последовательном убывании самостоятельной ценности первичного творчества и соответственном возрастании роли творчества вторичного на пути от литературы к музыке, а от нее — к танцу. В результате и словесное и музыкальное 221 творчество явственно распадаются на три вида искусства: 1) импровизационное, не знающее отделения первичного творчества от вторичного, 2) самостоятельно существующее первичное (творчество писателя и композитора) и 3) вторичное (творчество музыкально-исполнительское и чтецкое), тогда как актерское искусство и танец остаются только исполнительскими искусствами.
Их видовая дифференциация пошла по иному руслу: изначальная сплетенность экспрессивных движений и гимнастических, с одной стороны; сплетенность изображений реальных жизненных действий и иллюзионистических фокусов — с другой; сплетенность движений самого человека, движений его тени, движений различных вещей, которыми он манипулировал в художественно-обрядовом действе, наконец, движений, втягивавшихся в орбиту этого действа жертвенных или табуированных животных, поведение которых особым образом организовывалось с помощью дрессировки, — все эти первоначальные связи постепенно разрывались в ходе развития профессионализированной художественной деятельности, и в результате в сценическом искусстве, в цирке и на эстраде мы имеем уже дело с целыми группами видов актерского и хореографического творчества. (Этот процесс очень хорошо показан в книге Е. Кузнецова «Цирк»).
Переходя из сферы «мусических» искусств в сферу искусств «пластических», мы вообще не найдем разделения первичного и вторичного (исполнительского) творчества, т. к. исполнение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры, прикладного искусства неотрывно от «сочинения» этих произведений. Если же исполнение выступает как самостоятельная операция — например, строительство архитектурного сооружения, отливка памятника и т. п., — то оно вообще выходит за пределы художественно-творческой деятельности, оказываясь чисто ремесленным (или промышленным) воплощением художественного проекта, макета, модели. Архитектор может и должен осуществлять так называемый «авторский надзор» за работой строителей; художник-прикладник может и должен следить за репродуцированием созданного им оригинала в тиражном производстве стекольного, керамического или любого другого предприятия; скульптор может и должен руководить переводом гипсовой модели в мрамор, гранит или бронзу; иллюстратор книги может и должен контролировать полиграфический процесс воспроизведения в печати его рисунков; очевидно, однако, что во всех этих случаях непосредственное исполнение есть дело рабочих, инженеров, техников, наконец, машин, т. е. не является этапом художественного творчества.
222 Чем объясняется такое принципиальное отличие «пластических» искусств от искусств «мусических»? Отметим, прежде всего, что изначально техническое выполнение художественного замысла было и тут делом рук самого художника. Такое положение вещей сохранялось в фольклоре, в художественном ремесле, где каждое художественное произведение — крестьянская изба, церковь, сосуды и одежда, лубочная картинка и резная прялка — создавалось от начала до конца теми же самыми руками. Отделение функций технического исполнения от функций художественного проектирования и художественного конструирования было связано с усложнением технической базы художественного производства. Для создания грандиозных египетских храмов, дворцов и усыпальниц, монументальных каменных изваяний необходимо было использовать физическую силу и уменье огромных масс рабочих, а также хитроумные технические приспособления, и художнику оставалась лишь роль автора художественного проекта и надзирателя за точностью его реализации. Когда же архитектура и прикладные искусства осваивали все более и более сложные технические средства, вплоть до средств современной промышленности и строительной индустрии, когда скульптура овладела технологией металлического литья, чеканки и штамповки, — тогда расчленение процесса создания произведений «пластических» искусств на художественно-творческую и технически-исполнительскую стадии закрепилось окончательно.
Конечно, и «мусические» искусства испытывали воздействие технического прогресса — достаточно вспомнить роль книгопечатания в развитии литературы или историю совершенствования музыкальных инструментов, выразившуюся, например, в превращении древнего лука в современный рояль, или значение совершенствования техники сцены для развития театрального искусства. Однако здесь техника не затрагивает самого процесса исполнения художественного произведения, она определяет лишь условия творчества и условия потребления художественных ценностей, тогда как в «пластических» искусствах техника может взять на себя функции непосредственного созидания произведений искусства — ведь действительным художественным творением является построенное здание, воздвигнутый памятник, отпечатанная линогравюра; в «мусических» же искусствах действительным произведением является уже рукопись романа, пьесы, партитуры. Так оправдывается применение термина «технические» по отношению к данной группе искусств — роль техники тут действительно иная, чем в искусствах «мусических».
Но если в «технических» искусствах не могло произойти расслоения на первичное и вторичное творчество, то в видовом отношении 223 их начальный синкретизм подвергся такому же разложению, какое мы обнаруживаем в истории «мусических» искусств; в конце концов художественное развитие человечества привело к самоопределению архитектуры, прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры как особых видов искусства.
Нам нет нужды прослеживать все перипетии этого процесса, укажем лишь наиболее существенные его закономерности.
Первая из них — постепенное обособление изобразительных искусств от искусств неизобразительных, бифункциональных. Если на первой ступени истории пластических искусств и даже в фольклорном творчестве живописные, скульптурные и графические изображения не имели, за самым редким исключением, самодовлеющего характера и использовались как одно из средств художественного «оформления» жилища, орудий труда, оружия, утвари и т. п., то в дальнейшем, сохраняя и этот способ существования, живопись, графика и скульптура обретают самостоятельное бытие, называемое обычно станковым. Произведение станковой живописи, графики, скульптуры становится эстетическим объектом, независимым от конкретной среды и существующим как бы вообще вне среды, ибо его созерцание требует полного сосредоточения внимания на нем одном, полного погружения духа в его глубины и полного отключения от восприятия обстановки, в которой оно находится. Обстановка эта оказывается совершенно внешней по отношению к произведению станкового искусства и столь же безразличной к нему, как оно безразлично к ней: картина или эстамп могут свободно перемещаться из одного интерьера в другой — из мастерской художника на выставку, в салон, в музейный зал, в фойе театра, дворца культуры и т. д. и т. п., — ничего от этого не теряя и ничего не приобретая. Единственное «отношение» среды к такого рода произведениям — отношение пространственного масштаба и освещенности, ибо среда должна обеспечить оптимальные условия спокойного, ничем не затрудненного и сосредоточенного созерцания находящихся в ней шедевров. Лучше всего такие условия могут быть созданы в музее, построенном именно с таким расчетом, чтобы каждое экспонированное произведение находилось в относительно изолированной пространственной зоне, чтобы оно было удачно освещено, чтобы были обеспечены возможности его обозрения с разных точек или кругового обхода, если дело касается скульптуры. В той мере, в какой это достижимо, каждый частный владелец произведений станкового искусства стремится создать для них в своей квартире или дворце аналогичные экспозиционные условия.
224 Перед нами, таким образом, способ существования искусства, который можно условно назвать музейным, так же как аналогичный способ бытия музыкальных произведений мы называем концертным (или эстрадным), а способ бытия произведений драматического искусства — сценическим. С таким же правом мы могли бы назвать форму существования литературных произведений библиотечной, имея в виду не только общественные, но и частные книжные собрания. Аналогии эти имеют глубокое основание, т. к., приобретя станковый способ существования, живопись, графика, скульптура достигли такой же меры самостоятельности, какая свойственна литературе, театру, музыке, т. е. стали самостоятельными видами искусства. Благодаря этому изобразительное творчество обрело способность с предельной конкретностью рассказывать о ценности индивидуальной неповторимости явления природы, поступка человека, облика вещей. Художественное своеобразие и соответственно сила этих искусств оказались связанными со зримой конкретностью изображения, с выработанным ими «портретным» способом моделирования жизни. Мы употребляем здесь термин «портретность» вслед за Ш. Сорелем и Д. Дидро в самом широком смысле, имея в виду воспроизведение предметов видимого мира. Принцип «портретности» может проводиться в живописи, графике, скульптуре так последовательно, как ни в одной другой области художественного творчества — не случайно портретное изображение человека, природы и вещей приводит здесь к выделению особых жанров — жанров портрета, пейзажа, натюрморта; но и в других жанрах изобразительных искусств «портретность» присутствует, только в снятом виде — ведь в основе любой картины или статуи лежит материал этюдов с натуры, этих своеобразных «портретов» реальности. Что же касается художественной фотографии, то она портретна всегда, ибо запечатлевает все реальные явления с документальной точностью.
Но если в способности воссоздавать предметный мир во всей конкретности его материального бытия заключена неповторимая художественная сила изобразительных искусств, то здесь же кроется и их слабость: масштаб обобщения неизбежно ограничен в них единичностью изображаемого предмета или явления — этого цветка, этого ландшафта, этого животного, этого человека. Какова бы ни была мера индивидуализации живописного, графического, скульптурного образа — максимальная, как у В. Серова, или минимальная, как у Матисса, — она всегда этот образ характеризует. Но вот природный мотив — мотив того же цветка, животного или даже человеческой фигуры — попадает в орнаментальную композицию декоративной ткани, росписи вазы или 225 архитектурного лепного фриза, и индивидуальное своеобразие данного предмета оказывается ненужным, неважным, художественно «неинтересным», ибо орнамент «интересуется» именно и только пластически-цветовой сущностью тех предметов, которые рождают мотив декоративного узора. Лишь решительный отказ от передачи индивидуальной конкретности предмета позволяет орнаменту бессчетное количество раз повторять мотив, образуя ритмическую ленту узора или же ритмическое заполнение всей поверхности декорируемой вещи. Именно по этой причине орнамент получает художественное право отказаться, в конце концов, от всякой изобразительности, используя в качестве мотива абстрактные, геометрические формы — прямые и кривые линии, овалы и треугольники. Вот почему орнамент оказался столь уместным в архитектуре и прикладных искусствах, сохранившись в них как одно из самых распространенных декоративных средств, как способ архитектонической организации поверхности предмета.
Освобождение от изобразительной конкретности уподобило язык орнамента языку музыки и танца, открыв ему доступ к выражению наиболее широко обобщенной (и тем самым сравнительно отвлеченной) поэтической информации. Оттого в орнаменте, как в музыке и танце, метроритм становится основным структурообразующим средством. По сути дела, танец является как бы ожившим орнаментальным узором, динамической орнаментальной композицией, да и в музыке мы часто обнаруживаем орнаментальное строение звуковой ткани.
Все сказанное об орнаменте можно отнести к архитектоническим искусствам в целом. Отказ от воспроизведения индивидуального облика предметов и явлений действительности имеет здесь тот же художественный смысл, что и в музыке и в танце; недаром архитектуру обычно называют — вслед за Гете и Ф. Шлегелем — «застывшей музыкой», а музыку — «движущейся архитектурой»97*. Будучи основан на самом широком обобщении объемно-пространственных и цветовых отношений материального мира, язык архитектуры и прикладных искусств оказывается способным воплотить общие для больших человеческих масс идеи, настроения, душевные состояния. Поскольку произведения этой группы искусств соединяют в себе художественное и утилитарное начала, поскольку они создаются ремесленным или промышленным производством для многих людей, произведения 226 эти и должны нести не индивидуально-специфическое, а устойчиво-всеобщее духовное содержание. В этой сфере художественного творчества человек утверждается не своей индивидуальной неповторимостью, а приобщенностью к другим людям. Оттого принцип «портретности», столь характерный для живописи и скульптуры, оказывается здесь непригодным, ибо здание Парфенона, или Адмиралтейства, или Кремлевского Дворца съездов должно быть «портретом» эпохи, общества, а не отдельной личности.
Кристаллизация станковых форм изобразительного искусства, — которые и стали в новое время главным руслом его самостоятельного развития, — началась в глубокой древности, но развертывалась она долгое время крайне медленно и затрагивала лишь некоторые его отрасли. Уже в культуре древнего Египта, а затем в Греции и Риме мы находим первые устремления скульптуры к самостоятельному существованию: именно такой характер имела портретная пластика в жанре интимного, психологического портрета — вспомним хотя бы знаменитые изображения Нефертити, галерею портретов Скопаса, бесчисленные портретные бюсты в древнем Риме. Понятно, почему именно портретная пластика стала первой формой самоопределения изобразительного искусства: обращение к конкретному, живому, индивидуальному человеку категорически требовало отделения изобразительного искусства от архитектуры и прикладного искусства, формообразующие принципы которых сопротивлялись такого рода художественным задачам. Правда, культура рабовладельческого Египта свидетельствует о попытках согласовать архитектурные сооружения с портретными образами фараонов, но не случайно опыт этот не получил продолжения в мировой истории искусства; эпизодическими оказались в дальнейшем и опыты портретной росписи фарфоровой посуды или портретных изображений на коврах — слишком уж остро противоречие между образной структурой портрета и образной структурой предметов прикладного искусства и архитектуры. Вполне закономерно, что во всех случаях воссоздание индивидуальной конкретности физического облика и духовного мира личности подавлялось той мерой обобщения, условности, стилизации, которые неизбежны и необходимы в нестанковых, монументально-декоративных и просто декоративных формах живописи и скульптуры. И оттого уже египетские художники, поставившие своей целью подлинно портретное изображение Нефертити или Эхнатона, должны были «выключать» скульптуру из синкретического архитектурно-скульптурного единства и выводить ее на дорогу станкового искусства.
227 В дальнейшем дорога эта становилась все более широкой, однако даже в эпоху Возрождения станковое искусство не завоевало еще господствующих позиций. Впрочем, объясняется это не какими-либо внутренними причинами, а внешними для искусства обстоятельствами: тем, что всевластие религии (в разных ее исторических формах) и нужды политической власти делали магистральной дорогой развития изобразительного искусства монументально-декоративные его формы. Способность создавать наглядные образы героев языческих, буддийской, христианской мифологий заставляла удерживать скульптуру и живопись в границах «дома божьего» — храма, собора, церкви, а агитационные и декоративные потенции этих искусств объясняют требование императоров и вельмож всемерно насыщать изобразительностью архитектуру, мебель, посуду, утварь, средства передвижения, оружие. И лишь по мере того, как развитие буржуазных отношений приводило к эмансипации искусства от религии и выводило его из подчинения феодальной власти, по мере того, как капиталистическое общество предоставляло искусству нового социального заказчика — частное лицо, буржуа, по мере того, как законы товарного производства приобретали универсальный, всеохватывающий характер, вовлекая в свою сферу труд художника и заменяя былых его покровителей покупателями производимого им художественного товара, по мере того, наконец, как демократизация художественного потребления привела к превращению закрытых частных собраний в общедоступные музеи, что в совокупности определило ориентацию творчества художника на создание главным образом станковых произведений, — процесс обособления изобразительных искусств от архитектуры и художественного ремесла быстро дошел до полного завершения.
Расщепление начального единства пластических искусств сказалось в равной мере и на судьбах архитектуры и прикладных искусств. Характеризуя эту сторону дела наиболее общим образом, можно сказать, что исторический процесс вел к постепенному очищению зодчества, художественно-ремесленного, а затем художественно-промышленного конструирования от изобразительных элементов. Станковым формам живописи и скульптуры здесь стали соответствовать столь же чистые — в смысле структурной однородности — формы архитектонического творчества, т. е. такие, в которых создание художественного образа осуществляется лишь собственными, имманентными архитектуре и прикладным искусствам, средствами. Средства эти обусловлены функционально-конструктивной основой утилитарных предметов, которая заставляет художника оперировать не изобразительными 228 формами, а формами, образующимися при решении конструктивно-технической задачи и имеющими, естественно, неизобразительный, абстрактный, стереометрический характер98*. Именно таковы отношения объемов, плоскостей, цветовых поверхностей, которые рождаются при создании утилитарного предмета и становятся выразительным языком художественного конструирования — ритмом, тектоникой, пропорциональностью, силуэтом и т. п. Наиболее последовательно пошли по этому пути функционализм и конструктивизм в архитектуре и современный дизайн. Разумеется, и в наше время, и в будущем не только возможны, но в ряде случаев необходимы синтетические, архитектонически-изобразительные решения художественной задачи, основанные на поисках новых способов связи неизобразительного языка данных искусств и изобразительного языка живописи, графики, скульптуры, художественной фотографии. К этому вопросу мы еще вернемся, когда будем специально обсуждать проблему синтеза искусств, сейчас же нам достаточно установить закономерность исторической дифференциации пластических искусств и завоевания самостоятельного существования изобразительными искусствами, с одной стороны, и архитектоническими — с другой.
Правда, при этом сохранялся один вид изобразительного искусства, который в известном смысле можно было бы считать и видом искусства прикладного, ибо он обладал функциональной двойственностью, но в весьма специфическом ее проявлении: его 229 утилитарная функция выступала здесь как функция педагогическая. Речь идет об искусстве игрушки. Его структура будет нами в дальнейшем рассмотрена более подробно, пока же важно лишь отметить его вычленение в качестве самостоятельного вида пластического творчества.
Дифференцирующие силы историко-художественного процесса не только разделили изобразительные и архитектонические искусства, но в каждой группе обеспечили самостоятельность отдельных видов — живописи, графики, скульптуры, в одном — случае, архитектуры, садово-паркового искусства, прикладного искусства — в другом. При этом следует, конечно, иметь в виду, что самостоятельность каждого вида пластического искусства далеко не абсолютна. Это относится, прежде всего, к взаимоотношениям архитектуры и прикладных искусств, произведения которых в реальном процессе утилитарно-художественного функционирования никогда не существуют раздельно; напротив, они образуют, как правило, сложные предметные ансамбли, в которых и развертываются все процессы человеческой жизнедеятельности. С одной стороны, «зеленая архитектура» неразрывно связана со зданиями в едином ансамбле улицы, района, города и воспринимается зрительно как один из элементов целостной градостроительной структуры; с другой стороны, интерьер любого здания заполнен вещами, в единстве с которыми он и воздействует на находящихся в нем людей: мебель, осветительная арматура, декоративные ткани, посуда, всевозможная бытовая, служебная и культовая утварь, наконец, сама одежда «работают» и функционально, и эстетически как некое целое, как сложный ансамбль, и самостоятельная роль каждого компонента этого ансамбля не намного большая, чем, скажем, роль различных инструментов в оркестре. И тут и там мы можем, разумеется, воспринять и оценить отдельные элементы этой сложной структуры, но при этом неизбежно, сознательно или бессознательно, соотносим данный элемент с целым, в котором он существует и от которого зависит его конкретное художественное значение. Собственно говоря, о художественном образе в точном смысле этого слова здесь можно говорить, лишь имея в виду не отдельные вещи и не саму по себе взятую архитектуру интерьера, а именно комплекс, ансамбль, многоэлементное целое, ибо оно реально существует именно и только как таковое. Самостоятельное существование предметы мебели, посуды, одежды и т. п. обретают лишь тогда, когда они становятся музейными экспонатами; очевидно, однако, что, в отличие от произведений станкового изобразительного искусства, музейное бытие является для предметов прикладного искусства своеобразным 230 насилием над их природой. Понятно с этой точки зрения стремление некоторых музеев приблизить существование предметов прикладного искусства к естественным условиям, организуя синтетические экспозиции целых интерьеров (например, в Ленинградском Музее этнографии народов СССР) или даже архитектурно-вещественных ансамблей (например, в Латвийском и Эстонском музеях прикладного искусства).
Вторая закономерность рассматриваемого нами процесса связана с тем, что изначально создание всей художественно-значимой предметной среды человеческой жизни было делом, так сказать, одних и тех же рук и уже поэтому имело действительно целостный характер, а с развитием разделения труда, с обособлением специализированных форм ремесла, а затем мануфактурного и промышленного производства, строительство, изготовление мебели, керамических сосудов, тканей, оружия и т. п. раздробилось на многочисленные самостоятельные отрасли производства, потерявшие исконную взаимосвязь. Крайне показательно, что дифференциация исходного единства архитектурно-прикладной сферы творчества развертывалась при этом в направлении, диктуемом именно технологическими условиями производства: основным дифференцирующим фактором оказывалось различие обрабатываемых материалов. Соответственно и искусствознание вынуждено было принять эти реально сложившиеся различия в качестве видовых членений мира прикладных искусств и определять данные членения не по функциональным и не по эстетическим признакам, а по признакам материально-техническим: так, видами прикладного искусства считались «художественная обработка дерева», «художественное стекло», «художественная чеканка» и т. д. и т. п.99*
Такой принцип классификации, конечно, несостоятелен, и мы противопоставим ему в дальнейшем другой. Пока же подчеркнем, что дифференциация отдельных отраслей материально-художественного производства, под каким бы углом зрения ее ни рассматривать, является не изначальным, не в природе этих искусств лежащим принципом, а историческим образованием, причем в эстетическом отношении она продолжает даже в наше время оставаться весьма относительной.
231 В-третьих, необходимо еще раз обратить внимание на то, что и в сфере изобразительных искусств самостоятельность живописи, скульптуры и графики тоже не является исходной формой их существования. Применительно к наскальным росписям эпохи палеолита понятия «живопись», «графика», «рисунок», «гравюра» употребляются искусствоведами достаточно свободно, потому что сколько-нибудь четких граней между данными типами изображений найти тут нельзя. Применение цвета — этот основной отличительный признак живописи — в эпоху палеолита, да и много позднее, не имеет сколько-нибудь принципиального характера, так же как гравирование (высекание) контура изображения или его нанесение смазанным краской пальцем. Более существенны здесь различия между скульптурным и живописно-графическим способами изображения — по той простой причине, что первый моделирует образ в объеме, а второй создает его иллюзорную проекцию на плоскости. Однако и тут у нас нет оснований говорить о полной изначальной самостоятельности данных отраслей художественной деятельности — и потому, что рельефные изображения (типа знаменитого Лоссельского рельефа, резного декора утилитарных изделий из кости и рога или аналогичных по структуре древнеегипетских изображений) свидетельствуют о явной относительности их границ, и потому, что для ранних стадий истории искусства столь же характерно использование в круглой скульптуре полихромии (вспомним монументальную скульптуру древней Греции или деревянную скульптуру средневековой Европы).
Относительность границ между графикой, живописью и скульптурой сохраняется и в наше время — сошлемся хотя бы на то, что многоцветная роспись встречается и сейчас в керамических рельефах Фрих-Хара или в деревянных портретах Дуниковского, на то, что акварель или цветная литография с равным правом может быть отнесена и к сфере графики, и к сфере живописи. Только в последние несколько столетий художественное развитие человечества выработало достаточно определенное представление о живописи, графике и скульптуре как четко разграниченных видах изобразительного искусства — вплоть до того, что нормальным явлением стала специализация художника в одной из этих трех областей, начальные же фазы развития изобразительного искусства такой специализации не знали: до XIX в. графика не признавалась самостоятельным видом искусства — все ее проявления охватывались понятием «живопись»; более того, в целом ряде случаев даже живопись и скульптура не дифференцировались теоретиками как самостоятельные, отдельные виды искусства.
232 Табл. 25
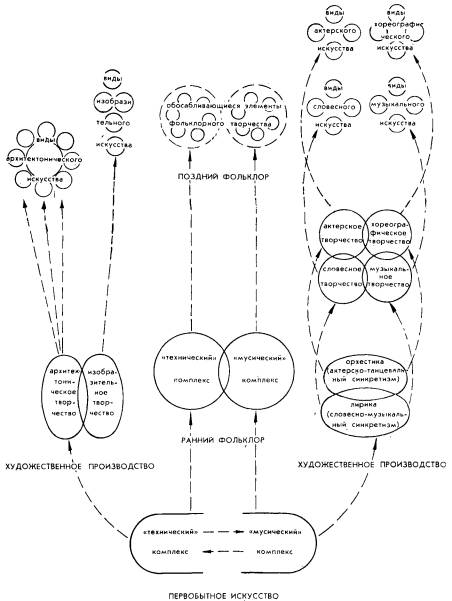
233 Итак, в ходе исторического развития художественной культуры под влиянием разного рода скрещивавшихся факторов началась и все более активно протекала «реакция распада» древнейших синкретических художественных комплексов — «мусического» и «технического», и многообразные конкретные способы художественного освоения мира приобретали самостоятельное существование, становились видами искусства или разновидностями этих видов.
Если воспользоваться графическим способом изображения этого процесса, то «генеалогическое древо» художественной деятельности, рассмотренное в пределах дифференцирующих сил историко-художественного процесса, будет выглядеть так, как это представлено на табл. 25.
234 Глава VIII
РАСШИРЕНИЕ И СУЖЕНИЕ ГРАНИЦ МИРА ИСКУССТВ
Рассмотрение истории мировой художественной культуры показывает, что изменение ее морфологической структуры не ограничивается процессом дифференциации исходных синкретических способов творчества. Наряду с этим процессом, а в известной мере и на его основе, развертываются и другие. К их анализу нам и нужно сейчас перейти.
1. ИНТЕГРИРУЮЩИЕ СИЛЫ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
Начнем с того, что между искусствами, обретшими самостоятельное существование, стали складываться связи и взаимодействия, приводившие к образованию новых сложных художественных структур — структур синтетических, и тем самым в каком-то отношении подобных синкретическим искусствам древности и фольклора, но в то же время существенно от них отличных. Эти интегрирующие силы художественного развития человечества проявлялись трояким образом и возникавшие при этом три разных способа сочетания искусств можно назвать конгломеративным, ансамблевым и органическим.
В первом случае мы имеем дело с механическим объединением произведений разных искусств в некоем отрезке пространства или времени, так что каждый компонент образующегося конгломерата оказывается связанным с другими чисто внешне, полностью сохраняя свою художественную самостоятельность. Таковы, например, сочетания различных искусств в обычной концертной программе, где один номер следует за другим, исполняется 235 после другого и связан со всеми другими своего рода законом «трех единств», — единством места (концертной эстрады), единством времени (в которое происходит данное представление), а взамен единства действия — единым конферансье… Другой пример — конгломерат разнообразных архитектурных сооружений и скульптурных монументов, который образуется в капиталистическом городе при бесплановой, бессистемной, хаотической его застройке; здания и памятники становятся здесь соседями совершенно случайно и воспринимаются независимо и изолированно друг от друга, не образуя единого и целостного художественного ансамбля. Когда же создается подобный ансамбль (типа знаменитых петербургских), каждый его компонент обладает уже не абсолютной, а только относительной самостоятельностью: мы можем, конечно (а в известном смысле даже должны), рассматривать поочередно здание Театра драмы им. Пушкина, памятник Екатерине II в сквере, наконец, перспективу улицы Росси и даже каждый ее фрагмент, однако любой элемент этого сложного ансамбля требует от нас соотнесения с другими и с целым, ибо вне этой системы соотношений, ритмических повторов и контрастных оппозиций он не раскроется нам во всей полноте своего эстетического смысла. Равным образом концертное представление, задуманное как художественное целое, где каждый номер сцеплен с другими логикой развивающегося действия и таким образом погружен режиссером-постановщиком в систему взаимных опосредовании с предыдущими и последующими номерами, становится неким «сценическим ансамблем», самостоятельность компонентов которого опять-таки уже не абсолютна, а относительна.
Отсюда следует, что ни цирк, ни эстрада, ни массовые зрелища под открытым небом не обладают единообразным строением художественной ткани и не являются поэтому видами искусства. Соединяются ли различные музыкальные, хореографические, разговорные и т. д. номера на арене, на сценической площадке или на поле стадиона; протекает ли концерт в камерном зале или его смотрят одновременно десятки тысяч зрителей; активизируются ли они как участники карнавального шествия или остаются просто и только зрителями — во всех этих случаях мы имеем дело с объединением различных искусств, которое, однако, не приводит к «химической реакции» их слияния воедино100*.
236 Третий способ художественной интеграции — органический выражается в том, что скрещение двух или нескольких искусств рождает качественно своеобразную и целостную новую художественную структуру, в которой составляющие ее компоненты растворены так, что только научный анализ способен вычленить их из этого структурного единства. Такой способ связи элементарных форм художественного творчества свойствен, например, оратории, в которой поэтический текст и мелодия сопрягаются в нераздельное художественное единство, или же архитектурно-скульптурным сооружениям типа Шартрского собора, Сикстинской капеллы, петербургской Биржи, Ростральных колонн, где столь же нерасторжимы художественные «составляющие». Вне архитектуры оказалась бы попросту непонятной композиция знаменитого фриза Парфенона, ибо объясняется она формой тимпана, в которую фриз этот вписан. Неудивительно поэтому, что скульптурная группа В. Мухиной «Рабочий и колхозница», оторванная от архитектуры Советского павильона Всемирной Парижской выставки и поставленная в Москве, у входа на ВДНХ, на чуждый ей маленький и низкий постамент, очень много потеряла в своей художественной выразительности; еще более странное впечатление произвело бы само здание данного павильона без венчавшей его скульптуры.
Закономерности механического объединения различных искусств определить несложно. Принципиальная возможность образования подобных художественных конгломератов базируется на способности известных отрезков пространства и времени вместить в себя некое количество художественных ценностей. В качестве такого «отрезка» можно рассматривать улицу или площадь в городе; выставочный зал, в котором экспонированы и сопоставлены произведения живописи, графики, скульптуры, прикладных искусств; концертную площадку или телевизионный экран, на которых таким же, в сущности, образом «экспонируются» произведения другой группы искусств — словесно-музыкальной, драматически-хореографической. Что же касается эстетической необходимости конгломеративного объединения произведений разных искусств, то она проистекает либо из чисто утилитарных факторов (напр., градостроительных), либо — и чаще всего — из стремления оказать на человека максимально насыщенное и разнообразное по компонентам художественное воздействие в условиях отделения искусства от практической жизнедеятельности людей и превращения его в «рамочное», концертно-музейное. 237 В этих условиях, когда человек должен оторваться от всех своих житейских дел, дабы отдаться художественным впечатлениям, организация его общения с искусством стала требовать объединения целых групп произведений, восприятие которых осуществляется в сравнительно недолгое время (картин, скульптур, концертных номеров). Так рождались новые формы организации художественного восприятия — музейная экспозиция, выставка, концерт, цирковое представление, которые позволяли объединять в одном «куске» времени, специально этому посвященном, более или менее длинную серию самостоятельных актов художественного восприятия.
Принцип ансамблевого сочетания разных искусств покоится, в сущности, на тех же основаниях, только в данном случае мы имеем дело с более высоким уровнем организации системы «искусство — публика» и с более совершенными в эстетическом отношении результатами. Все чаще проявляющееся в наше время стремление превратить эстрадное, цирковое, телевизионное представление в целостное, последовательно развивающееся действо, скрепленное в подтексте некоей «психологической драматургией», основано на учете особенностей эстетического восприятия, сила которого прямо пропорциональна целостности впечатления. Поскольку эстетическое восприятие ансамблевого целого не равно сумме впечатлений от отдельных его частей, но включает в себя и впечатления от логики их взаимосвязи, благодаря которой каждый компонент целого воспринимается не сам по себе, а в сложной системе взаимоотражений с другими компонентами, постольку эстетическое воздействие целостной художественной системы (ансамбля) неизмеримо сильнее и богаче воздействия простого конгломерата художественных произведений.
Разумеется, далеко не всегда желание подняться от низшего — механического — уровня соединения искусств к более высокому — ансамблевому — уровню оказывается успешным (особенно в концертной практике или в конструировании телевизионных программ); по-видимому, в данных областях художественной культуры чисто «концертный» принцип конгломеративной связи следует считать правомерным, тогда как в организации предметной среды, окружающей человека в городе или в жилище, можно и нужно всегда стремиться к преодолению случайного сосуществования разнородных сооружений и вещей, к созданию целостных ансамблей — и в интерьере, и в микрорайоне, и в городе в целом. Различие это объясняется, во-первых, тем, что концерт входит в жизнь человека однажды и не на долгое время, тогда как архитектура, прикладное, промышленное искусство и те произведения изобразительных искусств, которые 238 живут в быту, создают устойчивую, постоянно окружающую человека предметную среду, поэтому здесь значение ансамблевого принципа связи отдельных художественных элементов неизмеримо большее. Во-вторых, концертные программы имеют нередко развлекательную функцию, что делает менее обязательным поиск крепкой ансамблевой связи отдельных номеров программы — здесь бывает достаточным такое их чередование, которое обеспечило бы разнообразие впечатлений (смену драматических эпизодов комедийными, разговорных номеров — музыкальными и хореографическими и т. д.); что касается предметно-художественной среды, в которой протекает вся человеческая жизнь, то ее функции гораздо серьезнее: гедонистический момент имеет место и тут, однако главное ее назначение — создание и поддержание тех эмоциональных состояний, настроений, которые должны обеспечить наиболее органичное самочувствие и поведение людей в различных сферах их практической жизни.
Третий — органический — тип связи различных искусств, в отличие от двух первых, порождается особыми причинами и приобретает особо важное морфологическое значение, ибо на этом пути складываются новые, качественно своеобразные художественные структуры — новые виды и разновидности искусства.
Распад древнего художественного синкретизма, обеспечивший самостоятельное существование различных способов художественного творчества, имел одновременно и положительные, и отрицательные эстетические последствия. Положительные — потому что здесь, как и во всех других областях материальной и духовной культуры, разделение труда оказывалось необходимым условием прогрессивного развития и совершенствования обособливавшихся друг от друга и становившихся узко специализированными форм деятельности. Так, стремительное развитие словесного и музыкального творчества, приведшее, в одном случае, к появлению лирической поэзии, повести, романа, а в другом — инструментальных форм типа фуги, сонаты и симфонии, было прямым результатом превращения литературы и музыки в самостоятельные виды искусства, ибо их исходное синкретическое единство связывало ту и другую «по рукам и ногам», замыкало их в кругу художественных структур, основанных именно на связи словесного и музыкального элементов. То же самое можно сказать о станковых формах живописи и скульптуры, обязанных своим рождением и развитием разрыву между изобразительными искусствами и архитектурой.
Однако в то же самое время — такова уж печальная диалектика развития, что за всякие завоевания приходится платить дорогой ценой — исторический процесс выплетения отдельных 239 нитей из архаических синкретических клубков имел и явно отрицательные следствия. Крупные достижения оборачивались не менее серьезными утратами — потерей той разносторонности и полноты художественного отражения жизни, которые были доступны синкретическому творчеству: ведь соединение разных способов художественного освоения мира позволяло освещать изображаемое перекрестными лучами, моделировать разные аспекты связи объекта и субъекта, создавать многомерные, «объемные» образы, а не однопланные, развернутые как бы в одной только словесной, или музыкальной, или хореографической и т. д. плоскости. Неудивительно, что в истории художественной культуры нового времени, начиная с конца XVIII в., мы встречаемся все чаще со своеобразной ностальгией, тоской по утраченному единству искусств и с более или менее настойчивыми попытками возродить их былую взаимосвязь.
Правда, при этом выяснялось, что невозможно сплести разобщенные нити отдельных искусств в те самые «узоры», в каких они скрещивались изначально, как невозможна вообще реставрация древних форм культуры — вспомним, что писал по этому поводу К. Маркс (455, т. 12, 737). Оставался, таким образом, лишь один выход — поиск новых «узоров», целенаправленная «художественная гибридизация», ориентированная на «выведение» оригинальных, неизвестных прежде синтетических художественных образований.
Этот поиск нельзя расценивать как чисто формальное экспериментирование, порождаемое отвлеченным стремлением открыть искусству новые выразительные возможности. Рассматривая пристально синтетические искания Вагнера или Скрябина, рождение кинематографического или экспозиционно-оформительского синтезов, мы всякий раз обнаруживаем в них проявления глубокой общественной потребности в соответствии способов художественного моделирования жизни характеру постоянно изменяющейся социальной действительности. Однако удовлетворение этих потребностей всегда зависело от способности тех или иных искусств к «гибридизации», т. е. не к простому механическому их сопоставлению и даже не к ансамблевой их связи, а именно к «химической реакции» органического взаимопроникновения, которое только и может породить новый синтетический вид художественного творчества. А эти способности искусств хотя и широки, но ограничены и неодинаковы на разных участках художественной культуры.
По сути дела, стихийно сложившиеся в первобытном искусстве и в фольклоре синкретические художественные образования показывают достаточно определенно, в каких пределах разные 240 способы художественного творчества могут органически сливаться. Высокая степень самостоятельности «мусического» и «технического» художественных комплексов, о которой шла у нас речь, объясняется ведь именно тем, что статичные предметы, вырванные из тока времени и противопоставленные, таким образом, времени как процессу, тем самым не могли быть слиты в одно целое с действиями, которые протекают во времени и утверждают динамику времени тем, что прекращают свое существование вместе с отрезком времени, в котором они возникли, развернулись и вместе с которым исчезли, растворились в небытии. Пространственные и временны́е структуры могут органически объединяться лишь при одном условии — при полном подчинении первых вторым. Оно выражается в том, что вещественные, пластические объекты должны стать текучими, изменчивыми во времени. В искусстве это было возможно первоначально лишь тогда, когда его материалом было живое пластическое тело — тело самого человека. Однако на этом пути оказалось возможным расширить арсенал пластико-динамических средств искусства: в фольклоре это делалось с помощью подвижной куклы — Петрушки, затем с помощью целого набора кукол — марионеток; затем в мультипликационном кинематографе, с помощью динамизированного рисунка и т. д. Во всех подобных случаях искусство находило средства, заменяющие живое человеческое тело, т. е. способные изображать человека; но оно испытывало и иные возможности объединения пространственных и временны́х структур, используя для этого, с одной стороны, животных, которых скоморох-поводырь или цирковой дрессировщик превращали в своего рода актеров, разыгрывающих юмористические или сатирические сценки, а с другой — движение водных струй в неизобразительных композициях фонтанов, или же светоцветовую игру фейерверков (вспомним, что обе эти формы искусства, ныне почти полностью заброшенные художниками, еще в XVIII в. занимали прочное место в мире искусств и выделялись, как мы помним, рядом эстетиков в их морфологических построениях). В XX в. возникли новые богатейшие возможности художественного объединения пространства и времени, открытые современной техникой, — напомним хотя бы только о кинематографе и телевидении; на новой технической базе ищутся недоступные прежде способы сопряжения звуковых и неизобразительных цветовых и объемно-пластических конструкций (цвето-музыка, кинетическое искусство)101*.
241 Таким образом, искусство обладает самыми широкими Возможностями восстановления и развития в синтетических структурах тех синкретических форм творчества, которые были даны истории искусства изначально и в пределах чисто пространственного — пластического, «технического» — комплекса, и в пределах «мусического» комплекса, и в их связях и перекрещениях. Реализация этих возможностей привела, во-первых, к появлению различных бинарных синтетических структур — словесно-музыкальной, музыкально-хореографической, словесно-актерской, актерски-хореографической, актерски-музыкальной (представленных главным образом концертным типом художественной деятельности); во-вторых, к рождению более сложных, многочленных структур, которые представлены всеми видами сценического искусства — драматическим театром, оперным театром, хореографическим театром.
Во втором случае интегрированными оказываются не только «мусические», но и «пластические» искусства — живопись, прикладные искусства и даже своеобразная сценическая квазиархитектура, создающие совокупными усилиями образ среды, в которой развертывается театральное действие, а также внешний облик самих действующих лиц (грим, костюм). Первые примеры такого разностороннего синтеза мы находим в античном театре, обладавшем высокой культурой изобразительно-пластического оформления спектакля; еще дальше пошло в этом направлении средневековье, не только в постановке мистерий, но и в организации основных «спектаклей» этой эпохи — с одной стороны, 242 культовых обрядов, а с другой — турнирных церемоний. Художественный гений средневековых мастеров «конструировал» богослужение так, что возникал грандиозный ансамбль временны́х и пространственных искусств во главе с архитектурой; во всяком случае, даже сейчас, слушая органную музыку или певцов в соборе, мы отчетливо ощущаем отличие художественного воздействия музыки в ансамбле с архитектурой от ее воздействия в совершенно ей чужеродном филармоническом или концертном зале.
На смену этим безвозвратно утраченным формам синтетической художественной деятельности XX век привел в художественную культуру новые сложнейшие синтетические образования, основанные на принципиально новых способах технического опосредования художественного синтеза. Речь идет о киноискусстве, о радиоискусстве, о телевизионном искусстве, об оформительском искусстве.
Впрочем, научно-технический прогресс расширяет возможности художественного творчества не только в нашу эпоху и не только благодаря обеспечению интеграционных устремлений искусства. Проблема эта столь существенна, что требует самостоятельного рассмотрения.
2. ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ ФОРМ ИСКУССТВА БЛАГОДАРЯ РАСШИРЕНИЮ ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Первые проявления «экспансии» художественно-творческой деятельности человека за ее первоначальные границы мы можем обнаружить сравнительно рано. Весьма интересна и показательна с этой точки зрения история скульптуры.
Начальные ее шаги были связаны с обработкой естественных материалов — глины, дерева, камня, кости, впоследствии же в скульптурный «оборот» входит и начинает играть все более существенную роль металл. На первый взгляд может показаться, что это расширение материальных ресурсов никакого принципиального значения для скульптуры, как искусства, не имело. Такой вывод был бы, однако, поверхностным. Обращение к металлу сыграло в истории скульптуры весьма значительную роль, ибо впервые создание художественного произведения оказалось опосредованным чисто технической процедурой — отливкой статуи (или статуэтки) в специально создаваемой для этого форме 243 по изготовленному скульптором образцу, модели. Таким образом, металлическая скульптура принесла искусству ваяния существеннейшие новшества: а) создание художником не самого художественного произведения, а лишь его модели; б) вынесение изготовления самого произведения искусства из сферы художественного творчества в сферу техники; в) возможность тиражирования произведения искусства, т. е. отливки в той же форме нескольких или многих экземпляров одного произведения; г) связанную с этим новую установку эстетического восприятия и оценки скульптурного произведения, для которых уникальность и рукотворность впервые перестали быть непременным условием его художественной ценности. Все это дает основания рассматривать скульптуру в металле (а позднее — и в бетоне или пластмассе) как особую отрасль пластического искусства, выросшую на ином уровне связи искусства с техникой, чем тот, который лежал в основе обработки скульптором глины, дерева или камня, и внесшую важные коррективы в структуру эстетического восприятия искусства.
Отметим сразу же, что в дальнейшем нечто подобное произойдет и в графике, когда в ней рядом с гравированным или нарисованным изображением станут использоваться различные техники так называемой «графики в материале», т. е. ксилография, офорт, литография, линогравюра и т. п. Здесь снова техника оказала принципиальное преобразующее воздействие и на процесс художественного творчества, и на характер эстетического восприятия эстампа по сравнению с рисунком.
Обращаясь под интересующим нас углом зрения к истории «мусических» искусств, нетрудно увидеть и тут действие аналогичных закономерностей. Мы уже говорили в другой связи о роли письменности в развитии литературы и музыки; сейчас следует охарактеризовать еще один аспект этой проблемы. Письменность, а затем техника книгопечатания имели для литературы и музыки значение новых материальных средств, благодаря которым в этих областях художественной культуры сложились новые, неизвестные ранее а) формы творчества, б) формы бытия художественных ценностей и в) формы восприятия. В самом деле, творческий процесс у писателя и композитора, записывающих свои произведения, существенно отличен от того, каков он в древнейшем устном и в фольклорном творчестве; роман и клавир как произведения искусства ведут иной «образ жизни», чем поэма и песня, исполняемые автором в самом процессе их созидания; чтение книги, а в известной мере и партитуры, есть, опять-таки, иной и новый тип эстетического восприятия в сравнении с первоначальным слушанием сказа и пения.
244 Мы оценим по достоинству значение всех этих отличий, если учтем, что только с использованием техники знаковой (нотной и словесной) фиксации плодов литературного и музыкального творчества оказалось возможным рождение таких замечательных новых форм художественного освоения мира, как, например, роман, симфония, опера102*. В основе же этого процесса расширения и обогащения сферы художественной деятельности лежали закономерности, во многом подобные тем, которые были выявлены при анализе развития пластических искусств: а) образование новых форм искусства благодаря овладению завоеваниями техники (в данном случае — техники коммуникаций, а не материального производства, а в дальнейшем — их единства, достигнутого книгопечатанием); б) изменение творческого процесса, ограниченного в этих формах литературного и музыкального творчества созданием художественного «полуфабриката», требующего в дальнейшем озвучивания другими художниками (в музыке) или, по крайней мере, допускающего это (в литературе); в) превращение записанного писателем и композитором произведения из абсолютно уникального в относительно уникальное, поскольку оно допускает исполнительское «тиражирование», т. е. бесконечное число различных воспроизведений-интерпретаций; г) формирование новых типов художественно-творческой деятельности — исполнительских, необходимых для звуковой материализации записанного автором произведения; д) преобразование структуры эстетического восприятия литературы и музыки, в той мере, в какой оно активизируется необходимостью самостоятельного «мысленного озвучивания» читаемого текста или нотной записи103*.
Уже из сказанного мы вправе заключить, что образование ряда новых форм художественного творчества связано с «экспансионистскими» устремлениями искусства в соседнее с ним «царство» — в мир техники. Искусство не замкнулось в кругу 245 изначально освоенных им средств художественного моделирования жизни, но, напротив, с необыкновенным вниманием следило за тем, что приносил человечеству его технический гений, и с поразительной целеустремленностью «набрасывалось» на всевозможные технические открытия, изобретения и усовершенствования, стремясь овладеть ими, поставить их себе на службу, расширить с их помощью возможности художественного освоения мира. Достаточно очевидно, как протекал и продолжает в наши дни развиваться этот процесс в области архитектурно-прикладных искусств. Вся история зодчества есть, в сущности, история художественного претворения тех новых средств, которые добывало развитие строительной техники — от кирпичной кладки здания до современных каркасно-панельных, металлических, бетонных, пластмассовых конструкций. История прикладного искусства столь же наглядно повествует о том, как непрерывно раздвигало оно свои границы за счет овладения плодами технического прогресса — от первых форм специализации многообразных отраслей художественного ремесла до перехода от художественного ремесла к технике мануфактурного производства, от него — к художественной промышленности и к современному дизайну. И всякий раз мы сталкиваемся здесь с появлением новых отраслей художественно-конструкторской деятельности — например, художественного ткачества, художественного стеклоделия, художественной обработки металла и т. д. и т. п. При этом крайне важно подчеркнуть, что в этой области, как и в рассмотренных нами выше, развитие техники открывает перед художественным творчеством все новые и новые горизонты, одновременно расширяя границы эстетического восприятия искусства — позволяя людям находить своеобразную художественную ценность не только в уникальном изделии, но и в массовом, не только в рукотворном, но и в машинном.
Вопрос о роли техники в истории искусства имеет, однако, еще один, быть может, неожиданный с первого взгляда, поворот: дело в том, что понятие «техника» употребляется не только в узком смысле, но и в широком. «Техника» в узком смысле этого слова есть, по определению толкового словаря, «совокупность орудий и средств труда»; в широком же смысле она есть, как говорит тот же словарь, «совокупность, профессиональных приемов, используемых в каком-либо деле, мастерстве»; в виде примеров здесь приводятся выражения «техника прыжка», «техника шахматной игры», «музыкальная техника». Безусловно прав Э. Маркарян, говоря, что сейчас общественные науки встали перед необходимостью «новой и более расширительной 246 трактовки понятий “техника”, “технология”, которые должны быть соотнесены со сферой человеческой деятельности в полном ее объеме, а не с одним только материальным производством» (454, 77). А в этом случае мы будем вправе рассматривать письменность и все другие каналы связи как технику человеческого общения, а спорт — как технику физического развития человека, и тогда проблема связи истории искусства с техническим прогрессом будет поставлена с необходимой широтой. С этой точки зрения станет, например, понятным, почему в современной культуре роль спорта вырастает параллельно роли производственной техники.
В самой глубокой древности его влияние на художественную культуру ограничивалось сферой танца, позднее спортивно-художественный синкретизм стал основой циркового искусства (лежащий в основе всех цирковых номеров трюк, по определению Е. Кузнецова, есть не что иное, как способ «преодоления физического препятствия» — 250, 284 и 382). Ныне влияние спорта на художественную культуру оказывается неизмеримо более широким и разнообразным. Оно и понятно — ведь в наше время спорт приобрел такой же массовый характер, так же плотно вошел в повседневную жизнь каждого человека — в виде утренней зарядки, производственной гимнастики, уроков физкультуры в школе и высших учебных заведениях, работы массовых спортивных обществ, наконец, в форме зрелища, созерцаемого в натуре или в телевизионной трансляции — как и техника в узком смысле этого слова. Естественно, что вместе с техникой материального производства техника физической культуры потребовала от современного искусства овладения ее ресурсами, дабы художественный язык был как можно более созвучен мироощущению современного человека. Отсюда — рождение таких новых — и ставших за короткое время столь популярными — разновидностей искусства, как художественная гимнастика, фигурное катание, балет на льду, художественное плавание, массовые физкультурные праздники-парады104*. Весьма показательно и сильное влияние художественной гимнастики на классический балет, в котором «осовременивание» хореографического 247 языка выражается преимущественно в использовании движений художественной гимнастики и акробатики.
Правда, тут перед нами встает крайне важная в теоретическом отношении проблема: а вправе ли мы вообще включать в сферу искусства перечисленные нами формы технической и спортивной деятельности? Вопрос этот тем более серьезен, что в эстетике нет единодушного мнения на сей счет. Если киноискусство давно уже и всеми признано полноценной отраслью художественного творчества, то наличие фотоискусства, телеискусства, радиоискусства, цветомузыки и даже художественно-промышленного конструирования (дизайна) именно как форм искусства нередко оспаривается эстетикой, а еще чаще, как мы могли убедиться по историографическому введению, попросту ею игнорируется. Поэтому весь ход наших рассуждений имел бы опасный пробел, если бы мы не рассмотрели эту проблему по существу и не сформулировали с желательной научной аргументированностью критерии, которые позволяют относить к сфере искусства те или иные явления современной культуры.
Начнем с анализа той группы искусств, которая сложилась на технической базе — фотографии, кинематографии, радиовещания, телевидения. Рассмотренные сами по себе, фотография, кинематография, телевидение и радиовещание представляют собой, конечно же, не эстетические феномены, а порожденные научно-техническим прогрессом новые средства коммуникации, новые способы закрепления и распространения информации. Поэтому нужно сразу же отвергнуть как абсолютно несостоятельные широко распространенные — к сожалению, даже в теоретических работах — представления о том, что фотография, или кинематография, или телевидение суть новые искусства, равно как и не менее часто встречающиеся утверждения, будто фотография, телевидение или радиовещание, являясь чисто техническими инструментами современной системы коммуникаций, никакого отношения к искусству не имеют. Истина заключается в том, что все эти технические способы закрепления, хранения и передачи информации могут быть орудиями художественно-творческой деятельности человека, а могут таковыми и не быть — в зависимости от того, какие именно социальные потребности они в том или ином случае удовлетворяют, т. е. какой род информации они добывают и транслируют. Тут есть полная аналогия со сферой словесности (или литературы в широком смысле этого термина), где «технический» материал — слово — используется в самых различных целях и способен быть носителем весьма разнородной информации: еще Аристотель установил, что с помощью словесного обозначения можно описывать единичное, фактическое, 248 или общее, закономерное, или же возможное и вероятное, т. е. общее, выступающее в форме единичного; соответственно Аристотель различал такие три области словесности, как «история», «философия» и «поэзия» (46, 160). В переводе на современный теоретический язык это означает существование в сфере словесности литературы документальной (хроника, летопись, мемуары, очерки и т. п.), литературы научной и литературы художественной.
Не будем рассуждать о том, имеет ли в наше время такое членение исчерпывающее значение или же следует выделить наряду с этими тремя еще какие-то типы словесного закрепления информации, — ведь данная проблема интересует нас сейчас не сама по себе, а лишь постольку, поскольку она освещает вопрос об отношении к искусству новых коммуникативных средств, дополняющих в наше время средства словесные. Нам достаточно поэтому констатировать, что и в фотографии, и в кинематографии, и в телевидении, и на радиовещании мы сталкиваемся с распространением тех же трех типов информации, которые были обнаружены великим античным мыслителем в литературе: с фиксацией наличного, эмпирического бытия — единичного, фактического, существующего, случившегося или происходящего (речь идет о документальной фотографии, хроникальном фильме, радио- и телерепортаже, т. е. о жанрах, принадлежащих главным образом к сфере журналистики, вместе с соответствующими традиционными словесными жанрами); во-вторых, мы встречаемся здесь с отражением закономерностей объективного мира — общего, существенного, внутреннего, «устойчивого в явлениях», как говорил Ленин (имеются в виду научная фотография, научно-популярный и учебный фильм, радио- и телелекция, научно-познавательная передача, т. е. жанры, принадлежащие по сути своей к сфере научно-педагогической, а подчас и научно-исследовательской); в-третьих, мы имеем здесь дело с художественной фотографией, с художественным кинематографом, с художественным радиовещанием, с художественным телевидением, т. е. с особыми формами искусства, использующими соответствующие технические средства для добывания и распространения художественной информации.
Мы говорим, разумеется, не о фиксации и трансляции произведений других искусств — например, не о фоторепродуцировании картины, не о радиопередаче концерта, не о телевизионной демонстрации кинофильма или театрального спектакля, так как в этих случаях фотография, радио и телевидение осуществляют чисто техническими средствами документально-точное 249 фиксирование и размножение данного произведения и нет никакой принципиальной разницы, художественное или какое-то иное явление оказывается тут объектом фото- и киноизображения или радио- и телепередачи. Художественное качество обретается фотографией, кинематографией, радиовещанием и телевидением тогда, когда доступными каждому из них средствами создаются самостоятельные и неповторимые произведения искусства — такие, например, как снимок М. Алперта «Комбат», непохожий на картину или гравюру, как радиопьеса Ф. Вольфа «Спасите наши души», невозможная на сцене театра, как постановка Ленинградской студии телевидения по книге В. Шкловского «Жили-были» (1966 г.), радикально отличающаяся по своей структуре от кинофильмов и спектаклей. Эти и многие другие примеры показывают, что техническая природа фото- и киноизображения, так же как радио- и телетрансляции, не является препятствием для решения художественно-творческих задач, ибо в этих случаях — как и во всех иных — техника как таковая, взятая сама по себе, нейтральна по отношению к искусству, а не враждебна ему и потому позволяет использовать самые разнообразные свои продукты и технологические процедуры для художественно-образного освоения мира. История киноискусства, вопреки многим скептическим прогнозам теоретиков 20-х гг., доказала это с непререкаемой убедительностью, и та же ситуация повторяется в ходе развития фотоискусства, радиоискусства и телеискусства, вновь опровергая соответствующие «пророчества» скептиков.
Всякое искусство имеет в своей основе определенную техническую базу — иногда более, иногда менее сложную, иногда ограниченную техникой рукомесла, иногда включающую работу механизмов, машин, приборов. Уже по этой причине фотоизображение действительности нельзя абсолютно противопоставлять ее живописно-графическому воспроизведению; различие тут относительное, а не абсолютное — ведь в руках фотографа-художника самая сложная техника фотосъемки и фотопечати есть всего лишь инструмент, подчиняющийся его художественной воле (понятно, что инструмент этот, радикально отличный от инструментов живописца или графика, открывает перед фотоискусством особые возможности и накладывает на него особые ограничения)105*. То же самое можно сказать о кинотехнике, телевизионной технике и радиотехнике.
250 Принципиально так же должны мы подходить к так называемому «промышленному искусству» или дизайну106*. Художественное качество не создается здесь самой техникой и не убивается ею, а возникает в диалектическом сопряжении с решением утилитарно-технических задач. Вопрос о праве дизайна на место в мире искусств должен решаться точно так же, как в архитектуре или в прикладном искусстве: мы имеем здесь дело с тем же сочетанием утилитарной и художественной функций, с той же взаимосвязью технической конструктивности и эстетической выразительности, с той же архитектонически-неизобразительной структурой художественного образа107*. Разумеется, нельзя 251 не учитывать того существенного обстоятельства, что в создании машин, приборов, современных транспортных средств и т. д. роль утилитарного и технико-конструктивного факторов значительно более весома, чем, например, в мебели, посуде или старинных средствах передвижения (каретах, санях, фрегатах); но, во-первых, в большинстве случаев речь может идти здесь лишь о количественном изменении соотношения утилитарной и эстетической функций, равно как конструктивной и художественной формообразующих сил, при сохраняющемся в обоих случаях единстве данных факторов; во-вторых, аналогичную динамику их соотношения можно увидеть и в пределах самой архитектуры, и в различных областях прикладного искусства: например, в промышленной архитектуре диктат утилитарности и конструктивности гораздо более определенен, чем в архитектуре гражданской, а в художественно оформленном средневековыми мастерами оружии — более решителен, чем в создававшихся ими ювелирных изделиях; в-третьих, в продукции современного дизайна соотношение утилитарного и эстетического колеблется в одних и тех же типах предметов — оно различно, например, в военном и в гражданском самолете, в телевизоре, предназначенном для заводского пульта управления и для быта, в электроосветительной арматуре для цеха и для театра.
Таким образом, в наше время, как и в далеком прошлом, в современном дизайне, как и в древнем художественном ремесле, мы сталкиваемся с тем же широким спектром соотношений технического и художественного начал; при этом сейчас, как и прежде, техническое конструирование перерастает в художественно-техническое тогда, когда техническая задача перестает быть единственным формообразующим принципом, когда она — в том или ином соотношении — скрещивается с установкой эстетической, с принципом художественного формообразования; это скрещение осуществляется во имя создания архитектурного сооружения, бытовой вещи, орудия производства, обладающих одновременно двойной ценностью — утилитарной и эстетической. Следовательно, вопреки тому, что утверждают некоторые наши теоретики (232; 335; 197), дизайн должен рассматриваться как новый вид архитектонического творчества, 252 распространяющий принципы, выработанные на базе ремесленного труда и приводившие поэтому прежде к созданию уникальных вещей и сооружений, на промышленное производство со свойственным ему тиражированием создаваемых изделий108*. Мы могли убедиться по опыту истории скульптуры и графики, что подобное отделение чисто технического процесса изготовления произведений от художественно-творческого его «проектирования» не является смертоносным для искусства, что оно лишь модифицирует процесс созидания и восприятия художественных ценностей.
В близком этому аспекте следует рассматривать и искусство рекламы. Его появление в системе искусств было впервые признано в начале нашего века Рихардом Гаманом (55, 77 – 83), однако в дальнейшем эстетическая наука предпочитала не обращать внимания на это порождение буржуазной прозы жизни, компрометирующее «высокое» и «чистое» искусство. Между тем именно в течение последних десятилетий реклама развивалась особенно широко, активно используя многообразные достижения современной техники и выйдя далеко за пределы материнского лона промышленной графики. В наше время реклама говорит уже не только на традиционном графическом 253 языке этикеток, товарных знаков и проспектов, плакатов и вывесок. С одной стороны, благодаря помощи техники орнаментально-изобразительный язык рекламы стал неизмеримо богаче: электрические лампочки, а затем неоновые трубки позволили ей сохранять — и даже усиливать — свое воздействие с наступлением темноты; с другой стороны, новые средства воплощения придали объявлению, вывеске, анонсу монументальный характер, значительно усилив их роль в декоративном оформлении улицы, а шрифтовому и изобразительному языку рекламы сообщили недоступную промграфике динамичность — и текст, и изображение стали движущимися, отчего существенно расширилась их информационная емкость и обогатились их художественные возможности — изменился сам характер эстетического воздействия уличной электрорекламы по сравнению со старой рекламой.
Существо дела осталось, разумеется, неизменным. Основное средство художественной выразительности рекламного объявления — шрифт имеет двупланное назначение: он играет словообразующую роль благодаря своей интеллектуально-смысловой нагрузке, информируя нас о том, что именно здесь находится — «Ресторан» или «Концертный зал», магазин «Игрушки» или «Техническая книга», и одновременно роль художественно-образную, достигаемую эмоционально-ассоциативной выразительностью рисунка шрифта, его расцветки, ритма, композиционной структуры и т. д. В этой своей ипостаси шрифт работает как орнаментальная форма, и образный его характер проистекает из применения тех же самых средств, которые свойственны любой орнаментации поверхности.
Мы уже имели возможность довольно обстоятельно исследовать и законы художественного бытия орнамента, и специальный случай их преломления в шрифте (230, 89 – 124 и 112 – 115). Поэтому, отсылая читателя к данной работе и к специальной литературе (314), мы ограничимся сейчас указанием на то, что извлечение заключенных в шрифте художественных возможностей имеет большую историю, едва ли не равную истории письменности вообще. Историю эту следует начинать с эпохи пиктографии — рисованного письма, художественная выразительность которого достигалась изобразительным способом, а орнаментально-декоративное начало играло второстепенную роль (как это бывает вообще свойственно изобразительному орнаменту); второй крупной эпохой в этой истории было средневековье, создавшее замечательную культуру рукописной книги, в которой изобразительный и орнаментальный декор отделились от шрифта и стали работать на страницах рукописи рядом 254 со шрифтовым их заполнением, сам же шрифт уже не имел изобразительного характера, и его эстетическое воздействие могло достигаться только собственными, неизобразительными средствами; третья же эпоха наступила после нового длительного перерыва, обусловленного изобретением книгопечатания с его чисто деловым, информационно-смысловым подходом к набору, когда в XX в., освоившись с полиграфической техникой и поставив ее себе на службу, искусство оформления книги стало, с одной стороны, искать разнообразные выразительные структуры наборных шрифтов, а с другой — начало широко применять на обложках и суперобложках, титульных листах, в промышленной графике (на этикетках, в упаковке изделий, рекламном плакате и т. п.) рисованный шрифт, индивидуальный для каждой надписи и призванный этим своим индивидуальным обликом образно раскрывать конкретное содержание данной надписи109*.
Размышляя над генезисом и исторической эволюцией искусства шрифта, обнаруживаешь любопытную параллель между этим художественным явлением и другим, родственным ему по существу — ораторским искусством. Ведь с письменным словом происходит то же, что и со звучащим — в известных обстоятельствах их прямое информационно-смысловое значение может и должно обрастать, обволакиваться, оборачиваться дополнительным значением — экспрессивным, эмоционально-выразительным, образно-поэтическим. Различие тут только в том, что в одном случае для решения этой задачи мобилизуются все фонетические ресурсы слова, а во втором — ресурсы графические. А это исходное различие объясняет и другое, из него проистекающее — то, что в ораторском искусстве, как и в речи вообще, мельчайшей единицей его выразительного действия является фонема, а в искусстве шрифта — буква (ведь зрительно мы воспринимаем слово именно как сочетание отдельных букв, независимо от того, как оно произносится, а произносим и слышим сочетание фонем, а не букв, подчас резко отличающееся от транскрипции слова — особенно в таких языках, как английский). Но нам интересны сейчас не эти различия двух искусств, а общность закономерностей, их порождающих и определяющих их роль в человеческом общении — роль своеобразных форм «прикладного искусства», в которых информационно-агитационная функция сопрягается с функцией художественно-эстетической (последняя «прикладывается» к первой).
255 Возвращаясь к прямой теме нашего разговора, мы хотели бы подчеркнуть, что когда развитие техники подарило рекламе светящиеся разноцветные трубки, пластичность которых позволяла придавать им любую форму и имитировать контурный рисунок, электрореклама сумела сочетать неизобразительный язык шрифтовой надписи с языком изобразительным, по-своему претворяя и этот традиционный прием прикладной графики. Так появились в современном городе вознесенные на крыши зданий светящиеся объявления-рисунки, без которых сейчас трудно уже представить себе архитектурный пейзаж XX в.
Однако искусство рекламы не ограничивается графическими — в широком смысле этого слова, включая и «электрографику» — средствами. Социально-экономическое значение утилитарной функции рекламы заставило искать и другие, часто неожиданные, возможности ее воздействия на «карман» современного человека. Она стала захватывать плацдармы в кинематографе, радиовещании, телевидении, формируя здесь особые жанры — разумеется, не всегда художественно значимые, но достигающие наибольшей силы воздействия именно тогда, когда рекламная информация перерабатывается и передается художественными средствами — в виде киноновеллы, радиодиалога или телевизионной интермедии. Развитие этих жанров — как и рекламы вообще — несравненно более эффективно в капиталистических странах, где оно подстегивается столь мощным стимулом, как конкуренция, и нередко принимает под ее влиянием извращенные, уродливые формы (напр., широко применяющиеся на телевидении рекламные перебивки фильмов, спектаклей, концертов и т. п.). Нетрудно, однако, предвидеть, что развитие в социалистических странах новой экономической системы должно вызвать усиленное внимание к рекламе соревнующихся фирм, предприятий, торговых учреждений; пока же в большинстве случаев наши предприятия и учреждения обращаются к помощи рекламы незаинтересованно, только потому, что существует соответствующая статья расходов в их бюджете, и потому уровень рекламы остается у нас крайне низким и в художественном, и в чисто утилитарном смысле.
Таким образом, рекламу следует рассматривать не как самостоятельный вид искусства, а как конгломерат различных видов. Самостоятельное же бытие имеет отрасль художественной деятельности, непосредственно соприкасающуюся с рекламой — оформление витрин магазинов или специальных выставочных стендов. Мы оказываемся тут в пограничной области, ибо подобно тому, как рекламные стихи Маяковского принадлежат одновременно искусству рекламы и искусству поэзии, подобно 256 тому, как рекламный «ролик» есть одновременно произведение искусства рекламы и киноискусства, так художественная организация экспозиции на витрине или стенде вводит нас в область нового Искусства нашего времени — искусства оформительского.
И оно есть детище технического прогресса — не случайно самые значительные национальные и международные выставки посвящены, как правило, демонстрации технических достижений предприятий, отраслей промышленности городов и стран. Но дело не только и даже не столько в тематике выставок — это может быть выставка картин, экспозиция мемориального музея и т. д., — сколько в том, что само их бытие в современной культуре оказалось возможным благодаря развитию строительной техники и техники коммуникаций, позволяющих создавать огромные экспозиционные «города» — типа ВДНХ или Всемирных выставок в Париже, Брюсселе, Монреале, Осака. Достаточно показательно, что экспозиционно-оформительское искусство зародилось сто лет тому назад (в 1851 г. была организована первая Всемирная промышленная выставка; ее план был разработан известным архитектором и теоретиком искусства этой эпохи Земпером) и что именно в наше время подобные выставки прочно вошли в культурный обиход человечества, выработав необходимый им особый художественный язык и породив соответствующую профессию художника-оформителя. Нельзя не согласиться с Б. Бродским, когда он утверждает, что ныне «выставка — фактор мировой культуры, столь же характерный для XX столетия, как кино и телевидение» (183, 84. Ср. также 181; 182).
Оформительское искусство синтетично. Оно использует средства архитектуры, скульптуры, живописи, художественной фотографии, литературы, кинематографа, музыки, иногда даже танца — на чешской выставке стекла в Москве показывалась пантомима «Происхождение стекла». Однако все эти средства играют здесь явно вспомогательную роль, применяясь в той или иной мере, в зависимости от конкретного идейно-эстетического замысла создателя выставки. Основным же художественным средством этого искусства, необходимым ему во всех случаях и неотъемлемым от него, является композиция самих экспонатов — подлинных вещей, для демонстрации которых и организуется данная выставка. Это могут быть машины или ткани, приборы или гравюры, радиотехнические или галантерейные изделия, но именно реальные предметы, представляющие самих себя, а не что-либо другое, выступающие не в качестве изображения, знака, а в подлинности своего действительного существования. Сами по себе они могут не иметь художественно-образного 257 смысла — этот смысл возникает лишь из их сочетания, сопоставления, согласования, подобно тому, как в литературе художественное значение имеют не слова, а определенное соединение слов, рождающее образ — метафору, сравнение, гиперболу, поэтическое описание. Разница тут лишь в том, что язык экспозиционного искусства — это язык подлинных вещей, а не словесных их обозначений, но вещи собираются здесь, сопоставляются и композиционно организуются не по логике их чисто технической или экономической связи, как это происходит на товарных складах или полках магазина, а по особой, двупланной логике, объединяющей техническую или экономическую информацию с образной выразительностью, с силой идейно-эмоционального воздействия. Цель такой художественной организации экспозиции заключается в том, чтобы настроить зрителя на определенный душевный лад, вызвать у него эмоционально-эстетическое отношение к представленным на выставке вещам и к представляемой ими творческой мощи человека, предприятия, государства, социального строя. И только для усиления этого художественного эффекта экспозиционное, искусство привлекает вспомогательные средства других искусств — от архитектуры до танца, которые должны сделать более конкретным идейный смысл выставки и более впечатляющей силу ее эмоционального воздействия (так же, в сущности, как архитектура и прикладные искусства прибегают для этой же цели к помощи синтеза с искусствами изобразительными, только у экспозиционного искусства более широкие возможности включения элементов других искусств).
Связь экспозиционного искусства с искусством рекламы определяется тем, что информационно-просветительская и пропагандистская функция выставок заключает в себе потенциальную возможность рекламности. Реализация этой возможности зависит от конкретных задач, которые преследуются в том или ином экспозиционном жанре. Скажем, музейная выставка полностью лишена рекламного характера, а выставка-продажа тех же произведений живописи или прикладного искусства должна заключать в себе элемент рекламности; в еще большей степени подчиняются установкам рекламы различные фирменные или отраслевые промышленные выставки, обращенные не столько к зрителю, сколько к представителям торговых организаций, которые могут осуществить сбыт экспонируемых изделий; и, наконец, рекламные цели становятся главенствующими в том жанре выставок, который используется в сфере торговли в виде специальных рекламных витрин магазинов, призванных не только информировать покупателя о предлагаемом ему здесь ассортименте 258 товаров, но и привлекать его, заинтересовывать, заинтриговывать, если хотите, обвораживать и «околдовывать». В капиталистическом мире эти возможности витринной экспозиции давно уже успешно реализуются (и тут конкуренция парадоксально оказывается движущей силой художественного развития), и в нашей стране в последние годы витрина все чаще оказывается предметом художественной разработки. В этих случаях выкладка товаров осуществляется по всем законам пространственных искусств — законам выразительной организации пространства, композиционной цельности и ритма, декоративности, цветовой гармонии, а нередко даже определенной сюжетности — например, при воссоздании образа осени или весны, пляжа или лыжной прогулки в витринах «Дома моделей». Эмоциональный строй такого рода образных решений витрин бывает весьма разнообразным — эпическим или лирическим, торжественным или забавным, строго деловым или проникнутым юмором.
При всей кажущейся прозаичности, а нередко и пошлости торгашеского духа рекламы, и в частности рекламной витрины, реклама, становясь отраслью прикладного искусства, приобретает в наше время большое социальное и культурное значение, и эстетическая теория не вправе пренебрежительно игнорировать ее существование и представлять себе художественно-творческую деятельность общества в тех ее пределах, в каких она развертывалась во времена Дидро, Гегеля или Белинского110*.
Соответственно в нашу эпоху эстетика должна охватывать своим исследовательским вниманием все новые проявления художественно-творческой деятельности людей, которые принесло с собой XX столетие и которые существенно раздвигают традиционные представления эстетической науки о границах мира искусств. Совершенно очевидно при этом, что в современных поисках новых способов художественного творчества на основе соединения потребностей искусства и возможностей техники далеко не все окажется жизнеспособным. Можно предполагать, что тот эксперимент, который осуществляется в чешском аттракционе 259 «Латерна магика», имеет большие перспективы — здесь как бы вырабатывается форма, ждущая еще своего содержания, тогда как стремление изобретателя поп-арта Р. Раушенберга создать «динамический сплав живописи, танца, кино, телевидения и современной техники» (403, 204) вряд ли приведет к сколько-нибудь серьезным результатам, ибо обращение искусства к технике, происходящее на формалистической основе, всегда было, есть и будет художественно бесплодным.
Как бы то ни было, но расширение границ «мира искусств» не остановилось в середине XX в. Дальнейший ход развития культуры будет приносить все новые и новые открытия на этом пути, некоторые из которых сейчас невозможно даже предугадать, а другие экспериментально разрабатываются в наше время. К их числу относятся и интенсивно ведущиеся в последнее время поиски в области цветомузыки и кинетического искусства. Не желая заниматься пророчествами и предрекать этим явлениям великое будущее или, напротив, неотвратимое поражение — занятие это достаточно безответственное и, во всяком случае, совершенно отличное от направленности нашего исследования, — мы хотим лишь отметить принципиальную возможность нахождения на этом пути пока еще не вполне ясных новых художественных структур. Ибо в отличие от абстракционизма, который безуспешно пытался заставить живопись и скульптуру говорить на абсолютно чуждом им неизобразительном языке музыки, цветомузыка и кинетическое искусство ищут способы сочетания музыкальных и пространственных форм, придавая последним ту реальную динамику, процессуальность, изменчивость во времени, которые лежат в основе музыкального искусства и позволяют поэтому органически связывать движение абстрактных цветосочетаний и объемных форм с движением музыкальных звуков. Сложность проблемы заключается лишь в том, чтобы найти законы эстетической, а не физической корреляции цвета и звука, пластических и звуковых отношений. Если эту задачу удастся решить, тогда возникнут, действительно, новые виды искусства; в противном случае соединение пластической и цветовой кинетики с динамикой музыки окажется механическим, случайным и чисто внешним, а на такой основе никакое синтетическое искусство существовать не может.
Резюмируя все сказанное в этой главе, мы можем представить «генеалогическое древо» истории искусства в полном виде, отражающем не только плоды дифференцирующей, но и результаты интегрирующей деятельности художественного гения человечества (табл. 26).
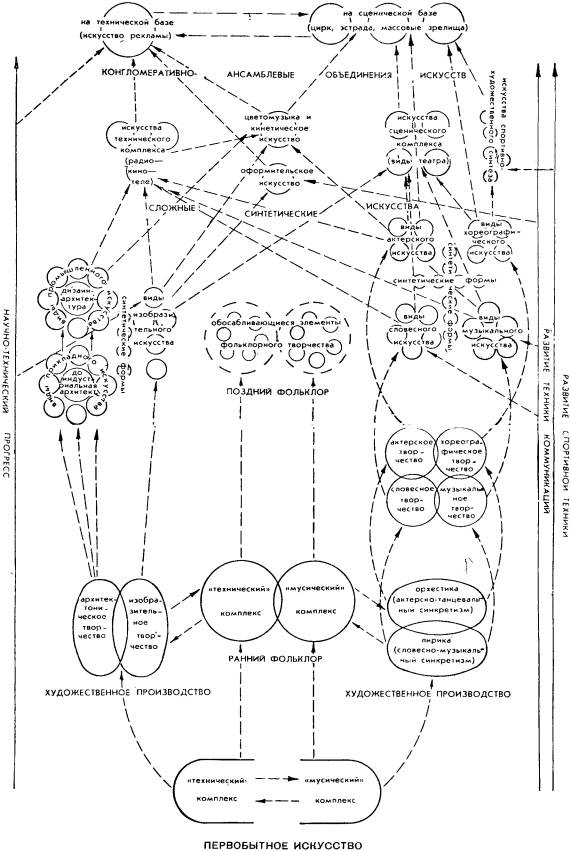
262 3. ОТМИРАНИЕ УСТАРЕВАЮЩИХ ФОРМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
Художественному развитию человечества свойственна некая «морфологическая пульсация»: на одних участках мир искусств постоянно расширяет свои границы за счет различных новообразований, на других происходит сжатие, сокращение системы искусств в результате отсыхания и отпадения некоторых ее ветвей. Дело, видимо, в том, что постоянная перестройка общественного бытия и общественного сознания не только порождает потребность в новых способах художественного освоения мира, но и лишает социальной ценности какие-то важные в прошлом виды, разновидности, роды и жанры искусства. Правда, этот последний процесс протекает в гораздо более ограниченных масштабах, нежели первый; художественная культура накапливает, несомненно, больше ценностей, чем утрачивает; и все же отмирание некоторых ее «клеток» происходит постоянно, и историческая морфология искусства должна объяснить, почему и как это случается.
Уже на ранних фазах историко-художественного процесса мы встречаемся с проявлениями данной закономерности. Так, сопоставление античной художественной культуры и первобытной показывает, что тут имела место не только дифференциация исходных способов художественного творчества и формирование некоторых новых, но и выпадение, утрата ряда форм древнего искусства. Это касается в первую очередь одной из самых важных областей первобытного искусства — художественного оформления человеческого тела.
Выше уже говорилось о том, какое широкое распространение в родовом обществе имели различные способы декоративного оформления лица и тела человека — раскраска, татуировка, рубцовая орнаментация и т. п. Любопытно (мы на это уже обращали внимание в иной связи), что даже инородные предметы, использовавшиеся в качестве украшений, нередко «припаивались» к телу таким образом, что теряли свою самостоятельность и как бы превращались в продолжение самого тела — например, браслеты, надевавшиеся на плечевые части рук молодых людей так, что впоследствии их уже нельзя было снять, или предметы, врезавшиеся в нос, ухо, губу и прираставшие к телу. Ничего подобного культура античности уже не знает. Художественное оформление было здесь полностью перенесено на одежду, а ювелирные изделия, употреблявшиеся значительно 263 более умеренно, чем в былые времена, оказывались всегда съемными, что подчеркивало их инородность по отношению к телу и лицу человека.
Так умерло древнейшее искусство, и само его существование стало в глазах потомков признаком дикости, начало казаться чем-то антиэстетическим, варварским. Если в наши дни еще встречается иногда декоративная татуировка на груди и руках некоторых людей, мы воспринимаем это как странный и уродливый пережиток, а совсем не как нормальную форму художественной деятельности. Однако некогда это было полноценное, подлинное искусство!111*
Другой пример — поистине драматическая история ораторского искусства. Порожденное в античности демократическими формами социального общения и необыкновенно высоко ценившееся в эту эпоху (именно тогда, как мы помним, и была разработана классическая теория ораторского искусства — риторика), оно сохраняло свою силу, хотя и существенно трансформировалось, в средние века, а затем вступило в полосу быстрого и решительного упадка; неудивительно, что в новое время риторика уже не является необходимым разделом поэтики, и сам термин «риторический» приобретает отрицательное в эстетическом смысле значение («выспоренный», «напыщенный»)112*. Блестящие ораторы встречались, конечно, по-прежнему среди политических деятелей, юристов, священнослужителей, педагогов, однако ораторское искусство как социально-эстетическое явление, как отрасль художественной культуры исчезло, исчезло неизбежно и неотвратимо, потому что его рождение и расцвет возможны были лишь в условиях изустности основных форм социальной коммуникации.
В первобытных коллективах духовное общение имело столь ограниченный характер — ведь все поведение людей жестко обусловливалось здесь системой внушенных с детства нормативов 264 и табу, что никакой общественной потребности убеждать, потребности бороться духовным оружием слова еще не было. Полемические ристалища, идейные битвы как устойчивое социальное явление появились только будучи вызванными к жизни демократической системой социальных отношений в древнегреческих полисах, живших острой идейной борьбой и требовавших могучих новых средств духовного воздействия на массы. Потому-то история ораторского искусства неотрывна от истории политической борьбы в древней Греции, от истории софистической философии с выработанным ею изощренным мастерством полемики. Социальная жизнь древнего Рима обусловила дальнейшее развитие и некоторую модификацию унаследованных от греков практики и теории ораторского искусства, а средневековье, подчинившее все формы духовного общения и воздействия нуждам религии, превратило ораторское искусство в искусство церковной проповеди (неудивительно, что именно риторика, а не поэзия, значится теперь в ряду «свободных искусств»). Когда же основные средства социального общения стали письменными, когда политические деятели превратились из трибунов в писателей, когда газета, журнал, брошюра и книга стали главными носителями идеологии, а устное воздействие идеолога на массы, речи и диспуты получили второстепенное значение, ораторское искусство было обречено. «Истинная причина малого числа ораторов, — писал в 1788 г. Д. Фонвизин, — есть недостаток в случаях, при коих бы дар красноречия мог показаться. Мы не имеем тех народных собраний, кои витии большую дверь к славе отворяют…» (275, 96). Об этом же говорил и М. Буташевич-Петрашевский (там же, 117 и 119). Правда, новая история знает несколько периодов возрождения высокого ораторского мастерства, которые — что глубоко закономерно! — наступали всякий раз, когда революционные шквалы вздымали народные массы к политической активности и когда появлялась социально-историческая необходимость устного, прямого обращения вождей к массам: вспомним времена Великой французской революции или Великой Октябрьской революции. Но как только революционная буря утихала и социально-организационная деятельность людей принимала свои повседневные, «нормальные» формы, письменное слово мгновенно вытесняло слово устное и на смену ораторскому искусству приходило его печатно закрепленное инобытие — художественная публицистика113*.
265 Книгопечатание оказалось, таким образом, тем непосредственным орудием общественных потребностей, которое сделало возможным появление новых форм художественно-творческой деятельности и одновременно погубило некоторые другие. Другие — потому что вместе с ораторским искусством та же судьба постигла, например, и искусство книгописания. Рукописная книга была произведением не только словесного, но и орнаментального, и изобразительного искусств. Печатный набор ликвидировал искусство каллиграфии, искусство орнаментации рукописи, искусство ее иллюминирования. Пройдет немало времени, прежде чем искусство книги возродится на базе полиграфической техники, но мы уже видели, что это было, в сущности, новое искусство, с иным художественным языком, иной образной структурой (258, 74 – 96; 259, 39 – 59).
Еще один, не менее показательный пример действия той же закономерности — история величия и падения искусства глиптики. Находящаяся на стыке скульптуры и прикладного искусства, эта своеобразная разновидность художественного творчества, о которой современный человек может судить лишь по музейным коллекциям, сложилась в рабовладельческих обществах древнего мира, отвечая потребности высокопоставленных и состоятельных людей фиксировать своей личной печатью, как знаком собственности, разного рода вещи и документы. Искусство резьбы по камню и было привлечено для создания миниатюрных рельефных изображений (так называемых инталий), способных давать хорошо читаемые отпечатки на пластичной поверхности воска или сургуча. Такие печатки носились обычно в виде колец, обладая, таким образом, одновременно практически-прозаической и декоративно-эстетической функциями. Позднее, в эпоху эллинизма, появился другой тип резного камня — камея, как предмет роскоши. Понятно, что искусство глиптики могло жить лишь до тех пор, пока сохранялась породившая его общественная — отчасти практическая, отчасти эстетическая — потребность (398; 399; 388).
Но самое, пожалуй, яркое проявление рассматриваемой нами закономерности — судьба фольклора. Его художественное своеобразие и его эстетическое обаяние неотрывны, как мы уже могли убедиться, от реальной почвы, на которой он жил и из которой питался, — от практической жизни крестьянства в феодальном обществе. Фольклор был возможен и необходим в социальном коллективе, не знающем письменной культуры, отделения 266 искусства от производства и от всех форм человеческого общения (в культовых обрядах, в семейном и общинном быту). Естественно, что исторический процесс вытеснения патриархального и натурально-замкнутого крестьянского бытия, неграмотности, невежества, веры и суеверий должен был быть смертельным для фольклора. Та же сила жестокой исторической необходимости, которая, как показал К. Маркс, сделала невозможными естественную жизнь или возрождение эпоса на высокой ступени развития производства, культуры и цивилизации, сделала невозможным в эту эпоху и существование фольклора. В обществе с развитым художественным производством (в эпоху капитализма), которое осуществляет свою экспансию и на крестьянский «художественный рынок», вытесняя архаические самодеятельные формы крестьянского творчества, последнее неизбежно деградирует и отмирает. С другой стороны, в социалистическом обществе, которое ликвидирует неграмотность масс и приобщает весь народ к достигнутому уровню культуры, которое стирает принципиальные различия между городом и деревней, которое осуществляет широкую и последовательную программу художественно-эстетического воспитания масс, фольклор заменяется самодеятельным творчеством нового типа, главная особенность которого состоит в том, что оно развивается в формах, выработанных художественным производством (см. об этом подробнее 67, 619 – 636). Благодаря этому создаются условия для преодоления многовекового дуализма фольклорного и профессионального путей развития искусства и открывается единая для всей социалистической культуры дорога художественного развития человечества.
267 Часть третья,
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
Искусство как система классов, семейств, видов, разновидностей, родов и жанров
269 Глава IX
КЛАССЫ И СЕМЕЙСТВА ИСКУССТВ
Переходя от рассмотрения исторического процесса формирования системы искусств к ее структурному анализу, мы будем руководствоваться уже цитированным положением Ф. Энгельса: логический метод исследования должен быть «тем же историческим методом, только освобожденным от исторической формы». Это означает в нашем случае, что мы будем иметь дело с тем же «генеалогическим древом» художественного освоения человеком мира, которое мы реконструировали в ходе генетически-исторического рассмотрения системы искусств, только смотреть на него нам нужно будет уже не в фас, а сверху, с «торца», представляя себе его как бы спрессованным, сплющенным, изъятым из тока времени. Таким образом, реальный ход исторических изменений, происходивших в мире искусств, определит последовательность нашего анализа; тем самым теоретические построения приобретут необходимую обоснованность — логика окажется не произвольным концепированием систематика, а инобытием истории.
1. ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ КЛАССИФИКАЦИИ ИСКУССТВ
Так, первое членение художественной деятельности, которое раскрылось нашему взору на самой ранней ступени истории культуры, — дихотомия «мусического» и «технического» искусств. Это исходное раздвоение художественной деятельности определялось, как мы помним, тем, что в одном случае она реализовалась в совокупности материалов, присущих самому человеку, а в другом — в материалах окружавшей его природы. Но посмотрим, каковы же были проистекавшие отсюда последствия: они заключались, оказывается, в том, что произведения «мусического» искусства имели пространственно-временной характер, а произведения «технического» искусства — чисто пространственное бытие. 270 Следовательно, классификация искусств должна начинаться с их разделения на пространственно-временны́е и пространственные, ибо таково их действительное, объективно сложившееся первоначальное различие. Показательно, что эстетики, пытавшиеся разгадать тайну системы искусств, интуитивно начинали чаще всего с установления именно этого различия, хотя формулировали его по-разному: одни противопоставляли искусства «статичные» искусствам «динамичным», другие — искусства, создающие «произведения-предметы», и те, которые создают «произведения-процессы», и т. д. Мы же предпочитаем пользоваться понятиями «пространственные» и «пространственно-временны́е», потому что они наиболее четко выражают лежащий в основе этого деления онтологический принцип.
То, что первой, исходной и основополагающей классификационной плоскостью должна быть признана плоскость онтологическая, явствует не только из исторически сложившегося различия между «мусическим» и «техническим» искусствами, но и из общетеоретических соображений, изложенных в методологическом резюме первой части данной книги: произведение искусства, говорилось там, создается, существует и предстает перед восприятием прежде всего как некая материальная конструкция — как сопряжение звуков, объемов, цветовых пятен, слов, движений, т. е. как предмет, имеющий пространственную или временную или пространственно-временную характеристику, и именно таким произведение это остается независимо от того, какую меру художественной ценности за ним признают, как интерпретируют его содержание и даже независимо от того, воспринимают ли его вообще или оно оказывается погребенным в недрах земли, в запаснике музея, в фонде библиотеки. Произведение искусства не сводится, конечно, к этой материальной конструкции, но оно не существует вне ее, помимо нее, отдельно от нее и независимо от нее: художественное произведение как духовное образование имманентно данной конструкции, находится в ней, от нее неотрывно и лишь через нее воспринимается. Поэтому материально-конструктивная сторона художественного произведения — это его онтологический статус, это его фундаментальная основа, условие его реального существования и одновременно его непосредственный чувственно-воспринимаемый облик.
Скажем сразу, что конструктивная сторона произведения искусства есть лишь момент сложной его структуры. Ибо дело состоит в том — и тут мы снова возвращаемся к изложенной в V главе концепции сущности и структуры искусства, — что в искусстве материальная конструкция, какими бы эстетическими качествами она ни обладала, «работает» главным образом как 271 носительница некоей художественной информации, которую она не только несет в себе, но должна перенести от художника к публике; потому она, эта материальная конструкция, оказывается лишь относительно самостоятельной, главная же ее роль заключается в том, чтобы быть сигнальной базой той системы знаков, которая должна обеспечить коммуникативную связь между художником и его аудиторией. Внешняя форма оказывается поэтому своего рода двуликим Янусом (что отразилось на нашей схеме — см. стр. 172): с одной стороны, она является материальной конструкцией, с другой — образным текстом. Отсюда следует, что классификация искусств должна быть развернута в двух измерениях — онтологическая ее плоскость требует дополнения плоскостью семиотической.
Имея это в виду, мы сосредоточимся пока на тех связях и различиях, которые обнаруживаются в произведениях искусства при их рассмотрении как разнообразных материальных конструкций. И если продолжить под этим же углом зрения операцию логического «снятия» исторических закономерностей развития искусства, надо будет вычленить из группы пространственно-временны́х искусств искусства чисто временны́е (словесно-музыкальные) — не только потому, что такая ситуация дедуцируема теоретически, но прежде всего потому, что она имела место, как мы это видели, в действительности, в реальном ходе дифференциации древнего «мусического» комплекса.
Если мы прибегнем снова к графическому обозначению выводов морфологического анализа, то схему, которая была исходной при генетическом рассмотрении искусства —
Табл. 27
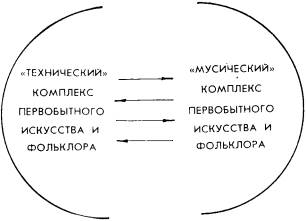
272 мы вправе преобразовать таким образом:
Табл. 28

а затем уточнить ее на основании вышесказанного:
Табл. 29

Хотя всякая подобного рода схема, разумеется, условна, мы предпочитаем все же не ее традиционную ортогональную структуру, а ту, которая была применена Этьеном Сурио, так как диаграмма в форме круга, разделенного на сектора, лучше передает всеохватывающий характер данной классификации, тогда как прямоугольные таблицы открыты, так сказать, для продолжения во все стороны и, как нам кажется, не выявляют поэтому графически 273 того важнейшего обстоятельства, что предлагаемая классификация исчерпывает все возможные типы материального существования плодов художественного творчества.
Между тем это обстоятельство имеет для всякого морфологического анализа, и в частности для морфологии искусства, решающее значение. С какой бы обстоятельностью мы ни рассматривали исторический процесс образования и модификации различных форм художественной деятельности и какие бы перспективы дальнейшего их обогащения мы ни предвидели, нерушимым остается тот объективный закон морфологической эволюции искусства, согласно которому эта эволюция движется в описанных нами трех руслах и не может выйти за их пределы. Эти русла образуют три первоначальных класса искусств, которые охватывают и все новообразования современной художественной культуры — фотоискусство, киноискусство, радиоискусство, телеискусство и т. п., равно как и эмбрионы будущих искусств, если они окажутся жизнеспособными, вроде цветомузыки или кинетического искусства. Четвертого тут не дано, можем мы сказать, перефразируя известную формулу.
Полностью присоединяясь, таким образом, к тем теоретикам (от В. Круга до В. Гусева), которые считали основополагающим в морфологическом плане деление искусств на пространственные, временны́е и пространственно-временны́е, мы должны, однако, внимательно рассмотреть главные аргументы критиков такого деления, которые, как показал наш историографический обзор, оспаривали его правомерность и его плодотворность с самых различных точек зрения, а подчас — как выявил прошедший в 1970 г. в Москве симпозиум «Проблемы ритма, художественного времени и пространства в литературе и искусстве» (см. 14) — оспаривают его и сегодня.
1. Начать следовало бы с анализа возражений Б. Кроче и его последователей, но это уже было нами сделано, и потому сейчас остается лишь повторить и подчеркнуть: между материальной и духовной сторонами искусства нет того абсолютного разрыва, который чудился интуитивистам. В искусстве духовное — т. е. плоды деятельности человеческого сознания — не может воплощаться не материализуясь, причем для художественного мышления (даже если называть его «интуицией») средства материализации не являются чем-то абсолютно внешним, а, напротив, определяют самую структуру этого мышления, которое всегда и во всех случаях есть мышление в материале (в звуке, в цвете, в объеме, в жесте и т. п.), а не какое-то «чисто духовное» мышление (и даже не словесно-понятийное мышление, которое затем «перекодируется» в звуковую, цветовую, пластическую и т. д. 274 плоть). Глубочайший смысл имеет в этой связи замечание К. Маркса, что «физические свойства красок и мрамора не лежат вне области живописи и скульптуры» (455, т. 1, 67). Потому-то классификация искусств и должна определяться в первую очередь наиболее общими физическими свойствами материалов, в которых движется и являет себя художественная духовность. А такие наиболее общие их свойства проистекают из бытия материалов в одной лишь пространственной протяженности, или в одной протяженности времени, или в единстве пространственно-временны́х отношений.
Несколько более тонкой, но по существу весьма близкой к крочеанской, является позиция корифеев феноменологической эстетики, которые объявляют художественное произведение «ирреальным» и тем самым отрывают его от реально существующего материального «носителя» произведения. («аналогона», как говорил испытавший влияние феноменологической эстетики Сартр)114*.
Как это ни может показаться странным с первого взгляда, но в данном пункте крайне близкой и к интуитивистской, и к феноменологической эстетике оказывается эстетика… вульгарно-социологическая. Сводя искусство к форме идеологии и соответственно признавая в нем существенным, как и во всякой идеологии, только идейное содержание, эта концепция отрывает содержание искусства от того, какими средствами, в какой форме оно воплощено, и потому необходимо и неизбежно приходит к осуждению онтологического критерия классификации искусств, называя его «формальным», «условным» и даже опасным, поскольку он выдвигает на первый план материальные, а не идеологические признаки художественной деятельности.
Учитывая огромное теоретическое значение данного положения, скажем еще раз, что содержание искусства, конечно же, духовно, хотя духовность эта не сводится ни к «идеологии», ни, 275 тем более, к «интуиции», ни к феноменологической «интенциональности», и что материализация духовного содержания характеризует именно формальные качества искусства. При этом одно из важнейших отличий искусства от других идеологических явлений и от науки, и от разнообразных знаковых систем, состоит в том, что материальное воплощение заключенной в художественных произведениях духовной информации не безразлично по отношению к этой информации, а напротив, неотрывно от нее, нераздельно с ней связано — вот почему эстетика давно уже обнаружила, что закон единства содержания и формы играет в искусстве такую роль, как ни в одной другой отрасли познавательной, идеологической и коммуникативной человеческой деятельности. Формула «единство формы и содержания» описывает данную особенность искусства весьма приблизительно — ведь, в конце концов, такое единство имеет место повсюду; в искусстве мы сталкиваемся со специфическим (и в количественном, и в качественном отношениях) проявлением данного единства, с особой его мерою. Потому-то художественное содержание не только не поддается адекватному изложению в других, нехудожественных, знаковых системах, но даже в пределах самого искусства духовное наполнение произведений одного вида не допускает точного и полного «перевода», «перекодирования», «переложения» на язык других видов.
Таким образом, онтологический принцип классификации искусств, основанный на различении форм их материального бытия, предполагает понимание содержательности этих форм и не является, следовательно, ни «чисто формальным», ни «условным», ни «внеэстетическим».
2. Другое возражение против деления искусств на пространственные, временны́е и пространственно-временны́е заключено в том, что пространство и время связаны в реальном мире неразрывно и в нем нет и не может быть ничего чисто пространственного, изъятого из тока времени; или чисто временного, лишенного пространственной локализации; следовательно, и искусства неправомерно делить на пространственные и временны́е, ибо все искусства в равной мере пространственно-временны́е.
Подобные рассуждения нельзя признать основательными, так как пространственно-временной континуум есть явление чисто и только физическое, а значит, не имеющее прямого касательства к эстетической сфере. Время затрагивает бытие статуи или здания только как физических объектов, способных разрушаться, менять свой цвет, фактуру и т. д., но их бытие как носителей художественной информации остается при этом неприкасаемым (если не иметь, конечно, в виду исторически 276 меняющуюся интерпретацию этой информации). Точно так же пространственная локализация инструментов оркестра или движения звуковых волн характеризует их акустически, но не музыкально.
Искусство является не самой материальной реальностью, а ее отражением, ее образной моделью. В интересующем нас отношении это выражается в том, что оно оказывается способным, когда ему это нужно, разрывать реальное, физическое единство пространственно-временного континуума и моделировать временны́е отношения, абстрагированные от пространственных, или пространственные отношения, абстрагированные от временны́х, или же воссоздавать их реальное единство. Зачем нужно искусству такое расчленение пространственно-временного континуума и создание чисто пространственных (пластических) и чисто временны́х (словесных и музыкальных) структур, было нами выяснено в ходе изучения закономерностей дифференциации древнего художественного синкретизма.
3. Еще одно возражение противников деления искусств на пространственные, временны́е и пространственно-временны́е состоит в том, что такое членение будто бы неправомерно, поскольку живопись изображает не только пространственные, но и временны́е отношения, а литература — не только процессы, действия, но и тела, вещи, пластические и цветовые отношения реального мира.
Хотя эти соображения высказывались многократно, их следует расценить как явное теоретическое недоразумение. Ибо когда говорят о делении искусств на пространственные, временны́е и пространственно-временны́е, имеют в виду не различие их изобразительных способностей, а различие формы их бытия — то различие, которое позволяло, например, Новалису называть скульптуру «образной твердью», а музыку — «образно текучим» и заключать, что в этом смысле скульптура и музыка «противостоят друг другу как противоположные массы» (256, 130). Именно такой подход к музыке породил название знаменитой книги академика Б. Асафьева «Музыкальная форма как процесс» и весь осуществленный в ней анализ процессуального бытия музыки «как динамического искусства», его «текучести», «временной природы» (198, 34 и 11). «Музыка, — писал он, — искусство обнаруживаемого в интонациях движения. Она преимущественно моторное искусство. Следовательно, осуществляется во времени» (там же, 186). Это значит, что «каждое музыкальное произведение развертывается между первичным толчком (точка отправления, точка отталкивания) и тормозом или замыканием движения (каданс)» (там же, 43; ср. 174, 128; 277 327, 355). Но разве нельзя это же сказать о стихотворении, о повести, о пьесе? И разве не очевидно, сколь существенно отличие такой процессуальной структуры, художественного произведения от структуры статичной, чисто пространственной?
Суть дела именно в том и состоит, — и мы уже имели возможность специально об этом говорить (10, 13 – 14), — что обосновываемое нами деление искусств имеет онтологический, а не гносеологический характер. Конечно, эти качества различных групп искусств связаны с их изобразительной способностью и известным образом ее обусловливают. Однако данную связь нельзя истолковывать механично и прямолинейно, в том смысле, будто искусства, произведения которых имеют пространственное бытие, соответственно и способны изображать одни только пространственные отношения, а, напротив, искусства временны́е, произведения которых живут во времени, способны воспроизводить только процессы и действия. На самом деле все обстоит значительно сложнее. Еще Лессинг, доказывая, что изобразительные искусства воссоздают «тела», а поэзия — «действия», был достаточно тонок для того, чтобы уточнить это противопоставление: живопись и скульптура, отмечал он, непосредственно изображают тела, а опосредованно — и действия, точно так же, как поэзия, непосредственно воспроизводя действия, опосредованно представляет нашему взору и тела (12, 188). Но при этом непростительно было бы все-таки упускать из виду, что ни в том, ни в другом отношении различия между пространственными и временны́ми искусствами отнюдь не стираются.
Как бы ни была развита способность живописца изображать динамику протекания тех или иных действий — физических или психологических, и какими бы средствами он это ни делал — выбором кульминационного Момента, или изображением нескольких последовательных эпизодов, или намеком, ассоциативным ходом и т. д., и т. п., — все равно остается несомненным и неоспоримым, что чисто пространственное, статичное бытие картины, рисунка, скульптуры не позволяет моделировать процессы и действия с той свободой и полнотой, с той степенью изоморфности, какие свойственны литературе или музыке. В неподвижном материале, — камне, кости, дереве и т. п. — нельзя адекватно смоделировать те динамичные, текучие, изменчивые душевные движения, которые легко, полно и точно выражаются в движущихся материалах — в слове, звуке, мимике, жесте; и напротив, пребывающие, длящиеся, устойчивые душевные состояния, которые воплотимы в материалах статических, не могут быть адекватно смоделированы средствами, по природе своей неустойчивыми, текучими, живущими лишь во времени. Это основополагающее 278 различие между «мусическими» и «пластическими» искусствами проявилось уже в древности, и вся последующая история художественного освоения мира не могла тут, в сущности, ничего поделать, ибо и в искусстве есть объективные законы, над которыми не властен художественный гений человека и к которым он вынужден приспосабливаться.
Вопрос о способности живописи изображать время, а музыки и литературы — изображать пространство, и, тем более, вопрос о способах достижения данных целей — это интересные и важные теоретические проблемы, имеющие большую специальную литературу, и мы не можем сейчас их рассматривать. Подчеркнем лишь, что их постановка не может ни в какой мере опровергнуть непреложность, безусловность и морфологическую значимость онтологического критерия классификации искусств.
4. Из всего сказанного с очевидностью следует несостоятельность тезиса психологической эстетики, будто исходным принципом классификации искусств должно быть их деление на оптические, акустические и оптико-акустические, а не пространственные, временны́е и пространственно-временны́е. Психологический критерий, как бы он ни был важен сам по себе, является производным, вторичным от критерия онтологического: например, живопись, скульптура и архитектура суть оптические искусства именно потому, что они строят свои образы в пространстве; с другой стороны, деление искусств по способу восприятия ставит особняком литературу, обращенную к воображению, а не к внешним органам чувства; между тем по онтологическому своему статусу литература есть такое же временное искусство, как и музыка.
5. Еще одно психологическое возражение против онтологического принципа классификации заключается в том, что будто бы вообще не существует «пространственных» искусств, т. к. произведения живописи, скульптуры и особенно архитектуры воспринимаются во времени, так же как музыкальные или литературные, или сценические произведения. Но и это соображение есть плод теоретического недоразумения, ибо, как верно заметила Анна Сурио, следует четко определить, что именно мы мыслим в пространстве и во времени — произведение искусства или зрителя. (Сама она считает плодотворным первый подход 39, 57. Ср. 10, 13 – 14).
Нет никакого сомнения в том, что характер восприятия произведений различных искусств зависит от их бытийного статуса; несомненно и то, что эта зависимость — как и в только что рассмотренном нами случае — не является механическим соответствием: пространственные искусства — мгновенное восприятие; 279 временны́е искусства — длящееся восприятие. Восприятие рисунка, картины, скульптуры или здания есть, конечно же, определенная длительность, оно развертывается и развивается во времени. Однако крайним преувеличением можно считать утверждение некоторых теоретиков, что в этом отношении нет вообще никакой разницы между восприятием картины и повести или симфонии. Такая разница существует, сказываясь хотя бы в том, что восприятие музыкального или литературного произведения равно времени, необходимому для его исполнения (своеобразным исполнителем является и сам читатель, только он «исполняет» произведение для самого себя и потому может ограничиваться его чтением, а не произнесением), тогда как время восприятия произведений пространственных искусств абсолютно неопределенно115* и варьируется на весьма широком диапазоне — от мгновенного схватывания содержания плаката, мимо которого мы проходим или даже проезжаем на автомобиле, до сосредоточенного и длительного рассматривания станковой картины в музейной экспозиции; но кто скажет, сколько времени нужно простоять перед рембрандтовским «Блудным сыном», чтобы его полноценно воспринять? То же видим мы и в восприятии архитектуры: одни сооружения мы можем и должны постигать сразу — как обелиск или произведения архитектуры малых форм — киоск, фонарный столб и т. п., другие требуют обхода, подходов и отходов, движения по интерьерам, возвращения к созерцанию экстерьера для его соотнесения с уже ставшей известной внутренней планировкой здания116*.
Нам остается заключить, что длительность восприятия разных искусств также находится в прямой зависимости от формы бытия их произведений. Выходит, что не существует достаточно веских аргументов, которые опровергли бы или хотя бы поколебали исходное онтологическое деление искусств на три класса — 280 пространственных, временны́х и пространственно-временны́х искусств.
Теперь мы можем обратиться к анализу тех морфологических последствий, которые имеют семиотические параметры художественной формы.
2. СЕМИОТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ КЛАССИФИКАЦИИ ИСКУССТВ
Нельзя сразу же не вспомнить, что и эта плоскость морфологического анализа искусств прощупывалась в эстетике начиная с XVIII в., однако результаты исследования оказывались у разных теоретиков далеко не идентичными. Достижения и просчеты, имевшие тут место, должны быть учтены при определении семиотического критерия классификации искусств.
В последние десятилетия в мировой эстетической мысли, а в 60-е гг. и в марксистской эстетике искусство все чаще рассматривается как особая знаковая система (см., напр., работы Ю. Лотмана и Б. Успенского — 77; 97). При всей несомненной правомерности такого подхода необходимо сделать два важных уточнения: 1) искусство не исчерпывается тем, что является знаковой системой; семиотические качества характеризуют лишь одну сторону искусства, точнее, одну сторону художественной формы и должны рассматриваться поэтому как подсистема сложной и гетерогенной системы (см. V главу настоящей книги); 2) что касается самой семиотической интерпретации искусства, то в ней искусство должно представать не столько как знаковая система, сколько как система знаковых систем, поскольку каждый вид искусства представляет собой самостоятельную и достаточно своеобразную систему образных знаков (именно поэтому так часто встречаются люди, прекрасно понимающие, например, язык музыки и совершенно не понимающие языка живописи, или, напротив, понимающие язык изобразительных искусств и не понимающие языка музыки или танца). А в таком случае неизбежно встает вопрос о внутренней типологии художественно-образных знаковых систем.
В поисках этой типологии эстетики XVIII в. приходили довольно единодушно к выводу, что существует два типа знаков в искусстве — «естественные» и «искусственные» или «произвольные» и «непроизвольные». В XIX в. предлагались и другие определения (напр., «объективные» и «субъективные») и даже другие подходы к описанию этих типов (напр., психологический, при котором они различаются в зависимости от того, какие ассоциации 281 они вызывают — «определенные» или «неопределенные»), но суть дела оставалась при этом неизменной — имелась в виду способность искусства говорить с человеком либо на языке его реальных жизненных впечатлений, воссоздавая перед его взором или воображением предметы и явления реального мира такими, какими воспринимает их человек в своем практическом опыте, либо говорить на особом, «искусственном» языке, предлагающем нашему восприятию нечто отличное от того, что мы видим и слышим в действительности. В первом случае — речь идет о живописи и скульптуре, о литературе и театре — искусство, говоря словами Чернышевского, воспроизводит жизнь «в формах самой жизни», и художественный образ принимает облик чувственного образа (даже тогда, когда писатель или живописец изображает нечто ирреальное, фантастическое, он придает изображению форму реальной видимости); во втором случае — в музыке и танце, в архитектуре и прикладном искусстве — художественный образ отклоняется от формы чувственного образа, возникающего в опыте повседневной жизни человека, и в результате мы слышим в музыке совсем не то, что слышим в действительности, и видим в танце или в архитектуре совсем не то, что в природе и человеческой жизнедеятельности117*.
Соответственно мы называем один из этих художественных языков изобразительным, а другой — неизобразительным.
Употребив термин «изобразительный», нужно уточнить, в каком смысле мы его употребляем, так как в современной теоретической литературе он имеет разные значения. Когда, например, Днепров говорит о том, что всякое искусство всегда изображает (63, 175 – 176) и когда Кремлев категорически утверждает, что в искусстве нельзя изображать, не выражая, и нельзя выражать, не изображая (247, 19. Ср. 187, 137 – 138), они, очевидно, понимают под «изображением» нечто иное, чем, скажем, Шмит, который делил искусства на «изобразительные» и «неизобразительные», или Кожинов, различающий искусства «изобразительные» и «выразительные». В 60-е гг. у нас появился ряд специальных статей, посвященных самой проблеме «изобразительности» и «выразительности» в искусстве, но однозначного понимания термина и они не принесли.
Не отвлекаясь на обстоятельную полемику, мы ограничимся разъяснением того смысла, в котором термины эти будут употребляться 282 в нашей работе. Поскольку предметом искусства является мир ценностей, постольку художественный образ оказывается знаком ценности: именно знаком, так как ценность, в отличие от ее конкретного материального носителя, можно запечатлеть лишь изоморфно, а не адекватно; и именно знаком ценности, так как искусство рассказывает нам не об объективном бытии вещей, явлений или сущностей, а о мире очеловеченном, повернутом к человеку, вошедшем в сферу его практической жизнедеятельности и духовных интересов, сопряженном с его потребностями и идеалами. Но постигать ценности и говорить о ценностях можно двояким образом: 1) представляя нашему созерцанию (реальному или мысленному, безразлично) носителей ценности в их реальном обличье — предметы природы, вещи, самого человека, его конкретные поступки или 2) не показывая тех или иных носителей ценности, а непосредственно раскрывая ценностное отношение к определенным сторонам бытия или к жизни вообще. В первом случае, когда мы видим в произведении искусства ценности, воплощенные в конкретных предметах, образные знаки имеют изобразительный характер; во втором случае, когда художественный язык не воссоздает конкретность материального бытия, а развертывает перед нами состояния ценностного сознания, семиотическая система имеет неизобразительный характер. Так, в классе пространственных искусств изобразительный строй художественного языка свойствен живописи, графике, скульптуре, фотоискусству, неизобразительный — архитектуре, прикладным искусствам и дизайну; в классе временны́х искусств изобразительную природу имеет художественный язык литературы, неизобразительную — музыкальный язык; в классе пространственно-временны́х искусств по тому же принципу различаются актерское искусство и танец. Вместе с тем, в каждом онтологическом классе искусств оба класса семиотических художественных систем могут выступать в единстве и взаимопроникновении, рождая синкретические или синтетические способы формообразования со смешанным, изобразительно-неизобразительным типом художественного языка.
Если зафиксировать складывающуюся здесь картину в схеме, которую мы начали строить, она примет следующий вид (табл. 30).
Эта схема показывает с достаточной наглядностью, как в результате скрещения деления искусств на три онтологических и три семиотических класса возникает девять семейств искусств. Такое деление охватывает все исторически сложившиеся формы художественной деятельности. Эта полнота охвата служит гарантией точности данной модели строения мира искусств.
283 Табл. 30
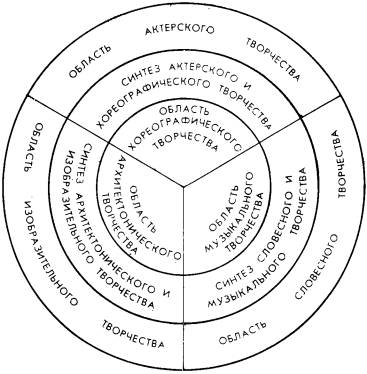
И все же, поскольку от правильности этого уровня морфологического анализа зависит весь последующий его ход, мы должны внимательнейшим образом проверить эффективность семиотического принципа классификации. Перед нами встает здесь целая серия вопросов:
1) в полной ли мере отвечают реальному положению вещей зафиксированные в этой таблице принципы деления искусств?
2) если отвечают, то являются ли они всеобщими, охватывающими всю сферу художественно-творческой деятельности?
3) чем вызвана семиотическая двойственность художественного творчества, каковы ее объективная обусловленность и эстетическое значение?
4) каковы взаимосвязи этих двух знаковых систем в искусстве и существуют ли в каждой из них известные внутренние вариации, «грамматические» модификации, «диалекты»?
284 5) как укладываются в данную морфологическую систему все известные нам виды искусства и многообразные разновидности каждого вида?
Начнем с анализа временны́х искусств, поскольку в них интересующие нас закономерности выражены наиболее отчетливо.
а) Динамика соотношения изобразительного и неизобразительного типов творчества во временны́х искусствах
Временны́е искусства способны материализовать свое содержание трояким образом: 1) с помощью слова — звучащего или обозначенного графически; 2) с помощью внесловесных звуковых отношений, извлекаемых самыми разнообразными инструментами, в том числе и человеческим голосом (так называемая просодия) и существующих также в реальном акустическом и условном графическом (нотном) виде; 3) с помощью сливающихся воедино словесных и звуко-интонационных средств (чистое пение и пение с аккомпанементом). Совершенно очевидно, что в первом и во втором случаях (словесном и звуко-интонационном творчестве) мы имеем дело с однородными по своему составу художественными структурами — чисто литературной и чисто музыкальной, тогда как в пении (даже без аккомпанемента) — с двухэлементной художественной структурой, в которой выразительность поэтического образа соединяется с выразительностью образа музыкального. Поэтому мы должны временно абстрагироваться от этой синкретической или синтетической структуры и начать с сопоставления гомогенных структур — чисто словесной и чисто музыкальной и лишь после этого рассмотрим закономерности их скрещения.
Если мы вернемся к нашей таблице и вспомним предшествовавшие ей краткие рассуждения, то увидим, что деление временны́х искусств на изобразительное и неизобразительное совпадает с их делением на словесное и музыкальное. Чем объясняется это любопытное совпадение? Ведь в пространственных и пространственно-временны́х искусствах оба типа знаковых систем строятся в одних и тех же материалах — природных веществах в одном случае и движениях человеческого тела и лица — во втором.
Дело в том, что реальная информационная емкость слова и внесловесного звукосочетания далеко не одинакова. Изобразительные 285 возможности слова ничем в принципе не ограничены, поскольку абсолютная условность словесного обозначения лишает его какой-либо внешней связи с обозначаемыми предметами. Словом можно обозначить (и соответственно с помощью слов можно изобразить) все формы материального бытия — звучащие и беззвучные, объемные и бесплотные, многоцветные и бесцветные, статичные и динамичные и т. д.; что же касается звука, то он способен обозначать непосредственно только звучащие явления, а беззвучные он может изобразить лишь опосредованно, апеллируя к ассоциативным связям, образованным в нашем сознании единством зрительного и слухового восприятий мира (скажем, слушая затихающий цокот копыт, мы представляем себе удаляющуюся конницу, и композитор, изображая это звуковое явление, вызывает в сознании слушателя соответствующее зрительное представление). Но в том-то все и дело, что звучащих явлений в мире значительно меньше, чем беззвучных, звучащих постоянно — неизмеримо меньше, чем звучащих спорадически, и зрительно-звуковых ассоциаций в нашем сознании бесконечно меньше, чем «чистых» зрительных и звуковых образов. Именно по этой причине изобразительные возможности звука, отвлеченного от словесной изобразительности, в высшей степени скромны. Они, разумеется, существуют, и музыка их эффективнейшим образом использует (еще шире и последовательнее используются они в радиокомпозициях), и мы еще будем иметь возможность оценить их морфологическое значение; но сейчас нам важно заключить, что изобразительные потенции звука несоизмеримо более узки в сравнении с его эмоционально-экспрессивными возможностями, ибо звук является прямым выразителем человеческих переживаний. Уже в крике, в смехе, в плаче, в призыве человек выражает себя и общается с себе подобными через звук, в речи же он делает звучание тончайшим инструментом экспрессии и коммуникации, наделяя слово дополнительной для его смыслового содержания эмоциональной нагрузкой. Носителем этой дополнительной информации и становится интонационная сторона речи, которая, многократно опосредованная, в конечном счете породила интонационную структуру музыки и позволила музыке положить в основу своего художественного языка неизобразительный принцип. Этим и определяется кардинальное отличие музыкального образа от словесного.
Само слово, как бы ни оценивать его экспрессивные возможности и его способность обозначать наряду с явлениями материальными — явления духовные, наряду с предметами внешнего мира — состояния и процессы мира внутреннего, остается, повторим это, прежде всего изобразительным инструментом 286 (см. 3)118*. Слово позволяет человеку описывать и объективировать весь его реальный чувственный опыт, позволяет ему образно моделировать окружающий его мир таким, каким он предстает в нашем восприятии, позволяет изображать предметность мыслей и переживаний.
Вместе с тем, при всем могуществе слова, его возможности ограничены, и ограничены в двух отношениях: во-первых, в способности изобразить индивидуальную неповторимость предмета и, во-вторых, в способности выразить чувства и переживания человека. Оно и понятно — ведь, с одной стороны, слово по природе своей есть обозначение общего, а не единичного, с другой же стороны, оно есть непосредственная реальность обобщающей мысли, а не чувства человека.
Разумеется, люди стремятся использовать язык — это основное средство общения — и для описания-изображения конкретных явлений действительности, и для описания-выражения своих переживаний; однако язык бессилен сделать и то и другое с той адекватностью, какая доступна в первом случае средствам живописи, графики, скульптуры, фото- и киноизображений, а во втором случае — средствам музыкальным и хореографическим. Еще Батте заметил, что слово — это «орган разума», а звук и жест — «органы сердца» (20, 171 – 172). Это нельзя, конечно, понимать так, будто искусство слова способно выражать только интеллектуальные, а музыка — только эмоциональные процессы. Существенной особенностью всякого искусства является воплощение живого единства мыслей и чувств человека. Но глубина проникновения в разные «слои» этого интеллектуально-эмоционального целого, тонкость его познания и точность выражения — т. е. именно мера конкретности — у каждого вида искусства своя, особая и неповторимая119*. Звуковая интонация, отвлеченная от слова, ничего предметного, как правило, не изображая, способна с особой силой и точностью раскрывать недоступные словесному выражению интимнейшие эмоциональные движения, переливы чувств, неуловимый ток 287 настроений. Это-то и делает инструментальную музыку могучим самостоятельным искусством наряду с литературой.
Теоретикам, преувеличивающим изобразительно-выразительные возможности слова, считающим его всемогущим и подымающим на этом основании искусство слова над всеми другими способами художественного творчества120*, мы напомнили бы и известное признание Тютчева, словно вырвавшееся у него в минуту отчаяния от невозможности абсолютно точно воплотить поэтическую мысль в слове, — «мысль изреченная есть ложь», и значительно менее известное, но не менее показательное заключение другого великого мастера словесного искусства И. Бунина, приведенное В. Катаевым в «Траве забвения»: «… Все можно изобразить словами, но все же есть предел, который не может преодолеть даже самый великий поэт. Всегда остается нечто “невыразимое словами”. И с этим надо примириться». Весьма интересно в этом свете и суждение К. Станиславского, утверждавшего, что большие актеры, обращаясь в спектакле к чистой пантомиме, «умеют досказать то, что недоступно слову, и нередко действуют в молчании гораздо интенсивнее, тоньше и неотразимее, чем сама речь». (307, т. 3, 106). Вот почему словесное искусство не могло удовлетворить человечество как единственное искусство.
Таковы причины, по которым литература и музыка противостоят друг другу в сфере временны́х искусств как творчество изобразительное и неизобразительное в своей основе. Мы говорим «в своей основе», так как противоположность знаковых систем, принятых на вооружение литературой и музыкой, не абсолютна, а относительна. Каждое из этих искусств полярно противоположно другому только в крайних и наиболее «чистых» формах своего проявления, а взятое во всей полноте, во всем богатстве форм его существования каждое из них представляет собой своеобразную лестницу, ступенчато изменяющийся ряд модификаций, движущийся навстречу такому же ряду в смежном искусстве. В литературе этот спектр форм образуется движением 288 от прозы к поэзии, в музыке — от так называемой «чистой музыки» к музыке изобразительной.
Применительно к литературному ряду два момента должны быть охарактеризованы здесь более обстоятельно. Первый состоит в том, что проза и поэзия, взятые в чистом виде, — всего лишь противоположные полюса широкого диапазона литературных форм, движущегося от поэтической «крайности» к прозаической и обратно. Уже в первом приближении мы можем выделить такие переходные звенья, как «свободный стих» — «белый стих» — «стихотворение в прозе» — «ритмическая проза», а более детальный анализ, проделанный, например, А. Жовтисом, показывает, что таких «ступенек» здесь значительно больше121*.
Второй момент, требующий специального обоснования, состоит в том, что рассматриваемый нами спектр литературных форм располагается в направлении, на котором искусство слова соприкасается с музыкой и противостоит ей. Эта проблема уже освещалась нами в историческом аспекте, и потому сейчас 289 остается резюмировать, что движение форм словесного творчества от прозы к поэзии есть именно движение навстречу музыке, так как, во-первых, оно характеризуется прогрессивным возрастанием художественной роли звуковой стороны словесной ткани образа (благодаря постепенной активизации ритма, фонетических созвучий, появлению рифмы, «инструментовки» стиха с помощью аллитераций и других приемов), т. е. как раз тем, что не случайно называется обычно музыкальностью литературы. Поэзия, говорил Данте, это «не что иное, как риторическая фикция, положенная на музыку» (66, т. I, 482); современный теоретик говорит более строго и точно, что музыкальность стиха «может быть охарактеризована не как музыка в собственном смысле слова, а лишь как влечение слова к музыке, стремление “значение слов” дополнить “значением звуков”» (323, 133).
Отсылая читателя к очень интересной книге Е. Эткинда «Разговор о стихах», где эти качества поэзии прекрасно показаны на обширном материале (337), мы ограничимся одним примером.
П. Антокольский писал о музыкальной организации стиха Бодлера: «Его звукопись поражает своей открыто изобразительной яркостью:
La BRanLe univeRSeLe de La daNSe maCaBRe…
Это ГРубое БРякание, опояСывающее СвиСтящую СТремитеЛЬноСТь танца, зримо замыкает кольцо ужасного, смертельного хоровода.
Не менее поразительно полногласие бодлеровских признаний в минуту высшего подъема страсти:
O toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais! —
несколько напоминает пушкинское “А счастье было так возможно, так близко…” Это можно и должно петь во весь голос». Переводя «Пляску смерти» Бодлера, Антокольский находит для процитированной им строчки такой звуковой вариант:
ВСеЛенСкая РаСКаЧКа, СВиСТОПЛяСКа СмеРти…
а в других строфах этого стихотворения он мастерски оркеструет перевод на контрапункте шипящих и свистящих тембров:
ПриШла ли ты Смутить наШ раЗвеСелый праЗдник
ГримаСкой уЖаСа под
маСкою Шута?
Иль Самое тебя приШпорила и драЗнит
РаСпутных ШабаШей
ноЧная Суета?
Иль Стон СкрипиЧных Струн и наШих оргий СвеЧи
РаССеяли твоих
коШмаров Забытье
И ШутоЧки людей, уЖимкп ЧеловеЧьи
РаЗвеСелили ад,
прибеЖиЩе твое?
290 Во-вторых, движение от прозы к поэзии характеризуется постепенным снижением в словесном искусстве роли изобразительности. Кожинов обращал внимание на то, что в поэзии встречаются произведения, лишенные всякой изобразительности, — например, пушкинское «Я вас любил…», но делал отсюда неверный вывод, что поэзия есть такое же неизобразительное искусство, как музыка (11, 80 – 81)122*. Однако полное отсутствие изобразительности есть весьма редкий случай в поэзии, тогда как в музыке это правило, а не исключение. В подобных случаях поэзия, действительно, вплотную подходит к структуре музыкальной образности, добиваясь специфического для последней чистого лиризма; понятно, что такие возможности искусства слова тем большие, чем дальше оно уходит от чисто прозаической формы отражения действительности, основанной на эпическом принципе изобразительного повествования. А навстречу поэзии в сфере музыкального творчества развертывается аналогичное морфологическое движение — от «чистой музыки» через ряд переходных форм к музыке изобразительной. Это движение связано с той диалектикой процесса «освобождения» музыки от совместных с ней «временны́х искусств»; о которой так хорошо говорил Асафьев, отмечая, что подобное «освобождение нельзя понимать как механический процесс обособления. Музыкальная интонация никогда не теряет связи ни со словом, ни с танцем, ни с мимикой (пантомимой) тела человеческого, но “переосмысливает” закономерности их форм и составляющих форму элементов в свои музыкальные средства выражения» (174, 4).
С этой точки зрения можно было бы сказать, что «чистая» музыка дальше всего ушла от искусства слова — ее чуждость каким-либо изобразительным приемам оказалась столь последовательной, что она не заключает в себе условий даже для отдаленной ассоциативной связи своих образов с явлениями внешнего мира. Однако в такой же мере, в какой литературно-прозаический способ творчества (мы вправе были бы назвать его по аналогии «чистой литературой») модифицируется в поэтический, постепенно обрастая неизобразительными приемами, так музыка на пути к «чистым» своим формам предоставляет много возможностей для использования различных изобразительных приемов. Мы имеем в виду, прежде всего, допущение элементов ассоциативной изобразительности и, в качестве ключа к пониманию таких ассоциаций, использование программного названия музыкального произведения (напр., «Облака» Дебюсси или «Картинки с выставки» Мусоргского); это может быть, далее, 291 более или менее широкое введение элементов прямой звуковой изобразительности, подкрепленное соответствующим названием (скажем, «Сказки венского леса» Штрауса или посвященная 1905 году 11 симфония Шостаковича); это может быть, наконец, чисто звукоподражательное построение образа (вспомним знаменитый «полет шмеля» Римского-Корсакова); показательно при этом, что подобный характер могут иметь в музыке только отдельные образы, и даже небольшую самостоятельную музыкальную пьесу нельзя сделать целиком звукоподражательной. Чистое звукоподражание — не самостоятельный «элемент» искусства, как неосмотрительно утверждал Кожинов, а тупик в движении музыкального творчества навстречу литературной изобразительности123*.
Теперь мы можем обратиться к той области творчества, где слово и музыкальный звук встречаются и объединяются синкретически или синтетически. Здесь следует сразу же обратить внимание на то, что это слияние имеет напряженный, внутренне противоречивый характер. Образование двухэлементной художественной структуры сопряжено с прямым противоборством музыки и поэзии, с «соперничеством интонаций поэзии и музыки» (Асафьев), а в этом столкновении возможны различные исходы. Исход первый — полное подчинение музыкальной выразительностью ее словесного партнера-соперника: мы имеем в виду мелодический принцип пения, который весьма активно деформирует ритмическую структуру слова и делает гораздо менее значительной роль текста песни по сравнению с ролью ее напева (вплоть до того, что текст этот нередко вообще имеет самую скромную художественную ценность, что, однако, не мешает популярности песни и чаще всего вообще не осознается. Как шутил один французский мыслитель, «это достаточно глупо для того, чтобы это можно было петь»). Исход второй, прямо противоположный — полное подчинение словом музыкальной выразительности: мы имеем в виду принцип речитатива, в котором музыкальность не порывает полностью с ритмической и интонационной структурой речевого высказывания, остающейся в основе своей именно произносимой, а не выпеваемой (вспомним знаменитый лозунг Даргомыжского: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово…»). В принципе возможно, очевидно, и относительное равновесие обеих сторон словесно-музыкального синтеза; оно оказывается, однако, крайне неустойчивым и обнаруживает постоянное тяготение к переходу то в мелодическую, 292 то в речитативную форму. Видимо, тут — как и вообще в жизни — подлинное равновесие есть воображаемая линия перевала между двумя склонами, не успев дойти до которой, ты ее уже перешагиваешь…
Резюмируя все вышесказанное в виде таблицы, мы получаем нагляднейшее представление о том спектральном морфологическом ряде, который образуется диалектическим взаимоотношением сближения и отталкивания литературы и музыки, перехода количественных накоплений в качественные скачки, единства непрерывности и прерывности:
Табл. 31
|
Проза |
|
Ряд переходных форм |
|
Поэзия |
|
Словесно-музыкальный синтез (речитатив) |
|
Музыкально-словесный синтез (мелодическое пение) |
|
Изобразительная музыка |
|
Ряд переходных форм |
|
«Чистая» музыка |
б) Динамика соотношения изобразительного и неизобразительного типов творчества в пространственных искусствах
Как мы уже отмечали, архитектура, прикладные искусства, дизайн, в отличие от живописи, графики, скульптуры, художественной фотографии, не являются искусствами изобразительными, так как здание, сосуд, кресло и тем более машина или прибор ничего не изображают в материальном мире. В поисках терминологического обозначения этого основополагающего различия двух семейств пространственных искусств А. Салтыков однажды предложил называть прикладные искусства искусствами «преобразительными» (274, 97), поскольку в них предметный 293 мир не изображается, а преображается. Предложение это имеет веские основания, и его можно было бы принять, если бы слово «преобразительное» не звучало так неуклюже124*. Поэтому мы предпочли бы другое наименование для данного семейства пространственных искусств — архитектонические искусства.
Преимущества этого термина состоят в том, что, во-первых, он выявляет лежащий в их основе формообразующий принцип, структурную доминанту их художественного языка — эстетически значимое соотношение пластических элементов, из которых строится художественный образ; во-вторых, термин этот подчеркивает родство прикладных искусств и дизайна с архитектурой — наиболее значительным и, так сказать, представительным искусством этой группы. Не случайно, конечно, термины «архитектура» и «архитектоника» так близки друг другу, — их смысловая связь аналогична связи таких понятий, как «музыка» и «музыкальность», «поэзия» и «поэтичность», «живопись» и «живописность», «орнамент» и «орнаментальность» и т. п.: во всех этих случаях название искусства говорит о том, что в нем, в данном искусстве, с наибольшей полнотой и определенностью выражено соответствующее эстетическое качество, сфера действия которого выходит, однако, далеко за пределы, этого вида искусства (напр., «музыкальность» свойственна не только музыке, «орнаментальность» — не только орнаменту и т. д.). Так и «архитектоничность» не является привилегией архитектуры. Своеобразные проявления этого формообразующего принципа мы встречаем во всех искусствах, вплоть до литературы и музыки, не говоря уже об изобразительных искусствах, где пространственная структура образа необходимо несет ту или иную степень его архитектонической организованности. Однако в произведении живописи и скульптуры архитектоническая логика всегда подчинена логике изобразительной: даже в предельно архитектонических по построению «Моисее» Микеланджело или «Сикстинской мадонне» Рафаэля соотношение всех пластических элементов определяется в первую очередь изобразительной функцией каждого (головы, корпуса, одежды библейского героя или образов Мадонны и Христа, их общей пластической массы и массы облака и фигур остальных персонажей картины); только в рамках этой подчиненности художник может искать архитектоническую 294 координацию и субординацию всех структурных частей пластического целого125*. В прикладном же искусстве, в дизайне, как и в самой архитектуре, архитектоническая связь элементов образа независима от какой-либо изобразительной их функции и оказывается главным, если не единственным, выразительным средством. Разумеется, общий для этих искусств закон зависимости художественной стороны произведения от стороны конструктивно-технической приводит к тому, что архитектоническая логика сама оказывается производной от логики конструктивной, которая, в свою очередь, определяется утилитарной функцией данного предмета; но тут речь идет уже о зависимости художественного языка от внеэстетической основы данных искусств, а не о внутренних закономерностях строения их языка.
Непонимание этого объективного закона раздвоения способов формообразования в пространственных искусствах (а чаще всего — нежелание признать само его существование) и явилось одной из важнейших причин, вызвавших к жизни так называемый «станковизм» в прикладных искусствах, а в искусствах изобразительных — абстракционизм и поп-арт. Эти явления произрастают как бы из единого корня, только в первом мы сталкиваемся со стремлением говорить в прикладном искусстве на языке искусств изобразительных (заставляя, напр., сосуд казаться чисто скульптурным произведением, статуэткой или же превращая ковер в буквальное подобие сюжетной станковой картины), а в другом — с попыткой живописи и скульптуры говорить на неизобразительном («беспредметном» или грубо предметном) языке прикладных искусств. Конечно, сосуд, имитирующий статуэтку, может быть интересен в чисто пластическом отношении, поп-артная композиция может оказаться занятной по сочетанию совершенно различных вещей, а абстрактные картины бывают интересными с точки зрения декоративной; подчас они заключают в себе и элементарную образную выразительность, вызывая у зрителя ощущение тревоги или умиротворенности, драматической напряженности или радостного возбуждения, извлекая из сознания силой ассоциативности образы осени или весны, расцвета или увядания (напр., в здании ЮНЕСКО в Париже есть серия абстрактных стенных 295 росписей на темы времен года). Беда, однако, в том, что во всех этих случаях исчезают естественность и органичность эстетической коммуникации. Настольная фарфоровая скульптура, изображающая человека или животное, у которой отвинчивается голова или снимается верхняя часть тела и которая неожиданно оказывается, таким образом, совсем не скульптурой, а… чернильницей или масленкой (такого рода изделия широко производились в конце XIX – начале XX столетия, знаменуя собой явный упадок прикладного искусства), есть не что иное, как чистый фокус, заведомый обман восприятия, т. е. действие, противоположное по своей сути природе и социальным функциям искусства. Таким же фокусом оборачивается произведение поп-арта, в котором реальная вещь должна как будто изображать саму себя126*. И точно так же станковая картина, которая висит на стене, выделенная рамой, а воспринимается как кусок декоративной ткани (подобно ташистским холстам Джексона Поллака) или как обложка рекламного проспекта (подобно геометрическим росписям Пита Мондриана), есть, в сущности, очередной фокус, операция незаметного превращения одного вида искусства в другой.
Абстрактное искусство неоднократно служило предметом критического анализа в советской эстетической литературе (наиболее серьезны тут работы Дмитриевой и Раппопорта — 5; 290). Этой темы касался не раз и автор настоящего исследования, поэтому сейчас мы подойдем к ней только с той стороны, которая определяется направлением нашего анализа: речь пойдет лишь о том, сколь основательны притязания абстракционизма быть чисто художественным аналогом архитектуры и прикладного искусства.
В свете предлагаемого нами объяснения исторического процесса образования чисто художественного типа творчества 296 нужно заключить, что абстрактное искусство, отказываясь от моделирования реальной зрительной основы духовной связи природы и человека, не способно обеспечить себе устойчивое место в мире искусств. Нельзя, конечно же, считать простой случайностью, что литература, живопись, музыка, театр, танец — короче, все виды искусства — давным-давно обрели в этом «мире» прочное место, абстрактное же искусство до XX в. человечество туда «не впускало», хотя язык его был известен и широчайшим образом использовался в архитектонических искусствах. Видимо, стихийное развитие эстетического сознания, постоянно выверявшееся критерием художественной практики, доказывало, что неизобразительные формо- и цветосочетания, великолепно удовлетворяющие потребности утилитарно-художественного творчества, оказываются бессильными вне утилитарной основы, ибо творчеству чисто художественному необходимо нечто большее, чем способно дать художественное конструирование полезной вещи. Этой последней достаточно — в эстетическом отношении, разумеется, — вызывать определенное настроение, соответствующее характеру ее употребления, — радостное или печальное, сосредоточенное или возбужденное, веселое или торжественное; с такой задачей абстрактные формо- и цветосочетания справляются весьма и весьма успешно. Когда же произведение искусства предназначено для одного лишь художественного переживания, когда оно вырывает человека из контекста практической жизнедеятельности и сосредоточивает всю полноту его психических сил на самом акте восприятия художественного произведения, тогда возбуждение некоего общего душевного настроения оказывается слишком незначительным результатом этой самоотдачи человеческого духа общению с искусством127*.
Неверно утверждение тех критиков абстрактного искусства, которые не видят в нем никакого эстетического начала, духовной содержательности, эмоциональной выразительности. Достаточно хорошо известно, что абстрактным искусством занимаются не только шарлатаны и бездарности, не умеющие рисовать и писать с натуры, но и большие, одаренные художники, владеющие мастерством изображения. Одно это обстоятельство 297 опровергает лучше всяких теоретических соображений подобные утверждения. В действительности беда абстракционизма состоит в том, что та мера эмоциональной выразительности, духовной содержательности, эстетической ценности, которая тут достижима, достаточна для того, чтобы обеспечить полноценное применение его средств в архитектонических искусствах, но недостаточна для того, чтобы он стал самостоятельной, «станковой», т. е. чисто художественной формой творчества. Вот почему абстракционизм — сравнительно недолговечное художественное течение, вызванное к жизни определенными социально-психологическими, идеологическими и эстетическими причинами, но не новый вид искусства, способный занять в системе искусств прочное место рядом с литературой, музыкой, изобразительными искусствами, архитектурой. Совершенно несостоятельна поэтому позиция ряда современных теоретиков — мы видели ее выражение в морфологических таблицах, приведенных в первой части книги, — признающих абстракционизм новым видом искусства, противостоящим «фигуративному» изобразительному творчеству (живописи, графике, скульптуре, художественной фотографии) и аналогичным музыке в ряду временны́х искусств.
Противоположность изобразительного и неизобразительного языков в пространственных искусствах — как и в искусствах временны́х — является не абсолютной, а относительной; между ними нет непроходимой пропасти или глухой стены; напротив, принципы построения образных знаков, специфические для того и для другого, оказываются весьма гибкими, способными модифицироваться, идти друг другу навстречу и даже вступать в прямой контакт, сливая свои усилия для создания сложных, синтетических художественных структур. Так, в архитектуре и родственных ей искусствах архитектонический способ формообразования может выступать в чистом виде, без какой-либо помощи изобразительных приемов (что особенно ярко видно в геометрическом орнаменте, в современной архитектуре, в дизайне), но может использовать по тем или иным причинам элементы изобразительности — как это имело место в ордерной системе античной архитектуры, вызывающей прямые ассоциации с растительными формами, или в ампирной мебели, в которой локотникам и ножкам кресел придавалась форма лап животных, крыльев и голов птиц и т. п., в деревянных сосудах, которые часто наделялись в народном творчестве ладьевидной или птицевидной формой, наконец, в изобразительном орнаменте, оперирующем растительными или животными мотивами и показывающем весьма наглядно, как происходит 298 в этой семье искусств «подключение» изобразительного принципа формообразования к принципу архитектоническому128*.
Характеризуя движение архитектонических искусств навстречу искусствам изобразительным, нужно подчеркнуть следующее. Во-первых, обращение к изобразительности происходит во всех описанных нами случаях при условии полного подчинения изобразительной логики логике архитектонической. Изобразительный орнамент иллюстрирует этот закон особенно отчетливо — и тем, что в нем свободно совмещаются предметы, никак в действительности не связанные друг с другом; и тем, что эти предметы изображаются крайне условно — стилизованно и схематизированно; и тем, наконец, что они соотносятся в орнаментальной композиции не по правилам их естественной (природной, жизненной) взаимосвязи, а по правилам орнаментального ритма, симметрии, повторности. Это значит, что в данных случаях мы имеем дело не с изобразительным языком, а именно с архитектоническим, который лишь вобрал в себя в той или иной степени элементы изобразительности и переработал их согласно собственным своим потребностям.
Во-вторых, такое включение изобразительных знаков в художественный язык, неизобразительный по своей природе, может происходить с большей или с меньшей последовательностью и широтой: здесь имеет место своего рода постепенное движение навстречу изобразительным искусствам. На первой его ступени природные формы подвергаются радикальнейшей переработке, схематизации, стилизации — так, что изображение превращается, по точному определению Дмитриевой, в «намек на изображение» (62, 129) — сошлемся хотя бы на упоминавшиеся выше фольклорные птицевидные ковши или на античный орнаментальный узор, мотив которого отдаленно напоминает цветок лотоса; на следующей ступени изображение природной формы является более или менее адекватным ей, однако сама она берется лишь фрагментарно, как выхваченный из естественного целого отдельный его элемент, — нога животного, ставшая 299 ножкой кресла, лист дерева, повторяющийся в узоре декоративной каймы ткани и т. п.; наконец, еще дальше заходит этот процесс при использовании изображений целостных предметов, имеющих, однако, не самостоятельное значение, а работающих функционально и конструктивно — подобно атлантам и кариатидам в здании или вазе для фруктов. Тут архитектоническое творчество вплотную подходит к рубежу, отделяющему его от творчества изобразительного, но не переходит этот рубеж, потому что не теряет своей качественной определенности (поскольку оно «растворяет» в своей знаковой системе привлеченные им элементы другой системы).
Аналогичное явление открывается нашему взору и в сфере изобразительных искусств. И здесь способ формообразования, лежащий в основе этой системы образных знаков, может работать вполне самостоятельно, но способен и вбирать в себя в той или иной мере элементы неизобразительного, архитектонического художественного языка. В первом случае фотоснимок, рисунок, картина, скульптура оказываются своего рода рассказом о некоем явлении или событии, и строение этого рассказа полностью определяется строением предмета изображения, его объемно-пространственной, цветовой, сюжетной психологической структурой. Яснее всего это видно в художественной фотографии, которая по природе своей документально-художественна, т. е. дает нам всегда знание о том, что и как реально существует. Всякий снимок имеет документальный характер, поскольку воспроизводит реально существующие предметы и явления, точно фиксируя их видимый облик. Само собою разумеется, что не эта достоверность изображения придает фотографии художественную ценность; в том случае, если смысл снимка исчерпывается этим качеством, он принадлежит к области документальной фотографии, а не художественной, к области фоторепортажа, а не фотоискусства. В мир искусств фотография входит тогда и постольку, когда и поскольку она создает образ, имеющий, как и в живописи, не только изобразительное, но одновременно выразительное значение. Дело, однако, в том, что если живопись и скульптура выражают отношение художника к миру через изображение этого мира таким, каким художник его себе представляет (даже в тех случаях, когда он рисует, пишет и лепит с натуры, он в той или иной степени натуру эту преображает), то в фотоискусстве отношение фотохудожника к жизни может быть выражено только через изображение того, что и как реально существует, а не того, как преломляется данный объект в человеческом воображении.
300 Совершенно очевидно, что фотоискусство вообще неспособно воспроизводить сочиненное художником, воплощать воображаемое: «принцип этюдности» лежит в самой основе его художественно-образной природы, и его могущество как искусства состоит именно в том, что «этюд с натуры» оно подымает до уровня полноценного, высокосодержательного художественного творения; когда же фотохудожник пытается позаимствовать у живописи ее способность к «сочинению» и начинает предварительно «организовывать» изображаемое по свойственным ей законам сюжетосложения и композиции, заставляя людей разыгрывать некое действие, душевное состояние и т. д. и т. п., он терпит обычно тяжкое и неизбежное поражение, ибо сама психология восприятия фотографии отличается установкой на получение информации о том, что есть в жизни, а не о том, что могло бы быть (говоря формулами Аристотеля). В живописи же, в графике и скульптуре способность воплощения воображаемого, а не реально существующего, порождает широкий диапазон творческих устремлений — от повествования о возможном в реальном мире до создания невозможных в реальности декоративных пластически-цветовых конструкций. Например, в творчестве Репина или Курбе мы сталкиваемся с безусловным превалированием информационно-повествовательных устремлений, а в творчестве Ларионова или Матисса повествовательная задача играет в построении произведения незначительную роль, решающее же художественное значение приобретает неизобразительный по своей природе и сути принцип декоративности, самовластно диктующий композиционное решение произведения — распределение масс, цветовых пятен и т. д.
Разумеется, здесь, как и в архитектонических искусствах, мы имеем дело с постепенным, ступенчатым движением в данном направлении — достаточно вспомнить развитие западноевропейской живописи в конце XIX – начале XX столетия, чтобы увидеть различные фазы этого движения, представленные, например, последовательностью творческих систем барбизонцев — импрессионистов — постимпрессионистов, или в России — систем Репина — Сурикова — Врубеля — Головина… Эти примеры ни в коем случае не означают, будто декоративные устремления стали играть активную роль в изобразительном искусстве лишь в начале нашего столетия. Такие устремления были свойственны изобразительным искусствам и в былые, классические эпохи — хорошо известно, какую роль играли различные проявления декоративного начала (напр., архитектоничность, ритмичность, орнаментальность) в средневековой живописи, 301 в творчестве Рафаэля, Пуссена, Энгра. Следовательно, мы имеем тут дело с широким диапазоном возможных модификаций знаковой системы изобразительных искусств, независимо от того, по каким причинам в различных исторических условиях те или иные модификации получают преобладание и особенно высокий эстетический авторитет.
Вообще говоря, соотношение повествовательности и декоративности в изобразительном искусстве подобно соотношению прозы и поэзии в искусстве слова — в обеих областях художественного творчества мы сталкиваемся с движением от максимально доступной каждой из них адекватности изображения изображаемому к укладыванию изображения в чуждую изображаемому и созданную самим искусством «сетку» ритмических, архитектонических, даже орнаментальных отношений. Повествовательность как творческий принцип — это центробежная сила искусства, его устремление вовне, в реальный мир, информацию о котором оно собирает и передает людям (речь идет, разумеется, о художественной информации, а не чисто документальной или научной). Декоративность же есть центростремительная сила искусства, его обращение в себя, его установка на создание новых форм красоты, которых нет в реальном мире. В этом-то смысле декоративные структуры в изобразительных искусствах и сближаются со стиховой структурой в искусстве слова.
Нарастание декоративности, происходящее в пределах изобразительной («фигуративной») знаковой системы, вплотную подводит ее к тому рубежу, где последняя соседствует с неизобразительным языком архитектонических искусств, не позволяя ей, однако, перейти этот рубеж. Когда же такой переход имеет место, мы оказываемся в промежуточной зоне синтетических (или синкретических) форм архитектонически-изобразительного творчества. Ибо прослеженное нами встречное движение в этих двух областях пространственных искусств становится своего рода подготовкой к их скрещению и образованию качественно новых художественных структур. Ведь если нарастание декоративности в живописи или скульптуре не может само по себе лишить их произведения самостоятельного существования и если, с другой стороны, нарастание изобразительных моментов в архитектуре и прикладных искусствах до поры до времени (т. е. в рассмотренных нами случаях) не выходило за пределы свойственного этим последним способа формообразования, то в синтетической структуре положение коренным образом меняется. Стоит нам присмотреться к таким произведениям, как, например, Ростральные колонны в Ленинграде 302 или палехские шкатулки, как здание ЮНЕСКО в Париже или керамические блюда Пикассо, как античная гемма или Рижский некрополь, и мы увидим, что здесь архитектонические искусства сливаются в одно двуединое целое с искусствами изобразительными, однако структура этого целого допускает известные вариации: так, в гемме, в искусстве Палеха или в керамике Пикассо доминирующее значение принадлежит изобразительной, а не архитектонической стороне синтеза; в здании ЮНЕСКО главенствующую роль играет, напротив, архитектурная грань синтетической структуры художественного целого; в Ростральных колоннах или в Рижском некрополе соотношение обеих ее сторон приближается к известному равновесию, хотя практически достичь такого состояния никогда не может (по причинам, аналогичным тем, о которых мы говорили, характеризуя словесно-музыкальный синтез).
Во всех этих вариациях мы сталкиваемся, однако, с возникновением нового художественного феномена, в котором живописные или скульптурные компоненты являются уже не станковыми произведениями изобразительного искусства с более или менее развитыми декоративными качествами, а произведениями декоративной — монументально-декоративной или миниатюрно-декоративной — отрасли изобразительного искусства, которые существуют лишь в единстве с декорируемым ими сооружением или предметом; сам этот предмет и это сооружение являются, в свою очередь, уже не самодовлеющей архитектонической композицией, включающей какие-то изобразительные элементы, но такой архитектонической композицией, которая несет на своих плечах декоративную живопись или скульптуру и которая немыслима вне этой новой своей художественной функции.
Подобную двупланность видим мы и в искусстве книги; и тут, как убедительно показал Ляхов (259, 198 – 199), существует «два варианта построения композиционной целостности книжного ансамбля. Первый вариант строится на преобладании архитектонических качеств, второй — изобразительных». Наиболее ярко первый тип построения проявляется в книге для взрослых, а второй — в детской книге. К этому следует лишь добавить, что возможен — хотя и достаточно редок — случай относительного равновесия архитектонических и изобразительных качеств книги, характерный, например, для ряда работ В. Фаворского.
Мы приходим, таким образом, к важному теоретическому выводу: морфологическое строение пространственных искусств, как и искусств временны́х, — это не грубая; метафизическая 303 антиномия творчества изобразительного и архитектонического, но такое их качественное различие и противостояние, которое допускает встречное движение и прямое слияние. Обозначив этот вывод графически, мы снова получим спектральный ряд художественных явлений:
Табл. 32
|
Изобразительное искусство повествовательной ориентации |
|
Ряд переходных форм |
|
Изобразительное искусство декоративной ориентации |
|
Изобразительно-архитектонический синтез |
|
Архитектонически-изобразительный синтез |
|
Архитектоническое творчество изобразительной ориентации |
|
Ряд переходных форм |
|
Чисто архитектоническое творчество |
в) Динамика соотношения изобразительного и неизобразительного типов творчества в пространственно-временны́х искусствах
Вряд ли стоит удивляться тому, что строение третьей группы искусств — пространственно-временны́х — подобно строению двух других областей художественного творчества: человеческое тело в его пластической динамике выступает и здесь как «строительный материал» двух противоположных систем образных знаков — изобразительной и неизобразительной, а они имеют ряд сближающих их модификаций и работают не только самостоятельно, но и сливаясь воедино в двуликой художественной структуре пантомимы. Неизобразительный характер имеет искусство танца, изобразительный — искусство актерское. Уточним лишь, что речь идет о той форме актерского творчества, которая ограничивается языком мимики, жеста, телодвижений, взглядов, т. е. является немой, бессловесной. В прошлом эстетика 304 называла ее часто «мимикой», но мы предпочитаем употреблять слово «мимика» в его прямом значении и не нагружать его вторым, гораздо более широким смыслом. И «пантомимой» нельзя назвать данное искусство, так как этот термин обозначает не чисто изобразительную, а различные синкретические или синтетические, актерски-хореографические формы творчества.
Исторически первичной была именно такая синкретическая форма, зародившаяся в процессе воспроизведения первобытными охотниками самого процесса охоты129* и сохранившаяся еще в древнегреческой культуре (она именовалась здесь орхестикой). В дальнейшем — как это понял уже Новерр — возник «разрыв, которому, казалось, суждено было утвердиться навеки, — разрыв между танцем в тесном смысле и пантомимой» (т. е. актерской компонентой древней пантомимы). Великий французский хореограф сумел положить предел этому процессу, «объединив игру и танец», как сам он писал, на балетной сцене (277, 51). Самостоятельное существование танца и актерской игры было ими, однако, сохранено за пределами балета: в одном случае в бытовых танцах и гимнастических на эстраде, в другом — в драматическом театре, словесно-драматургическая основа которого заставила безмолвное актерское искусство преобразоваться в синтетическое словесно-пластическое действие и тем самым увела его от исконной связи с танцем. Что же касается чисто актерской «пантомимы», лишенной какого-либо танцевального элемента, то в современном театре и на эстраде она могла сохранить лишь скромное значение приема, с помощью которого решаются отдельные эпизоды, мизансцены, интермедии (вспомним, как использует этот прием Райкин), а также приема педагогического, широко применяемого в процессе обучения актеров для развития изобразительной техники «физических действий».
Правда, совершенно неожиданно этот вид искусства получил в XX в. новый мощный стимул в «великом немом» — немом кинематографе, который потребовал от актера именно такого, чисто пластического, выразительного действия. И хотя с преобразованием немого кино в звуковое краткая пора расцвета бессловесного актерского творчества закончилась, она ярко показала — назовем хотя бы одно только имя Чаплина — великие и незаменимые синтетическим (словесно-пластическим) актерским искусством художественные потенции этого способа изображения 305 человеческой жизни. Вместе с тем оказалось, что и звуковой кинематограф мог предоставить актерской пантомиме более широкие возможности, чем театр. Об этом можно судить, с одной стороны, по создававшимся — не без влияния искусства Чаплина — киноновеллам (типа фильма М. Кобахидзе «Свадьба» или фильма М. Богина «Двое»), в которых роль звука ограничена музыкальным сопровождением, а почти все актерское действие имеет чисто пластический характер; с другой стороны — и в еще большей степени — по все чаще применяемому в наше время приему сочетания закадрового голоса (в форме внутреннего монолога героя, или его воспоминаний, или читаемого невидимым «лирическим героем» авторского текста) с беззвучным, чисто пластическим действием актеров в кадре.
Каков бы ни был, однако, удельный вес этого вида творчества в общем ряду форм актерского искусства, он подлежит анализу как его элементарная «клеточка», имеющая свою специфическую и для актерского искусства в целом основополагающую структуру. Она определяется тем, что художественный язык этого искусства основан на воспроизведении реальных форм жизненного поведения человека, его бытовых движений, жестов, мимики, т. е. имеет изобразительный характер, тогда как язык танца построен на условных с точки зрения бытовой достоверности движениях человеческого тела, приобретающих повышенную силу эмоциональной выразительности благодаря своему орнаментально-мелодическому, ритмико-интонационному строю. Собственно говоря, именно «интонированность» движения делает его носителем эмоционально-поэтической информации — это особенно отчетливо видно при сопоставлении хореографической пластики с пластикой спортивной; весьма показательны здесь и такие переходные от спорта к танцу формы, как художественная гимнастика или фигурное катанье на льду, где преображение спортивных движений в танцевальные осуществляется именно в процессе их интонационной организации. То же самое происходит и в балете, в котором граница между образным и чисто техническим движением танцора определяется наличием или отсутствием пластических интонаций130*, выражающих, как и в музыке, эмоциональные процессы духовной жизни человека.
Воспроизведение жизни в формах самой жизни позволяет актерскому искусству, как и живописи и литературе, воссоздавать 306 индивидуальную конкретность изображаемого — именно к такой цели стремился в своей практической и теоретической деятельности Станиславский. Мы могли бы с полным основанием назвать этот принцип формообразования так же, как назвали его в изобразительных искусствах, — принципом «портретности». Танец же, отказываясь от изобразительной конкретности, достигает такой меры обобщения пластической структуры бытовых движений, что язык его становится неизобразительным, и именно благодаря этому его хореографические «мелодии» и динамические «узоры» способны воплощать настроения, объединяющие многих людей, а не отличающие одного человека от другого. Оттого-то танец, как и песня, может быть массовым, оттого кордебалет столь же органичен в хореографическом спектакле, как хор в оперном.
И точно так же, как в смежных областях искусства, актерский «мимесис» и танец, при всей противоположности их художественных языков, идут друг другу навстречу спектральными рядами своих структурных модификаций. В сфере хореографической этот ряд начинается тем, что мы могли бы назвать по аналогии с музыкой и архитектоническими искусствами «чистым танцем», а кончается так называемым «сюжетным танцем», который с равным правом можно именовать «изобразительным». Если «чистый танец» более всего похож на оживший геометрический орнамент (сошлемся хотя бы на такие бытовые танцы, как вальс, падекатр, фокстрот, или на орнаментальные фигуры в классическом балете), то в сюжетном танце (вспомним, напр., многие народные пляски типа грузинского «Хоруми» или концертные этюды типа «Умирающего лебедя» Сен-Санса) хореографический язык, не отказываясь от своей неизобразительной знаковой природы, насыщается, однако, в большей или меньшей степени элементами пантомимы131*, использует известные бытовые аксессуары (детали одежды, оружие и т. п.), приводит в действие ассоциативные механизмы восприятия, наконец, обращается к помощи «наводящего» восприятие названия, а иногда и краткого программного либретто. Такого типа танец со времен Новерра стал господствующим на балетной сцене, ибо Новерр, по точному определению А. Бурнонвиля, «амальгамировал танец и пантомиму, как в опере амальгамированы пение и декламация» (374, 258).
307 Вместе с тем и в балете эта «амальгама» допускает возможность разного сочетания составляющих ее элементов. Отсюда — различение двух типов балетного танца, обычно именуемых «классическим» и «характерным», и образующих, по удачному суждению Ф. Лопухова, «два противоположных полюса…». «Если основа классического танца, — разъяснял он этот тезис, — мягкое плие, то основа характерного танца — жесткое плие. Если классическому танцу свойственны невесомость и нереальность, то в характерном доминирует притяжение к земле и явная человечность, подчеркиваемая прикосновением к полу всей ступни, ясно показывающим его земность». Потому-то классический танец, который «так хорош в балетах нереального характера, так неуместен и смешон в балете, имеющем в себе все типические черты реальности». Между этими двумя полюсами есть и промежуточная форма — так наз. Demis (257, 39 и 41 – 46).
Таким образом, разные хореографические структуры можно выстроить в последовательности нарастания изобразительных элементов, приближающего их к актерскому искусству. Когда же они встречаются и объединяются в одно неделимое целое, рождается пантомима — удивительное искусство, о котором нельзя сказать лучше, чем А. Таиров: «Нет, пантомима — это не представление для глухонемых, где жесты заменяют слова, пантомима — это представление такого масштаба, такого духовного обнажения, когда слова умирают и взамен их рождается подлинное сценическое действие» (312, 31).
Вполне естественно, что и в данном случае синкретически-синтетическая художественная структура может иметь либо одну, либо другую доминанту. Так, в пантомиме Чаплина перевес безусловно принадлежит актерскому началу, а танцевальное начало придает движению лишь специфический ритмо-пластический рисунок, тогда как пантомима знаменитых французских мимов — Барро, Марсо, Сегаля явно меняет соотношение актерского и хореографического элементов в пользу последнего132*.
Обращаясь к анализу актерского творчества, мы сталкиваемся неожиданно с проблемой, давно уже и весьма остро дебатируемой в театроведении, — с наличием двух типов этого творчества, называемых обычно «искусством переживания» и «искусством представления».
308 Уже двести пятьдесят лет дискутируется вопрос о том, какая же из этих техник актерского перевоплощения является «истинной» и дает наилучшие художественные результаты (см. 204). В XX в. этот спор сплелся с борьбой за господство реалистических принципов сценического искусства, так что нередко ставился вообще знак равенства между «искусством переживания» и реализмом, с одной стороны, и между «искусством представления» и формализмом — с другой. Между тем ни Станиславский, ни столь решительный его оппонент, как Таиров, в подобной примитивизации проблемы неповинны, хотя первый отдавал безусловное предпочтение «искусству переживания», а такие мастера сцены, как Евреинов, Мейерхольд, Таиров, Вахтангов, безусловно предпочитали (по-разному, правда, трактовавшееся ими) «искусство представления». В последние годы стремление многих крупных наших режиссеров к более широкому пониманию сценического реализма, оплодотворенному опытом и Мейерхольда, и Вахтангова, и Брехта, привело к призывам органически и гармонически соединить «переживание» и «представление» как два метода актерского творчества — примерно так, как в конце 20-х – начале 30-х гг. многие писатели и литературоведы ставили вопрос о синтезе реализма и романтизма в методе социалистического реализма.
В этом смысле показательна дискуссия, развернувшаяся в 1956 – 1957 гг. на страницах журнала «Театр». Р. Симонов начал ее, выступив против крайностей одностороннего развития обеих концепций; он утверждал, что Вахтангов в последний период своей деятельности искал их «гармонического соединения» (302, 58). О таком соединении мечтает и В. Бебутов — актер должен стремиться, говорит, он, идти путем «пережитого представления и выражаемого в яркой пластической и вокальной форме переживания»; «искусство переживания» и «искусство представления» — это «двуединый процесс сценического творчества» (177, 72). Возможно ли, однако, достижение такого идеала?
Не подлежит сомнению, что не может быть в творчестве актера ни «чистого» переживания без представления, ни, напротив, «чистого» представления без всякого переживания. Дело, однако, в том, что соотношение этих двух подструктур целостной и диалектически противоречивой структуры актерского творчества динамично; поэтому каждая из них может приобретать значение творческой доминанты, порождая то, что и называют обычно «искусством переживания» и «искусством представления». Мы встречаемся здесь с таким же спектральным рядом структурных модификаций, какие видели в других случаях: 309 в пространственно-временны́х искусствах развертывается постепенное и поступенное движение актерского творчества навстречу танцу, параллельное движению литературы навстречу музыке или движению изобразительных искусств навстречу искусствам архитектоническим. С этой точки зрения «искусство переживания» и «искусство представления» — это не творческие методы, а формы существования актерского творчества, на которые различные творческие методы лишь могут опираться, так или иначе их преломляя и используя.
Не пересказывая подробно классическую характеристику Станиславского (307, т. 2, 29 – 43) — она достаточно широко известна, — мы определим кратко «искусство переживания» как такой способ изображения человека человеком, при котором достигается максимальная близость образа воссоздаваемой жизненной реальности (максимальная, разумеется, в пределах возможностей искусства; поэтому нельзя согласиться с противниками «искусства переживания» — напр., с Евреиновым или Таировым, — которые называли его натуралистическим, хотя, несомненно, опасность натурализма на этом пути всегда существует). Актер словно растворяется здесь в персонаже, чувствует, думает и действует так, как он, этот персонаж, должен был бы чувствовать, думать и действовать в предлагаемых обстоятельствах. При этом на театральной сцене возникает так называемая «четвертая стена», превращающая происходящее на подмостках в подобие замкнутого, самодовлеющего, спонтанно развивающегося, не ориентированного на зрительный зал действия. Понятно, что если в театре такой способ образного воссоздания жизни никогда не был, не является и не может быть единственным, то звуковой кинематограф и телеискусство он завоевал полностью, не допуская — за редкими исключениями, которые лишь подчеркивают правило, — малейших отклонений от предельной достоверности актерской игры.
В театре же такие отклонения не только возможны, но в ряде случаев просто необходимы. Они диктуются разными причинами — и требованиями некоторых художественных направлений (напр., классицизма или романтизма), и особенностями некоторых отраслей сценического искусства (напр., музыкального театра, эстрады и цирка), и своеобразием драматургии некоторых писателей (напр., Брехта или Маяковского), и, наконец, индивидуальными качествами некоторых режиссеров и актеров (напр., Мейерхольда или Юрьева). Как бы ни были различны все эти случаи, они сближаются тем, что актерское «перевоплощение» происходит тут именно в форме «представления» актером персонажа.
310 Если «переживание» направляет искусство на максимальное сближение с жизнью, с формами существования эмпирического бытия, что и роднит этот тип актерского творчества с прозаической модификацией литературного и с повествовательным типом живописного творчества, — то «представление» актером изображаемого им характера вытекает из иной эстетической установки, утверждающей необходимость перевода «языка» жизни на откровенно условный язык искусства, необходимость художественного «возвышения» эмпирической данности, ее поэтизации или ее иронически-гротескного «остранения». Понятно, что и классицизм, и романтизм нуждались именно в таком типе актерского творчества. Это очень хорошо понимал Станиславский, подчеркивавший связь «искусства представления» с эстетическими позициями, например, Коклена: «Искусство не реальная жизнь и даже не ее отражение. Искусство — само творец. Оно создает свою собственную жизнь, вне времени и пространства, прекрасную своей отвлеченностью» (307, т. 2, 33)133*.
Вот остропоказательный случай: в начале нашего века Таиров, неудовлетворенный господствовавшим тогда на русской сцене искусством переживания, решил совсем покинуть театр; но вскоре он вернулся на сцену — когда Марджанов пригласил его в труппу нового, организованного им Свободного театра и поручил ему там ставить пантомиму, о чем этот молодой, но глубоко убежденный сторонник театра «представления» «давно уже мечтал», ибо пантомима есть, действительно, логический предел этого типа актерского творчества (312, 176). Как и в пантомиме, но не в такой резко выраженной степени, «искусство представления» накладывает на изображение некую «сетку стиля», откровенно переводя изображение в план художественно организованного действа — примерно так, как это делает со всяким изображением поэзия, укладывающая реальность в неизвестные прозе условные рамки стихотворного метра, строфики и т. п. Когда Алиса Коонен играла Комиссара в «Оптимистической 311 трагедии» Всеволода Вишневского, это была именно поэзия актерского искусства, и образ оказывался стилистически близким к другим созданиям актрисы (при всем различии между характерами Комиссара и, например, Эммы Бовари) именно потому, что стиль этот определялся свойственной поэзии мерой соотношения изобразительного и выразительного начал; когда же Комиссара играла Ольга Лебзак, образ рождался в ключе художественной прозы, а не поэзии134*. Когда Яков Смоленский и Сергей Юрский читают «Евгения Онегина», они приходят к существенно различным художественным результатам, потому что первый интерпретирует пушкинский «роман в стихах» как роман в стихах, а другой — как роман в стихах. Когда Театр на Таганке строит свой репертуар, исходя из художественной программы театра «представления», унаследованной Ю. Любимовым от ряда крупных режиссеров 20-х гг., он далеко не случайно дополняет драматургию Брехта различными поэтическими композициями (из произведений Маяковского, Есенина, Вознесенского), ибо в «искусстве представления», как и в поэзии, резко повышается роль ритма, музыкальной и пластической выразительности движения, доходя подчас до прямой потребности в пантомиме и даже в танце — оттого эти элементы и вступают в синтез сценических средств Театра на Таганке, лишний раз подчеркивая принципиальное отличие этой формы сценического искусства от той, которая представлена, например, театром «Современник».
Далеко не случайно, что в цитированных выше статьях Симонова и Бебутова говорилось о некоем имманентном влечении «искусства представления» к драматургии революционно-романтической, героико-трагедийной, о его близости игре актера-певца в опере (!). «Зрелищность, пластическая выразительность, особые ритмы, безупречно звучащие голоса, скульптурные мизансцены, а главное — широкий внутренний диапазон трагического актера потребуют мастерства театра “представления”», — утверждал первый (302, 61). В статье Бебутова, хотя он и полемизировал с Симоновым, приводились дополнительные наблюдения того же рода: рассказывая о постановке «Сида» в Комеди Франсез, с его «высокой вокальной и пластической культурой», характерной именно для театра «представления», 312 Бебутов цитировал показательное суждение одного из зрителей по поводу этого спектакля: «Они почти поют, это искусство представления» (177, 68).
Вот почему нереализуемы те призывы к синтезу «искусства представления» и «искусства переживания», которые провозглашались и Симоновым и Бебутовым, и, например, Захавой (его статья так и называлась: «За синтез театра “представления” и “переживания”» (219)). Такого рода призывы можно понять как единственную в те годы возможность известной реабилитации «искусства представления», на котором до этого лежало клеймо «формалистического», «антимхатовского» и т. д.; но со строго теоретической точки зрения подобный синтез столь же немыслим, как, скажем, в литературе органическое слияние прозы и поэзии135*. Конечно, в обоих случаях деление это схематично; и тут, и там мы встречаемся в реальной практике с целой серией градаций, с постепенностью подчас трудно уловимых переходов от максимального удельного веса «переживания» к максимальному удельному весу «представления». А этот последний случай чреват возможностью прямого контакта с искусством танца, который — контакт — ведет к образованию пантомимы, выступающей, как мы помним, в двух главных модификациях.
Схематическое обозначение нарисованной нами картины будет выглядеть следующим образом:
313 Табл. 33
|
Актерское искусство переживания |
|
Ряд переходных форм |
|
Актерское искусство представления |
|
Пантомима с преобладанием изобразительности |
|
Пантомима с преобладанием танцевальности |
|
Сюжетный танец |
|
Ряд переходных форм |
|
«Чистый» танец |
Теперь мы можем собрать воедино результаты нашего анализа и представить общую таблицу типов художественного творчества (табл. 34).
Эта сводная таблица делает весьма наглядными некоторые общие морфологические закономерности, действующие в мире искусств.
1. Хотя применительно к каждому классу искусств — пространственных, временны́х и пространственно-временны́х — употребляются особые понятия для обозначения различных модификаций используемых ими систем образных знаков, оказывается, что данные понятия характеризуют единые по сути своей и лишь своеобразно преломляющиеся принципы художественно-творческой деятельности. Эти принципы, взятые в их общеэстетическом масштабе, можно с равным правом называть «прозаичностью» и «поэтичностью», или «повествовательностью» и «декоративностью», а в другом художественном ряду (точнее, кольце) их можно называть «сюжетностью» и «орнаментальностью». Как бы ни именовать эти противоположно-соотносительные эстетические установки, они действительно заключают в себе общий для всех искусств смысл136*; в одном случае он состоит в ориентации
314 Табл. 34

художественного творчества на посильное «воспроизведение жизни в формах самой жизни», на доступную ему адекватность изображения и изображаемого, на возможно более полное «перевоплощение» искусства в облик бытия; в другом случае — в откровенном стремлении искусства «перевести» «язык» реальной жизни на условный язык художественных форм, «представить» действительность непохожими на нее художественными средствами, подчинить логику бытия отличной от нее логике художественного мышления и формообразования; наконец, во всех трех сферах художественной деятельности в равной мере возможно объединение этих противоположных ориентации творчества — 315 связывающей искусство с жизнью и противопоставляющей его жизни, «отражательной» и «конструктивной»; и при этом повсеместно оказываются возможными две структурные ситуации: а) полное подчинение «конструктивными» устремлениями искусства, его специфическим «синтаксисом», устремлений изобразительных, повествовательных, так что эти последние рождают уже только намек на изображение, дают только программно-направляющий толчок ассоциативной способности воспринимающего; б) полное подчинение «конструктивных» сил художественно-творческой деятельности силами изобразительными, программно-повествовательными, «миметическими». Относительное равновесие обоих видов энергии художественного творчества практически реализуется крайне редко.
2. Единство законов художественно-творческой деятельности человека проявляется, далее, в том, что по всем трем секторам мира искусств изменение соотношения указанных выше сил осуществляется волнообразно, постепенно и симметрично — от находящихся на «внешнем кольце» повествовательно-прозаических форм творчества через промежуточные зоны синкретических-синтетических форм к расположенным во «внутреннем кольце», в наибольшем удалении от жизненной реальности, «чистым» художественным конструкциям.
В этом свете проясняется давно уже дебатирующаяся проблема «эстетической сущности искусства», Ибо совершенно очевидно, что чем дальше мы движемся в глубинные районы мира искусств, чем ближе подходим к области чисто-архитектонического, чисто-музыкального, чисто-хореографического творчества, тем более «чистой» оказывается и эстетическая ценность художественного освоения мира; и напротив, по мере нарастания изобразительности, повествовательности, прозаичности, т. е. тех сил, которые непосредственно связывают искусство с жизненной реальностью, усиливается вторжение в него разнообразной внеэстетической информации, которую приносит с собой поток художественно воссоздаваемой жизни; в результате искусство, не лишаясь своей эстетической ценности, во все большей степени приобретает и ценности этическую, политическую, религиозную, документально-хроникальную и т. д. Вполне естественно — и мы будем об этом еще говорить специально в следующем разделе, — что в тех социально-исторических ситуациях, которые порождают потребность в широком и целенаправленном использовании искусства для решения жизненных проблем, для участия в социальной борьбе, наиболее развитыми, активными и поощряемыми становятся именно такие формы художественной деятельности, в которых эстетическое скрещивается с неэстетическим — 316 нравственным, политическим и т. д., а в исторических условиях, рождающих стремление отгородить искусство от социальной практики и противопоставить уродливой действительности прекрасный «мир искусства», этот «мир» сужается до «чистых» форм художественного творчества, сущность которых действительно чисто эстетическая. Соответственно и теоретики, ориентируясь обычно на ту или другую ситуацию и абсолютизируя ее, приходят к выводу, будто сама сущность, природа, объективная ценность искусства является либо эстетической, либо идеологической, нравственной, религиозной, политической. Если же иметь перед глазами всю систему искусств, следует заключить, что сущность искусства и его социальная ценность определяются динамической взаимосвязью эстетического и внеэстетических факторов, конкретное соотношение которых различно на разных «орбитах» художественной «планетарной системы».
Впрочем, использованное нами только что и вытекающее из строения нашей таблицы понятие «глубинных районов» художественно-творческой деятельности, наиболее удаленных от связей с внешним миром, нужно признать весьма относительным, ибо оно, это понятие, равно как и вызвавшая его структура нашей таблицы, правомерно лишь при той системе отсчета, которая измеряет связь между искусством и жизнью в чисто гносеологической плоскости (в плоскости движения от изобразительного к неизобразительному способу художественного формообразования). Однако связь искусства и действительности может быть — и непременно должна быть! — рассмотрена и в другой плоскости — функционально-коммуникативной. Ибо строение искусства определяется не только тем, как оно отражает и преображает формы реального мира, но и тем, как оно связано с другими формами практической деятельности людей в сферах труда, познания и общения. А с этой точки зрения представление о «внешних» и «глубинных» районах мира искусств окажется совсем иным.
3. ИСКУССТВА БИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И МОНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
Яснее всего это можно показать на примере архитектуры. Ее «уход» от изобразительной связи с жизнью, почти полное «очищение» ее формы от начала жизнеподобия и использование языка абстрактных объемно-пространственных и цвето-фактурных отношений обусловлено тем, что архитектура находится 317 в «плену» у практической жизни и обязана соединять свою эстетическую функцию с функцией утилитарной — более того, в большинстве случаев должна подчинять первую последней. Это относится в такой же мере ко всем прикладным искусствам, которые потому так и называются, что художественная функция не является у них единственной, а как бы «прикладывается» к функции утилитарной. С этой точки зрения именно архитектура, прикладные и промышленные искусства оказываются находящимися на «внешней орбите» системы искусств, а живопись, графика, скульптура, художественная фотография, свободные от утилитарности и обладающие одной лишь художественной функцией, попадают во «внутренние», глубинные районы мира искусств, наиболее далекие от сферы практических отношений людей. Поскольку в нашей таблице расположение колец, на которых находятся изобразительные и архитектурно-прикладные искусства, является чисто условным137*, мы имеем полное право поменять эти кольца местами, и тогда область архитектонического творчества станет в мире искусств внешней, пограничной с жизненной практикой и непосредственно с ней связанной, а область изобразительного творчества — внутренней, глубинной, чисто художественной.
Табл. 35
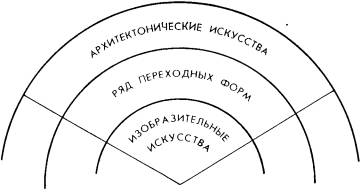
Следует подчеркнуть, что в обоих семействах пространственных искусств принцип монофункциональности или бифункциональности 318 имеет не абсолютную власть, а лишь преобладающее, господствующее значение. В архитектуре и в прикладных искусствах мы встречаемся подчас с произведениями, которые начисто лишены утилитарной функции и обладают одной только эстетической нагрузкой, а в искусствах изобразительных, как мы уже отмечали, создаются нередко произведения, имеющие не чисто художественное, а утилитарно-художественное назначение, только утилитарность их имеет иной конкретный смысл, чем в архитектуре и прикладном искусстве: если там она выражалась в обслуживании главным образом материально-практических нужд быта, производства и общения людей, то здесь она проявляется в обслуживании преимущественно духовно-практических (но внеэстетических!) потребностей социального общения людей и даже их производственной деятельности. Так, картина, скульптура, диорама и панорама, сделанные художниками для экспозиции исторического, этнографического, антропологического, военного музеев, или рисунки, иллюстрирующие всевозможные научные сочинения, или игрушки, имеющие в первую очередь педагогическое значение, представляют собой произведения в точном смысле этого слова бифункциональные, утилитарно-художественные, ибо первая и основная их функция (т. е. сила, вызывающая их к жизни) есть функция дидактическая, педагогическая, информационная, пропагандистская, агитационная, а художественный смысл и эстетическое назначение «прикладываются» здесь — точно так же, как в архитектурно-прикладных искусствах! — к этой внеэстетической, жизненно-практической, коммуникативной функции. Наиболее, пожалуй, весомой в этом плане для истории искусства была его связь с религией, делавшая все религиозное искусство бифункциональным — живопись в такой же мере, как и архитектуру.
Разумеется, отличие духовной утилитарности от утилитарности материальной немаловажно, но в интересующем нас сейчас отношении оно принципиального значения не имеет, тем более что полезность предметов архитектонических искусств тоже имеет иногда духовный, а не материальный характер — такова, например, практическая ценность разного рода храмов и усыпальниц, амулетов и талисманов, знаков принадлежности человека к роду, к племени или к воинской части, регалий царя или священнослужителя, обручальных колец и мемориальных значков, сувениров и т. д. и т. п. Во всех этих случаях утилитарность вещей определяется их ролью в организации той или иной формы социального общения — политической, религиозной, этической, военной, спортивной, бытовой. С другой стороны, внеэстетическая полезность произведений изобразительного искусства 319 бывает подчас не духовной, а материальной — скажем, полезность инструктивно-технологического плаката или рекламного проспекта.
Несущественность различий между материальной и духовной формами утилитарности (повторяем, что речь идет лишь о несущественности этих различий для проблемы бифункциональности и монофункциональности искусства) сказывается также в том, что и в архитектонической, и в изобразительной сферах творчества соотношение утилитарной и художественной функций оказывается в равной мере подвижным, динамическим, изменчивым, приводя плавно, постепенно и как бы незаметно к полному исчезновению художественного начала на одном полюсе этого диапазона и к полному исчезновению утилитарности на другом его полюсе. Ибо живописные, графические, фотографические и скульптурные средства, так же как средства технические, широко применяются в чисто практических и лишенных какой-либо художественной значимости целях. Подобно тому, как художественно-конструкторская деятельность непосредственно граничит с царством чистой техники, так за рубежами изобразительного художественного творчества простирается широчайшая сфера нехудожественной изобразительной деятельности человека — сфера чертежей и диаграмм, технических рисунков и графиков, географических карт и топографических макетов, муляжей и манекенов, документальных фотографий и пластических слепков. Приходится поэтому разрушить широко распространенное заблуждение, будто все нарисованное, написанное красками, вылепленное или сфотографированное принадлежит к миру изобразительного искусства. Правда, не так просто определить с абсолютной точностью, где в графическом наследии Леонардо да Винчи пролегает рубеж между чисто анатомическими и чисто техническими иллюстрациями, рисунками двойной, научно-художественной ценности и чисто художественными эскизами. Столь же неуловимы порой и водоразделы в ряду скульптурных изображений человеческого лица, имеющих иногда чисто анатомическое значение, иногда научно-художественное (сошлемся, к примеру, на антропологические портреты М. Герасимова), а иногда чисто художественное. То же самое следует сказать и о границах между чисто техническими, технически-художественными и чисто художественными ценностями в современной архитектуре и дизайне — и тут пограничные линии весьма расплывчаты, границы скользящи, количественные накопления неприметно переходят в качественные. Понятие «спектрального ряда» способно и в данных случаях определить наиболее точно эту динамику перехода от внехудожественных, 320 чисто утилитарных форм практической деятельности в сферах труда, познания, идеологии, общения к формам комплексным, синтезирующим утилитарное содержание с художественным, и, наконец, к формам чисто художественной, очищенной от какой-либо утилитарности, творческой деятельности.
Такой вывод не должен, однако, стереть принципиальное различие между областью изобразительного и областью архитектонического творчества, которое состоит в том, что удельный вес монофункциональности и бифункциональности в них прямо противоположен, и, видимо, не случайно попытка абстракционизма изменить такое положение вещей оказалась безрезультатной. Именно в той мере, в какой информационная емкость абстрактно-неизобразительного способа формообразования оказывается ограниченной по сравнению с соответствующей емкостью изобразительного языка пространственных искусств, последний способен выступать в качестве самостоятельного носителя художественного содержания в несравненно более широких пределах, чем язык архитектонического творчества. Поэтому в семействе изобразительных искусств доля «прикладных», бифункциональных отраслей сравнительно мала, а в области архитектонических искусств столь же скромна доля чисто декоративных, монофункциональных ответвлений. Показательно, что эти последние возникают здесь вообще только в процессе утраты некоторыми отраслями архитектонических искусств их первоначальной утилитарности — так, например, как утратили ее кольца-печати из резного камня, ставшие простыми украшениями, или эмблематический орнамент магического смысла, переродившийся в средство чисто декоративной разделки поверхности стены, ткани, сосуда. В изобразительном же искусстве исторический процесс высвобождения «свободного» творчества от связывавших его утилитарных потребностей (религиозно-магических, информационно-коммуникативных и пр.) был возможен не в некоторых, а почти во всех разветвлениях творческой деятельности, ибо в каждой из них изобразительный язык обеспечивает искусству достаточную для этого меру художественно-информационной емкости.
Во всех остальных областях художественного творчества картина оказывается близкой к той, какую мы видим в изобразительных, а не в архитектонических искусствах. Повсеместно художественное освоение мира осуществляется и «чистым», и «прикладным» способами, и повсеместно в историческом процессе монофункциональный принцип отвоевывает у бифункционального большинство «жанров». Если изначально — как мы могли в свое время в этом убедиться — вплетенность искусства 321 в жизненный процесс делала «прикладными» все отрасли «мусического» искусства, то в наше время сфера действия бифункциональности оказывается сравнительно узкой, хотя существует она повсюду: в области словесного творчества в этой пограничной и переходной полосе находятся художественная публицистика, художественный очерк и научно-художественная проза, граничащие с миром внехудожественной словесности и бытовой речи, а на стыке словесного и актерского творчества «прикладным» оказывается ораторское искусство, в котором действенность живого слова органически сочетается с действенностью мимики и жестикуляции оратора и которое незаметно переходит в простирающуюся за рубежами искусства сферу мимически-речевых форм коммуникации людей в их повседневной жизни; в области музыкального творчества бифункциональный характер имеют различные жанры «прикладной музыки» — военной, спортивной, культовой, связывающие музыку как искусство со звуковыми средствами коммуникации, применяющимися в житейской практике (от древних военных сигналов до современных средств звуковой сигнализации, используемых в производственных условиях, на транспорте, в быту, в армейской жизни и т. д.; речь идет при этом и об инструментальных, о голосовых сигналах — выкриках, восклицаниях, призывах и т. п.); в области хореографического творчества в бифункциональной зоне размещается художественная гимнастика и все формы спортивно-художественного танца, утилитарная сторона которых заключена в их практической ценности для физического развития человека и которые соединяют мир танца с миром спорта (сюда же можно с полным правом отнести военный танец, от богатого художественного прошлого которого в наше время сохранилась лишь ритмо-пластическая структура парадного марша — вспомним так называемый «гусиный шаг» и иные истинно хореографические приемы организации движения воинских частей).
Мы видим, таким образом, что сочетание художественной функции с функцией утилитарной имеет место во всех областях искусства, а не только в архитектуре, прикладных искусствах и художественном конструировании в промышленности. И в этом нет ничего удивительного. Напротив, следует считать естественным и разумным стремление человека повсеместно использовать средства художественного воздействия. Мы видим также, что мир искусств отнюдь не является «миром», самодовлеющим и отгороженным непроходимыми рвами и стенами от других, нехудожественных по своей природе, областей культуры. Качественное отличие художественного творчества от 322 всех иных форм деятельности не исключает, а предполагает их тесную взаимосвязь. Непосредственным выражением этой связи и являются прикладные, бифункциональные, утилитарно-художественные виды и жанры искусства, которые располагаются, так сказать, в пограничных районах царства художественного творчества и принадлежат ему в такой же мере, как и материальному производству, спорту, педагогике и т. д. В этих пограничных районах происходит диалектический переход неискусства в искусство и искусства в неискусство.
Табл. 36
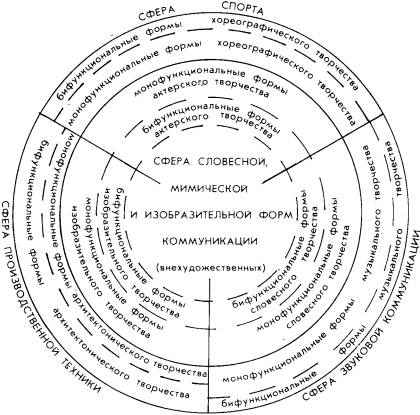
323 Глава X
ВИДЫ ИСКУССТВА И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ
Выделив основные семейства искусств — словесных, музыкальных, изобразительных и т. д., мы должны продолжить наш анализ уже потому, что материальная основа каждого из них весьма разнообразна. Между тем особенности средств материализации художественного содержания имеют огромное морфологическое значение, поскольку материал служит сигнальной базой знаковой системы, существенно влияя на ее способность нести и передавать ту или иную художественную информацию (вспомним известное и бесспорное положение А. Моля об одноканальности передаваемой искусством информации (457, 204)).
Именно отсюда и возникает видовое членение каждого семейства искусств. Вид искусства оказывается таким конкретным способом художественного освоения мира, в котором тот или иной тип художественной знаковой системы (изобразительный, неизобразительный или смешанный) реализуется и преломляется на сигнальной базе, определяемой характером физических свойств используемого материала (или группы однородных материалов). А так как в этих пределах обычно используются разные материалы и разные технологические приемы формообразования, вид искусства может распадаться на разновидности и отрасли, в которых варьируются его главные качества.
Для иллюстрации этих общих положений нам надлежит обратиться к внимательному рассмотрению всех семейств искусств.
1. ВИДЫ И РАЗНОВИДНОСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
Изобразительные искусства используют широкий и постоянно обогащающийся в ходе научно-технического прогресса круг пластических и колористических материалов. Физические свойства 324 каждого обусловливают некоторые его эстетические свойства, что придает несомненное художественное своеобразие, например, деревянной скульптуре в отличие от скульптуры в камне или в металле; мы говорим в данном случае о различных отраслях скульптуры. Однако своеобразие видов изобразительного искусства и их разновидностей покоится не на чисто технической, а на семиотической основе — на способности этих материалов модифицировать изобразительно-выразительные возможности искусства, а эти способности оказываются общими для целых групп материалов: так, выделяются, например, дерево, камень, металл, кость и т. п. как материалы скульптуры, в отличие от материалов, которыми оперируют живопись или графика. Критерием сближения или противопоставления материалов служит здесь, как это вполне очевидно, объемность, трехмерность или плоскостность, двухмерность создаваемых с их помощью образов. Именно этот признак и определяет сложившееся уже в далеком прошлом различение двух основных видов изобразительного искусства — живописи и скульптуры.
В этой связи мы можем напомнить, что до XX в. теория не выделяла графику в качестве третьего самостоятельного вида искусства наряду с живописью и скульптурой. В триаде «изящных искусств», как говорили на Западе начиная с XVII в., или «трех знатнейших художеств», как именовали их в России в XVIII в., рядом с живописью и ваянием вставало зодчество, рисунок же расценивался просто как основа всех «образовательных» искусств или как разновидность живописи (см., напр., 251), Однако в дальнейшем в рисунке начинают видеть самостоятельную художественную ценность, а черты, сближающие его с гравюрой, позволили в конце концов признать черно-белое и вообще монохромное изображение мира на плоскости, во всех его технических разновидностях (рисунок карандашом, углем, пером, пастелью, а также гравюра на дереве, металле, линолеуме и т. п.), особым видом изобразительного искусства, названным графикой.
Как мы уже отмечали, границы между живописью, графикой и скульптурой имеют относительный характер, поскольку искусства эти взаимосвязаны целым рядом переходных и пограничных форм. Так выясняется, что, подобно рассмотренным только что «радиальным» разрезам системы искусств, ее «кольцевые» разрезы также имеют ступенчатое, спектральное строение. Например, цветной акварельный или пастельный рисунок и цветная гравюра непосредственно подходят к границе, пролегающей между графикой и живописью, а в этой последней пограничной является тональная живопись, где роль полихромии 325 сведена к минимуму. С другой стороны, многослойное изображение на плоскости, выполненное в технике сграффито, равно как и изображение, выгравированное на плоскости, соприкасается со сферой скульптуры, которая в свою очередь простирается от низкого рельефа (барельефа), совмещающего, как правило, выступающие на плоскости объемы с выгравированным на ней изображением, до круглой пластики, порывающей всякую связь с плоскостью; между ними находятся разные степени высокого рельефа (горельефа), а так называемый перспективный рельеф объединяет в одном произведении барельеф, горельеф и круглую пластику (см. 226). Скульптура имеет и точки соприкосновения с живописью, благодаря своему праву прибегать к помощи цвета. История пластики знает немало примеров такого рода — и в первобытных масках, и в античной скульптуре, и в средневековой деревянной, и в народной глиняной, и в многослойных камеях, и в современных керамических рельефах и фарфоровых статуэтках и т. д.
С этой точки зрения интересно отметить еще одно деление графики, определяющееся различием между изображением, непосредственно наносимым на плоскость и имеющим поэтому уникальный характер, и изображением, наносимым на поверхность металла, дерева, камня, стекла для получения многочисленных художественно значимых отпечатков на бумаге — эстампов. Здесь технологические особенности творческой деятельности оборачиваются художественным своеобразием получаемого «продукта» — и по его изобразительно-выразительному языку, и по его функционированию в художественной культуре общества (см. 199; 226; 239). Еще дальше заходит на этом пути книжно-журнальная графика, поскольку рисунок, создаваемый для того или иного издания, воспроизводится в нем уже не самим художником (как это обычно имеет место при создании эстампов), а полиграфическим производством, воспроизводится в десятках и сотнях тысяч экземпляров и воспринимается читателем-зрителем как органический компонент самого этого издания. Соответственно художник должен ориентироваться здесь, во-первых, на то, какой облик примет его рисунок в полиграфическом воспроизведении, а во-вторых — на то, как он будет связан со шрифтовым заполнением полосы, с другими рисунками, с общей композицией книги. Поэтому рисунок в собственном смысле слова непосредственно соседствует в спектре видов и разновидностей изобразительного творчества с живописью, а книжно-журнальная графика — с лежащим на стыке изобразительного искусства и письменной литературы своеобразным синтетическим (или синкретическим) искусством, хорошо известным по таким его 326 проявлениям, как лубок, плакат, карикатура или ставший весьма популярным в наше время комикс138*. Что же касается скульптуры, то она, находясь внутри спектрального ряда изобразительных искусств, соприкасается, с одной стороны, с живописью., а с другой, такой своей разновидностью, как перспективный рельеф, непосредственно примыкает к искусству панорамы.
Ее своеобразие состоит в том, что в ней совмещается двухмерное живописное изображение задника со всеми формами трехмерного изображения — начиная от барельефа и кончая круглой скульптурой, причем сочетание этих компонентов в панораме не механическое, а органическое: во-первых, именно их взаимосвязь определяет специфическую структуру панорамного изображения; во-вторых, скульптура входит здесь в синтез пространственно-изобразительных средств не в том качестве, какое свойственно ей как самостоятельному виду изобразительного искусства, а в совсем ином. Органичность совмещения живописной полихромии с трехмерностью объемно-пластических компонентов может возникнуть только при условии подчинения этих последних той мере иллюзорности, какая достижима живописью. Скульптура не была бы способна войти в этот синтез, если бы она сохраняла столь характерное для нее расхождение между изображаемым материалом и материалом самого изображения — скажем, телом, волосами, одеждой человека и мраморной или бронзовой плотью памятника; скульптура не могла бы слиться в одно образное целое с живописным фоном панорамного изображения даже при сохранении применяющихся в ней принципов раскраски с неизбежной для них мерой условности. Эта имманентная скульптуре мера условности должна быть здесь решительно преодолена, что и достигается благодаря использованию подлинных вещей или их натуральных макетов в том или ином масштабном сокращении.
Еще одно существенное отличие панорамного искусства от скульптуры и от живописи состоит в том, что если картина рассчитана на целостное восприятие с одной точки зрения, а произведение круглой скульптуры — на движение глаза вокруг неподвижной статуи, то панорамное изображение, окружающее зрителя, ориентировано на круговое восприятие изнутри. Пограничной формой панорамы является диорама, сближающаяся 327 по структуре и по характеру ее зрительного восприятия со своим морфологическим соседом — перспективным скульптурным рельефом.
Анализ видов изобразительного искусства был бы неполным, если бы мы, следуя дурной традиции, забыли о существовании еще одного вида — искусства игрушки.
Этот вид искусства не фигурирует в эстетических трактатах, написано о нем вообще очень немного (см., напр., 222; 223), и смотрят на него, за редким исключением, скорее с педагогической, чем с эстетической точки зрения. Между тем, наряду с многочисленными игрушками, имеющими чисто дидактическую функцию, существуют и такие, которые обладают одновременно подлинной художественной ценностью: так, куклы воспринимаются нами подчас как своеобразные скульптурные произведения, начиная со знаменитых дымковских кукол и кончая некоторыми произведениями современного промышленного производства, модели которых создаются художниками. Поэтому границы, отделяющие игрушку от статуэтки, становятся подчас весьма относительными — об этом свидетельствует, например, та же дымковская скульптура или аналогичные произведения японского, китайского, французского «сувенирного» художественного ремесла, предназначенные скорее для декоративного оформления интерьера, нежели для детской игры. В принципе же любая игрушка, обладающая художественной ценностью, может стать украшением комнаты и восприниматься как произведение мелкой пластики. Однако — и это крайне важно — даже в подобном случае игрушка выделяется обычно и используемыми для ее производства материалами, и проистекающей отсюда мерой ее изобразительной конкретности, непосредственно сближаясь с искусством панорамы: в обоих случаях мы обнаруживаем неизвестную скульптуре степень жизнеподобия, иллюзорности, порождаемую обращением к тем материалам, из которых сделаны изображаемые вещи (напр., парик куклы, ее одежда и т. п.).
Более того, игрушка может идти по этому пути значительно дальше панорамы, приобретая потенциальную динамичность — речь идет о той разновидности игрушек, которая основана на подвижном сочленении частей (напр., куклы) или движении (напр., заводные игрушки). Художественное своеобразие этой разновидности игрушек состоит в том, что их создатель должен рассчитывать на недоступный скульптуре эстетический эффект движущегося, изменяющегося образа. Но тем самым подобный тип игрушки вплотную подходит к границе, которая отделяет пространственные искусства от искусств пространственно-временны́х, 328 обозначая предел, за которым начинается уже сфера актерского искусства с его основополагающим принципом самодвижения пластической формы; непосредственным же соседом игрушки оказывается здесь искусство актера, работающего с помощью особой «игрушки» — куклы, причем игрушки подвижной (то ли марионетки, то ли надевающейся на руку перчатки — Петрушки). Эта близость игрушки и актерского творчества проявляется, однако, не только на стороне последнего, но и в пределах самого изобразительного искусства, потому что, оперируя с игрушкой, ребенок сам выступает как маленький актер: ему приходится перевоплощаться во взрослого человека и «перевоплощать» свои игрушки в подлинные вещи. Таким образом, игрушка оказывается не только самостоятельным художественным явлением, но и элементом детского синкретического творчества — искусства-игры.
На стыке этих двух смежных областей художественного творчества вырастает, однако, еще один своеобразный вид изобразительного искусства — искусство грима. Грим изображает на лице актера лицо совсем другого человека — персонажа пьесы или фильма, создавая тем самым своими специфическими средствами художественный образ, подобный тем, что создаются в других видах изобразительного творчества (см. 260; 291; 332). По отношению к актеру искусство грима и искусство кукольника оказываются, следовательно, альтернативными; в сущности, сама кукла есть своего рода актерский «грим», своего рода маска, которой актер прикрывает свое лицо.
Если искусство игрушки и искусство грима фланкируют ряд изобразительных искусств с одного его края, то с другого края в таком положении находится в наше время не только графика, но и новый вид искусства — художественная фотография. Ее близость к графике и живописи состоит в том, что и фотоискусство создает изображение мира на плоскости, в условном черно-белом либо многоцветном его воспроизведении. Фотоискусство как бы дублирует поэтому возможности графики и живописи, отличаясь, однако, от этих последних не только техническими средствами, но и порожденным ими иным — прямо противоположным — соотношением отражения и преображения изображаемой реальности: художественная фотография является всегда документально-художественной, тогда как в графике и живописи даже прямое изображение натуры заключает в себе неустранимый момент ее претворения в соответствии с тем, как художник ее видит, ощущает и понимает (см. об этом 231).
Спектральный ряд видов в разновидностей изобразительного искусства выглядит, следовательно, таким образом:
329 Табл. 37

Два момента в этой таблице нуждаются в комментарии. Во-первых, в ней не отмечены (и не будут отмечаться в следующих аналогичных таблицах) отрасли каждого вида и каждой разновидности искусства, определяемые своеобразием применяемого материала (т. е. деревянная скульптура, каменная, металлическая и т. д., или рисунок карандашный, перовой, пастельный и т. п.). Перечисление всех этих отраслей было бы трудным, да и ненужным, видимо, делом; во всяком случае, проблема эта принадлежит уже не к сфере компетенции эстетики, а к проблематике теории каждого данного вида искусства.
Во-вторых, существует известное расхождение между структурой нашей таблицы и реальной художественной практикой: оно состоит в том, что в таблице все виды и разновидности изобразительного творчества равновелики, они занимают в ней одинаковую площадь; между тем в реальной художественной жизни их удельный вес и общественное значение весьма и весьма различны, причем в разные эпохи и в разных пластах культуры они постоянно менялись. В этой связи остается лишь повторить, что в данном разделе нашего исследования, посвященном 330 структурному анализу системы искусств, нам приходится отвлекаться от исторической динамики соотношений разных способов художественного творчества, ибо наша задача — выявить закономерности строения мира искусств, которые раскрыли бы соотношение различных его участков в самом общем и абстрактном плане, в плане принципиальных возможностей художественного освоения человеком действительности.
2. ВИДЫ АКТЕРСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Вступая в область актерского творчества, мы сразу же сталкиваемся с тем, что тут нет того изобилия материальных средств и техник, которое свойственно искусствам изобразительным. Оно и неудивительно, так как объективные материальные возможности создания пространственно-временны́х образных структур значительно более ограничены, чем возможности овеществления творчества в статичных материалах. Динамизм изображения требует ведь обращения к таким средствам, которые сами по себе динамичны, а их предоставляет искусству прежде всего сам человек. Однако ближайшее рассмотрение показывает, что возможны и иные способы создания пластико-динамического изображения, рождающие многообразие видов и разновидностей актерского искусства.
Нам пришлось только что, говоря о месте игрушки в спектральном ряду искусств, упомянуть о ее непосредственном соседе в классе пространственно-временны́х искусств — о театре кукол, в котором актер работает с помощью своего рода подвижной игрушки и раскрывается через нее. В силу этого художественный язык актерского искусства существенно модифицируется, вплоть до того, что работа в кукольном театре становится самостоятельной профессией, требующей владения совершенно специфическим и неизвестным обычному актеру мастерством (см. 330). Это служит достаточным основанием для квалификации творчества актера-кукольника как особого рода актерского искусства. Рассмотренные же в целом, театр Петрушки и театр марионеток оказываются синтетическими формами искусства, так как они объединяют художественные усилия скульптуры (не случайно на выставках советских художников систематически экспонируются куклы, созданные скульпторами для кукольных театров), актерского искусства, литературы и музыки.
331 В непосредственном соседстве с творчеством актера-кукольника находится творчество актера в театре теней. Здесь, как и в кукольном театре, сам актер невидим, образ же создается с помощью отбрасываемой на экран тени. О том, сколь интересен и выразителен такой способ изображения, можно судить не только по большому историческому прошлому этого вида искусства в восточном мире (см. 193, 133 – 154, 193 – 194 и др.), но и по великолепному спектаклю Ю. Любимова «Десять дней, которые потрясли мир», где целые мизансцены решены языком театра теней, и по ряду аналогичных экспериментов, произведенных в последние годы в нашей театральной жизни.
Но мало того. Художественная практика показывает, что возможен и такой способ актерского представления, где непосредственным носителем действия оказывается и не кукла, и не тень актера, а обыкновенная вещь. Сергей Образцов привел однажды любопытный пример, рассказав о виденной им в Париже пантомиме Ива Жоли: выступали здесь… зонтики. «Настоящие зонтики. Мужской и дамский. Зонтики гуляли. Потом целовались. Потом в самый пикантный момент их застиг отец героини, то есть второй мужской зонтик; Но было уже поздно. В конце номера появился зонтик детский»139*. Сам Образцов разыгрывает выразительнейшие сценки, пользуясь простыми деревянными шариками, которые укрепляются на пальцах и «играют» как полноценные актеры.
Но если инобытием живого актера может быть деревянный шарик, то почему им не может быть другое живое существо? Оказывается, и такая возможность реализуется художественным творчеством — с помощью дрессировки животных. Следует лишь четко различать те случаи, когда на цирковой арене дрессировка демонстрирует собственные технические возможности, выступая как своего рода зоопсихологический эксперимент по теме «образование условных рефлексов», который превращен в публичное зрелище, и те случаи, когда дрессировка служит созданию художественно-сценических постановок — юмористических или сатирических скетчей, интермедий, инсценированных басен, где животные «работают» как актеры. В свое время поводырь с медведем, разыгрывавший подобные сценки, был популярной фигурой в народном творчестве, в ярмарочных балаганах, а в современном цирке ярчайшие примеры такого перерастания дрессировки в особый вид актерского искусства 332 представляет творчество династии Дуровых, в первую очередь — Анатолия Дурова (т. к. Владимир отдавал предпочтение научному, а не художественному аспекту работы с животными — см. об этом: 250, 324 – 328; 208, 142 – 143, 157 сл., 167 – 169. Ср. также статью самого В: Дурова «Клоунада с животными» — 227). В подобных «пантомимах животных» художественно-творческий акт осуществляет, разумеется, не медведь и не слон, а дрессировщик, который выступает и как своеобразный драматург, и как режиссер-постановщик разыгрываемого зверями спектакля, но претворяют его замыслы животные-«актеры» — столь же послушные орудия его творчества, как марионетки в кукольном театре.
Сделаем еще шаг по спектральному ряду форм актерского творчества, и мы увидим, как на сцену выходит сам актер, оказываясь уже самоличным исполнителем художественного произведения. Однако и тут возможны разные виды творчества. Первый, непосредственно примыкающий к «пантомиме животных» и «пантомиме вещей», — иллюзионистическое представление. Живущий рядом с ними в цирке и на эстраде, этот вид актерского творчества широко использует не только человеческий материал, но и животных и всевозможные вещи, с которыми фокусник-иллюзионист совершает чудесные превращения. Но главным героем остается всегда он сам — маг, волшебник, чародей, способный легко и непринужденно делать невозможное и невероятное. Является ли это искусством? Не имеем ли мы здесь дело с демонстрацией простых технических кунштюков? Ответим так же, как при анализе дрессировки: работа иллюзиониста может быть — и подчас бывает — внехудожественным показом техники данной формы деятельности, но она может быть — и часто становится — особым по языку актерским пантомимическим монологом, в котором создается фантастический образ кудесника, волшебника, чародея140*.
Наконец, еще один вид актерского творчества — самый значительный — мы назовем драматической пантомимой, имея в виду те формы изображения человеком человека (или животного — вспомним «Синюю птицу» Метерлинка), в которых актер 333 работает собственными пластико-динамическими средствами. (Напомним, что пантомимой в собственном смысле слова является синтетическая, актерско-хореографическая форма творчества). Станиславский называл это «физическими действиями» актера, в отличие от его словесного действия. В современном театре и кино этот вид актерского творчества используется обычно лишь фрагментарно-эпизодически, что не отменяет, однако, его самостоятельного положения в системе искусств. Это явствует не только из чисто теоретических соображений, но и из наличия, с одной стороны, целого этапа истории творчества актера, связанного с немым кинематографом, а с другой — таких своеобразных, но замечательных в художественном отношении звуковых фильмов, как «Голый остров» К. Синдо или «Мольба» Г. Абуладзе. Что же касается того вида актерского творчества, который занимает в искусстве нашего времени господствующие позиции, то он имеет уже синтетический характер, соединяя язык «физических действий» с языком художественного слова. И тем самым творчество актера смыкается с соседней областью художественного творчества — с искусством слова.
Впрочем, для того, чтобы творчество актера соединилось воедино со словесным творчеством, необходимыми оказываются не только драматургия, дающая актеру текст его роли, но и еще один специфический участник сценического синтеза — режиссер.
Искусство режиссуры — истинный посредник между литературой и лицедейством. Оно становится необходимым тогда, когда: а) творчество актеров перестает быть импровизационным, обретая прочную, фиксированную литературно-драматургическую основу; б) этот драматургический план действия рассчитан на взаимодействие нескольких актеров, а также на включение изобразительного, музыкального и иных компонентов спектакля. Соответственно режиссер становится интерпретатором драматургии и координатором творческих усилий всех участников создаваемого представления (или фильма) — актеров, художника, композитора и т. д. А эти функции требуют специфической одаренности и специфического мастерства: с одной стороны, режиссер, подобно писателю, творит в воображении, оказываясь прямым преемником и как бы соавтором драматурга; но с другой стороны, образы, складывающиеся в режиссерском воображении, подобны по своей форме образам, творимым актерами, и только поэтому могут быть сообщены актерам — отчасти рассказаны, а отчасти показаны — и адекватно ими разыграны. Таким образом, будучи «соавтором» драматурга, режиссер является вместе с тем «первым актером», который играет, хотя и в воображении, 334 но за всю труппу. Это и позволяет рассматривать искусство режиссера как особый вид актерского творчества, стоящий, однако, в непосредственной близости к творчеству словесному141*.
Спектральный ряд видов актерского искусства выглядит, следовательно, таким образом:
Табл. 38
3. ВИДЫ И РАЗНОВИДНОСТИ СЛОВЕСНОГО ТВОРЧЕСТВА
Переходя к морфологическому анализу искусства слова, следует с самого начала опровергнуть возможное предположение, что здесь имеется в виду всего лишь художественная литература. «Искусство слова» — понятие, охватывающее более широкий круг художественных явлений, чем термин «литература», ибо согласно буквальному смыслу данного понятия оно обозначает все формы художественного творчества, которые реализуются в слове. Каковы же они, эти виды словесного искусства?
Ими являются, прежде всего, устная литература и письменная литература.
С первого взгляда различия между письменной и устной литературой могут показаться столь несущественными, что возникает сомнение в правомерности их определения как видов словесного искусства. Однако более пристальное рассмотрение показывает, что различия эти весьма глубоки и не оцениваются нами обычно должным образом — потому, очевидно, что на протяжении нескольких сотен лет устная литература почти целиком 335 оттеснена в культурном обиходе литературой письменной. Искусство живого слова — как можно иначе назвать устную литературу — сформировалось в процессе разложения исходного синкретизма «мусического» творчества. Хотя пора расцвета этого вида искусства давно уже прошла, при классификации форм художественного творчества мы обязаны учитывать его наличие и выявить его особенности. И тогда окажется, что отличия устной литературы от письменной весьма серьезны; они затрагивают и процесс литературного творчества, и структуру создаваемых художественных творений, и характер их эстетического восприятия, и их коммуникативную роль в культурной жизни человечества142*. Остановимся же кратко на всех аспектах проблемы.
1. В сфере устной литературы художественное сочинение неотделимо от художественного исполнения, тогда как письменная литература разрывает это исходное исторически единство «первичного» и «вторичного» творчества, что приводит к появлению двух новых типов художников слова: один из них получил точное наименование писателя, другой — чтеца. Впрочем, искусство чтеца не является необходимым в этой новой историко-художественной ситуации, ибо писатель обрел возможность прямого — хотя и не непосредственного — общения с аудиторией (которая превратилась из слушателей его произведений в их читателей). Мы увидим вскоре, какие это имело художественные последствия, а пока определим, чем отличается творчество писателя от творчества его предшественника в области словесного искусства.
Дело в том, что творчество этого последнего неизбежно имело импровизационный или полуимпровизационный характер. Не закрепляемые вещественно, поэтические сочинения не отчуждались от творящей личности, не приобретали независимого от нее, самостоятельного объективного существования, подобного тому, какое изначально имели, например, произведения живописца, скульптора, архитектора. В этом отношении творчество древнего или фольклорного «литератора» было подобно творчеству актерскому в докинематографический период его истории, которое необходимо включает в себя импровизационную вариативность даже тогда, когда оно воплощает данные ему извне и не подлежащие изменениям драматургический текст и его режиссерскую интерпретацию. Но тем шире и свободнее должно было проявляться это импровизационное начало в устном литературном 336 творчестве, в котором исполнитель и сочинитель оказывались одним лицом и которое было поэтому в гораздо меньшей степени связано внешними для него моделями, заранее заданными и не допускающими вольного с ними обращения. Что же касается творчества писателя, то, отделившись от творчества исполнительского, оно, во-первых, перестало быть многократно повторяющим один и тот же созидательный акт — этот акт стал уникальным, единственным и неповторимым; во-вторых, оно лишилось импровизационной свободы, но за этот счет обрело новое важное эстетическое качество — высочайшую меру конструктивного мастерства: благодаря тому, что рождающееся произведение живет уже не только в воображении сочинителя, но объективируется в виде знаковой записи, каждая ее часть может обрабатываться и перерабатываться сколь угодно долго и многократно, ради ее идеальной «выделки» и ее полнейшей согласованности с другими частями и с художественным целым. Таким образом, и элементы, и структура творческого процесса в письменной и в устной литературе оказываются принципиально различными; перед нами два разных типа творческой одаренности, два разных типа мастерства, два разных типа соотношения вдохновения и труда, две разные системы знаков, в которых закрепляется творческий процесс. Естественно, что все это не может не породить существеннейших различий и в самих его художественных результатах — в произведениях устной и письменной литературы.
2. Эти различия выражаются главным образом в том, что звучащее слово как материал устного литературного творчества есть, так сказать, «первичный знак» выражаемого им интеллектуально-эмоционального содержания, а слово написанное есть уже «вторичный знак» или «знак знака» («тень тени», как мог бы сказать Платон); тем самым письменное слово отстоит от обозначаемого им духовного содержания значительно дальше, чем слово звучащее. Вот почему в устной литературе слово несет в себе неизмеримо больше эмоциональной информации, чем в литературе письменной — ведь звучание позволяет словесным образам воплощать и передавать чувства, переживания и настроения человека непосредственно, интонационно, подобно тому, как это делает музыка — не случайна прямая связь устной литературы с музыкой и в первобытном «мусическом» искусстве, и в фольклоре! — утрата же звуковой формы предельно сокращает эмоциональную нагруженность словесных образов. С этой точки зрения становится понятной глубокая органичность для устной литературы поэтической, стихотворной формы, поскольку она обеспечивала оптимальные возможности реализации 337 эмоционально-выразительных способностей словесного творчества, и отсюда же проистекает тот примечательный факт, что письменная литература устремилась, главным образом, в русло прозаических жанров, в которых на первый план художественного содержания выдвигалось начало интеллектуальное, мыслительное. Но и тогда, когда устное словесное творчество обращалось к прозе, а письменное — к поэзии, различия между этими видами словесного искусства продолжали давать о себе знать — в этом легко убедиться, поразмыслив над тем, почему далеко не все литературные произведения, написанные в стихотворной форме, с равным успехом поддаются исполнению чтецами на эстраде, и почему, с другой стороны, многие великолепные устные рассказы — например, Ираклия Андроникова — сильно увядают при их опубликовании, утрачивая некоторые грани своего художественного содержания. Ибо поэзия тем естественнее допускает — мало того, требует! — быть озвученной, чем она поэтичнее по самому своему существу, т. е. чем она более эмоционально насыщенна, более лирична, более музыкальна143*, и, напротив, она тем труднее для чтения вслух и ее восприятие тем адекватнее при чтении глазами, чем она более интеллектуальна, чем больше рассчитана на активность воображения, а не непосредственного переживания. Стихи Пастернака, несомненно, труднее для слухового восприятия, чем, скажем, стихи Ахматовой, и поэзия Рильке, в отличие от поэзии Хикмета, обращена преимущественно к чтению глазами. Точно так же прозаическое слово доступнее озвучиванию, когда оно более лирично, когда оно не столько повествует о каких-то явлениях и событиях, сколько передает их восприятие рассказчиком — главным лирическим героем такого рода произведений. Поскольку лирический род литературы и имеет в своей основе «самовыражение» автора — его исповедь, рассказ о виденном и пережитом, воспоминания, внутренний монолог и т. д. и т. п., — постольку мастер звучащего слова получает прямую возможность решить главную свою художественную задачу — создать образ рассказчика, заговорить «от имени» лирического героя произведения (который, конечно же, не обязательно должен быть alter ego самого автора); поскольку же литературное повествование эпического рода в той или иной степени устраняет «рассказчика» 338 из образной ткани произведения и стремится к чистой объективности изображения, постольку этот специфический для письменной литературы изобразительный принцип оказывается трудно преодолимым препятствием на пути к исполнению подобных произведений чтецами.
Все сказанное позволяет нам полностью согласиться с В. Гусевым: «… устность сама по себе является иной формой эстетического бытия слова» (205, 91). Добавим лишь, что это относится не только к фольклору.
3. Ярчайшим образом различие устной и письменной литературы сказывается в их воздействии на человека. Эта проблема была поставлена уже Гердером и рассмотрена со свойственной ему диалектической тонкостью. «… Книгопечатание, — писал он, — принесло много хорошего; но оно нанесло немалый ущерб поэтическому творчеству, его непосредственному воздействию. Некогда стихи звучали в кругу живых людей, под звуки арфы, оживляемые голосом, душой и сердцем певца или поэта; теперь они оказались красиво напечатанными черным по белому… Как много выиграла поэзия в качестве искусства и как много утратила она в своем непосредственном воздействии!» (56, 194 – 195).
И действительно, то обстоятельство, что произведения устной литературы обращены к слуху, а произведения письменной литературы — к зрению и через него к воображению читателя, затрагивает, важные психологические механизмы человеческого сознания вообще и эстетического сознания в частности. Ибо зрительное и слуховое восприятия, при всей их близости, взаимосвязанности и в известных пределах взаимозаменяемости, отнюдь не адекватны по своим информационным возможностям и по связи с воображением человека, с его эмоциями и с его мышлением. Дело тут не только в том, что озвученный текст воспринимается более эмоционально, а читаемый — более рационально, но и в том, что в первом случае мы получаем уже готовую интонационно-образную интерпретацию данного текста, которую нам остается либо принять и пережить, эмоционально освоить, либо отвергнуть и возмутиться, а во втором случае мы вырабатываем эту интерпретацию самостоятельно, творчески преломляя текст в соответствии со всем богатством и неповторимостью своего духовного мира, своего жизненного опыта, своей художественной культуры.
И есть тут еще одно весьма существенное отличие. Оно состоит в том, что, как правило, восприятие устной литературы является коллективным — во всяком случае, оно всегда может быть коллективным (например, сказка, рассказываемая бабушкой 339 внуку, может быть прослушана одновременно и его приятелями; стихи, транслируемые по радио, могут слушаться не одним человеком, а всей семьей или толпой на площади в праздничный день) и заключает в себе даже известный психологически-эстетический импульс к коллективности (так, слушая сказку, рассказ друга или радиоконцерт, мы обычно стремимся привлечь к этому процессу своих родных или друзей и тем самым превратить индивидуальное восприятие в коллективное). Что же касается восприятия письменной литературы, то оно не может быть коллективным, и дело тут не в том, что физически трудно группе людей читать совместно одну книгу, а в том, что это оказывается психологически трудным. Чтение повести, романа, поэмы дозволяет в любом месте останавливаться для размышлений, возвращаться к уже прочитанному и даже забегать вперед и т. д. и т. п.; вместе с тем процесс чтения требует повышенной и индивидуально-своеобразной активности воображения; все это заставляет читателя уединяться, обособляться от других, а не искать с ними психологического контакта в самом ходе восприятия художественного произведения. Такой контакт будет искаться лишь post factum, после завершения акта восприятия, тогда как при слушании того же произведения контакт этот если не необходим, то возможен и даже желателен именно в процессе художественного восприятия, которое уже будет не столько отличаться у каждого слушателя своеобразием индивидуальной творческой интерпретации, сколько сближаться, объединяться той интерпретацией, которую предлагает исполнитель и которую он эмоционально навязывает всем своим слушателям, внушает им. (Совершенно несостоятельно поэтому довольно широко распространенное — даже в кругу самих актеров-чтецов — представление, будто читать со сцены или по радио можно любое литературное произведение и что всякое литературное произведение выигрывает, когда предстает в хорошем чтецком исполнении. В действительности же только анализ самого текста способен показать, на что ориентировано данное произведение — на озвучивание и одновременное восприятие массой людей или на сосредоточенное чтение каждым в отдельности).
Таким образом, восприятие письменной литературы — гораздо более интимный психологический процесс, чем восприятие литературы устной, и объясняется это тем, что письменная литература в несравненно большей степени, чем литература устная, обращена к человеку как к личности и требует от него включения в восприятие всех его личностных качеств, а не тех только сторон его сознания, которые делают его частью некоего социального коллектива. Поэтому развитие письменной литературы 340 и вытеснение ею литературы устной связано не только и не просто с такими внешними обстоятельствами, как изобретение письменности, затем книгопечатания, распространение грамотности, а еще и с таким глубинным социальным процессом, как формирование и развитие во все более широком круге потребителей литературно-художественных ценностей качеств личности.
4. Уже отсюда явствует, что различие между этими двумя видами словесного искусства в конечном счете выражается и в их роли как орудий социальной коммуникации. Устная литература является более действенным средством объединения людей, их сплочения единством настроения, душевного состояния, направленности чувства и мысли, средством преодоления разобщенности, индивидуальной замкнутости духовного мира каждой личности. Однако эта сила коммуникативных способностей устной литературы диалектически сопряжена с ее слабостью в другом отношении — в отношении радиуса действия ее коммуникативной энергии. Ибо очевидно, что звучащее слово может воздействовать лишь на ограниченный коллектив слушателей, способных собраться в данное время в данном месте. Исключительно велико значение радиотрансляционных средств, позволяющих собирать аудиторию независимо от реального пространственного местоположения каждого слушателя. Впрочем, и возможности радиослова нельзя тут признать безграничными, т. к. его восприятие связано с таким хотя бы непременным условием, как понимание языка, на котором ведется передача.
Письменная литература, не способная отвлечь в людях общее от индивидуального и сплотить их этой духовной общностью с такой силой, как это делает литература устная, «искупает» это не только тем, что активизирует в человеке личностное начало, но прежде всего, пожалуй, тем, что преодолевает границы узкой сферы действия звучащего слова и выходит, так сказать, на оперативный простор, не знающий каких-либо границ, — ведь если разноязычие во времена национальной замкнутости литературно-художественного развития еще ставило перед ней известные границы, то в дальнейшем широкое применение перевода сделало каждое произведение письменной литературы в точном смысле этого слова общечеловеческим достоянием.
Думается, сказанного достаточно для того, чтобы доказать полное право выделения устной и письменной литературы как двух самостоятельных видов словесного искусства. Более того, мы вправе сейчас добавить к ним и третий его вид — искусство чтеца.
341 Его принято рассматривать как разновидность актерского искусства. Не подлежит сомнению, что в некоторых отношениях чтец близок актеру и должен владеть рядом приемов актерского мастерства. И все же связь этих двух форм художественной деятельности есть именно и только близость, родство, соседство — не случайно и в нашем спектральном ряду искусств искусство чтеца окажется непосредственно примыкающим к области актерского творчества. Однако это последнее, взятое в чистом виде, является, как мы уже подчеркивали, мимическим, а соединение физического и словесного действия, характерное для актера драматического театра или звукового кино, есть синтетическая форма творчества, как бы сливающая воедино пантомиму с искусством звучащего слова. Весьма условно поэтому определение искусства чтеца как «театра одного актера». Таковым оно становится лишь в одной из своих крайних форм, представленной в прошлом творчеством К. Горбунова, а в наше время возрождаемой В. Рецептером; у самого же В. Яхонтова, хоть он и называл так свое искусство, элементы собственно театральные никогда не становились равноценными по сравнению со звучащим словом, оставаясь аксессуарами, приспособлениями частного — и в принципе необязательного — значения.
Гораздо более справедливо именуют чтецкое искусство «искусством звучащего слова» — так называются периодически выходящие сборники посвященных ему статей (225), так назвал свою книгу Я. Смоленский (304), ибо оно действительно принадлежит по сути своей к сфере словесного, а не актерского144* искусства — только «вторичного», репродукционного, исполнительского (так же как музыкальное исполнительство есть вид музыкального творчества, а не какого-либо иного). Как и письменная литература, чтецкое искусство есть плод распада устной литературы; оно возможно и необходимо только потому, что литература превратилась из устной в письменную.
Таковы три вида искусства слова. Что же касается разновидностей этих видов, то здесь прежде всего следует указать на две разновидности письменной литературы: первая — искусство словесного сочинения — не требует дополнительной характеристики, ибо все сказанное выше о письменной литературе относится в первую очередь именно к ней; вторая — искусство художественного перевода — должна стать предметом специального рассмотрения.
342 В последние годы в нашем литературоведении появился ряд глубоких исследований, посвященных проблемам теории перевода (331; 336; 268). Это избавляет нас от необходимости подробного анализа данной разновидности словесного искусства и позволяет высказать лишь некоторые, наиболее существенные в морфологическом отношении (а потому остающиеся в тени у специалистов-литературоведов) соображения.
Искусство перевода — не только своеобразная, но, в сущности, уникальная форма «вторичного» художественного творчества. Все остальные его формы являются модификациями исполнительского искусства: это творчество режиссера и актера, дирижера и музыканта, танцора и чтеца. Искусство перевода сближается с ними благодаря тому, что и оно репродуцирует существующее художественное произведение, а не создает нечто абсолютно оригинальное в свободном творческом устремлении художника. Во всех же остальных отношениях искусство перевода решительно непохоже на исполнительские искусства. Его своеобразие объясняется тем, что в литературе степень независимости знака от значения неизмеримо большая, чем во всех других искусствах. Условный характер языкового кода позволяет существовать разным национальным языкам, т. е. разным средствам выражения одной и той же информации. Однако художественно-образное использование словесных знаков лишает их той абсолютной независимости от обозначаемого ими содержания, которая свойственна языку науки и всех других сфер словесной коммуникации, причем проявляется это в искусстве слова неравномерно — в поэзии более последовательно, чем в прозе, в устной литературе — более последовательно, чем в письменной. Оно и понятно — чем большую роль играет внешняя, фонетическая форма слова, непосредственно связанная с его музыкальностью, а также особенно активная в поэзии «внутренняя форма» слова, тем теснее связь словесных образных конструкций с несомым ими художественным содержанием. Вот почему проза гораздо легче поддается переводу, нежели поэзия, хотя и в переводе прозаического художественного текста невозможна та адекватность, которая доступна перекодированию на другой язык научно-теоретического текста.
Эта диалектика переводимости и непереводимости художественной литературы с одного национального языка на другой и объясняет, почему, с одной стороны, поэтические и тем более прозаические произведения словесного искусства могут репродуцироваться в чужеродных оригиналу системах словесных знаков, и почему, с другой стороны, такое репродуцирование само становится особой разновидностью художественно-творческой 343 деятельности — искусством перевода. Ибо если перевод нехудожественного текста требует от переводчика только совершенного знания обоих языков и специфической для данного текста терминологии, то перевод художественных произведений может оказаться близким к подлиннику лишь в том случае, если переводчик способен создавать из материала одного языка образные конструкции, которые были бы предельно близки, по своему художественному содержанию к совершенно иным по своей форме словесным конструкциям другого языка. А такая способность есть не что иное, как разновидность художественного дарования, творческого таланта — об этом свидетельствуют не одни теоретические дедукции, но прежде всего реальный опыт истории поэзии, в которой подлинными мастерами перевода были именно и только настоящие поэты — в России, например, от Жуковского и Пушкина до Пастернака и Маршака. Вместе с тем дарование переводчика обладает, по-видимому, такими особенными чертами, что далеко не всякий большой поэт испытывает склонность и проявляет способность к этому виду творчества — назовем хотя бы имена Некрасова, Блока или Маяковского.
Таким образом, искусство перевода выступает как самостоятельная разновидность письменной художественной литературы. Именно — письменной, так как устная литература, в силу ее вещественной незакрепленности, делает невозможным полноценный художественный перевод.
Что касается деления устной литературы на разновидности, то оно связано с основными историческими формами ее бытия:
1) поэтическим компонентом древнего «мусического» искусства; 2) фольклорной поэзией; 3) широко распространенным в городской культуре и вплетенным в житейскую повседневность бытовым самодеятельным искусством рассказа, охватывающим широкий круг жанров (от анекдота до своего рода новеллы); 4) этим же искусством, только подымающимся на сценические подмостки (напомним хотя бы имена Ираклия Андроникова или Елизаветы Ауэрбах) и теряющим анонимно-вариационный характер. Таким образом, принципиальное значение для выделения самостоятельных разновидностей устного литературного творчества имеет его эмансипация от связи с другими компонентами первобытного «мусического» и фольклорного комплексов. Чисто словесным оно становится лишь в двух последних случаях, один из которых непосредственно примыкает к искусству чтеца, а другой — к литературному «сочинительству».
В искусстве чтеца трудно выделить сколько-нибудь определенные разновидности, если анализировать его в той же плоскости, что устную и письменную литературу. Есть однако, другая 344 существенная плоскость морфологического анализа, которая раскрывает способность всех трех видов словесного искусства к самоудвоению в «прикладных» формах творчества.
Так, в устной литературе выделенным нами чисто художественным явлениям противостоит красноречие или ораторское искусство. Напомним, что в эстетике XVIII и начала XIX в. выделение красноречия рядом с поэзией как двух видов «изящных наук» или «словесных искусств» было общепринятым, и лишь в дальнейшем эстетика стала его игнорировать и ставить знак равенства между «искусством слова» и «художественной литературой». Считая необходимым исправить эту несправедливость, мы возвращаем красноречию место, по праву ему принадлежащее в системе искусств и не зависящее от тех метаморфоз, которые ему пришлось претерпеть в истории культуры и о которых уже было сказано во второй (и еще будет сказано в четвертой) части нашего исследования145*.
Письменной литературе как виду чисто художественной словесности соответствует такой вид литературы, как художественная публицистика. По сути дела художественная публицистика пришла на смену ораторскому искусству — в той мере, в какой письменная словесность вытесняла и заменяла устно-речевые формы общения. Поскольку же другим наследником устной литературы стало искусство чтеца, и оно должно было, как-то «отреагировать» на этот процесс, т. к. художественная публицистика не могла быть полноценной заменой ораторского искусства. До известного времени чтецкому искусству трудно было оказать тут помощь художественной публицистике — для этого не было необходимых технических средств. Когда же возникли и глубоко 345 вросли в быт такие новые средства массовой коммуникации, как радио и телевидение, средства эти появились; в результате родилась новая своеобразная профессия — профессия диктора, которую мы вправе рассматривать как «прикладную» форму чтецкого искусства (достаточно назвать имя Юрия Левитана, чтобы стало ясно, в какой мере здесь можно действительно говорить об искусстве). Своеобразие искусства диктора заключается в том, что, в отличие от искусства чтеца, оно воспроизводит нехудожественные тексты и приобретает, таким образом, бифункциональный характер; от ораторского же искусства — тоже бифункционального — искусство диктора отличается тем, что воспроизводит текст, пришедший извне, а не создаваемый самим исполнителем; тем самым оно, подобно искусству чтеца, оказывается формой исполнительского творчества.
Таким образом, семейство словесных искусств, в отличие от своих соседей (искусств изобразительных и актерских), обладает внутренним двухъярусным строением — так велик в нем удельный вес «прикладных» форм творчества. Эта его особенность легко объяснима: слово играет бесконечно более важную роль в сфере коммуникаций, нежели пластическое изображение и жест; поэтому оно используется в утилитарных художественных целях так широко, что порождает определенные устойчивые структуры — виды прикладного словесного искусства.
В целом спектр видов и разновидностей словесного искусства выглядит, следовательно, так:
Табл. 39

346 4. ВИДЫ И РАЗНОВИДНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
В сфере музыкального творчества мы сталкиваемся с таким обилием средств материализации, которое намного превосходит возможности словесного искусства и которое сопоставимо лишь с картиной, обнаруженной нами в искусствах изобразительных. Оно и естественно — ведь музыка имеет дело не только с материалом, непосредственно данным самому человеку (со звучанием его голоса), но и с разнообразными тембрами, извлекаемыми искусственно при помощи определенных операций с природными веществами и техническими приспособлениями. Соответственно в музыкальном творчестве каждый инструмент (труба, валторна, скрипка, контрабас и т. п., в том числе и человеческий голос во всех его тембровых модификациях), каждая группа инструментов (духовые, струнные, ударные и т. п., в том числе и человеческие голоса), каждый способ звукоизвлечения (ручной, губной, гортанный, электрический), наконец, каждый способ использования звука (сольный, ансамблевый, оркестровый) образуют более или менее широкую и относительно самостоятельную отрасль или разновидность музыки как искусства. На этой основе теоретики музыки обычно и решают классификационные задачи, выделяя музыку вокальную и инструментальную, а эту последнюю подразделяя по способу звукоизвлечения на музыку ударных инструментов, струнных, духовых, клавишных и т. д.146* Признавая основательность такого классификационного принципа, мы считаем его, однако, вторичным, а не основополагающим, т. е. непригодным для выделения видов музыкального творчества (точно так же, как различие между деревянной и каменной скульптурой или между акварельным и пастельным рисунком не делает их видами изобразительного искусства).
Исходным и наиболее существенным морфологическим членением музыки следует признать такое, которое аналогично основному членению словесного искусства. Ибо хотя музыка есть искусство звука, ее художественное бытие бывает не только звучащим, но и безмолвным, т. е. графически обозначенным. Всякая нотная запись предназначена, конечно, для звукового исполнения, но, взятая сама по себе, она есть фиксация произведения музыкального искусства, которое мы способны оценить 347 вне его исполнения, до исполнения и независимо от качества исполнения. С другой стороны, музыка может возникать и в самом процессе ее сочинения, т. е. быть импровизационной или полуимпровизационной, а может быть результатом исполнения уже созданных произведений. Таким образом, три вида музыкального искусства: композиторское творчество (существовавшее до последнего времени как «письменная музыка»147*), музыкально-импровизационное творчество и музыкальное исполнительство.
Обнаружившаяся здесь аналогия с видовым членением словесного искусства совсем не случайна, так как в обоих случаях мы имеем дело со звуковыми знаковыми системами, которые допустимо перекодировать с помощью графической системы знаков. Вполне естественно, что при этом в музыке, как и в литературе, происходит радикальное изменение структуры самого творчества — выделение «первичного» композиторского творчества, отделившегося от исполнения и оперирующего письменно фиксируемыми нотными знаками, и чисто исполнительского, «вторичного» творчества, которое лишь интерпретирует избранный для воспроизведения оригинал, озвучивая его.
Правда, нельзя не видеть здесь и существенных отличий музыки от искусства слова. Они выражаются, во-первых, в том, что «письменная музыка» не способна достичь той степени самоценности, какая оказалась доступной письменной литературе, — ибо музыкальное звучание, переведенное из акустической сферы в сферу зрительно воспринимаемой графики, становится в значительной мере обескровленным. Если нотная запись все же может быть прочитана эстетически, то лишь постольку, поскольку она озвучивается воображением, «мысленным слухом» музыкально образованного читателя, у которого сформировались четкие и прочные ассоциативные связи между нотным обозначением звуков и их реальным звучанием. Однако даже музыканту-профессионалу чтение клавира или партитуры не может заменить слушания музыки, и даже если в далеком будущем всех людей с детства будут обучать чтению нотописи столь же широко и последовательно, как сейчас их обучают чтению книг, и тогда «письменная музыка» не станет в один ряд с письменной литературой — именно потому, что слово есть чисто условный носитель поэтической информации, тогда как звуковая интонация является ее прямым, непосредственным, безусловным выражением. Эти особенности «письменной музыки» не опровергают, конечно, ее морфологического статуса в ряду музыкальных 348 искусств, а лишь позволяют уточнить ее роль в художественной культуре, более скромную, чем роль письменной литературы. С другой стороны, значение импровизационного творчества в сфере музыкальной культуры неизмеримо более велико, чем значение устной литературы в сфере словесного творчества — оно больше именно в той мере, в какой эстетическая необходимость озвучивания музыкального произведения превосходит эстетическую допустимость озвучивания произведения литературного.
Музыкально-импровизационное творчество как вид музыкального искусства охватывает ряд исторических форм: 1) музыкальный компонент синкретического «мусического» искусства древности; 2) народную музыку как относительно самостоятельную отрасль фольклора; 3) широко распространенную в городской культуре форму бытового и самодеятельного музицирования (скажем, творчество «современных бардов и менестрелей», как их часто называют с неоправданным ироническим высокомерием, или хоровое пение на вечеринках, в туристских походах и прочих ситуациях бытового общения); 4) один из типов концертной джазовой музыки, широко использующий импровизационное варьирование исполняемых произведений.
Музыкальное исполнительство, явившись «продуктом распада» исходного «мусического» фольклорного синкретизма сочинения и исполнения, развилось в самостоятельный вид искусства именно постольку, поскольку оно стало существенно отличаться от «материнского» творчества — отличаться, во-первых, специфической природой одаренности музыканта и особым типом глубоко специализированного мастерства (певца, или пианиста, или скрипача, или дирижера и т. д. и т. п.), во-вторых, двуслойной своей структурой, проистекающей из того, что исполнение сочиненного композитором произведения является той или иной его интерпретацией и тем самым обогащает творение композитора новым «слоем» содержания, рождающимся в акте исполнительского сотворчества; соответственно и восприятие исполнительского искусства ориентировано на мысленное «расслоение» произведения слушателем с целью сопоставления основных его «слоев» — принадлежащего композитору и принадлежащего исполнителю (или исполнителям).
Если формы бытия «музыки устной традиции» похожи на формы бытия устной литературы, то внутренняя дифференциация двух других видов музыкального творчества не может не быть глубоко специфической, ибо тут сказывается материальная и художественная специфика словесных и музыкальных искусств. Так, искусство перевода, являющееся самостоятельной разновидностью 349 письменной литературы, невозможно в «письменной музыке», язык которой, при всей его национальной окрашенности, имеет общечеловеческую доступность и не допускает какого-либо перевода; вместе с тем ни художественная публицистика, ни ораторское искусство, ни искусство диктора не имеют музыкальных аналогов, ибо за пределами музыки ее язык не используется в качестве самостоятельного орудия культуры, и потому «прикладная» музыка — военная, спортивная, культовая — остается на уровне жанров, а не самостоятельных видов музыкального творчества. С другой стороны, особенность последнего состоит в том, что, в отличие от словесных искусств, материал которых единообразен, оно охватывает, как уже было отмечено, широкий диапазон разнообразных материальных средств — от мелодического звучания поющего человеческого голоса до ритмической дроби ударных инструментов. Определенные типы звучаний: — в пении, в игре на духовых инструментах, ударных, струнных, электрических — обладают специфическими акустическими и эстетическими свойствами, а значит, и особой структурой художественно-образной ткани. Это и позволяет выделять их в качестве самостоятельных разновидностей музыкального исполнительства. Для композиторского же творчества все эти различия не имеют принципиального значения, так как и в процессе сочинения записываемой музыки, и при воспроизведении в воображении читаемой нотной записи все типы звучаний в принципе равны (хороший скрипач не может быть одновременно хорошим певцом, пианистом, гитаристом, фаготистом и ударником, композитор же с одинаковым успехом «владеет» всеми этими инструментами). Отсюда следует, что «письменная музыка» не имеет внутренних подразделений, связанных с многообразием музыкальных звучаний, а музыкальное исполнительство и отчасти «музыка устной традиции» членятся именно, в этой плоскости. Различие же внутренней дифференциации в этих видах музыкального искусства объясняется тем, что в них по-разному складывается соотношение вокального и инструментального материала.
Музыкально-импровизационное творчество является по преимуществу музыкой вокальной и включает инструментальные звучания чаще всего на правах аккомпанемента. Именно такова была структура древнего «мусического» искусства, такою же оставалась она и в фольклорном творчестве; в бытовом музицировании нашего времени положение остается, в сущности, неизменным — в подавляющем большинстве случаев мы имеем тут дело с песенным творчеством. Даже столь популярные в быту инструменты, как гитара или аккордеон, за редкими исключениями 350 используются в качестве аккомпанирующих пению, а не солирующих, в отличие от исполнительского искусства, где они, наряду с большинством других музыкальных инструментов, функционируют и самостоятельно — сольно или в ансамблево-оркестровых группах. В связи с этим ценность инструментальных звучаний существенно возрастает в исполнительском искусстве, где они становятся равноправными звучанию человеческого голоса, который рассматривается здесь просто как один из инструментов, как природное средство звукоизвлечения. На концертной эстраде певец не имеет приоритета по сравнению с пианистом, виолончелистом или саксофонистом, и эти последние с таким же успехом вступают с ним в ансамблевую связь, как и друг с другом (один из самых ярких примеров — вокально-инструментальная сюита Шостаковича на слова Блока). Соответственно для внутреннего членения исполнительского искусства неправомерно противопоставление вокальной музыки и музыки инструментальной, взятой в целом; такое разделение может иметь смысл лишь применительно к «музыке устной традиции», в исполнительском же искусстве критерий дифференциации оказывается иным.
Исторически выработанные способы звукоизвлечения, которые охватываются музыкальным исполнительством, могут показаться на первый взгляд хаотической совокупностью технических приемов и соответствующих им тембровых красок. Более внимательный анализ показывает, однако, что и здесь существует некая объективная, стихийно сложившаяся закономерность, действие которой превращает исполнительское искусство во внутренне организованный спектральный ряд способов музыкального творчества.
На одном конце этого ряда стоит пение, точнее — музыкальная просодия (так как мы рассматриваем сейчас пение в чисто музыкальном аспекте, отвлекаясь от словесно-поэтической его стороны). Особенности этой разновидности музыкального исполнительства состоят, во-первых, в том, что связь способа звукоизвлечения с выражаемым человеческим содержанием здесь прямая и непосредственная — ведь пение представляет собой естественный язык наших чувств и тесно связано, с одной стороны, с речью (как столь же естественным для общественного человека языком его мыслей)148*, а с другой стороны, с порожденной 351 физиологией человека (как и некоторых животных) способностью выражать эмоциональные движения звуком. Во-вторых, пение характеризуется мелодичностью, проистекающей из свойственной человеческому голосу способности обеспечивать непрерывное течение звука, фиксируя и свободно меняя его высоту и ритмическую структуру. Эта мелодическая распевность и позволила пению с предельной точностью моделировать эмоциональную жизнь человека, которая сама является текучей непрерывностью, переливом одних душевных состояний в Другие.
Если голос человека — этот древнейший музыкальный инструмент — не остался единственным орудием музыкального творчества, то лишь потому, что его тембровые, силовые, высотные и темпоритмические возможности весьма ограничены. История музыкальной культуры показывает, как неустанно и целеустремленно искались способы преодоления этой ограниченности — от простого усиления звучания одинокого голоса с помощью ансамблево-хорового «сложения» многих голосов до микрофонного усиления голоса певца; от унисонной организации коллективного пения к многоголосию и активному сочетанию разных голосовых тембров, мужских и женских; от разработки специальной техники дыхания и специальных приемов владения голосом с целью расширения его высотного диапазона и его темпоритмических возможностей до «чудес», которые позволила творить в этом направлении техника магнитофонной записи. Однако все эти усилия не приводили к радикальному решению задачи. Такое решение могло быть найдено лишь на пути изобретения, усовершенствования и умножения искусственных средств звукоизвлечения, которые должны были не столько расширить, сколько сломать границы, положенные выразительности пения физической природой человеческого голоса. Музыкальные инструменты и позволяли оперировать новыми, неведомыми голосу, тембрами, бесконечно более широким высотным и силовым диапазоном, неизмеримо более богатым ритмическим арсеналом.
Продолжая под этим углом зрения классификацию способов звукоизвлечения, определяющую спектральный ряд разновидностей исполнительского искусства, мы должны выделить после вокальной музыки музыку духовую. Их непосредственное соседство (фиксируемое не только теоретически, но и исторически!) определяется тем, что духовые инструменты являются как бы прямым продолжением человеческого голоса: они приводятся в действие, в сущности, тем же анатомическим аппаратом и сохраняют свойственную поющему голосу структуру распевного и 352 мелодически организуемого звукового потока. Вместе с тем духовые инструменты преобразовывают энергию человеческого выдоха в многообразные и существенно отличные от пения тембры, одновременно значительно увеличивая силу звука и расширяя высотные и ритмические возможности поющего голоса. Все это становится доступным благодаря тому, что уже в данной группе музыкальных инструментов на помощь дыхательному аппарату приходит рука, принимающая все более активное участие в процессе управления звукоизвлечением — от простейших движений пальцев, закрывающих и открывающих отверстия в древней пастушеской дудке, и до сложнейшей техники игры на органе.
Орган, а с ним гармонь, баян, аккордеон представляют особый интерес для нашей спектральной теории, потому что они как бы стоят на границе губного и ручного способов звукоизвлечения, обозначая переходы от одного к другому. Ибо, принадлежа еще к группе духовых инструментов, все они уже совершенно оторвались от присущей первым прямой связи с дыхательным аппаратом и стали ручными — подобно всем струнным и ударным инструментам (игра на органе и на аккордеоне наиболее близка по технике к игре на рояле). Так вступаем мы в новый морфологический раздел музыкально-исполнительского искусства, связанный с чисто ручной техникой звукоизвлечения (участие ног, имеющее тут место в ряде случаев, всегда является лишь подсобным).
Понятно, что извлечение звука при помощи движения пальцев еще дальше отстоит от пения, чем губной способ звукоизвлечения. Поэтому выражение эмоциональных движений происходит здесь еще более опосредованно и отчужденно. Особенно отчетливо это сказалось на первом этапе истории музыкальной культуры, когда рука была способна добывать звучания только ударного типа, полностью лишенные той способности образовывать мелодические структуры, которая имманентна пению и была перенята от него духовыми инструментами. Игра на барабанах, тамтамах, бубнах и прочих ударных инструментах приводила к созданию чисто ритмических музыкальных структур, которые имели исключительно большой удельный вес в первобытной музыкальной культуре и поныне сохраняют его у многих народов Востока и Африки, достигая предельной изощренности в плетении ритмических узоров149*. Однако самая высокая виртуозность 353 и ансамблевое сочетание ряда разнотембровых ударных инструментов не могли все же обеспечить устойчивое и сколько-нибудь широкое самостоятельное существование ударной музыки. Односторонность чисто ритмической организации музыкальной ткани неизбежно вела к тому, что содержательная емкость ударной музыки оказывалась весьма узкой и ее роль сводилась в силу этого к созданию определенного эмоционального фона и ритмической «структурной сетки» для пения и танца, а позднее и для звучания других музыкальных инструментов (в разного рода ансамблях и оркестрах).
Хотя в наше время джаз значительно активизировал роль ударных инструментов, предоставив им подчас даже право эпизодического солирования, их место в музыкальной культуре принципиально не изменилось и измениться не может. Самостоятельное бытие инструментальной музыки требует связи ритмического начала с началом мелодическим и, более того, подчинения первого второму (ср. 261, 35 – 37). Ибо соотношение этих двух главных компонентов музыкальной образности определяется их связью с двумя планами выражаемой ими эмоциональной жизни человека. Один ее план — духовный, обусловленный деятельностью сознания и концентрирующий специфические для человека душевные состояния и процессы; другой план — физиологический, обусловленный биологической жизнедеятельностью организма и сближающий поэтому человека и животных. Ритмическая расчлененность, «пунктирность» и периодичность, свойственные всякому материальному движению и, в частности, биологической жизни (ритм ходьбы, биения сердца, дыхания и т. д.), непосредственно затрагивают и этот «нижний ярус» эмоциональной жизни человека, требуя адекватных средств художественного воплощения — и в музыке, и в танце. Потому-то в обоих этих искусствах именно ритмическая сторона оказывается основным средством выражения физиологической «базы» душевных движений, тогда как мелодическая сторона (по-своему проявляющаяся, как мы увидим, и в танце) несет в себе главным образом духовное содержание эмоций, осознанность чувства, осмысленность переживаний.
354 В высшей степени показательно, что чем активнее выявлена ритмическая основа музыкальной ткани, тем более моторный, двигательный, «танцевальный» резонанс вызывает такая музыка у слушателя — вплоть до отбивания такта ногой, руками, желания «пуститься в пляс» и т. д. И напротив, восприятие мелодической музыки не вызывает никакого моторно-телесного возбуждения, активизируя психические механизмы воображения, сопереживания, раздумья. Вот почему ударные инструменты могли играть такую большую роль на ранних фазах истории музыкальной культуры, и вот почему в дальнейшем они все решительнее отодвигаются на задний план, особенно после того, как человечество открыло возможность использования ручного способа звукоизвлечения для получения мелодических музыкальных образов. Такую возможность предоставило изобретение струнных инструментов.
Их прародителем был охотничий лук. Звук, издававшийся его вибрирующей тетивой, навел наших далеких предков на мысль использовать такой способ звукоизвлечения для чисто музыкальных целей. Так, видимо, родился первый струнно-щипковый инструмент, дальнейшее усовершенствование которого шло в направлении: а) увеличения числа струн, б) сочетания струн, обладающих разными акустическими свойствами, и в) введения резонатора. Все это позволило струнно-щипковым инструментам уйти от чисто ритмического принципа музыкального формообразования, свойственного ударной музыке, и приблизиться к мелодическому принципу формообразования, присущему пению и игре на духовых инструментах. Однако исторический опыт показал, что это движение вело не слишком далеко, так как в пределах щипковой техники нельзя было преодолеть отрывочную «пунктирность» звуковой ткани и добиться столь важной для музыкальной выразительности протяженности звука, плавности высотных модуляций, распевности музыкального звукоряда. Поэтому ни балалайка, ни гитара, ни зурна, ни банджо, ни даже самый сложный инструмент этой группы — арфа не были способны сделать инструментальную музыку равноправной с музыкой вокальной — об этом свидетельствует и фольклор различных народов, и эстетическая мысль древней Греции.
Необходимость преодоления этой ограниченности струнно-щипкового способа звукоизвлечений повела музыкальную мысль человечества по двум разным путям. Первым был путь создания струнно-смычковых инструментов, звучание которых оказалось таким близким к мелодической распевности пения, что они стали оспаривать у духовых инструментов приоритет в инструментальной музыке нового времени; во всяком случае, трудно найти инструмент, 355 который был бы более «похож» на поющий человеческий голос, чем скрипка. Эта-то способность «представлять» человека в мире искусственных звучаний и привела к тому, что в симфоническом оркестре и в камерных ансамблях струнно-смычковая группа заняла господствующие позиции, без чего просто нельзя себе представить развитие европейского симфонизма на протяжении трех последних столетий.
Другое направление совершенствования струнно-щипкового принципа звукоизвлечения привело музыкальную культуру к созданию струнно-ударной или клавишно-струнной (фортепьянной) группы инструментов. Иным способом, чем в инструментах струнно-смычковых, здесь был достигнут тот же эффект, а отчасти и более высокий — ведь освобождение руки от смычка и превращение всех десяти пальцев в орудия одновременного и последовательного звукоизвлечения позволило значительно увеличить количество струн и тем самым добиться той «оркестровости» звучания, которая делает фортепьяно столь богатым по акустическому диапазону музыкальным инструментом (174, 160 – 161). При этом особенно показательно, что вскоре после своего изобретения и усовершенствования фортепьяно вытеснило клавесин — своего прямого предшественника, поскольку щипковый — а не ударный, как в фортепьяно — способ звукоизвлечения существенно ограничивал выразительные возможности клавесина, придавая движению звука пунктирно-расчлененный характер.
В XX в. на судьбах музыкального творчества начало сказываться развитие техники. Ее влияние имело тут двоякий характер: с одной стороны, изобретение всевозможных электромузыкальных инструментов расширяло тембровые, высотные и силовые возможности музыки, отражаясь одновременно на исполнительской технике; с другой стороны, технический прогресс оказывал существенное воздействие на композиторское творчество, позволяя тем или иным техническим способом фиксировать сочиняемую музыку так, что последующее озвучивание этого сочинения не нуждается в посредстве исполнителей — электронная музыка, магнитофонная музыка или музыка на АНС (аппарате, названном его изобретателем по инициалам А. Н. Скрябина) звучит именно такой, какой она была закодирована композитором. Таким образом, если электромузыкальные инструменты существенных изменений в практику музыкального исполнительства не вносят, то появление электромузыки таит в себе весьма важные возможности преодоления многовекового разрыва между сочинением и исполнением. Как будут использованы эти возможности — покажет будущее.
356 Спектральный ряд видов и разновидностей музыкального творчества приобретает, таким образом, следующее строение:
Табл. 40

Два момента в этой таблице требуют комментария. Первый касается места в ней искусства дирижера. Дело в том, что это уникальная в своем роде разновидность исполнительского творчества, поскольку она основана, с одной стороны, на специфической одаренности и на специфической технике, а с другой — поскольку она возникает только в ансамблевом исполнении, да и тут оказывается «факультативной» (малые ансамбли типа квартета, инструментального или вокального, более крупные ансамбли типа эстрадного оркестра или камерного симфонического играют без дирижера, и только большой симфонический оркестр, большой эстрадный оркестр и хор нуждаются в нем); это объясняется тем, что дирижер как посредник между композитором и исполнителями должен быть координатором творчества последних, а это становится тем более необходимым, чем более разнороден состав исполнителей в ансамбле. Понятно, что подобного искусства не знает ни одна другая область художественного творчества.
Правда, в ряде отношений творчество дирижера напоминает режиссерское искусство, но есть между ними и весьма существенные различия. Одно из них состоит в том, что искусство 357 режиссуры осуществляет посредническую функцию между разными областями художественного творчества — между литературой и искусством актера, живописью, музыкой и т. д., тогда как дирижер связывает «первичное» и «вторичное» творчество в пределах одной и той же области искусства — музыкальной (поэтому в оперном театре возможно сосуществование дирижера и режиссера). Другое отличие между этими двумя формами творчества состоит в том, что работа режиссера предшествует непосредственному исполнению создаваемого произведения, а творчество дирижера выходит за пределы репетиционного процесса и в своем завершенном виде развертывается на глазах публики вместе с творчеством ансамбля исполнителей. Второе пояснение касается глубокой закономерности того, что на концах обозначенного в таблице спектрального ряда форм музыкального творчества оказались такие, которые вплотную подходят к смежным областям искусства — к области хореографической, с одной стороны, и к области архитектонической, с другой. Однако стыки эти существенно отличаются один от другого. Тот пространственный и зримый облик, который музыкальное произведение получило в письменном его закреплении и который делает его похожим на орнаментально декорированную плоскость, является все же для этого произведения чем-то только внешним, никак не связанным с самой его музыкальной сутью. Мы говорили уже о том, что пространственное инобытие еще менее органично для музыкального произведения, чем для произведения словесного искусства; тем более отличается такой способ существования музыки от плодов архитектонического творчества, для которых пространство есть имманентная им и неотделимая от них форма художественного бытия. Поэтому пропасть, разделяющая «письменную музыку» и архитектонические искусства, более широка и глубока, чем та, которая пролегает между литературой и искусствами изобразительными. Это выражается, в частности, в том, что если в последнем случае возможно прямое скрещение этих разных форм художественной деятельности (в лубке, в плакате и карикатуре, в книге), то в первом случае подобный синтез невозможен. Нотная запись музыкального произведения есть лишь промежуточный этап в его художественном существовании, и потому ее внешняя близость к орнаментированной поверхности не преодолевает существенных различий между нотописью и орнаментом, не позволяя им объединяться — в отличие от шрифта написание нотных знаков не рассчитано на зрительное эстетическое восприятие, и потому изданиям клавиров и партитур присущ тот же чисто деловой характер, что и изданиям научных и технических сочинений.
358 Но если нотная запись, как плод композиторского творчества не способна вступать в прямой контакт с плодами творчества архитектонического, то музыка живая, звучащая, такими возможностями располагает. Мы имеем в виду не современные эксперименты по созданию цветомузыки, в которых синтез искусств имеет более сложный характер — он опосредован здесь кинематографической техникой и включает элементы изобразительности, «рисованности» (см., например, описание ряда подобных работ в книге Ф. Юрьева — 339). В данном случае речь идет о простом скрещении музыки и свето-цвета, подобном тому, которое нащупывалось Кастелем в его «цветовом клавесине» и которое было реализовано Скрябиным в «Прометее». Не касаясь — подчеркнем это снова — вопроса о том, сколь широко использовалось — и даже может использоваться в будущем — подобное сочетание звуковой ткани с игрой света, мы хотим лишь отметить принципиальную возможность подобного синтеза.
Что же касается связи музыки с танцем, которая завязывается на другом краю спектра музыкальных искусств, то далеко не случайно, что она представлена здесь прежде всего ударной музыкой. Ибо сколь бы ни было тесным сплетение музыкальной формы с хореографической, их контакт имеет до известных пределов внешний характер: один и тот же рисунок танца может сочетаться с весьма различными музыкальными рисунками, а танцевальная музыка свободно исполняется без всякого сочетания с танцем. В конечном счете внутренне необходимым для него является не соединение с мелодическими образами — эти последние способны широко варьироваться или вовсе отсутствовать, а акцентуация его темпоритмического «костяка», которая может быть осуществлена простейшим способом отбивания такта ударами в ладоши (напр., в ряде грузинских народных танцев) или перестуком кастаньет (во многих испанских танцах). В этих случаях участники танца или зрители сами создают необходимую ему ритмическую «сетку», звучание которой становится компонентом данного танца, от него неотъемлемым. Потому-то глубоко оправдано зафиксированное в нашей таблице морфологическое родство танца именно с ударной музыкой.
То, что диапазон инструментальных форм музицирования «утыкается» одним концом в пение, а другим в танец, выражает глубокую закономерность дислокации музыкального инструментализма в двух направлениях, каждое из которых оказывается своеобразным способом моделирования одной из двух систем выразительных средств, присущих самому человеку, — голосовой и моторной, звуковой и пластической, вокальной и жестикуляционной.
359 5. ВИДЫ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Закономерно, что, вступая в область искусства танца, мы сталкиваемся с ситуацией, аналогичной той, которая была нами выявлена в актерском искусстве. На первый взгляд кажется, что здесь, как и там, движения человеческого тела являются единственным материалом, в котором строится язык обоих искусств. При ближайшем рассмотрении выясняется, что данный материал есть их главное, но отнюдь не единственное выразительное средство. Главное — потому, что среди множества явлений, обладающих пластическо-динамической (пространственно-временной) структурой, движущееся тело человека наиболее тесно связано с его духовной жизнью и способно тем самым непосредственно ее выражать. Не единственное — потому что в данном случае, как и во всех других, художественный гений человечества не довольствуется возможностями, которые непосредственно даны человеку (его «естественными языками» — звуковым, словесным, пантомимическим), и ищет косвенные пути познания и моделирования духовной жизни, способные в опосредованной форме искусственных знаковых систем воплощать такие аспекты связи субъекта и объекта, которые не поддаются выражению присущими самому человеку естественными средствами. Мы уже видели, к чему приводит подобное стремление в сфере музыкального творчества — к появлению рядом с вокальной музыкой музыки инструментальной; в литературе — к трансформации искусства живого, звучащего слова в письменную литературу, «отчуждающую» слово от его носителя и делающую его элементом иной — искусственной по сути своей — знаковой системы; в актерском искусстве — к дополнению живого человеческого действия искусственной, так сказать «инструментальной», пантомимой животных, кукол и даже абстрактных предметов. Неудивительно, что нечто подобное происходит и в области хореографической.
Первым видом искусства является тут, несомненно, танец в обычном смысле этого слова. Язык танца строится в «чистом» человеческом материале, хотя иногда он может использовать и дополнительные выразительные средства — например, специальную одежду или какие-то атрибуты, необходимые для пояснения сюжета данного танца. С этой точки зрения особым видом танца следует считать танец спортивный, своеобразие которого определяется введением в большинстве случаев второго материала, отчего существенно меняется характер его художественного, языка. 360 Это могут быть обручи, шарфы, ленты в гимнастическом танце, или коньки в танце на льду, или спортивные снаряды в акробатическом танце, или вода в художественном плавании и в цирковой водной пантомиме; но во всех этих случаях второй материал органически входит в структуру художественной ткани, активно взаимодействуя с движениями человеческого тела.
Третий вид танца — «танец» животных. Подобно «пантомиме» животных, он создается с помощью техники дрессировки, но в отличие от нее работает не повествовательно-изобразительным, а чисто хореографическим языком. В цирке он занимает прочное место, представая в двух основных формах — лирической (ее наиболее характерным выражением является танец лошадей, коему доступны эстетические качества грациозности, пластического благородства и даже известной одухотворенности)150* и комической, пародийной (например, в медвежьем или собачьем танце). И здесь же, на цирковой арене и эстраде, мы встречаемся еще с одним видом танца — с «танцем вещей», проще говоря — с искусством жонглирования.
Совершенно очевидно, что оно принадлежит к области хореографического творчества, ибо сближается со всеми видами танца двумя решающими в морфологическом отношении признаками: во-первых, пространственно-временной структурой и, во-вторых, неизобразительным, абстрактным способом формообразования. Особенность жонглирования состоит лишь в том, что здесь динамический ритмопластический узор образуется движением предметов, которыми манипулирует человек, а не движением его собственного тела (движение рук жонглера само по себе нами ведь не воспринимается — оно есть лишь механизм, приводящий в действие взлетающие кверху тарелки, бутылки, шары или факелы). Но тем самым, опредмечиваясь в вещах, которым человек только передает свою энергию, искусство жонглирования делает серьезный шаг навстречу архитектоническим искусствам. Если даже танец мы вправе рассматривать как «оживший орнамент», как динамический узор, то к «танцу вещей» такое определение подходит в еще большей степени151*.
Конечно, художественные возможности «танца вещей» явственно ограничены — они немногим шире, чем возможности 361 «пантомимы вещей», и это вполне естественно. Хореографическое творчество подступает здесь к тому рубежу, который оно пытается преодолеть, но оказывается бессильным это сделать достаточно эффективно. Однако оно имеет другую возможность установления контакта с миром вещей — это возможность, предоставляемая танцу специально конструируемой для него одеждой. Наиболее отчетливо эстетический смысл такого синтеза можно увидеть в эстрадно-хореографических представлениях коллективов, подобных ансамблю Моисеева, «Березке», австрийскому Айс-ревю и т. п., где для каждого танца художники создают специальные костюмы, связанные своим пластическим и цветовым строем с эмоциональным содержанием и рисунком данного танца. Мы имеем здесь, следовательно, дело с художественным синтезом хореографического и архитектонического творчества.
А на другом краю спектра видов хореографического творчества, в непосредственном соседстве с музыкой, стоит искусство балетмейстера. Оно подобно едва ли не во всех отношениях искусству режиссера, и место, занимаемое им в семействе хореографических искусств, аналогично тому, которое режиссерское творчество занимает в своем морфологическом ряду. В самом деле, балетмейстер (хореограф) является таким же посредником между музыкой и танцем, каким является режиссер в отношениях между литературой и творчеством актера. Подобно режиссеру, балетмейстер становится необходимым тогда, когда исчезает стихийно складывавшаяся в синкретическом искусстве связь танца с музыкой и танец сочиняется в соответствии с некоей готовой музыкальной основой (которую можно рассматривать как «музыкальную драматургию» танца), и он оказывается тем более необходимым, чем больше число участников танца, ибо их движения должны быть согласованы, дабы они образовывали продуманное и связанное во всех своих звеньях художественное целое. Поэтому балетмейстер становится, с одной стороны, «соавтором» композитора, чье произведение он переводит на язык хореографии (независимо от того, было ли на это рассчитано данное произведение), а с другой — «первым танцовщиком», поскольку он должен в своем воображении станцевать партии всех участников балетного спектакля или концертной программы, прежде чем они будут исполнены самими танцорами. Все это делает весьма своеобразной структуру необходимого балетмейстеру дарования и механизма его творческой деятельности, позволяя рассматривать ее как особый вид хореографического искусства, суть которого — сочинение танца и его воображаемое исполнение.
362 Резюмируя все вышесказанное, мы можем представить спектральный ряд видов хореографического искусства следующим образом:
Табл. 41
|
Динамические формы архитектонического творчества |
Искусство жонглирования |
Искусство дрессировщика-хореографа |
Спортивный танец |
Танец в обычном смысле слова |
Искусство балетмейстера |
Слияние танца и музыки |
Нам остается под этим же углом зрения рассмотреть область архитектонического творчества.
6. ВИДЫ И РАЗНОВИДНОСТИ АРХИТЕКТОНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Скажем сразу, что при решении этой задачи мы сталкиваемся с рядом трудностей, неизвестных морфологическому анализу других областей искусства. Первая трудность состоит в том, что реальное бытие произведений архитектуры, прикладного и промышленного искусства является, как уже отмечалось, ансамблевым, и только в экспозициях, на стендах и в витринах, предметы одежды и мебели, декоративные ткани, фарфоровые и ювелирные изделия, оружие и орудия труда предстают перед нами изолированными друг от друга. В реальной жизни людей все эти вещи функционируют не как выставочные экспонаты, а как предметы, удовлетворяющие разнообразные практические потребности, и потому тесная взаимосвязь, сплетенность этих потребностей обусловливает соответствующую связь, ансамблевое существование служащих им вещей. Поскольку же все потребности в вещах, помогающих организовать быт, труд и общение людей, в принципе однородны, постольку сами вещи оказываются по своей структуре весьма близкими друг другу: все они — начиная от грандиозного архитектурного сооружения и кончая миниатюрной брошью, начиная от царского трона и кончая современным фрезерным станком, — все они являются вещами, т. е. существующими в пространстве материальными конструкциями, построенными человеком для одновременного удовлетворения его практических и духовных, утилитарных и эстетических нужд. Поэтому различия между вещами со всех точек зрения являются относительными: один и тот 363 же предмет способен служить самым разным потребностям (за столом можно принимать пищу, играть в карты, читать журналы, писать книги, делать чертежи, ставить физические опыты, пеленать младенца и т. д. и т. п.); он может быть изготовлен из весьма различных материалов (напр., из дерева, камня, металла, пластмасс, наконец, из сочетания всех этих материалов); он может быть очень простым в техническом отношении и очень сложным (напр., обычный шкаф для хранения продуктов и холодильный шкаф, или коляска и автомобиль, или простые счеты и арифмометр и т. д. и т. п.); он может быть, наконец, сделан вручную или с помощью машин, выступая соответственно как представитель художественного ремесла или промышленности. Все эти обстоятельства и делают крайне сложной классификацию различных видов и разновидностей искусства в рассматриваемой нами сейчас области.
Другая трудность состоит здесь в том, что в семействе архитектонических искусств можно зафиксировать, пожалуй, большее, чем в какой-либо другой сфере художественной деятельности, многообразие и разнообразие материалов. Не будет преувеличением сказать, что все вещественные материалы, которые человек находит в природе и которые дает ему производство, становятся объектами эстетической обработки в архитектуре, прикладных искусствах и дизайне. Это привело к тому, что теоретики обычно классифицируют прикладные искусства, основываясь на различиях используемых последними материалов. Так, например, Земпер, исходя из деления всех материалов архитектурно-прикладных искусств на четыре группы (гибкие, хорошо противостоящие разрыву; мягкие и пластичные, хорошо сохраняющие приданную им форму; эластичные; твердые, сопротивляющиеся обработке), разделил сами прикладные искусства на текстильное, керамическое, тектоническое (связанное с обработкой дерева) и стереотомическое (связанное с обработкой камня) (220, 225 сл.). Не подлежит сомнению, что такая классификация выявляет некоторые существенные художественные особенности искусств, воплощающих свои произведения в данных группах материалов, но несомненно и то, что критерия видовой определенности она морфологии искусства все-таки не принесла. Ошибка Земпера заключалась, прежде всего, в том, что он абсолютизировал роль материала и его физических свойств, тогда как материал есть лишь средство художественного формообразования152*. Для создания сосуда имеет, конечно, большое значение, 364 лепится ли он в глине, вытачивается ли из дерева, выковывается ли из металла, выдувается ли из стекла, отливается ли из пластмассы, однако различия между всеми этими материалами, техниками и технологиями являются все же второстепенными по сравнению с теми признаками художественного языка, которые остаются во всех этих случаях неизменными и которые связаны с тем, что сосуд должен строиться как объемный предмет, воздействующий своей архитектоникой, пропорциями и цветовыми отношениями, силуэтом, композицией, ритмом, фактурой и текстурой поверхности, ее орнаментальным или изобразительным декором и т. д. Поэтому в создании подобных предметов художественный язык имеет много общего с языком скульптуры, тогда как язык художественно разработанной ткани родствен в ряде отношений языку живописи, какие бы материалы и техники декоративной разделки поверхности тут ни применялись (плетение, набойка, батик, печать и т. д.). Понятно с этой точки зрения, что если в художественном конструировании объемных вещей возможен был в XX в. почти полный отказ от орнамента как элемента художественного языка дизайна и архитектуры (вспомним выразительный лозунг Лооса «Орнамент — это предательство!»), то в искусстве ткани орнаментация поверхности оставалась и всегда останется необходимой.
Мы имеем, таким образом, все основания для того, чтобы выделить в качестве разных видов архитектонического творчества искусство орнаментации, которое создает художественное оформление плоскости (иногда самостоятельной, как декоративная ткань, кружево, ковер, а иногда являющейся элементом архитектурных сооружений, предметов мебели, посуды и т. д.), и прикладное искусство, которое создает трехмерные объемные пластические объекты. Третьим же видом архитектонического творчества, параллельным, если так можно выразиться, графике в ряду изобразительных искусств, является искусство книги.
В самом деле, его художественный язык строится ведь на характерном для графики заполнении бумажного листа черными линиями, только линии эти образуют не иллюзорное изображение каких-либо предметов реального мира, а неизобразительную, орнаментально-архитектоническую шрифтовую композицию. Книга, взятая в целом (речь идет, естественно, и о журнале, и о газете, и об изданиях так называемой промграфики), может включать и изобразительные элементы, причем роль таких иллюстраций 365 различна в разных типах изданий; однако существо искусства книги состоит именно в архитектонически-орнаментальном конструировании как отдельных компонентов издания (полосы, титульного листа, обложки и т. д.), так и книжного блока в целом (см. 200; 228; 259; 281).
Характеризуя кратко описанные нами виды архитектонического творчества, следует сразу же заметить, что каждый из них «удваивается» благодаря техническому прогрессу — примерно так же, как в сфере изобразительных искусств графика и живопись были «удвоены» художественной фотографией. В данном случае мы можем засвидетельствовать, что прикладное искусство превратилось исторически в искусство промышленное (дизайн), что искусство орнаментации, основанное некогда на ручном способе нанесения узора самим художником, сменилось проектированием орнамента для его машинного исполнения в любом количестве абсолютно идентичных повторений, что искусство рукописной книги, имевшее центральным своим звеном каллиграфию, было заменено искусством художественного проектирования печатной книги.
Крайне существенно отметить, что подобное «удвоение» распространилось в полной мере и на архитектуру, которая претерпела благодаря развитию строительной индустрии столь грандиозные изменения, что современное зодчество оказывается родственным дизайну в такой же степени, в какой классическая архитектура была родственна прикладным искусствам.
Весьма показательны в этом смысле рассуждения Корбюзье. Еще в начале 20-х гг. нашего века, когда новая архитектура и дизайн только зарождались, он проницательно определял их глубинное родство и их качественное («революционное») отличие от архитектонического творчества прошлых эпох. «Во всех отраслях промышленности, — писал он в работе “К архитектуре”, — поставлены новые проблемы, создано оборудование для их разрешения. Перед лицом прошлого этот факт представляет собой революцию.
Начинается серийное изготовление отдельных частей здания; в соответствии с новыми экономическими потребностями созданы элементы деталей и элементы целого. Сопоставив это с прошлым, мы обнаружим революцию в методах и в размахе предприятий». На этой основе происходит «полный пересмотр прежнего архитектурного кодекса», ибо современное творчество стремится «повсеместно внедрить дух серийности, серийного домостроения, утвердить понятие дома как промышленного изделия массового производства… Мы придем к дому — машине, промышленному изделию, здоровому (и в моральном отношении) 366 и прекрасному, как прекрасны рабочие инструменты…» (243, 12 – 13). «Дом — это машина для жилья» (там же, 10).
В середине 50-х гг. Вальтер Гропиус имел уже основания заключить: «Я думаю, нынешнюю ситуацию можно обобщенно выразить так: произошел разрыв с прошлым, сделавший нас свидетелями нового типа архитектуры, соответственно технической цивилизации того века, в котором мы живем» (203, 120). Прежде архитектор был «мастером ремесел», сегодня он должен стать «художником-конструктором», своего рода дизайнером (там же, 133 – 141 и др.), ибо «понятие “дизайн” совокупно охватывает всю область искусственно создаваемых и зрительно воспринимаемых нами сооружений — от простых предметов повседневного пользования до сложного образования целого города…» Суть дела состоит именно в том, что «процесс проектирования большого здания отличается от проектирования простого стула своими параметрами, а не своими принципами» (там же, 91). Об этом же говорит и современный советский теоретик архитектуры: «На смену ремесленному, ручному труду, результатом которого была архитектура предшествующих эпох, пришли машинное производство и индустриализация. В связи с этим должен был измениться общий характер архитектуры и профессии архитектора» (185, 140). И еще: «Сегодня рождается новая индустриальная архитектура, а с ней рождается и архитектор нового профиля» (там же, 149).
Вполне естественно, что эта новая индустриальная архитектура — назовем ее дизайн-архитектурой — имеет те же разновидности, что архитектура классическая, и точно так же внутренние членения промышленного искусства подобны делению на разновидности искусства прикладного.
Спектральный ряд разновидностей прикладного и промышленного искусств сближает их, с одной стороны, с искусством орнаментации; а с другой — с архитектурой. Первой такой разновидностью является художественное конструирование одежды. Создаваемая из ткани, чаще всего так или иначе орнаментированной, одежда говорит, однако, на языке объемных, трехмерных пластических и цветовых отношений, что и позволяет рассматривать ее как особую разновидность прикладного и промышленного искусств. С ней соприкасается вторая их разновидность — ювелирное искусство, своеобразие которого определяется и используемыми в нем материалами, и миниатюрностью изделий, и их специфическими функциями, и их относительной независимостью от одежды. Третья разновидность прикладного и промышленного искусств — художественно конструируемая «утварь». Мы называем этим словом (сознавая, что выбор его 367 не очень удачен, но более точного термина нам подобрать не удалось) все многообразие орудий и инструментов практической жизнедеятельности (имеется в виду бытовая и культовая посуда, оружие, производственные инструменты, приборы и т. д.), которые следует отличать от вещей иного типа — обстановки интерьера как по практическому их назначению, так и по масштабному их отношению к человеку, с одной стороны, к мебели и к архитектуре — с другой, Особенности функционирования такого рода вещей состоят в том, что они удовлетворяют более эпизодические, кратковременные нужды человека, чем те, которые удовлетворяются обстановкой помещений; поэтому они лишены свойственной последней громоздкости, статичности и цепкой связи с интерьером; они более легки, малогабаритны, а главное — подвижны, их можно переносить с места на место, из помещения в помещение, свободно манипулировать ими, и сама мебель служит обычно местом, в котором они хранятся в паузах между их практическим использованием.
Конечно, между подобными изделиями и обстановкой интерьера нет резкой грани. Напротив, одна разновидность прикладного и промышленного искусства переходит в другую постепенно и плавно, так что ряд предметов мы имеем право отнести и к той, и к другой — например, магнитофон или телевизор, которые иногда трактуются именно как переносные приборы, а иногда — как солидные и статичные компоненты мебельного гарнитура, или же осветительная арматура, которая принадлежит к одной разновидности прикладного и промышленного искусства, когда речь идет о настольной лампе, торшере, фонаре, и к другой, когда люстра, подвесной светильник или бра прочно связываются с архитектурой интерьера, становясь частью его обстановки. Но наличие переходных форм здесь, как и во всех других случаях, не опровергает, а лишь подчеркивает качественное различие связуемых ими сфер.
Четвертой разновидностью прикладного и промышленного искусств является, следовательно, художественно-конструируемая обстановка интерьера, включающая в себя мебель и промышленное оборудование. Объединение этих двух типов обстановки не должно показаться неожиданным: мебель — это ведь не что иное, как совокупность предметов определенного масштаба, предназначенных для организации известных форм человеческой деятельности, а промышленное оборудование — это совокупность предметов, находящихся в производственном интерьере и призванных организовывать другие, но в принципе однотипные формы практической деятельности. Поэтому с точки зрения художественно-конструкторской нет принципиальной разницы 368 между обеденным столом, письменным столом, хирургическим столом, чертежным столом, верстаком, станком или каким-то иным типом рабочего стола, т. е. ограниченной поверхностью, приподнятой над полом и предназначенной для исполнения на ней разнообразных практических действий; точно так же нет принципиальной разницы между креслом, в котором мы отдыхаем, креслом в театральном зале, библиотеке или кабинете учреждения, зубоврачебным креслом и креслом в парикмахерской, рабочим креслом пилота, диспетчера, лаборанта, телефонистки; или между шкафом для одежды в нашем жилище и на заводе, между книжным стеллажом и стеллажом для инструментов и т. д. и т. п. Вместе с тем группы такого рода предметов сближаются между собой: во-первых, сходным масштабным отношением как к архитектурному интерьеру (комнате, залу, цеху, лаборатории), так и к человеку, ими оперирующему; во-вторых, непосредственной связью с архитектурой интерьера, ибо эти предметы являются как бы ее продолжением и посредником между ней и человеком (это выражается, в частности, в том, что данные предметы имеют помимо своих прямых функций еще одну, чисто архитектурную — функцию внутренней организации пространства в интерьере, его утилитарно-эстетической планировки); в-третьих, объемно-пластической своей структурой, обусловливающей чисто архитектурный к ним подход в процессе художественного формообразования (показательно, что очень часто конструированием вещей этого рода занимаются сами архитекторы); в-четвертых, кругом материалов, с помощью которых эти предметы изготавливаются (круг этих материалов в основном ограничен деревом, металлами и пластмассами, крайне редко допускает использование керамических материалов и бумаги, текстильные же материалы включает лишь для решения подсобных задач покрытия некоторых участков поверхности предмета).
Эта разновидность прикладных и промышленных искусств вплотную подводит нас к центральному виду архитектонического творчества — к архитектуре, которая, в свою очередь, может быть разделена на три относительно самостоятельные разновидности. Первую из них назовем зодчеством, хотя в бытовом словоупотреблении этот термин является простым синонимом «архитектуры»; мы же понимаем под «зодчеством» ту разновидность архитектуры, которая включает в себя художественное проектирование и возведение всех возможных типов зданий — жилых домов и производственных помещений, храмов и крепостей, вокзалов и театров и т. д. и т. п. Специфика зодчества состоит, таким образом, в том, что его произведения представляют собой: 369 а) замкнутые материальные объемы, в которых Должны протекать различные процессы человеческой жизнедеятельности; б) сооружения, значительно превосходящие своими размерами человека (поскольку в отграничиваемом ими пространстве он должен жить, работать, молиться, развлекаться и т. п.); в) предметы, обладающие соответственно двумя «художественными измерениями» — внутренним и внешним, поскольку они призваны оказывать духовно-эстетическое воздействие и на тех, кто находится в них, и на тех, кто находится перед ними (разумеется, образы интерьера и экстерьера здания связаны друг с другом определенной художественной логикой, но сохраняют при этом относительную самостоятельность).
Такая художественная двухмерность произведений зодчества предопределяет и расширение в обоих направлениях действия их эстетической активности; в результате их художественная энергия распространяется, с одной стороны, на предметы, находящиеся в интерьере здания и являющиеся как бы внутренним продолжением его архитектуры (мебель, всевозможное оборудование помещения, посуда и т. п.), а с другой стороны — на предметы, окружающие здание на улице и связанные так или иначе с его экстерьером (напр., фонарные столбы, киоски, будки, решетки оград, тумбы для афиш, уличные вазы для цветов, урны и т. п.). Художественное конструирование последнего ряда предметов образует вторую разновидность архитектурного творчества — так называемую «архитектуру малых форм»; она обладает серьезными отличиями от зодчества и в наше время оказывается, как правило, специализированной творческой деятельностью архитекторов153*. Таким образом, зодчество смыкается, с одной стороны, со сферой прикладного и промышленного искусства, которое создает все вещественное наполнение интерьеров зданий, а с другой — с «архитектурой малых форм», призванной разрабатывать предметную среду улицы и площади.
Рядом с «архитектурой малых форм» в решении этой задачи участвует третья разновидность архитектуры, не имеющая, к сожалению, точного обозначения; мы назвали бы ее, по аналогии, «архитектурой крупных форм»: речь идет о художественном конструировании таких монументальных объектов, как мосты, виадуки, надземные дороги, обелиски, триумфальные арки, радио- и телевизионные мачты и т. п. Эти объекты не являются 370 зданиями, поскольку не создают замкнутых объемов со столь характерной для них двухмерностью художественной структуры, а от произведений «архитектуры малых форм» их отличает масштаб, сложность технической конструкции и их неизмеримо большая градостроительная роль.
Пятый вид архитектонического творчества, стоящий рядом с архитектурой, — архитектура средств передвижения. Музейные коллекции дают нам яркое представление о том, какой высокой художественной ценностью обладают создававшиеся в далекие времена лодки, сани, колесницы, кареты — неудивительно, что «во французском языке, — как заметил А. Буров, — экипажи назывались мебелью и проектировались архитектором» (185, 28), а «корабельная архитектура» в XVIII в. выделялась, по свидетельству П. Чекалевского, в особую разновидность архитектуры, наряду с гражданской и военной (328, 156). И в наше время автомобиль и трамвай, самолет и теплоход создаются с непременным участием архитекторов и дизайнеров. По самой своей природе — масштабу, наличию интерьера, характеру используемых материалов и т. п. — средства передвижения находятся как бы на стыке дизайна и архитектуры154*, а в прошлом — прикладного искусства и архитектуры.
Шестой вид архитектонического творчества определяется тем, что создаваемые в городе и в деревне предметные ансамбли в той или иной мере всегда включают фрагменты ландшафта, причем эти последние должны входить в данный ансамбль не механически, а органически — т. е. будучи художественно осмысленными и архитектурно преобразованными. Так исторически вычленилось садово-парковое искусство или, как его часто образно именуют, «зеленая архитектура». Ее своеобразие определяется не только живым растительным материалом, но, опять-таки, в первую очередь, ее жизненно-практическим назначением, которое состоит в том, чтобы связывать людей с природой, а не отделять их от нее. В отличие от зодчества «зеленая архитектура» создает образ открытого, а не замкнутого пространства, и ее произведения не растут ввысь, а распластываются по земле; в отличие же от «архитектуры средств передвижения» она завоевывает пространство не самодвижением, а устремлением к движению человека (см. 309; 252; 218)155*.
371 Особым и весьма своеобразным видом архитектонического творчества является градостроительство. Место, занимаемое им в этом семействе искусств, в ряде отношений подобно месту искусства режиссера в сфере актерского и искусству дирижера в сфере музыкального творчества. Градостроительство есть «архитектурная режиссура», создающая художественный образ архитектурного целого — города, селения, района, ансамбля, и, подобно режиссуре, «умирающая» в конкретном воплощении ее замысла архитекторами. Однако, в отличие от искусства режиссуры, воссоздающей творение писателя, градостроительство само выполняет функции драматургии и может быть названо также «архитектурной драматургией». С другой же стороны, в отличие от драматургии и от режиссуры, градостроительное искусство не является непременным звеном архитектурного творчества — оно оказывается необходимым лишь тогда, когда проектируются сложные, большие, многоэлементные ансамбли. В этом отношении оно подобно искусству дирижера — не обязательному, а факультативному члену исполнительских коллективов, потребность в котором прямо пропорциональна числу и разнородности элементов, из которых слагается художественное целое. Так и роль градостроительного проекта повышается в той мере, в какой необходимо координировать работу многих зодчих, ландшафтных архитекторов, художников, создающих малые и крупные архитектурные формы, средства городского транспорта, наконец, скульпторов-монументалистов.
В ряду форм архитектонического творчества, интегрируемых градостроительным искусством, следует выделить искусство водной архитектуры, искусство фейерверка и искусство динамической световой рекламы. Их своеобразие состоит в том, что они подводят архитектоническое творчество вплотную к творчеству хореографическому, представляя нашему взору своего рода «танцы» — «танец воды» и «танец огня». Хотя искусство включения движущихся и играющих водяных струй в градостроительные и парковые ансамбли имеет более славное прошлое, чем настоящее, можно утверждать, что оно обретет и большое будущее. Во всяком случае, рассматривая эту форму искусства с чисто морфологической точки зрения, мы обнаруживаем в ней закономерное проявление стремления архитектонического творчества преодолеть «врожденную», казалось бы, статичность, неподвижность. Другую попытку такого же рода оно издавна предпринимало в искусстве фейерверка, создавая динамические формы монументального цветового орнамента. В наше время развитие электротехники позволило найти новый путь динамизации орнамента — мы имеем в виду монументальные светящиеся 372 рекламные стенды, которые являются своего рода «прикладным фейерверком»156*.
Если следовать принятому нами принципу обозначения морфологических членений, спектральный ряд видов и разновидностей архитектонического творчества будет иметь следующий вид:
Табл. 42
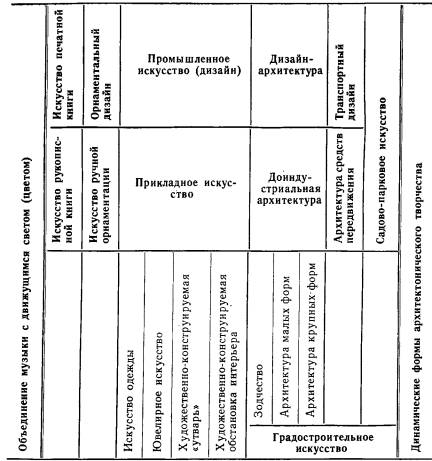
373 Сведя воедино результаты всех наших частных схематических построений, мы придем к следующей общей картине членения мира искусств на простые виды:
Табл. 43

374 7. ВИДЫ ИСКУССТВА СИНКРЕТИЧЕСКИ-СИНТЕТИЧЕСКОГО ТИПА И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ
Рассматривая закономерности строения системы искусств, мы уже неоднократно сталкивались с тем обстоятельством, что искусства «простые», одноэлементные, однородные по структуре обладают способностью к взаимодействию, рождающему художественные явления с двухэлементной образной структурой. Такие художественные «двучлены» закономерно возникают, как мы видели, на стыках смежных семейств искусств. Однако бинарный уровень художественной «гибридизации» лишь открывает двери в класс синтетических искусств. Подобно тому, как химические элементы способны соединяться не только попарно (напр., водород с кислородом или медь с серой), но и в более сложных комбинациях — по три, четыре и т. д. элемента, так и одноэлементные искусства оказываются способными к образованию весьма сложных, многочленных комбинаций. В историческом аспекте проблема возникновения синтетических искусств уже была нами освещена, и сейчас остается рассмотреть ее в другой плоскости — чисто теоретической, структурно-системной.
Задача заключается в том, чтобы выяснить, существуют ли какие-либо объективные закономерности — и если существуют, то какие именно — в протекании тех «реакций» взаимодействия различных простых искусств, которые приводят к возникновению многочленных художественных образований.
Вполне естественно, что чем большее количество компонентов соединяется в одно целое, тем сложнее осуществляется их органическая связь. В бинарных художественных образованиях — словесно-музыкальном, архитектурно-скульптурном и т. п. — связь обоих компонентов в одно органическое целое зависела лишь от способности одного из них подчинить себе, «приладить» к себе другой (или, напротив, приспособиться к другому). Для возникновения многоэлементных художественных структур этого условия становится уже недостаточно. Здесь оказывается необходимым еще одно условие синтеза — появление некоего специфического объединяющего начала, некоей особой художественной энергии, которая была бы способна организовать возникающую сложную систему, связать все ее грани воедино, в одно живое целое. В большинстве многоэлементных синтетических 375 искусств — сценическом, киноискусстве, телеискусстве, радиоискусстве — эту роль выполняет творчество режиссера.
Правда, нередко полагают, будто театр намного старше искусства режиссуры — рождение первого относится к античной культуре, а появление второго датируется обычно чуть ли не рубежом XIX и XX столетий. Нетрудно, однако, увидеть, что подобные представления базируются на неправомерном отождествлении искусства режиссуры и профессии режиссера. Последняя, действительно, вычленилась в процессе «разделения сценического труда» совсем недавно, само же искусство режиссуры в принципе столь же древнее, как театр, только на первых фазах его развития роль режиссера выполнялась либо драматургом, либо ведущим актером труппы, а позднее антрепренером; во всяком случае, не только русский театр XIX в., но и театр Шекспира, и театр Мольера, и даже театр Эсхила можно называть «дорежиссерским» лишь весьма условно. Справедливо говорит А. Таиров: «Под разными личинами, под разными наименованиями режиссер неизменно существовал и будет существовать в театре, ибо бытие его порождено основной сущностью театрального искусства…» (312, 100). История театра характеризуется с этой точки зрения постепенным повышением удельного веса режиссерского творчества, завершившимся на определенном этапе выделением самостоятельной профессии режиссера-постановщика. Согласимся с М. Рехельсом: «… Режиссуре столько же лет, сколько театральному искусству. А вот режиссерская личность действительно выявилась менее ста лет назад» (293, 6).
Полное отсутствие режиссуры было возможно лишь в синкретических формах первобытного и фольклорного творчества. Их целостность была целостностью естественной, непреднамеренной, наивной; она не требовала никаких специальных усилий, так как разные способы художественной деятельности еще не осознавались как самостоятельные искусства; помимо того, благодаря незакрепленности всех компонентов творчества и его вариационному характеру, основанному на неотделенности первичного творчества от вторичного (исполнительского), открывался такой широкий простор для импровизации (вспомним хотя бы средневековый карнавал или комедию дель арте!), что не возникало и потребности в каком-то специальном регуляторе, координаторе и фиксаторе интеграционных связей, который скреплял бы гетерогенную структуру данного искусства157*.
376 Положение радикально изменилось, когда эти связи стали образовываться не естественным, а искусственным образом, после обретения каждым видом искусства самостоятельности и при четкой дифференциации первичного и вторичного творчества. Тут уже — в театре нового времени, и тем более в киноискусстве, телеискусстве, радиоискусстве — без режиссуры было не обойтись. Мы можем, конечно, условно различать сегодня так называемый «режиссерский театр» и «театр актерский», поскольку соотношение режиссерского и актерского творчества действительно бывает различным: бывает, что режиссер «умирает в актерах», а бывает и так, что актеры выступают как простые знаки режиссерского замысла (крайний случай — «актеры-марионетки» Гордона Крэга); однако во всех случаях режиссура оказывается непременным и необходимым членом сценического синтеза, организующим этот синтез, координирующим усилия всех участников театрального действа, обеспечивающим его идейно-художественную целостность и единство. Режиссер является необходимым посредником между драматургом и актерами, декоратором, осветителем, композитором, таким посредником, который должен сделать пьесу видимой и слышимой, т. е. пластически воплощенной и звучащей, а для этого должен выбрать из множества возможных ее интерпретаций одну, кажущуюся ему наиболее верной, наиболее глубокой, наиболее современной. Вместе с тем режиссер выступает как координатор художественных устремлений всех членов творческого коллектива, создающего спектакль, и роль его тем большая, чем большее число компонентов ему приходится объединять в единое целое (потому-то в работе чтеца привлечение режиссера имеет место далеко не всегда и в принципе совсем необязательно).
Так режиссерское творчество, цементируя театр как синтетический вид искусства, обеспечивает ему возможность самостоятельного художественного существования.
С этой точки зрения становится очевидной полная несостоятельность двух противоположных и крайних позиций: первая заставляла расценивать режиссуру как «необходимое зло» (А. Кугель — 249, 37), тогда как вторая позволяла считать, что «подлинными драматургами последних тридцати лет являются 377 не авторы, а режиссеры» (Ж. Вилар — 189, 71). В действительности же режиссерское искусство характеризуется своеобразной и очень яркой диалектикой: с одной стороны, оно представляет собой самостоятельный вид творчества, отличный ото всех, уже нам известных — и от искусства драматурга, и от искусства актера, и от искусства живописца и т. д., хотя оно и включает в себя драматургический, актерский, живописный и т. д. моменты — потому и возможны случаи совмещения профессии режиссера с профессией драматурга (напр., Брехт), актера (напр., Станиславский), художника (напр., Акимов); с другой стороны, искусство режиссера не существует вне творчества актера, а в кино и оператора. Режиссура — наименее самостоятельное искусство, ибо она надстраивается над всеми другими, и она же властвует над этими другими, «подгоняет» их друг к дружке и, в конце концов, создает новое искусство, основанное на их синтезе.
Такое противоречие возникает оттого, что режиссерское искусство не располагает собственными средствами воплощения — оно может реализовывать свои художественные замыслы только в «теле» других искусств — литературы, актерского искусства, операторского, живописи, танца, музыки. А это значит, что искусство режиссера, будучи само по себе чисто духовным, нуждается для претворения своих интеграционных устремлений в некоей «материальной базе», которая позволила бы слить воедино словесную драматургию, актерский мимесис или танец, живопись, музыку… Такой материально-технической базой стала для театрального синтеза техника сцены, для кинематографического синтеза — техника съемки и демонстрации фильма, для радиосинтеза — техника записи и трансляции радиоспектакля. Эта база и определила своеобразие каждого синтетического вида искусства, ибо от нее зависит, как сложится соотношение синтезирующихся художественных компонентов.
Так техника сцены, выделяющая площадку для разыгрывания некоего действия перед публикой, тем самым придает актерскому творчеству такой удельный вес, какого оно не имеет в других синтетических искусствах. Вместе с тем в пределах семейства сценических искусств место актерского творчества в общей структуре спектакля и его отношение к другим компонентам синтеза меняется. Здесь возможны такие ситуации:
1) актерское искусство господствует на сцене единолично и безраздельно, лишь опираясь на какой-то литературный сценарий, произвольно и спорадически обращаясь к помощи танца, музыки и изобразительного искусства, — мы имеем в виду тот тип драматического театра, который в истории искусств ярче 378 всего выразился в комедии дель арте, в наше время перешел с профессиональной сцены в сферу бытового самодеятельного творчества (проявляющегося, напр., в разыгрывании шарад), а в будущем, по мере общего роста культуры, имеет, видимо, шансы вернуться на подмостки и занять на них более видное место, чем когда-либо прежде158*;
2) актерское искусство делит власть на сцене с литературой — таков обычный современный драматический театр, о котором говорят с равным правом, что его основой является драматургия и что его основой является искусство актера; и то и другое верно, но и то и другое односторонне159*;
3) актерское искусство царит на сцене в единстве с музыкальным исполнительством — речь идет об оперном театре и театре оперетты (хотя конкретное соотношение актерского и музыкального компонентов в этих разновидностях музыкального театра разное);
4) актерское искусство господствует на сцене, соединяясь с хореографическим исполнительством и оттесняя на задний план уже не только литературу, но и музыку — это происходит в балете;
5) актерское искусство разделяет власть с изобразительным искусством, как это имеет место в театре кукол.
Таковы основные виды сценического искусства160*, каждый из которых не только отличается от других, но и связан с другими постоянным «главным членом» — искусством актера. И литература, и музыка, и танец, и изобразительные искусства 379 могут играть в театре первопланную роль лишь в единстве с искусством актерским, а не без него или вопреки ему161*.
Таким образом, выясняется, что видов сценического искусства столько, сколько художественных элементов, вступающих в театральный синтез. Однако в ряду этих элементов мы не находим представителя шестого семейства искусств — архитектонического творчества. Чем это объясняется?
На первый взгляд кажется, что это последнее и сценические искусства так далеки друг от друга, что прямой контакт между ними попросту немыслим. Но такой вывод был бы преждевременным. В действительности подобный контакт имеет место, только проявляется он весьма своеобразно: речь идет об оформительском искусстве, взятом в обеих его разновидностях — экспозиционно-оформительской и витринно-оформительской.
Не повторяя сказанного выше об этом виде художественного синтеза, отметим сейчас лишь его неожиданную морфологическую близость к формам сценического синтеза. В самом деле, художественно оформленная витрина является ведь своего рода сценой, на которой представлено некое действие, разыгрываемое, правда, не актерами, а вещами, но именно разыгрываемое ими, поскольку каждая выставленная в витрине вещь играет определенную роль и соотносится с другими по законам смысла и эмоциональной выразительности, а не по своему практическому назначению (см. 183, 54 – 58). Соответственно и человек, останавливающийся у витрины, становится на какое-то время зрителем, подобным зрителю театральному, и он не отойдет от витрины и не прекратит акта созерцания, пока не постигнет происходящего на ее сцене предметного «действия». Если же мы обратимся к художественному оформлению больших выставок, то тут сходство со сценическим искусством становится еще большим.
380 Во-первых, интеграционная емкость экспозиционного синтеза искусств гораздо более широкая, чем в оформлении витрин. Здесь не только сочетаются архитектурное решение и средства прикладных и изобразительных искусств, но в этот контекст включается и поэтический лозунг, и музыкальное сопровождение, и кинематографический полиэкран, и даже — мы приводили уже этот пример — пантомима.
Во-вторых, крупные промышленные или общекультурного охвата выставки — отраслевые, общенациональные, международные — лишены той прямой утилитарно-рекламной цели, какая есть всегда у витрины. И в этом отношении экспозиционно-оформительское искусство ближе к искусству сценическому, ибо оно оказывается вообще на грани «чистого», монофункционального искусства; оно может выступать прежде всего как зрелище, а все утилитарные задачи погружаются в невидимые зрительскому глазу недра его содержания.
Однако самое главное состоит в том, что — в-третьих — оформление таких выставок преодолевает одномоментность действия, как правило, свойственную витрине, и подымается до организации действия во времени; художники здесь не просто оформляют разрозненные стенды, но, прежде всего, решают планировку всей экспозиции так, чтобы обеспечить определенный маршрут движения посетителей, а значит, и запрограммировать последовательность впечатлений от различных стендов, фрагментов и узлов выставки. Мы вправе тут говорить о разработке экспозиционного «сюжета», который организует отдельные восприятия зрителя продуманным авторами драматургическим планом выставки (он называется обычно «сценарием выставки», и этот термин весьма выразителен). Более того — нельзя не согласиться с Б. Бродским, когда он пишет, что «художник выставки стал режиссером» (!), оперирующим компонентами самых различных искусств и создающим из них единое художественное целое (183, 85).
Любопытный пример: описывая «автозверинец», организованный одним из крупнейших современных дизайнеров Нельсоном на выставке в Нью-Йорке, Глазычев пишет, что создатель этого «зверинца» исходил из программной установки: «спектакль, а не выставка; зрелище, а не информация; эмоция, а не техника» (197, 49). Мы сказали бы более точно: Нельсон, как и всякий мастер экспозиционного искусства, хотел показать технику через эмоцию, донести информацию через зрелище, то есть превратить выставку в своего рода спектакль.
Так выясняется, что своеобразие архитектонических искусств не стало непреодолимой преградой на пути синтетических устремлений 381 художественного творчества в семействе сценических искусств, но лишь специфически преломило действующие тут общие принципы.
Обратимся теперь к анализу другой группы синтетических искусств, сложившихся уже не на древней сценической, а на новейшей технической базе. Таковы киноискусство, радиоискусство, телеискусство.
Казалось бы, в структуре киносинтеза актерское искусство должно занимать такие же позиции, как в театре. В действительности же соотношение художественных сил оказывается в киноискусстве совсем иным — печальный опыт постановки всяческих фильмов-спектаклей (драматических, оперных, балетных) убедительнейшим образом доказал эту «теорему» методом от противного. Дело в том, что сама зафиксированность на пленке разыгранного актерами действия превращает его из совершающегося на наших глазах в совершившееся некогда, т. е. переводит из настоящего времени в прошедшее, и кинопленка становится его заместительницей, представительницей, изобразительной носительницей. Тем самым киноискусство оказывается искусством в основе своей изобразительным — не в том общем смысле, что оно работает системой изобразительных знаков (ею работает и театр), а в том более узком и конкретном смысле, в каком мы называем «изобразительными искусствами» живопись, графику, скульптуру, художественную фотографию — не случайно синонимом термина «фильм» стала «кинокартина». Потому А. Леметр имел все основания назвать кинематограф «фигуративным искусством», показывая его глубинную, историческую и структурную связь с живописью и другими пластическими искусствами (32, 11 – 14)162*.
До тех пор, пока киноискусство было немым, его изобразительная природа не вызывала никаких сомнений — ее многократно фиксировали С. Эйзенштейн, А. Довженко, В. Пудовкин, Б. Балаш и другие теоретики немого кино. Когда же это искусство заговорило, отчего существенно повысилась роль литературной его основы — сценария, стало возникать впечатление, будто именно она является художественной доминантой киносинтеза (такую точку зрения наиболее резко сформулировал И. Маневич, назвав киноискусство «конденсированной литературой» (см. 263, 21 – 22, 39 и др.)). Подобная концепция столь же, разумеется, несостоятельна, как, например, проклятья словесной стороне фильма, которые в свое время посылал Р. Арнхейм 382 (см. 173). Словесная подсистема органически вошла в структуру киносинтеза, но он от этого не утратил своей изобразительной доминанты, а лишь расширил свое изобразительное поле, введя в него говорящего человека на равных правах с человеком, действующим молча (или подающим минимум необходимых для понимания действия реплик, запечатленных в титрах).
Вряд ли основательна попытка примирить противоположные позиции, подобная той, которую предпринял В. Ждан. «С появлением в кино звука, — отметил он, — не раз возникали споры о том, что является главным в структуре кинообраза: слово или изображение?» Критик считает, однако, саму эту постановку вопроса «откровенно схоластической», поскольку она игнорирует все конкретные обстоятельства создания фильма, способные выдвинуть на первый план то одну его грань, то другую (215, 77. Ср. 248). Между тем спор этот имеет под собой глубокие основания, ибо, как бы ни были неразрывны в киноискусстве данные стороны кинематографической художественной структуры и как бы ни варьировалось их взаимоотношение в зависимости от массы конкретных факторов, действующих при создании того или иного фильма, некий структурный инвариант должен сохраняться — иначе разрушится качественное своеобразие данного вида искусства.
Это последнее соображение перестало быть чисто методологическим и обрело реальный практический смысл, когда возникло телевизионное искусство и начало отличать себя от кинематографа; тут-то и выяснилось, что при всей близости кинофильма и телефильма структурные доминанты у них разные: ведь если кинофильм представляет нашему взору изображение того, что некогда произошло (в действительности или было разыграно, в данном случае не имеет значения), то телепередача являет нашему взору то, что происходит сейчас (опять-таки безразлично, на улице или в студии)163*. По удачному выражению З. Лисса, «говорящие персонажи на экране — это не говорящие люди, а говорящие фотографии людей…» (255, 81); между тем на телевизионном экране мы даже «фотографии людей» воспринимаем как подлинную реальность, которую мы «подсматриваем» с помощью волшебного зеркальца — телеглаза.
383 Изобразительная основа киноискусства не могла не привести к выделению и всемерной активизации того участника слагающейся здесь синтетической структуры, который является непосредственным творцом изображения. Эту роль не мог уже играть художник старого типа, подобный театральному декоратору. Вернее, художник этого последнего типа остается в известной мере необходимым кинематографическому синтезу, но дело в том, что собственными усилиями он может сделать здесь только эскизы, а их претворение в кинематографическую плоть потребовало формирования художника нового типа — кинооператора. Именно он стал действительным мастером «кинографики» и «киноживописи», непосредственным создателем зримой художественной «ткани» фильма. И только в одном случае кинооператор стушевывается, уступая свое первопланное место живописцу в обычном смысле этого слова — в мультипликационном фильме.
Яркое доказательство изобразительной, а не актерской основы киноискусства — наличие в нем таких модификаций, как игровой фильм, кукольный и мультипликационный. Некоторые эстетики, как мы видели, чувствуя, что тут заключена важная морфологическая проблема, выделяли даже рисованный мультипликационный фильм в качестве самостоятельного искусства. Между тем его самоопределение происходит не на уровне вида искусства, а на уровне рода кинематографического вида. Кинофильм остается кинофильмом независимо от того, играют в нем люди, куклы или рисунки. Если уже в театре выход на сцену куклы значительно усиливает роль изобразительного искусства в сценическом синтезе, то появление на экране рисованного изображения служит свидетельством перехода количества в качество — принципиального изменения значения изобразительности в киноискусстве по сравнению с театром. Потому-то спектакль можно слушать в радиотрансляции, а фильм невозможно.
Весьма любопытно: в телевизионном искусстве нет такого рода как мультипликация. Ее нет совсем не потому, что телевидение только начинает обретать цвет, а рисованный фильм без цвета оказывается слишком бедным: можно утверждать, что и цветное телевидение самостоятельной мультипликации знать не будет (при том, что он сможет, конечно, показывать мультипликационные ленты, снятые на киностудиях). Хотя существуют телефильмы и телеспектакли — что говорит, как обнажает это сама терминология, о большей близости телеискусства то к сценическому искусству, то к кинематографическому, — но в принципе, по глубинной своей специфической сути, телеискусство тяготеет к театральному зрелищу, а не к кинофильму, так как 384 оно не является изобразительным искусством164*. Потому-то в телеискусстве мельчайшей единицей художественного текста нужно считать мизансцену — как в театре, а не кадр — как в кинематографе; неудивительно, что проблема композиции кадра как выразительного средства не имеет в телеискусстве такого значения, как в киноискусстве — вспомним, например, какой художественной и эстетической нагрузкой обладает буквально каждый кадр в «Ивановом детстве» Тарковского, в «Джульетте и духах» Феллини или в «Мольбе» Абуладзе, Понятно, что и художественная роль оператора неизмеримо скромнее на телевидении, чем в кинематографе.
Если, таким образом, основа кинематографического синтеза изобразительная, а телевизионного синтеза — актерская, то в комплексе искусств, рожденном техническим прогрессом XX в., существует еще один синтетический вид художественного творчества, основа которого литературная, словесная. Это — радиоискусство.
Мы не будем углубляться в специфику данного искусства — как потому, что это выходит за пределы проблематики нашей книги, так и потому, что вопрос этот прекрасно рассмотрен в книге Т. Марченко (265), и отметим лишь существенное с морфологической точки зрения: в синтезе литературы, музыки и актерского искусства, т. е. всех звучащих и слышимых искусств, который осуществляется на радио, роль структурной доминанты играет именно искусство слова. Актер не может принять на себя эту миссию, так как он работает тут лишь частично, односторонне, только голосом, вынужденный полностью отказаться от могущества своих мимико-пластических средств; музыка также не может играть в художественных радиокомпозициях главенствующей роли, ибо и она предстает здесь неполноценно, даже ущербно, «снятая» и «уплощенная» техническим преобразованием своего реального, живого и «объемного» звучания. И только слово меньше всего теряет при радиотрансляции и доносится ею в единстве понятийно-смыслового и эмоционально-интонационного аспектов своей выразительности. Потому-то в художественном радиосинтезе именно слово занимает господствующие позиции.
Ограничивается ли круг синтетических искусств «технического комплекса» рассмотренными нами тремя видами? Пока 385 что на этот вопрос приходится ответить утвердительно, хотя возможности дальнейшего видообразования нельзя здесь все же считать исчерпанными. Во всяком случае, в наше время ведутся интенсивные поиски такой синтетической художественной структуры, которая на основе кинематографической техники соединила бы движущийся орнамент и музыку. В этом варианте кино-цветомузыки роль художественной доминанты принадлежит, несомненно, архитектонически-орнаментальному творчеству. Будущее покажет, сколь устойчива такая художественная структура, однако принципиальная ее правомочность не подлежит сомнению165*.
Сложнее обстоит дело с приданием доминантного значения в синтезах такого типа музыкальному и хореографическому творчеству, ибо ни один способ технической репродукции и трансляции — не только свойственный радио, но и кинематографический и телевизионный — не способен воссоздать хореографическую и музыкальную «плоть» во всей ее конкретности и эстетической полноценности. Всем хорошо известны многочисленные случаи экранизации в кино и на телевидении опер, оперетт и балетов, и столь же хорошо известно, что самостоятельной художественной ценностью такие постановки в большинстве случаев не обладали. Их смысл — только в популяризации классических опер и балетов, творчества больших певцов и танцоров. Наиболее успешными оказывались специально созданные для экрана произведения особого жанра — так называемые «мюзикл» — типа «Шербурских зонтиков» или «Оливера». Все же надо признать, что даже тут сама музыкальная сторона фильма остается неполноценной: так же как и на радио, звук оказывается тут уже не подлинным, «живым», а механически воспроизведенным, словно омертвевшим. Отношение этой записанной музыки к «живой» подобно отношению цветной репродукции картины к самой картине. Оттого-то ни в кино, ни на телевидении не родились самостоятельные виды искусства, подобные музыкальному и хореографическому театрам. Сколько бы ни была активна роль музыки в фильме — мы можем лишь согласиться со всем, сказанным на этот предмет в фундаментальных исследованиях специалистов (244; 255; 322), — все же музыкальному компоненту киносинтеза принадлежит подчиненная роль, и вряд ли можно рассчитывать, что такое положение вещей когда-либо изменится. Разумеется, технический прогресс будет приближать 386 радио-кино-теле-изображения к живому звучанию и к живому цвету, к стереофонии и стереоскопии. И все же перспектива появления на этой технической базе новых синтетических художественных структур зависит, видимо, не от режиссерской изобретательности в «прилаживании» для экрана оперы Чайковского или балета Шостаковича и даже не в написании специальных киноопер или кинооперетт типа «мюзикл», а от других причин — от возможности найти такие способы записи звука и движения, которые раскрыли бы качества этих последних, неизвестные и недоступные их естественному бытию. Поиски в этом направлении уже ведутся — и в так наз. магнитофонной музыке, которая позволяет свободно преобразовывать естественные звучания, достигая удивительных и совершенно специфических эффектов, и в последних экспериментах чешской «Латерна магика», где не случайно усиливается именно хореографический компонент синтеза, причем использование полиэкрана, на
Табл. 44
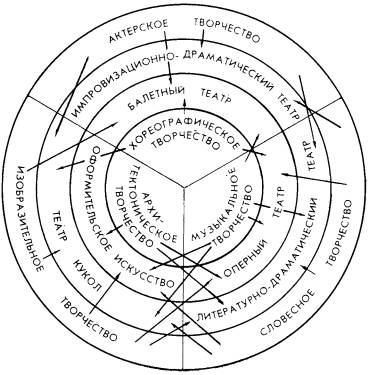
387 котором воспроизводятся фрагменты танца, в сочетании с танцем живого актера и с различными иллюзионистическими эффектами, действительно выводит танец за пределы его естественных возможностей.
Закономерный характер образования сложных синтетических художественных структур станет особенно отчетливым, если мы представим все сказанное в новых вариациях нашей схемы, одной для синтетических искусств сценического комплекса, другой — для синтетических искусств технического комплекса (табл. 44 и 45).
Табл. 45
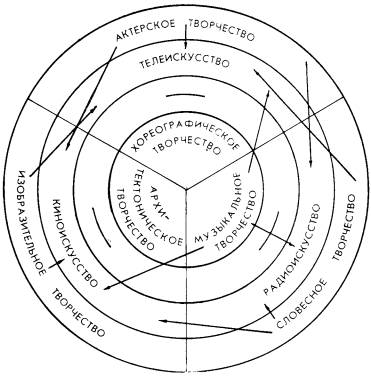
Эти схемы показывают, что хотя в образовании синтетических художественных структур принимают участие представители всех шести основных семейств искусств, роль каждого из них бывает различной: в одном случае оно предоставляет для синтеза свою почву и тогда синтез этот осуществляется в зоне, непосредственно примыкающей к территории, занимаемой в «мире
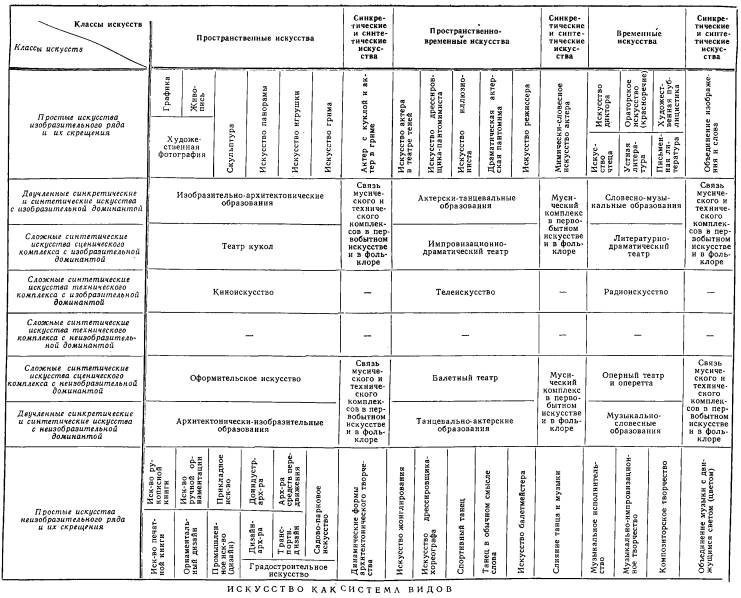
390 искусств» данным семейством; в другом случае оно лишь посылает своих «представителей» в зоны, сравнительно далеко отстоящие от его границ, и соответственно играет в образующихся здесь синтетических структурах более скромную роль166*.
Не желая усложнять эти таблицы, мы не обозначили на них те формы «вторичного синтеза», если так можно выразиться, которые образуются на стыках разных видов сценических искусств, или на стыке кино- и телеискусства. Однако именно прямое соседство литературно-драматического и оперного театров делает возможным существование оперетты, в которой происходит как бы наложение друг на друга двух однородных по структуре форм сценического искусства. Точно так же соседство оперы и балета делает возможным их прямое скрещение (оно стало нормой в классической опере, насыщавшейся хореографическими дивертисментами, но могло бы, в принципе, происходить и на балетной базе). Опыт эстрады показывает, как часто актер-кукольник выходит на сцену и ведет прямой диалог с куклой — так скрещиваются драматический театр в обеих его формах с театром кукольным. Точно так же телефильмы, которые снимаются на киностудиях по заказу телевидения, транслируются на телевидении, но затем нередко выпускаются и в кинопрокат, суть не что иное, как своеобразный гибрид двух смежных видов синтетического творчества. Следует также заметить, что во всех случаях такого «вторичного синтеза» возникающие структуры образуют уже известные нам спектральные ряды, ибо та же оперетта, например, допускает целую гамму соотношений оперного и словесно-драматического слоев, так же как кино- телефильм может быть в большей степени телевизионным и в большей степени кинематографичным.
Таковы основные закономерности образования синтетических искусств, обусловливающие место, которое они занимают в «мире искусств». Этим завершается исследование уровня видовой дифференциации художественно-творческой деятельности, результаты которого могут быть зафиксированы в сводной таблице «Искусство как система видов» (табл. 46).
Теперь мы можем перейти к рассмотрению другого морфологического уровня — уровня родовой дифференциации каждого вида искусства.
391 Глава XI
РОД КАК МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Как показал наш историографический обзор, категории рода в эстетике до сих пор не существует. Этой категорией оперирует поэтика, характеризуя главное внутреннее членение литературы, в морфологический же анализ всей сферы художественной деятельности понятие «род» входило лишь в тех случаях, когда — как, например у Шеллинга, у Вейссе или Лотце — деление поэзии на эпическую, лирическую и драматическую становилось мерилом для внутреннего членения всех остальных искусств. Впрочем, мы могли убедиться, что даже в пределах поэтики наука не смогла выработать за двадцать пять столетий общепризнанного критерия различения литературных родов; между тем множественность этих критериев приводила к совершенно разным решениям вопроса, каковы же они сами, поэтические роды: наряду с названной только что триадой (хотя ее обоснование тоже было далеко не одинаковым у теоретиков литературы — от Аристотеля до Штайгера) мы встречаемся в истории эстетики и с выделением всего двух родов — эпического и драматического и, напротив, с введением четвертого рода, которым оказывался в одном случае роман (Тиандер, Днепров), в другом — сатира (Борев)…
Уже в «Лекциях по марксистско-ленинской эстетике» мы имели возможность обосновать иной подход к данной проблеме (67, 396 – 407). Род, доказывали мы, должен рассматриваться как категория общеэстетического масштаба, т. е. обозначающая определенный аспект модифицирования структуры каждого вида искусства; в разных искусствах эти родовые вариации обозначаются разными терминами — потому-то теоретики и не усматривали между ними никакой внутренней связи, однако исследование показывает, что эти разные системы обозначений проистекают все же из единого принципа членения и что поэтому мы 392 имеем тут дело с определенным морфологическим уровнем дифференциации, «прорезающим» весь мир искусств. Сейчас следует изложить данную концепцию более развернуто.
Исходным при этом является утверждение, что в реальном процессе формирования и развития всех видов искусства сталкивались и взаимодействовали две противоположные силы — сила взаимного притяжения и сила взаимного отталкивания. С одной стороны, условием самоопределения каждого вида искусства была выработка неповторимого и только ему свойственного способа художественного освоения действительности, что и требовало его «отталкивания» от всех других искусств; с другой стороны, постоянное соприкосновение с другими искусствами заставляло осваивать их опыт, испытывать выработанные ими средства (Нельсон остроумно назвал это «перекрестным опылением» искусств — см. 275, 124), а прежде всего и главным образом — искать пути к прямому с ними соединению, к образованию синтетических художественных структур.
Собственно говоря, эта последняя задача была решена стихийно в синкретическом творчестве древности, задолго до того, как художественное развитие человечества начало решать ее сознательно, во имя создания синтеза искусств. Но, так или иначе, такая задача объективно существовала на протяжении всей истории искусства и получала свое осознанное или неосознанное решение. Потому что непременным условием существования любого синкретического или синтетического художественного явления оказывалась, как мы уже видели, способность составляющих его элементов — словесных, музыкальных, пластико-динамических и т. д. — войти друг с другом в органическую связь. Для того, чтобы связь литературы и музыки или живописи и архитектуры имела «химический» характер, искусства эти должны взаимно приспособиться к подобному слиянию, должны «приладиться» друг к другу: так в песне словесное искусство идет навстречу музыке, образуя стиховую, ритмизованную конструкцию, а музыка движется навстречу литературе, организуя звуковысотные отношения мелодически; так живопись, «поворачиваясь лицом» к архитектуре, приобретает декоративный характер и т. д. Рассматривая теперь эту проблему в самом общем масштабе, мы должны сказать, что взаимодействие искусств имеет гораздо более широкий характер — ведь литература, например, стоит лицом к лицу в художественной культуре общества не только с музыкой, но и с актерским искусством, и с искусствами изобразительными, и с киноискусством, радиоискусством, телеискусством; точно так же в историко-художественном процессе музыка связана силами притяжения и отталкивания 393 не с одной, литературой, но и с танцем, и с различными видами сценических искусств, и с киноискусством, и с радиоискусством… Поэтому вопрос о том, как сказываются на внутренней структуре каждого вида искусства его контакты с другими способами художественного освоения мира, должен быть поставлен как самостоятельная морфологическая проблема. Она и окажется ключевой для понимания рода как особой модификации структуры каждого вида искусства.
1. ПРОБЛЕМА РОДА В ЛИТЕРАТУРЕ
Твердо установленный исторический факт — поэзия старше прозы. Это кажется, однако, странным и неправдоподобным — ведь первобытный человек, как и мы с вами, разговаривал в быту прозой; как же мог он, вместо простого и, казалось бы, столь естественного применения этого прозаического языка для целей художественного познания, начать с выработки гораздо более сложной, чем прозаическая, поэтической словесной структуры? Объясняется это синкретизмом древнего «мусического» искусства, который выражался в слитности словесных, музыкальных и танцевальных выразительных средств. «… Стихи напоминают танец, — метко определил эту связь М. Харлап, — который отличается от всех других телодвижений, как беспорядочных, так и автоматически упорядоченных (вроде ходьбы), осуществлением определенной заданной фигуры» (323, 102). Упорядоченность же эта достигается в первую очередь ритмом — этим главным организующим началом в музыке, в танце, а отсюда — и в поэтической речи. «Поэтическая речь всегда ритмична, даже если она и не имеет формы стиха. Поэтическая (или лирическая) проза — это ритмическая проза, где эмоциональная интонация соединяется с какой-то гармонией и соразмерностью. Эта соразмерность, став правилом построения речи, превращается в стихотворный размер, или метр, а сама речь становится метрической, или стихами. Подчинение такому правилу, в первую очередь, диктуется, конечно, “идеалом прекрасной соразмерности”; но, с другой стороны, метрические правила выявляют “основную силу стиха”, подчеркивают интонационно-ритмическое начало речи и тем самым способствуют выявлению “пламени поэзии”» (там же, стр. 143, 144).
Анализ самых древних форм поэзии (а в этом отношении филогенез повторяется в онтогенезе) показывает: ритм играл 394 такую огромную роль в поэтическом высказывании, что он обеспечивался даже ценой жертвы смысла, ценой ничего логически не значащих повторений одного и того же слова, одной и той же комбинации звуков. Но в синкретическое творчество ритм приходил из музыкальной и хореографической его сторон и подчинял своей власти строение речевой стороны «мусического» комплекса. Можно ли, однако, полагать, что это приспособление речи к слиянию с музыкальной стихией коснулось только формальной стороны словесного высказывания и никак не затронуло его содержательных качеств? Не основательнее ли предположить, что единство словесной и музыкальной выразительности должно было наложить печать и на выражаемое словом содержание?
Именно так оно, конечно, и происходило. Стиховая форма поэзии сама была не чем иным, как внешним, материально-конструктивным выражением ее специфического — лирического — содержания, орудием «лирики», по выражению Н. Берковского (372, 10). А это означает, что лирика как род литературы возникла исторически в процессе «омузыкаливания» словесного выражения. Лирика стала «музыкой в литературе», или литературой, принявшей на себя законы музыки, стиховая же форма нужна была в данном случае именно для того, чтобы адекватно воплотить подобное содержание.
Белинский имел все основания соглашаться с утверждением Жан-Поля Рихтера, что лирика есть «основная стихия» поэзии. При этом Белинский добавлял: «Лирика есть жизнь и душа всякой поэзии: лирика есть поэзия по преимуществу, есть поэзия поэзии» (48, т. V, 14). Поэтическая форма родилась как непосредственное и адекватное воплощение лирического содержания и осталась навсегда наиболее соответствующей ему формой, тогда как эпическое содержание, вынужденное первоначально развертываться тоже в поэтически-музыкальной форме — ибо никакой другой синкретическое творчество, бытовавшее изустно, не знало и знать еще не могло, — в дальнейшем решительно с ней рассталось и прочно срослось с формой прозаической: роман и повесть стали наследниками эпоса и гораздо более последовательными, чем он, формами реализации эпических установок художественного освоения мира.
Т. Манн назвал однажды эпос «примитивным прообразом романа», и это очень точное определение. Во всяком случае нельзя отождествлять «эпический род» литературного творчества и «эпос» как исторически своеобразный жанр, в коем род этот в известную пору воплощался. Отсюда следует также, что, признавая безусловно верными наблюдения Днепрова, установившего глубокое проникновение в роман лирического и драматического 395 начал, мы не можем согласиться с его выводом, будто роман стал новым, четвертым родом словесного искусства. Прозаическая форма романа и повести, как бы ни насыщалась она подчас лирическими элементами, приводя к такому специфическому жанровому образованию, как «лирическая проза», столь же адекватна эпическому углу зрения на жизнь, как поэтическая форма — углу зрения лирическому. Что касается самой «лирической прозы», то она, равно как и «эпическая поэзия», есть явление вполне, разумеется, правомерное, но с морфологической точки зрения — пограничное, промежуточное, образующее одну из «полос» спектра переходных форм от лирики к эпосу. Потому что переход этот не резок, не скачкообразен, а плавен, постепенен и развертывается на такой же широкой шкале скользящих пропорциональных отношений обоих начал, какую мы неоднократно обнаруживали уже на других стыках в системе искусств. Но — и это самое важное — даже в прозаическом своем облачении лирика раскрывает генетическую и структурную связь с музыкой (генетически связь эта изучена достаточно хорошо, чтобы мы могли специально на этом не останавливаться).
Из сказанного следует, что обычное определение лирики, которое варьирует классическое гегелевское и связывает ее с художественным воплощением мира субъективного (в отличие от объективной ориентации эпоса), не только не отрицается нами, но, напротив, всецело подтверждается. Отличие обосновываемой в данной работе постановки вопроса состоит лишь в том, что проблема берется нами не в отвлеченно-гносеологической плоскости, а в разрезе генетическом и абсолютно конкретном, А в этом случае оказывается, что сами гносеологические «параметры» литературных родов являются производными и несут на себе печать их происхождения — того, что именно исконная связь с музыкой породила лирическую структуру словесного искусства. Лирика получила по наследству от музыки — так сказать, генотипически — свойственную последней способность прямого образного моделирования внутреннего мира субъекта. Иначе говоря, поэзия лирична потому, что музыка по природе своей является лирическим искусством167*: Точно так же драматический род литературы выделился, развивался и обрел свой «драматический» характер потому, что этого потребовала от словесного искусства его органическая связь с актерским творчеством.
396 Вспомним, что в процессе расщепления исходного «мусического» синкретизма выраставшие из него искусства оказывались в неравном положении: если словесное изображение действительности и музыкальное творчество могли развиваться вполне самостоятельно, то танец решительно требовал музыкальной поддержки, а актерское творчество — поддержки литературной. Актерский мимесис нуждался, во-первых, в связи со словом, так как в самом изображаемом предмете — в реальной жизнедеятельности человека — физическое действие неотделимо от словесного (эта нужда существенно отличала актерский мимесис от танца, которому его неизобразительная природа позволяла в полной мере отвлекаться от жизненно-реальных форм человеческого поведения); поэтому, хотя чистая актерская пантомима существовала на протяжении всей мировой истории искусства, занимая в художественной культуре то более, то менее видное положение, она никогда не могла быть главным руслом развития актерского творчества. Главной формой его бытия во все времена было синтетическое мимически-словесное творчество — его-то обычно и имеют в виду, говоря об искусстве актера.
Во-вторых, развитие актерского творчества по пути целостного мимически-словесного изображения человеческого поведения не могло быть успешным без прочной литературной основы. Далеко не случайно, что в фольклорном «мусическом» комплексе драматическая ветвь сохраняла в большинстве случаев подчиненное значение по сравнению с музыкально-поэтической и даже хореографической ветвями — в дописьменной словесности драматургия не имела условий для широкого развития, а без такой опоры не могло эффективно развиваться и актерское искусство. Не случайно и то, что комедия дель арте была вытеснена литературным театром; если же будущее принесет с собой новый расцвет импровизационного театра, то это станет возможным только благодаря нескольким тысячелетиям развития сценического искусства на прочной литературно-драматургической основе.
Таким образом, в своем развитии искусство слова встало перед необходимостью удовлетворять нужды актерского искусства, давая ему такую художественную базу, на которой оно могло бы развернуть все заключенные в нем возможности. Для этого литературе нужно было выработать соответствующую структуру художественной ткани, которая существенно отличалась бы и от лирической, и от эпической структур. Известно, как сложно протекал этот процесс в античной культуре: с одной стороны, долгое время драматургия не могла избавиться от «лирического героя», выступавшего в форме хора, а с другой — она медленно и постепенно «расщепляла» начального сказителя 397 на несколько самостоятельных персонажей, превращая литературное произведение из монологического в диалогическое.
Диалог, т. е. словесное действие, развертывающееся между персонажами, и есть существо этого «изобретения» поэтического гения человечества168*. Диалогическая форма заключает в себе, конечно, тот синтез эпического (объективного) и лирического (субъективного), о котором говорил, характеризуя ее, Гегель (55, т. XIV, 329); она заключает в себе, несомненно, и те качества, которые выделил в ней Гачев, — самодвижение художественной мысли через цепь вопросов и ответов, определенный мировоззренческий смысл, имманентный данной форме (195, 49 – 50); но все это и многое другое — снова подчеркнем мы — суть качества производные, выросшие из того, что определяет само бытие драмы как рода словесного искусства, т. е. из того, что драма есть ответ литературы на требования, объективно предъявляемые ей существованием искусства актера. Потому что диалог как литературная форма родился не из абстрактной необходимости отразить все возможные комбинации отношений между субъектом и объектом и не был самопорождением особого типа общественного сознания, а явился просто-напросто результатом приспособления словесного способа изображения жизни к возможностям актерского творчества. Ему, этому виду художественно-творческой деятельности, в отличие от всех других, необходимо наличие не одного, а по крайней мере двух художников, в словесном поединке которых и вспыхивает искра драмы. «Театр одного актера» есть поэтому — повторим — чистая метафора, право на существование которой дает лишь возможность образного раздвоения самого чтеца, возможность ведения им диалога за мыслимых персонажей. Реальный же театр начинается со структуры, классической моделью которой может служить «Моцарт и Сальери» Пушкина. По этой модели легче, чем по античным трагедиям, изучать все законы этого искусства «в чистом виде», ибо здесь содержится минимум необходимых драматургии качеств, который мы определяем понятием «диалогическое действие».
Популярное в XVIII в. дихотомическое деление литературы на эпическую и драматическую, с подключением лирики к эпической поэзии имело тот рациональный смысл, что обе последние формы словесного изображения являются монологическими. Переход от них к драматической структуре есть выход за границы 398 монолога в сферу диалога. Монолог — это рассказ о произошедших в мире событиях или о «психологических событиях» во внутреннем мире поэта (именно тут начинает намечаться различие между эпической и лирической формами). Но как только в действие вступает «второй голос» и как только партнеры вступают в некое взаимодействие — рождается драматическая форма. Она включается поначалу в структуры эпического и лирического описания и навсегда остается в них элементом, играющим то большую, то меньшую роль169*, но стоит ей выделиться, приобрести самостоятельное существование — и возникает драма. Все остальное в этом виде искусства уже наращивается на коренное для него диалогическое действие, развивая это последнее, усложняя его и сочетая его с другими художественными компонентами: так появление третьего, четвертого, десятого, двадцатого персонажей, появление декораций, бутафории, костюмов, грима, музыкального сопровождения и даже «появление» перед глазами театрального зрителя физического облика и действия героев спектакля суть своего рода наслоения на ту элементарную художественную клеточку драматургической ткани, имя которой «диалог». Потому-то все перечисленные моменты оказываются отнюдь не необходимыми в данной форме искусства — когда мы слушаем, например, радиотрансляцию спектакля «Моцарт и Сальери», мы получаем даже в более чистом виде, чем при зрительском восприятии спектакля, то необходимое и достаточное впечатление, которое должно давать произведение драматического искусства и которое определяется его специфической художественной структурой — словесным поединком двух характеров, столкнувшихся друг с другом в некоей событийной ситуации. Представить такую сшибку характеров могут в искусстве только актеры, т. е. живые люди, обладающие даром перевоплощения, растворяющие в себе писателя и как повествователя — эпика, и как самовыразителя — лирика, и берущие на себя всю полноту ответственности за развитие и выражение идеи драматурга170*.
Эпический род есть третий тип словесного творчества, в котором литература, «отдав должное» музыке и актерскому искусству, остается, наконец, наедине сама с собою, вернее — наедине с подлежащим изображению реальным миром. В эпическом повествовании литература обретает некую внутреннюю чистоту, 399 утверждает свою полную независимость от влияний других искусств, раскрывает свои специфические, собственные, одной ей присущие художественные возможности. Эпический род литературы становится в ней тем же, чем станковая картина станет в живописи, а инструментальное творчество — в музыке: самоутверждением данного искусства, выявлением его единственности, неповторимости и незаменимости другими, обнаружением его художественной «личности» с живым единством всех его сильных и слабых сторон.
Понятно, что в ходе своего развития и укрепления эпическая литература должна была сбросить с себя форму своего детства — поэтический «костюм», должна была отказаться от соблазнов драматически-диалогической формы и, удерживая элементы обеих в тех пределах, в каких это ей могло быть нужно, стала вырабатывать собственный художественный язык — язык прозаически-повествовательный, в отличие от языков лирики и драмы. Стремление к созданию словесной модели объективного мира делало здесь в принципе безразличной звуковую форму слова и его живую интонационно-речевую конкретность; поэтому эпический род не только легко примирился с переходом литературы от устной формы бытия к письменной — с чем никогда не могла смириться лирика, — но именно на этой новой почве и достиг подлинного расцвета. Точно так же, как лирика по самому своему существу нуждается в произнесении, и так же как драма по своей природе требует актерского воплощения (хотя и ту и другую можно, разумеется, и читать глазами — только создаются они не для этого)171*, так эпические произведения обращены к чтению глазами, к молчаливому и сосредоточенному реконструированию описанного мира воображением читателя и его «переселению» в этот свободно им самим воссозданный мир. Роман и повесть стали идеальной формой бытия эпической литературы, а реализм — идеальным для нее творческим методом. Потому-то теория реализма в XIX – XX вв. и поклоняется роману и повести, 400 сводя к ним литературу и даже искусство в целом — так же, как эстетика романтизма находила высшее проявление литературы в лирической поэзии и так же как эстетика XVII – XVIII вв., говоря о словесном искусстве, имела в виду чаще всего драму, поскольку видела в ней идеальную форму бытия поэзии.
Каковы бы ни были, однако, все эти историко-художественные пристрастия, XIX в. имел все основания, опираясь на обретенный историей литературы опыт, признать существование трех литературных родов, а не двух, выделявшихся обычно в прошлом столетии. Однако теоретическая мысль XX в. удовольствоваться этим уже не может: опыт художественного развития человечества и, в частности, опыт развития взаимодействий между старыми и вновь рождавшимися видами искусства приводил к кристаллизации новых родов литературы.
Первую трансформацию искусству слова пришлось совершить в XX в., когда этого потребовал кинематограф. А он этого именно потребовал, поскольку выяснилось, что киноизображение не способно войти в органическую художественную связь с существовавшими литературными родами — ни с эпическим, ни с лирическим, ни даже с драматическим. Кинематограф оставался простым способом иллюстрирования повестей и пьес, пока не сложился новый род литературы — киносценарий — со своей специфической художественной структурой, существенно отличной от строения классических литературных родов, но вобравшей в себя в переработанном виде многие их элементы172*. Тот синтез эпоса, лирики и драмы, который Днепров приписал роману, в действительности оказался характернейшей особенностью киносценарного рода литературного творчества. В свое время Е. Габрилович, исходя из того, что «кинодраматургия — литература 401 особого вида», обнаруживал своеобразие этого вида в особой «взаимосвязи диалога и прозы» (194, 20 – 37). Интересно, что далее, обращаясь к анализу нового компонента киноискусства — закадрового голоса, который «уничтожил немоту автора» так же, как раньше звуковое кино «уничтожило немоту персонажей фильма», Габрилович натолкнулся здесь, в сущности, на участие лирического элемента в кинодраматургическом синтезе, хотя не сумел это достаточно четко сформулировать (там же, 39 сл.).
Разумеется, сценарий может по-разному сочетать родовые черты классических структур словесного искусства — показательно в этом смысле прочно утвердившееся в теории различение поэтического и прозаического кинематографа (см. специально посвященное этому интересное исследование Е. Добина — 209). В поэтическом фильме художественной доминантой является лирическое начало (вспомним, напр., фильм «Иваново детство»), в прозаическом такую роль играет начало эпическое (таков, напр., «Председатель»). Несомненно, однако, что существует и третий род фильмов — типа «Мари-Октябрь» или «Двенадцать разгневанных мужчин», структурной доминантой которых является драматическое начало и строение которых близко поэтому строению пьесы. Соответственно следует выделить не два, а три жанровых типа киносценарной литературы — кинопоэму, киноповесть или кинороман и кинопьесу (названия эти, конечно, условны, так как во всех трех случаях мы имеем дело всего лишь с преобладанием лирического, эпического или драматического способов изображения жизни, при единстве всех трех в синтетической структуре киносценария).
Впрочем, небезынтересен и тот факт, что последние названные нами фильмы снимались по заказу телестудий. Уже отсюда можно сделать предположение, что жанр «кинопьесы» стоит на грани телевизионного сценария и в него непосредственно перетекает.
Это предположение оправдывается при изучении реального положения вещей. Потому что процесс становления телевизионного искусства имел для родовой дифференциации литературного творчества последствия, аналогичные тем, какие имело развитие киноискусства. Быть может, еще рано говорить о существовании телесценария как самостоятельного и художественно полноценного в своей самостоятельности явления, но не подлежит сомнению, что здесь уже нащупываются контуры специфической художественной структуры, отличной от структуры киносценария и являющейся ростком будущего полноценного рода литературного творчества. Во всяком случае, такой крупный 402 практик и теоретик, как Роберте, утверждает, что на телевидении складывается «новый вид драматургии» (295).
Еще один новый род литературы сформировался в результате влияния на нее радиоискусства. Тут есть уже значительные художественные достижения — сошлемся хотя бы на замечательные радиопьесы Бёля, — которые позволяют считать рождение этого нового рода литературы состоявшимся (его особенности хорошо описаны в монографии Марченко — см. 265).
Все сказанное мы можем снова резюмировать в таблице:
Табл. 47
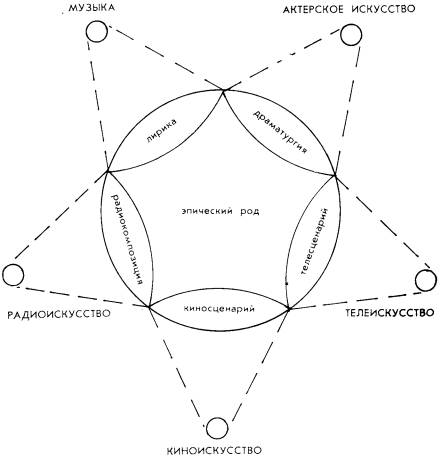
403 Эта таблица, как нам кажется, достаточно наглядно показывает: реальная сила, вызывающая родовую дифференциацию искусства слова, — это его живые контакты с другими видами искусства. Она позволяет вполне отчетливо увидеть, что структура словесного творчества всякий раз модифицировалась, во имя того, чтобы стать пригодной для органического слияния с тем или иным смежным искусством.
2. РОДОВОЕ ДЕЛЕНИЕ В ДРУГИХ ВИДАХ ИСКУССТВА
Если связь с музыкой в синкретическом комплексе «мусического» творчества порождала лирическое строение словесного искусства, то в музыке эта же связь приводила к появлению того качества, которое стали называть программностью. Отсылая читателя к специально посвященной этому явлению монографии Ю. Хохлова (324), мы можем лишь кратко отметить, что понятием «программность» обозначается такой тип музыкального содержания, логика которого либо словесно детерминирована, либо, по крайней мере, может быть словесно сформулирована. Программность исключает, следовательно, то свободное самодвижение музыкальной идеи, которое характерно для так называемой «чистой» или «абсолютной» музыки. Естественно поэтому, что последняя как особый род музыкального творчества есть явление значительно более позднее, чем музыка программная. Поскольку в «мусическом» искусстве древности и в фольклоре музыка неотделима от поэзии (как и от танца, но об этом разговор несколько позже), постольку вся она имела программный характер. Это качество навсегда сохранится за вокальной музыкой, программа которой заключена в самом поэтическом тексте. Что же касается музыки инструментальной, то она, отделившись от слова и став самостоятельной, могла так или иначе сохранять установку на программность (для этого были выработаны разные пути — от создания симфонических произведений на темы произведений литературных — скажем, «Ромео и Джульетта» или «Эгмонт» — и до использования одного только названия инструментальной пьесы, играющего роль максимально сокращенной программы — скажем, «Ярость по поводу потерянного гроша» или «Послеполуденный отдых фавна»); возможен стал, однако, и отказ от какой-либо программности, приводивший к сосредоточению музыкального творчества на тех возможностях развития содержания, которые 404 таились в музыке как таковой и не нуждались в помощи со стороны.
Таким образом, ситуация, сложившаяся в музыке, оказалась как бы зеркальным отражением той, какую мы видели в литературе (эта «перевернутость» объясняется тем, что литература есть искусство изобразительное, а музыка — неизобразительное): «абсолютной» формой литературы стал эпос — род, наиболее полно связывающий литературу с внешним миром, тогда как «абсолютная» музыка добивается полнейшей сосредоточенности на самой себе; с другой стороны, под влиянием поэзии музыка открывает двери внешним для нее источникам содержания, а под влиянием музыки литература, напротив, устремляет свой взор в недра внутреннего мира художника. Эта симметричность убедительнейшим образом подтверждает правильность обосновываемого нами принципа толкования рода в искусстве: оказывается, что в музыке родовые различия возникают совсем не тогда, когда к ее явлениям просто применяются литературные категории «лирическая», «эпическая», «драматическая» — эти понятия в применении к музыке (как и к живописи или хореографии) имеют чисто метафорический смысл, — а тогда, когда музыкальное творчество дифференцируется по собственным основаниям, но по тем же законам, по которым в литературе сложились лирический, эпический и драматический роды.
Эта диалектика общего и особенного в музыкальном родообразовании объясняет, почему третьим родом является здесь танцевальная музыка. Связь с танцем, завязавшаяся в древности, оказалась в высшей степени прочной, но прочной односторонне: если для него эта связь осталась обязательной во всех случаях, то для музыки она приобрела факультативный характер. Поэтому в тех случаях, когда музыка сохраняла данную связь, ей нужно было согласовывать свою структуру со строением танца; это приводило к тому, что соотношение мелодического и ритмического начал складывалось в танцевальной музыке не так, как в других ее родовых модификациях, ибо танцу нужна от музыки прежде всего ритмическая основа, которая и начинает играть здесь особую роль, вплоть до того, что может обойтись совсем без помощи мелодии и поддерживать танец одним только ритмическим перестуком ударных инструментов.
Танцевальная музыка может занять на нашей морфологической карте соответствующее место, как музыкальный род, симметричный драматическому роду в литературе. Ибо в четырехчленном «мусическом» комплексе родство музыки и танца как неизобразительных искусств симметрично родству литературы и актерского искусства как искусств изобразительных; в результате 405 приспособление музыки к нуждам танца имело для нее такое же значение, как приспособление литературы к нуждам актерского искусства. Но на этом, пожалуй, симметрия и заканчивается. Далее начинаются всяческие «неправильности», связанные с тем, что если у словесного искусства нет почти никаких контактов с танцем (даже в балете литературная основа играет минимальную роль в общем художественном эффекте спектакля), то у музыки со сценическим искусством возникли контакты весьма тесные и художественно значительные. Они привели к тому, что от ядра музыкального творчества отпочковались новые специфические роды: оперная музыка, опереточная музыка, балетная музыка, музыка для драматического театра. Развитие киноискусства привело к появлению киномузыки.
Особенности этой последней многократно становились уже предметом специального анализа, причем исследователям представлялось очевидным, что «киномузыка, — как сформулировала это З. Лисса, — новый, преображенный фильмом род музыки», ибо «ее законы значительно разнятся от законов автономной музыки» (255, 55 – 56). Рекомендуя заинтересованному читателю соответствующую литературу (244; 255; 322), мы отметим лишь наиболее существенные черты этого рода музыки:
а) она имеет двупланную структуру, сочетая музыкальное сопровождение фильма с музыкой, звучащей в фильме;
б) она является в основе своей инструментальной, хотя допускает разнообразные вокальные «вкрапления»;
в) она легко сочетается с различными естественными звуками — шумами, не только чередуясь с ними, но и «накладываясь» на них — например, на артиллерийскую канонаду, рокот волн или речь персонажа;
г) она «прерывна», постоянно сменяясь длительными паузами или диалогом героев;
д) она является «сверхпрограммной», ибо не только пишется по существующему киносценарию либо даже по отснятому фильму, но подчиняется длительности каждого его куска.
е) наконец, киномузыка рассчитана на ее совместное восприятие со зрительным рядом фильма.
Ограничимся сказанным, так как исчерпывающая характеристика данных родов музыки, как и всех других, есть дело теории музыки, а не эстетики; наш разговор о киномузыке должен был лишь послужить достаточно яркой иллюстрацией общего закона родообразования — модификации структуры вида искусства под воздействием смежного вида. Напомним превосходную формулировку Б. Асафьева, приведенную нами выше и относящуюся, по сути дела, не к одной музыке, но ко всем искусствам 406 без исключения: «Музыкальная интонация никогда не теряет связи ни со словом, ни с танцем, ни с мимикой (пантомимой) тела человеческого, но “переосмысливает” закономерности их форм и составляющих форму элементов в свои музыкальные средства выражения». Подобно всем другим аналогичным художественным явлениям, киномузыка — по удачному определению теоретиков — есть «принадлежность одновременно двух искусств» (244, 5). Отсюда все ее художественные особенности, позволяющие опытному слушателю определять характер исполняемого произведения даже тогда, когда он не знает заранее, к какому роду это произведение принадлежит. Неудивительно, что далеко не каждый композитор одинаково успешно владеет всеми родами музыкального творчества, как далеко не каждый писатель владеет повествовательной, драматической и киносценарной формами, не говоря уже о форме поэтической.
В искусстве танца родовые различия проистекают из того же источника, хотя своеобразие этого искусства сказалось на его родовой дифференциации еще острее, чем в музыке. Неотрывный изначально от актерского искусства, танец под его влиянием приобретает качества, подобные тем, которые приобретала музыка под воздействием искусства слова — он становится «программным», «повествовательным», сюжетно-изобразительным, подходя вплотную к пантомиме. В фольклорных танцах отлично сохранился этот род хореографического творчества. Однако рядом с ним уже в древности развивался танец неизобразительный, «чистый» — другой род этого искусства, в котором он, подобно «чистой» музыке, уходил от всякой изобразительной программности и становился динамическим орнаментальным узором. В современных бытовых танцах мы имеем дело с наследником этого рода хореографического искусства.
Еще одним его родом стал так называемый классический танец, на языке которого уже триста лет говорит балет. Образная структура классического танца сформировалась под перекрестным влиянием музыки, литературы и актерского искусства. Во всяком случае, и поныне, несмотря на многолетние настойчивые поиски нового хореографического языка, язык классического танца остается наиболее органическим соединением возможностей «орнаментальных» с возможностями «повествовательными». Классический танец гораздо плотнее связывается с музыкой, чем танец сюжетно-изобразительный или пантомима, и обладает одновременно той способностью психологической выразительности, какой нет у ритмического бытового танца. Иначе говоря, он успешно скрепляет в одно образное целое такие различные, а во многом даже противоположные формы художественного 407 творчества, как музыка и актерское искусство; именно это определило его устойчивость и незаменимость в хореографическом театре. Как бы активно ни вливались сейчас в балет элементы пантомимы и спортивно-художественных танцев, придавая современный колорит традиционному языку классического танца, он все же остается структурной основой того синтеза искусств, который осуществляется на балетной сцене.
Последний компонент «мусического» квартета — актерское искусство. Его родовая дифференциация протекала, пожалуй, в наиболее обнаженных для теоретического анализа формах, поскольку этому искусству приходилось структурно видоизменяться всякий раз, когда оно сопрягалось с иной основой сценического синтеза — литературной, или музыкальной, или хореографической и т. д. Совершенно очевидны, например, особенности творчества комического актера в драматическом театре, в оперетте, в цирке (клоунада) и на эстраде (конферансье). Актер оперетты является одновременно певцом и танцором; клоун сочетает драматическое дарование с несколькими цирковыми профессиями, дабы развертывать комическую ситуацию через серию трюков; конферансье сочетает актерские данные с данными чтеца, ибо его «партия» в концерте есть, в сущности, сплошной монологический рассказ (см. 292; 227; 229). Столь же различны принципы игры драматического актера и оперного певца — не зря попытки прямого перенесения системы Станиславского в оперный театр оставались безуспешными, ибо эта система требует корректив при ее применении на оперной сцене — сцене, «рожденной» для представления, а не для переживания.
Огромное значение для дальнейшей родовой дифференциации актерского искусства имело возникновение кинематографии. Сейчас можно с полным правом утверждать, что она породила новый тип актерского творчества. Хотя многие актеры успешно работают и в театре, и в кино, это не колеблет существенных различий творческого процесса и метода игры у киноактера и у актера театрального — различий не менее существенных, чем те, которые разделяют пьесу и киносценарий. В самом деле, в театре актер непосредственно общается с зрительным залом, тогда как киноактер общается непосредственно лишь с объективом снимающей камеры; с другой стороны, в крупных планах киноактер «подходит» к зрителю вплотную, что немыслимо в театре, и потому игра его лицевых мышц и глаз должна быть бесконечно более филигранна, чем у прочно отдаленного от зрителя театрального актера; вместе с тем, если голос театрального актера должен быть слышен всему огромному зрительному залу, то киноактер может говорить шепотом — звуковая аппаратура 408 донесет его голос до слуха зрителей. Но не только мимика и голос — все поведение актера на сцене и в киноленте оказывается различным, ибо различна мера условности театра и кинематографа: в театре актер действует в условном пространстве сценической площадки и в мире условных, ненастоящих, бутафорских вещей и декораций и оттого даже грим его часто бывает откровенно условным, тогда как в кинофильме актер действует в среде подлинных вещей, в подлинной природе, и соответственно все его поведение должно обладать такой степенью подлинности, жизненной достоверности, безыскусности, какая в театре оказалась бы попросту невыразительной. Наконец, в спектакле актер ведет непрерывное действие, тогда как киноактер исполняет свою роль «пунктирно», разрозненными во времени мелкими эпизодами и вне той последовательности, в которой развивается действие его героя в самом произведении. Неудивительно, что далеко не каждый хороший актер обладает необходимыми данными для работы и в театре, и в кинематографе173*.
Еще один род актерского творчества складывается в наши дни на телевидении. Та высочайшая степень жизненной достоверности, безыскусности, естественности поведения актера, которой требует телевидение и которая превосходит даже соответствующие качества игры киноактера, определяет своеобразие этого рода его творческой деятельности. Роль крупного плана, возможность прямого обращения к зрителям и ряд других особенностей телевизионных спектаклей проливают дополнительный свет на эту проблему и дают дополнительные аргументы для подтверждения правильности нашего тезиса174*. Если же мы обратимся к творчеству актера на радио, то и в нем должны будем признать особый род лицедейства, в известном смысле противоположный телевизионному: ведь у радиоактера полностью снимаются все средства мимико-жестикуляционной выразительности, он становится вообще невидимкой, интонационная же выразительность словесного действия, остающаяся его единственным художественным средством, должна быть не только филигранной сама по себе, но и должна компенсировать отсутствие «зрительного ряда», должна нести не свойственную ни одному 409 роду актерского творчества и известную только искусству чтеца изобразительную нагрузку.
Обратившись в заключение к пространственным искусствам, мы убедимся, что диалектика общего и специфического в процессе родообразования действует и здесь. Исходное синкретическое единство архитектонических и изобразительных искусств заставляло их взаимно друг к другу прилаживаться: в результате живопись, графика, скульптура приобретали декоративный или монументально-декоративный характер — в зависимости от того, декорировали они предметы прикладного искусства или монументальные архитектурные сооружения (в том числе и пещеры, которые были, так сказать, естественной архитектурой для первобытного человека). В обоих случаях мы имеем здесь дело с первыми родами пространственных искусств. Когда же в дальнейшем изобразительные искусства, сохраняя декоративную и монументально-декоративную ориентацию, стали одновременно двигаться и по иному пути в поисках абсолютной самостоятельности от архитектуры и прикладных искусств, они открыли для себя новый род — станковый, в котором изобразительные искусства достигают той же степени независимости от искусств архитектонических, какую литература обрела в эпическом роде, а музыкальное творчество в «абсолютной» музыке. Станковое искусство как род изобразительного творчества обеспечило ему такую же «чистоту» самораскрытия.
И точно так же, как это происходило в истории всех других искусств, в ходе развития искусств изобразительных формировались новые роды, вызывавшиеся к жизни потребностями образования синтетических художественных структур. Так живопись, видоизменившись для того, чтобы войти в сценический синтез, стала самостоятельным — театрально-декорационным — родом изобразительного искусства. Изменения эти оказались столь значительными, что иногда говорят даже о возникновении нового искусства — «сценографии», которое охватывает и собственно живопись (задник и кулисы), и разнообразную бутафорию, мебель, костюмы, и световую партитуру спектакля, и сценические конструкции, станки, архитектурные сооружения.
Вполне естественно, что рождение кинематографа, включившего живопись в число синтезированных им элементов, поставило ее в условия, когда она должна была вновь модифицироваться, образовав новый род изобразительного творчества.
Таков общий закон родообразования в искусстве: род утверждает себя своеобразием художественной структуры, обусловленным восприятием одним видом искусства особенностей смежного вида.
410 Глава XII
ЖАНР КАК МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ
КАТЕГОРИЯ
Главное отличие категории «жанр» от категории «род» состоит в том, что если вторая характеризует модификацию структуры одного вида искусства под влиянием другого, то первая обозначает модификации структуры вида, вызываемые внутренними причинами, хотя причины эти во всех видах искусства сходны.
Если нужно начать с самой общей характеристики жанра в искусстве, мы определили бы его как избирательность художественного творчества. Две стороны дела имеются в виду в этом определении.
Первая заключается в том, что в реальном творческом процессе художник всегда стоит перед необходимостью более или менее сознательного выбора некоей жанровой структуры, которая кажется ему оптимальной для решения данной творческой задачи. И даже в том случае, когда ни одна из существующих в его время жанровых структур художника не устраивает и он отправляется на поиски новой — то ли модифицируя одну из имеющихся, то ли скрещивая два или три известных ему жанра, то ли пытаясь сконструировать нечто совершенно в этом плане небывалое, — даже в этом случае он вынужден осуществить некий акт «жанрового самоопределения».
Подчеркнем, что этот процесс зависит в огромной мере от сознания и воли художника, в отличие от «выбора» им того или иного вида искусства — тут сам термин «выбор» приходится брать в кавычки, ибо к работе в определенном виде искусства художник побуждается складом своего дарования, а не желанием или умением. Это относится в большой степени и к родовым признакам творчества, которые чаще всего также детерминируются «генотипически» характером самого таланта. Правда, некоторые художники бывают наделены в равной мере 411 способностью создавать эпические и лирические, станковые и монументально-декоративные и т. д. произведения; такой художник в каждом конкретном творческом акте встает перед необходимостью выбора родовой структуры, наиболее соответствующей решаемой творческой задаче; однако выбор осуществляется тут скорее интуитивно и категорично, чем сознательно и поисково, т. к. родовые признаки зарождающегося произведения должны наличествовать уже в замысле как его изначальные характерные черты. Между тем жанровая определенность ищется художником чаще всего в процессе воплощения замысла, и решение этой задачи есть скорее функция мастерства, нежели таланта. Вторая сторона дела состоит в том, что необходимость решения упомянутой задачи диктуется богатством жанровых возможностей, всегда расстилающихся перед художником. Данный факт мы можем зафиксировать как нечто очевидное, и заметить, что именно многообразие и разнообразие жанровых структур делало столь мучительными попытки, теоретиков постичь скрывающиеся здесь закономерности. Мы помним, что теоретики установили разнопланность жанровых членений и что некоторые из них (на Западе, напр., Уэллек и Уоррен, у нас — Поспелов, Гусев, Цуккерман) делали попытки объяснить это явление и положить его в основу анализа того или иного вида искусства как системы жанров. Попытки эти, при всей их прогрессивности по сравнению с традиционными однолинейными жанровыми «реестрами», не приносили, однако, желаемого результата, поскольку базировались на недостаточно конкретном представлении о структуре самого искусства: у Уэллека и Уоррена это была концепция двуслойного строения формы — внутренней и внешней (364, 214), у Поспелова — аналогичная концепция, в которой, однако, внутренняя форма незаметно подменялась содержанием (283, 58 – 59), Цуккерман выделил для этой цели аспекты содержания, исполнения и функционирования (326, 60 – 61). При таком подходе удавалось все-таки уловить далеко не все реально существующие жанровые модификации, с другой же стороны, введение функционального критерия деления жанров как определяющего (точка зрения Сохора — 306, 28) приводило к смешению совершенно различных классификационных плоскостей и — что особенно существенно — давало известные плоды по отношению к музыке, но оказывалось совершенно неприменимым к другим искусствам.
Представляется, что та модель структуры искусства, из которой мы исходим в данном исследовании и в которой сопрягаются четыре его основные грани — познавательная, оценочная, преобразовательная и знаковая (языковая), — позволяет: а) выделить 412 все плоскости жанрового членения форм художественного творчества, т. е. охватить классификационным анализом все многообразие жанров; б) выявить закономерность многопланного (многоуровневого) строения системы жанров в искусстве; в) раскрыть соотношения — координационные и субординационные — разных уровней классификации жанров и тем самым показать, что все они, взятые в единстве, образуют именно систему, а не хаотический конгломерат.
1. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЖАНРОВ В ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОСКОСТИ
Художественное познание, как известно, способно раскрывать общее, существенное и необходимое только в единичном, в случайном, в конкретном. Поэтому художник всегда вынужден выбрать в бесконечном богатстве мира явлений то (или те), в котором решаемая им познавательная задача может быть решена с наибольшей точностью, глубиной и полнотой. Конкретность отобранного художником непосредственно отражаемого куска действительности определяет некоторые первичные особенности произведений, посвященных данному кругу явлений. Говоря, например, «это исторический роман», «это историческая картина», «это историческая пьеса» и т. д., мы и фиксируем такие признаки данного произведения. Другой вопрос, сколь важными будем мы считать эти признаки, а значит — и определяемые ими жанровые обозначения. История художественной культуры показывает, что в известных ситуациях отнесение к жанру играло крайне важную роль (напр., в эпоху классицизма или в советской культуре конца 40-х – начала 50-х гг.); в других случаях оно казалось совершенно формальным и никакого эстетического значения не имеющим (уже Вольтер признавал, что «все жанры хороши, за исключением скучного», а в наши дни мы сталкиваемся нередко с пренебрежительным отношением к жанровым различиям как некоему пережитку классицизма). Можно заключить, что оба эти типа отношения к жанру являются крайними позициями и потому одинаково не способны удовлетворить эстетическую науку, если она покоится на историческом подходе к явлениям, а не на нормативно-догматическом или релятивистском (и столь же метафизическом в своей антинормативности). Поэтому, не преувеличивая и не преуменьшая значения тематического деления жанров, мы должны лишь установить, какие свойства искусства оно фиксирует (тем самым появится возможность объяснить и изменение отношения 413 общества к этим свойствам — считаются ли они важными или несущественными). Это значит, что речь идет у нас не о значении тематической основы жанра для оценки его художественных достоинств; задача морфологии искусства — установить, как тематическое членение жанров характеризует некоторые особенности содержания произведений данного жанра и проистекающие отсюда особенности их формы.
Вычленение разных групп произведений искусства в зависимости от того, какие области жизни они отражают, проистекает из взгляда на искусство как на образное отражение действительности, которое необходимо предполагает определенный сюжетно-тематический выбор. Мы и называем соответственно данную плоскость жанровых членений тематической или сюжетно-тематической. В этой плоскости находятся, например, исторический жанр, историко-революционный, научно-фантастический (романа, пьесы, картины, фильма); приключенческий и психологический жанры (в литературе, театре, киноискусстве); жанры пейзажа, натюрморта, портрета, бытовой, религиозно-мифологический, батальный: — в живописи; в поэзии — жанры пейзажной лирики, любовной, гражданской; в фольклоре — жанры трудовой песни и обрядной; в прозе — любовно-психологический, социально-аналитический, житийный, рыцарский, плутовской, военный, детективный жанры и т. д.; в архитектуре — жанр жилого дома, производственного сооружения, общественного здания, культового и т. д.
Составлять полный перечень таких жанровых образований было бы никчемным занятием, т. к. подобный реестр никакого серьезного «выхода» не имеет (если не желать, разумеется, вернуться к старинным иерархическим концепциям жанров и не пытаться расставлять их по лесенке сравнительных ценностей). Теории достаточно установить самый принцип зависимости художественного творчества в ряде отношений от избираемой им для познания области жизненной реальности. А зависимость эта выражается в том, что определенный предмет художественного познания обусловливает в известной мере средства этого познания, т. е. что выбор предмета имеет структурные последствия.
Так, исторический жанр предполагает совмещение изображения реальных лиц и событий с изображением вымышленных персонажей; жанры, вырастающие из изображения современной жизни, оперируют выдуманными героями, события же могут описываться вполне достоверные; когда же мы имеем дело с жанром научно-фантастическим, то здесь вымысел абсолютен, и только учет возможностей научно-технического прогресса служит 414 каким-то ограничением полета фантазии. Точно так же различие между натюрмортом, пейзажем, портретом; и бытовой картиной в живописи — это не только и не просто различие изображаемых объектов, но различие художественных структур, диктуемых в одном случае необходимостью скомпоновать группу вещей, в другом — построить систему пространственных отношений в ландшафтной композиции, в третьем — определить соотношение между изображаемой личностью и фоном (абстрактным, интерьерным, пейзажным, аллегорическим), в четвертом — развернуть некое сюжетное действие по законам картины. О том, сколь специфичны структурные особенности каждого такого жанра, свидетельствует лучше всего очень часто встречаемая специализация мастеров искусства в определенной жанровой области и их крайне неуверенное самочувствие в других областях: так, Шишкин не мог выйти за пределы пейзажного жанра, Крамской был могуч только в портрете, Суриков отдался целиком исторической картине, Айвазовский — марине, а Машков — натюрморту.
Разумеется, каждый из рассмотренных нами жанров выступает не только в чистом виде; «Война и мир», «Преступление и наказание», «Мастер и Маргарита» не поддаются тематически однозначной жанровой характеристике. Но, во-первых, в искусстве, как и во всех других областях, существование гибридных форм не отрицает наличия форм простых, исходных для данных синтетических образований; во-вторых, разные виды искусства представляют далеко не одинаковые возможности для такого скрещивания тематических жанров — в литературе, например, и особенно в романе возможности эти несравненно шире, чем в сценическом искусстве и тем более в живописи; в-третьих, само устремление к четкому соблюдению жанровых границ или же к их стиранию зависит от методологических установок того или иного художественного направления: классицизм, например, требовал предельно строгого соблюдения тематических демаркаций; романтизм и реализм не признавали их непреложности и весьма охотно создавали смешанные жанровые структуры; что же касается импрессионизма или кубизма, то они отличались весьма узкими жанровыми пристрастиями — излюбленным жанром тут в одном случае был пейзаж, в другом — натюрморт. Все эти уточнения, конечно, необходимо иметь в виду, но все они не могут опровергнуть общее и принципиальное значение зависимости первого ряда жанровых членений от конкретной направленности художественного познания.
415 2. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЖАНРОВ ПО ИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЕМКОСТИ
Принципы сюжетно-тематического отбора имеют, однако, в своей основе не только качественные, но и количественные критерии. Действительно, различие между рассказом, повестью, романом и романным циклом определяется только объемом осваиваемого жизненного материала, а круг изображаемых явлений может быть у них одним и тем же — скажем, историческим, научно-фантастическим, семейно-бытовым, детективным и т. п. Этот же принцип дифференциации жанров действует и в других видах и разновидностях искусства, позволяя фиксировать с достаточной определенностью различие между стихотворением, стихотворным циклом и поэмой; между отдельным эстампом и графической сюитой; между индивидуальным портретом и групповым; между скетчем и пьесой; между отдельным архитектурным сооружением и ансамблем; между песней, песенным циклом и кантатой; между инструментальной миниатюрой, сонатой и симфонией. В этом плане Б. Асафьев сопоставлял песню и симфонию, определяя первую как интонацию, «действующую на коротком пространстве», а вторую — как «две-три… интонации — тезисы, действующие… на больших звуковопространственных расстояниях» (174, 16): Интересно, что существуют такие обозначения музыкальных жанров, как «фугетто» или «сонатина», само название которых фиксирует их отношение к более крупным жанрам — к фуге и сонате.
Подчеркнем снова, что существо проблемы состоит не в констатации самого этого факта и не в составлении на его основе исчерпывающего инвентарного списка жанров, а в выявлении той важной закономерности, что изменение объема осваиваемого жизненного материала влечет за собой модификацию самой структуры его художественного воплощения. Ибо в конечном счете отличие повести от рассказа, а романа от повести, и романного цикла от романа-«одиночки» оказывается и внутренним, структурным, а не только внешним, формально-количественным; количество явно переходит здесь в качество. «Человеческая комедия», например, есть система высшей степени сложности, по отношению к которой «Отец Горио» или «Утраченные иллюзии» выступают уже как подсистемы, строение которых определяется не только собственными содержательными импульсами, но и необходимостью их сцепления друг с другом; поэтому каждая такая подсистема, при всей ее относительной самостоятельности, является не закрытой, а открытой, и строится 416 с расчетом на ее «стыковку» с другими подсистемами. В свою очередь «Жизнь Клима Самгина» отличается от горьковской повести «Трое», а эта последняя от его же рассказа типа «Челкаша» тем, что свойственная каждому жанру мера емкости порождает такие типические особенности их строения, как (схематически говоря) эпизодичность сюжета в рассказе, развернутость сюжета в повести, многопланность сюжета в романе. Так и в живописи: одно то обстоятельство, что в нестеровском портрете братьев Кориных представлены два персонажа, а не один, как в его же портретах Шадра или Мухиной, имеет структурные последствия для картины, ибо вводит в нее психологический диалог между персонажами; непревзойденные образцы решения этой задачи мы находим в наследии Рембрандта. С другой же стороны, если психологического взаимодействия между портретируемыми в групповом портрете нет и он представляет собой механическое сочетание на одном холсте индивидуальных портретов (так, например, получалось обычно у Антуана Ле Нэна), — картина, как говорят живописцы, «разваливается», ибо нарушенными оказываются законы жанра.
В морфологическом отношении существенно, наконец, и то, что оба ряда жанровых членений, определяющих познавательными параметрами искусства, скрещиваются друг с другом, так что каждое конкретное художественное произведение выказывает в этой системе координат двоякую жанровую принадлежность: определить произведение как «исторический роман» — значит тем самым указать, а) что это роман, а не повесть и б) что это роман на историческую тему, а не на современную.
3. АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛОСКОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЖАНРОВ
Будучи не только познанием жизни, но, одновременно, выражением ценностного сознания, явлением идеологического порядка, искусство и тут вынуждено всякий раз локализовать свои безграничные выразительные устремления. Художник может подчас хотеть передать в создаваемом им произведении всю полноту, сложность и многогранность своего отношения к миру, но достичь этой цели он не в состоянии, и тем меньше он способен ее достичь, чем ограниченнее рамки каждого данного произведения. В этом смысле богатство и разносторонность выражаемой художником системы оценок непосредственно зависят от познавательной емкости жанра: отношение Пушкина 417 к миру могло раскрыться в «Евгении Онегине» бесконечно полнее и многограннее, чем, например, с одной стороны, в «Памятнике», а с другой, в эпиграммах на Булгарина. Однако задачи, встающие перед искусством как выражением мироощущения и мировоззрения художника, не позволяют оценочной энергии творчества довольствоваться теми жанровыми условиями, в которые ее ставит познавательная избирательность искусства, и его идейная избирательность сама порождает специфический ряд жанровых членений.
Как отметила О. Фрейденберг, уже в античности складываются «две жанровые подкладки, два жанровых аспекта одного и того же сюжета (трагедия — комедия, роман страстей — плутовской роман, эпос — сатира и т. д.), которые восходят… к двойственному восприятию жизни» (321, 333). Эта двойственность отношения характерна вообще для ценностного сознания, поскольку оно должно противопоставлять пользу и вред, добро и зло, прогрессивность и реакционность, величие и пошлость, красоту и уродство и т. д.175*; отсюда — формирование в искусстве жанров, служащих прославлению, восхвалению, возвеличению каких-то сторон жизни и, напротив, ниспровержению существующих ценностей, критике, разоблачению, осмеянию. Нужно ли доказывать, что та или иная конкретизация идейно-эмоционального содержания влечет за собой в каждом случае модификацию художественной формы, которая должна адекватно воплотить и точно передать данное содержание? Что ода и эпиграмма, или гимн и частушка, или трагедия и комедия, или монументальный памятник и карикатура используют разные, если не диаметрально противоположные, художественные средства для того, чтобы адекватно воплотить противоположные оценочные отношения человека к миру?
Если мы будем рассматривать эту плоскость жанровых делений еще более пристально, то увидим, что здесь складывается определенный жанровый спектр, в котором можно выделить ступенчатое движение от одного аксиологического полюса к другому. На одном полюсе находятся жанры, воплощающие максимальную степень положительной оценки явлений жизни — жанры славословящие: таковы гимн, ода, памятник, дифирамб, героическая поэма, героическая опера, храм; на другом полюсе — жанры наиболее резкого отрицания, сатирические. Между этими полюсами располагаются промежуточные жанровые 418 серии: скажем, серия жанров, выражающих скорбь по утраченным ценностям, — трагедия, реквием, похоронный марш, элегия, мемориальные архитектурные и скульптурные сооружения, а у другого конца диапазона — серия юмористических жанров, в которых отрицание имеет не уничтожающий, а снисходительный, незлобивый, даже дружелюбный и веселый характер — таковы фарс, водевиль, дружеский шарж, шуточная частушка и т. п.; особое место на этой шкале занимают такие жанровые модификации, которые образуются в результате эпического или лирического поворота сюжетно-тематических жанров — так, определения «роман-эпопея» или «лирическая повесть», «эпическая поэма» или «лирическая поэма», «эпическая симфония» или «лирическая симфония» и т. д. обозначают разные аксиологические вариации жанровых структур иной природы (тематической); наконец, аксиологическую же определенность имеют и иронически-пародийные жанры, ибо здесь под видом утверждения ценностей осуществляется их фактическое отрицание.
Само собою разумеется, что конкретное наполнение этого аксиологического жанрового спектра непосредственно зависит от специфики каждого вида искусства — уже потому, например, что не все виды искусства способны в равной мере к критико-комедийному изображению жизни. Описание системы жанров в каждом искусстве есть дело теории данного искусства176*, эстетика же вынуждена удовлетворяться тем, что она: а) устанавливает наличие данной плоскости жанровой дифференциации во всех искусствах; б) объясняет ее необходимость, обращаясь к анализу структуры художественного освоения мира; в) показывает, как эта плоскость жанровой дифференциации соотносится со всеми другими.
4. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЖАНРОВ ПО ТИПУ СОЗДАВАЕМЫХ ИСКУССТВОМ ОБРАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ
Новые направления членения жанров закономерно порождаются созидательной энергией художественного творчества, которая определяет способы художественно-образного моделирования действительности и способы конструирования этих образных моделей (т. е. принципы построения внутренней и внешней 419 формы искусства). Естественно, что и тут художественное творчество всегда находится в ситуации выбора наиболее эффективного пути решения художественной задачи; в принципе она может быть решена разными способами, в изобилии накопленными историей искусства и хорошо известными художнику; среди них он и отбирает наиболее соответствующий в данном случае его нуждам. Даже если потом художник радикально изменит избранный им тип жанровой «заготовки», отталкивается он все равно от какого-то наличного типа, выработанного его предшественниками: здесь, как и во всех других случаях, новаторство не обходится без следования традиции и ее претворения. О какой же типологии образных моделей идет у нас сейчас речь? О той, которая характеризуется определенным соотношением единичного с общим, потому что возможны разные варианты этого соотношения.
1. Единичное в образе откровенно и безусловно преобладает над общим; это имеет место тогда, когда за образом стоит реальный прообраз — действительно произошедшее событие, всем известное лицо, подлинный предмет. Какова бы ни была поэтому мера обобщения, какой бы «общий смысл» ни вкладывался в изображение этого единичного, один тот факт, что изображаемое было или есть, а не просто может быть, заставляет единичное резко перевешивать сопряженную с ним идею. Жанровым закреплением такой структуры художественного образа является, например, художественный очерк, в котором наиболее ярко выражена именно такая пропорция единичного и общего, или жанр автобиографического повествования (типа классических романов Толстого или Горького), или становящиеся сейчас популярными жанры «документальной пьесы» и художественно-документального фильма, или жанр художественного репортажа в фотоискусстве, или жанр этюда с натуры в живописи, графике, скульптуре…
2. Нарастание роли общего, идейно-концептуального в образе приводит к появлению новой жанровой структуры. Она отличается известным равновесием и равноправием общего и единичного. Здесь образ обнаруживает такую плотную «пригнанность» к идее, форма так тесно слита здесь с содержанием, что 420 можно говорить об адекватности внутреннего и внешнего. В чувственно-воспринимаемом облике изображенного единичного предмета нет ничего, что не было бы смыслом, духовным значением образа. Единичное существует не само по себе, как знак реальности, а как представитель общего. Это взаимопроникновение единичного и общего выступает как «особенное» (по любимому выражению Лукача) или как «типическое» (в том смысле, какой придает этому термину Днепров, а вслед за ним и мы), и достигается это благодаря тому, что на смену документально-точному изображению реальных фактов, явлений, событий, лиц приходит вымысел. Он-то и снимает все преимущества, которыми в первом случае единичное обладало перед общим, он-то и заставляет ценить единичное за то, что оно несет в себе общее (иначе художественный вымысел становится просто враньем). Жанрами, закрепляющими такой тип художественного моделирования, является большинство повествовательных жанров литературы, жанры театра и киноискусства, которые можно условно назвать «правдоподобными», композиционная картина, композиционный портрет, композиционный пейзаж в живописи («композиционное» значит в данном случае сочиненное, а не написанное с натуры).
3. Стремление сделать роль обобщающей идеи еще более высокой приводит к тому, что ей становится тесно в рамках хотя и созданных свободной игрой воображения, но все-таки жизнеподобных образов. Сам принцип жизнеподобия стесняет, сковывает потребности воплощения определенного рода идей — таких, скажем, которые нужно было выразить Гофману, или Гоголю, или Врубелю, или Римскому-Корсакову, или Салтыкову-Щедрину, или Андерсену — и тогда фантазия получает право оторваться от следования логике реальной жизни и творить фантастическое. Так рождается серия сказочных жанров — от волшебной сказки фольклора до философских сказок Свифта, Вольтера, Франса, Экзюпери… Перевес общего над единичным выражается здесь не только в пренебрежении, так сказать, к формам реального бытия, которое проявляет сказка, противопоставляя логике действительного мира свою иррациональную логику мира фантастического, но и в том, с какой откровенностью раскрывает этот жанр свою истинную цель:
Сказка ложь, да в ней намек,
Добрым молодцам урок.
Как видим, сконструированный искусством фантастический мир образов нисколько не претендует на то, чтобы казаться реальным: напротив, он утверждает себя как вымысел, как игру, 421 цель которой — преподать добрым молодцам «урок», воплотить умную и благородную идею.
4. Дальнейшее наращивание обобщенного содержания образа приводит к тому, что оно начинает до такой степени перевешивать чувственную конкретность, что в эту последнюю идея вообще уже не может вместиться, хотя и оторваться от единичного она не может. Структура такого типа может быть названа символической, и к ней применима замечательная характеристика той исторической формы искусства, которую Гегель назвал символической. В наше время представляется, однако, несомненным, что символический тип образности не является достоянием одного древневосточного искусства или же того недолговечного стиля, который именовал себя «символизмом» на рубеже XIX и XX столетий. Символический способ художественного моделирования, как и всякий другой, становится основополагающим в определенном методе или стиле только потому, что он уже существует как некая жанровая структура, которой может быть придано сверхжанровое, абсолютизирующее ее права, значение. Поэтому гибель символизма как художественного течения не привела к полному исчезновению символической образности — она присутствует и в искусстве социалистического реализма, только на «нормальных» для нее жанровых правах. Мы встречаем такой жанр в поэзии (символическое стихотворение типа «Человека» Межелайтиса), в скульптуре (символический монумент типа «Рабочего и колхозницы» Мухиной), в монументально-декоративной живописи (символическая стенная роспись типа фресок Ривейры). Нельзя поэтому принять ни слишком узкую гегелевскую трактовку места символической образности в истории искусства, ни слишком широкую трактовку символической структуры, с которой мы встречаемся у теоретиков символизма (напр., у А. Белого). Только на жанровом уровне морфологии искусства может быть найдено истинное место этой структуры.
5. Образное строение искусства выдерживает, однако, еще более сильный напор обобщающего идейного содержания, который делает совсем уже тонкой и непрочной связь идеи и образа, общего и единичного. Единичному отводится при этом совершенно пассивная или даже жертвенная роль — в лучшем случае оно должно лишь принести на своих плечах идею и скромно отступить в тень, в худшем оно способно на самоуничтожение во имя свободного, ничем не отягченного и не измельчаемого провозглашения идеи. Мы говорим о том типе образных моделей, которые обычно называются аллегорическими и которые получили в истории художественной культуры весьма широкое 422 и прочное жанровое узаконение: таковы басня и притча — жанры, сформировавшиеся в глубине веков и дожившие до наших дней (сошлемся хотя бы на потрясающие трагедийные притчи Кафки и на мудро-иронические басни Кривина), такова аллегория в изобразительных искусствах (эстетика классицизма прямо говорила об аллегорическом жанре как одном из самых достойных) или в драматургии.
Эта группа жанров дает такой перевес общему над единичным, что ее можно было бы назвать «антидокументалистской»; тем самым она завершает рассматриваемое нами направление жанрового членения — в искусстве на этом пути дальше дороги уже нет, ибо полное исчезновение единичного и самоочищение от него общего оказывается свойственным научно-теоретическому, а не художественно-образному отражению действительности.
Если мы перейдем теперь к анализу тех сторон художественной деятельности, которые образуют внешнюю форму искусства — речь идет о конструктивных силах художественного творчества и о его знаково-коммуникативных возможностях, — то окажется, что никакой самостоятельной роли в образовании жанров они не играют. Оно и неудивительно — ведь вся их вариационная энергия уходит на процесс художественного видообразования. С другой стороны, здесь сказывается и закон зависимости формы от содержания. Каждый ряд жанров, как мы видели, порождаясь потребностями содержания или внутренней формы искусства, заставляет видоизменяться и внешнюю форму, но эта последняя не обладает достаточной инициативой, чтобы созидать, исходя из собственных потребностей, сколько-нибудь устойчивые жанровые образования. Бывают случаи, когда некий жанр кажется чисто формальной конструкцией, «игрой формы», проведенной по определенным, совершенно условным правилам. Однако углубленное исследование показывает, что каждый такой жанр формировался под давлением неких содержательных потребностей, и лишь впоследствии, после их исторического «выветривания», он предстает как «чистая структура». Это относится, например, к такому музыкальному жанру, как фуга, содержательный «генотип» которого был убедительно выявлен А. Должанским177*; это относится к судьбе некоторых поэтических жанров. В. Сквозников очень хорошо показал на примерах пасторали, альбы, секстины, сонета и ряда жанров восточной поэзии их движение от начального 423 «тождества содержания, темы и жанра» к конечному их превращению в одну лишь «структурную модель жанра (вроде бы бессодержательную, если взять ее саму по себе)» (315, 200 – 201 сл.); аналогичный процесс в области декоративного искусства охарактеризовал Г. Плеханов, говоря о происхождении такого его жанра, как ожерелье, бывшего изначально охотничьей «вывеской» или магическим амулетом (87, 7 – 9).
Резюмируя все вышесказанное, мы можем заключить, что жанровые членения искусства отнюдь не являются ни хаотическими, ни чисто условными. При всей гибкости перегородок между жанрами, при всей их проницаемости для взаимных проникновений, при всем непостоянстве этих границ в историческом процессе взаимодействия жанров, непреложной остается объективная качественная определенность жанра как структурной модификации вида, разновидности и рода искусства. При этом не поленимся еще раз подчеркнуть: говоря о наличии такой качественной определенности, мы имеем в виду, что, наряду с «чистыми» жанровыми образованиями, существуют и переходные формы, и смешанные, и гибридные и что расположение к тем или к другим зависит и от индивидуальной склонности художника, и от общих творческих принципов, лежащих в основе разных художественных направлений. Бессмысленно спорить в наше время о том, что лучше — «чистые» или «смешанные» жанровые образования (хотя такие споры, как ни странно, подчас еще возникают), и тем более отрицать наличие объективных «законов жанра» только потому, что границы между жанрами подвижны, а не абсолютны.
Выявленные нами четыре основных направления жанрового варьирования способности искусства осваивать мир помогают понять как особенность каждого жанра, так и их соотношения. Закономерный характер этих отношений позволяет утверждать, что в искусстве есть не только система классов, семейств, видов и разновидностей, не только система родов, но и система жанров. Мы имеем право говорить тут о системе, во-первых, потому, что наличие описанных плоскостей жанровых членений с необходимостью вытекает из общей структуры искусства, и потому, 424 во-вторых, что данные членения находятся в силу этого в определенной взаимосвязи и взаимодействии. Перед нами как бы «четырехмерное пространство», каждая точка которого имеет не одну, а несколько координат — вопрос заключается лишь в том, хотим мы определить все ее параметры, или нам достаточно, по тем или иным причинам, одного, двух, трех. Мы можем, например, в известной ситуации, сказать о «Золотом теленке»: «это роман» (в том смысле, что это не повесть, не поэма и не пьеса) и тем удовольствоваться, можем сказать — «это бытовой роман», можем добавить — «это сатирический бытовой роман», можем, наконец, еще раз уточнить — «это сатирический бытовой роман, построенный по типу плутовского романа». Чем полнее мы характеризуем произведение в жанровом отношении, тем конкретнее схватываем многие его существенные черты, которые определяются именно избранной для него автором точкой пересечения всех жанровых плоскостей.
Так выясняется, что жанр есть общая категория морфологии искусства и что его многозначность и разнопланность глубоко закономерны, так как порождены многогранностью структуры искусства. Вместе с тем в каждом виде искусства общие законы жанровой дифференциации действуют особым образом, в зависимости от того, какая грань структуры художественной деятельности имеет в данном виде искусства первопланное значение, а какая — второстепенное. Поэтому каждый вид искусства имеет собственный «набор» жанров, в котором рядом с жанрами, общими для целого семейства искусств, находятся жанры, специфические только для того или иного вида. А это означает, что анализ конкретной жанровой структуры каждого вида искусства выходит за пределы сферы компетенции эстетической теории и входит в проблематику теоретических разделов искусствоведческих наук. Однако — и это хотелось бы еще раз подчеркнуть — теория каждого вида искусства способна решить такую задачу лишь при условии, что эстетика предоставит ей научно-обоснованное понимание жанра как общей для всех искусств морфологической категории.
425 Заключение
Проблематика теоретического раздела морфологии искусства нами исчерпана. Само собою разумеется, что анализ мира искусств как системы классов, семейств, видов, разновидностей, родов и жанров мог быть осуществлен нами лишь самым лапидарным образом и что он подлежит углублению и расширению едва ли не в каждом пункте. Хотелось бы, однако, думать, что сказанного в этой книге оказалось достаточно для решения главной задачи — выявления объективных законов, лежащих в основе исторического процесса образования системы искусств, и построения структурной модели данной системы.
Но теперь перед нами встает следующая задача, диктуемая провозглашенным нами основополагающим методологическим принципом настоящего исследования — соединением генетически-исторического и системно-структурного подхода к изучению мира искусств. Этот принцип определил построение данной книги, но он требует и продолжения проведенного в ней анализа, которое позволило бы нам, говоря языком Гегеля, подняться от тезиса — генетического подхода — и антитезиса — подхода структурного — к синтезу — к историко-теоретическому анализу мира искусств. Мы имеем в виду специальное изучение мирового историко-художественного процесса под углом зрения изменчивого взаимодействия различных классов, семейств, видов, разновидностей, родов и жанров искусства. Первый набросок подобного исследования был изложен нами в одной из глав «Лекций по марксистско-ленинской эстетике», названной «Неравномерность развития видов, родов и жанров искусства»; нам предстоит развернуть его на теоретическом уровне и в масштабах, принятых в данной книге.
Автор надеется, что ему удастся в ближайшие годы решить эту задачу и завершить, таким образом, построение морфологии искусства — крайне важного, особенно в наше время, раздела эстетической науки.
426 Список использованной литературы
I. Работы, посвященные проблемам морфологии искусства
1. Амброс А. В. Границы музыки и поэзии. СПб.-М., 1889.
2. Ванслов В. Всестороннее развитие личности и виды искусства. М., 1963.
3. Дмитриева Н. А. Изображение и слово. М., 1962.
4. Дмитриева Н. А. Литература и другие виды искусства. Краткая литературная энциклопедия. Т. IV. М., 1967.
5. Изящные искусства (анонимн.) «Библиотека для чтения», 1842, т. 50, ч. III.
6. Иоффе И. Культура и стиль. Л., 1927.
7. Иоффе И. Синтетическая история искусства. Л., 1933.
8. Иоффе И. Синтетическое изучение искусства и звуковое кино. Л., 1937.
9. Каган М. С. В. Г. Белинский о соотношении видов и жанров искусства. «Вопросы литературы», 1961, № 6.
10. Каган М. С. Три аспекта проблемы «пространство и время в искусстве». Симпозиум «Проблемы ритма, художественного времени и пространства в литературе и искусстве». Тезисы и аннотации. Л., 1970.
11. Кожинов В. Виды искусства. М., 1960.
12. Лессинг Г. Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
13. Лебедев Н. А. К вопросу о специфике кино. М., 1935.
14. Симпозиум «Проблемы ритма, художественного времени и пространства в литературе и искусстве». Тезисы и аннотации. Л., 1970.
15. Скатерщиков В. К. Виды искусства. В сб. «Лекции по марксистско-ленинской эстетике». МГУ, 1961.
16. Шмит Ф. Живопись, ваяние, зодчество. «Печать и революция», 1924, кн. 3.
17. Язык и свойства искусства (анонимн.). «Лицей. Периодические издания Ивана Мартынова на 1806 год», ч. 1, СПб.
18. Adler L. Über das System der Künste. «Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft», 1923, Bd. XVII.
427 19. Alain. Système des beaux-arts. P., 1963.
20. Batteux. Les beaux-arts, réduits a un mesme principe. Nouv. éd, a Leide, 1753.
21. Bazin A. Que-ce que le cinéma? Le cinéma et les autres arts. P., 1959.
22. Colvin S. Fine Arts. The Encyclopaedia Britannica. Eleventh ed., v. X. Cambridge, 1900.
23. Considérations socio-culturelles sur le problème des activités dites «artistique» et esquisse d’une proposition pour une formation conforme a l’évolution de notre société. «Design industrie», 1969, № 96 – 97.
24. Du Bos. Refléxions critiques sur la Poèsie et la Peinture. à P., 1619.
25. Gilson E. Matières et formes. Poiétiques particulières des arts majeurs. 1964.
26. Green Th. M. The arts and the art of criticism. Princeton, 1947.
27. Harris J. Three treatises. The first concerning Art. The second concerning Music, Painting and Poetry. The third concerning Happiness. L., 1744.
28. Janosi J. Unitatea şi diversitatea artei. «Dialectică şi esteticà. Studii». Bucureşti, 1971.
29. Krug W. T. Versuch einer Systematischen Enzyklopedie der schönen Künste. Leipzig, 1802.
30. Lalo Ch. Esquisse d’une classification structuralle des beaux-arts. «Journal de psychologie normale et patologique», 1951, № 1 – 2.
31. Lasaulx E., von. Philosophie der schönen Künste (Architektur. Sculptur. Malerei. Musik. Poesie. Prosa). München, 1860.
32. Lemaitre H. Beaux-arts et Cinéma. P., 1956.
33. Makota I. O klasyfikacji sztuk piȩknych. Z badań nad estetyką współczesną. Kraków, 1964.
34. Medicus F. Das Problem einer vergleichenden Geschichte der Künste. «Philosophie und Literaturwissenschaft», В., 1930.
35. Munro Th. The Arts and their Interrelations. N. Y. (s. a.).
36. Munro Th. The Morphology af Art as a Branch of Aesthetics. «Journal of Aesthetics and Art Criticism». Vol. XII, 4, June 1954.
37. The Polite Arts or a Dissertation on Poetry, Painting, Music, Architecture and Eloquence. L., 1749.
38. Schasler M. Das System der Künste, aus einem neuen, im Wesen der Kunst begründeten Gliederungsprincip. 2te Aufl. Leipzig-B., 1885.
39. Souriau A. Les beaux-arts. Dans «Les grands problèmes de l’esthétique». Textes recueillis et présentés par D. Boulay. P., 1961.
40. Souriau E. La correspondance des arts. Eléments d’esthétique comparée. P., 1947.
41. Souriau E. Time in the plastic Arts. «Journal of Aesthetics and Art Criticism» 1949, vol. VII, № 4.
42. Urries y Azara I. I., De. Über das System der Künste. «Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft», 1921, Bd. XV.
43. Voltaire. Genre de Style. Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, t. VII.
44. Weiss P. Nine basic arts. Illinois, 1961.
45. Wise K. Über den Zusammenhang von Spiel, Kunst und Sprache. «Zeitschrift fur Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft», 1907, Bd. II.
428 II. Работы, в которых морфологические проблемы рассматриваются в ряду общих вопросов эстетической теории
46. Античные мыслители об искусстве. Сб. М., 1938.
47. Балашов И. Мысли об искусстве. СПб., 1900.
48. Белинский В. Г. Полн. собр. соч. в 13-ти т.
49. Белый А. Символизм. М., 1910.
50. Борев Ю. Введение в эстетику. М., 1965.
51. Борев Ю. Эстетика. М., 1969.
52. Галич А. Опыт науки изящного. СПб., 1825.
53. Гаман Р. Эстетика. М., 1913.
54. Гартман Н. Эстетика. М., 1958.
55. Гегель. Лекции по эстетике. Сочинения. Т. XII – XIV.
56. Гердер И. Г. Избранные сочинения. М.-Л., 1959.
57. Гирн И. Происхождение искусства. 1923.
58. Гроссе Э. Происхождение искусства. М., 1899.
59. Гущин А. С. Происхождение искусства. М., 1899.
60. Гюйо М. Задачи современной эстетики. СПб., 1899.
61. Дидро Д. Собрание сочинений. Т. V. М., 1936.
62. Дмитриева Н. А. Вопросы эстетического воспитания. М., 1956.
63. Днепров В. Проблемы реализма. Л., 1960.
64. Зись А. Лекции по марксистско-ленинской эстетике, ч. 1. М., 1960.
65. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.
66. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. I – V. М., 1962 – 1970.
67. Каган М. С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. 2-е изд. Л., 1971.
68. Каган М. С. Литература как человековедение. «Вопросы литературы», 1972, № 3.
69. Кант И. Критика способности суждения. СПб., 1898.
70. Кон И. Общая эстетика. М., 1921.
71. Крак О. Эстетика и критика (законы искусства). СПб., 1908.
72. Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как всеобщая лингвистика. Ч. 1. М., 1920.
73. Крюковский Н. Логика красоты. Минск, 1965.
74. Кудiи В. О. Эстетика. Киiв, 1962.
75. Липпс Т. Эстетика. В коллективном соч. «Философия в систематическом изложении». СПб., 1909.
76. Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы. М., 1927.
77. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970.
78. Луначарский А. В. Собр. соч. в 8-ми т.
79. Маркс К. и Энгельс Ф. Об искусстве. Сб. Т. 1 – 2. М., 1967.
429 80. Марксистско-ленинская эстетика. М., 1966.
81. Мейман Э. Эстетика. Ч. II. Система эстетики. М., 1920.
82. Нитче Ф. Происхождение трагедии. Метафизика искусства. СПб., 1899.
83. Овсянико-Куликовский Д. Язык и искусство. СПб., 1895.
84. Основы марксистско-ленинской эстетики. М., 1960.
85. Очерки марксистско-ленинской эстетики. М., 1956.
86. Писарев Д. И. Сочинения в 4-х т.
87. Плеханов Г. В. Сочинения, т. XIV.
88. Покровский В. Поэзия как главный фактор эстетического развития. М., 1885.
89. Поспелов Г. Н. О природе искусства. М., 1960.
90. Поспелов Г. Н. Эстетическое и художественное. М., 1965.
91. Рёскин Д. Искусство и действительность. М., 1900.
92. Розберг М. О развитии изящного в искусствах и, особенно, в словесности. Дерпт, 1838.
93. Соловьев В. Общий смысл искусства. Собр. соч. Т. VI. СПб., 1912.
94. Средний-Камашев И. О различных мнениях об изящном. Рассуждение на степень магистра. М., 1829.
95. Тард Г. Сущность искусства. СПб., 1895.
96. Тэн И. Философия искусства. Л., 1933.
97. Успенский Б. А. Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология композиционной формы. М., 1970.
98. Фриче В. Социология искусства. 3-е изд. М.-Л., 1930.
99. Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений. Т. II – III.
100. Шеллинг Ф. В. Философия искусства. М., 1966.
101. Шмит Ф. И. Искусство. Основные проблемы теории и истории. Л., 1925.
102. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. 1. М., 1900.
103. Шпенглер О. Закат Европы. Том 1: Образ и действительность. М.-Пг., 1923.
104. Якоб Л. Начертание эстетики, для гимназий Российской империи. СПб., 1813.
105. Alexander S. Beauty and other Forms of Value. L., 1933.
106. Allen B. A., Grant. Physiological Aesthetics. L, 1877.
107. Bouterwek F. Ästhetik. Göttingen, 1825, 3 Aufl.
108. Bayer R. Traité d’esthétique. P., 1956.
109. Beam Ph. С. The language of art. N-Y., 1958.
110. Bendavid L. Versuch einer Geschmackslehre. В., 1799.
111. Brentano F. Grundzüge der Ästhetik. Bern, 1959.
112. Caillois R. Esthétique généralisée. P., 1962.
113. Carrier M. Ästhetik. Leipzig, 1859.
114. Cousin V. Du Vrai, du Beau et du Bien. P., 1853.
115. Dessoir M. Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft. Stuttg., 1906.
116. Dewey J. Art as Experience. N. Y., 1958.
117. Diez M. Allgemeine Ästhetik. Leipzig, 1906.
430 118. Dudley L. and Faricy A. The Humanities. Applied Aesthetics. N. Y., Toronto, L, 1960.
119. Eschenburg I. Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften. B. und Stettin, 1783.
120. Fechner G. Vorschule der Ästhetik. Leipzig, 1876.
121. Ficker F. Ästhetik oder Lehre vom Schönen und der Kunst in ihrem ganzem Umfange. Wien, 1830.
122. Fiedler K. Schriften über Kunst. Leipzig, 1896.
123. Gentile G. Philosophie der Kunst. В., 1934.
124. Gietmann G. Allgemeine Ästhetik. Freiburg, 1899.
125. Gioberti V. Essai sur be beau ou éléments de philosophie esthétique. Brux., 1843.
126. Hartmann E., von. Philosophie des Schönen. Ausgewählte Werke. Bd. IV. Leipzig, 1887 (2te Ausg.).
127. Herder J. G. Kalligone. Leipzig, 1800.
128. Home H. Elements of Criticism. The second ed. Edinburg, 1763. Vol. III.
129. Huisman D. L’Esthétique. P., 1954.
130. John E. Probleme der marxistisch-leninistischen Ästhetik. Ästhetik der Kunst. Halle, 1967.
131. Kalert A. System der Ästhetik. Leipzig, 1846.
132. Kandinski W. Über das Geistige in der Kunst. München, 1910.
133. Kirchmann J. H., von. Ästhetik auf realistischer Grundlage. Bd. I – II. В., 1868.
134. Knight W. The Philosophy of the Beautiful, v. I – II. L., 1893.
135. Kornfeld M. L’énigme du beau. P., 1942.
136. Lalo Ch. L’art loin de la vie. P., 1939.
137. Langer S. Problems of Art. N. Y., 1957.
138. Lammennais F. De l’art. Esquisse d’une philosophie, t. III. P., 1840.
139. Lazarus M. Das Leben der Seele. III Bd. В., 1882 (2te Aufl.).
140. Lemcke С. Populäre Ästhetik. Leipzig, 1865.
141. Leveque Ch. La Science du Beau. P., 1861, Tt. 1 – 2.
142. Lukács G. Ästhetik. I. Die Eigenart des Ästhetischen. 1 Halbband. Luchterhand, 1963.
143. Märten Lü. Wesen und Veränderung der Formen und Künste. Weimar, 1949.
144. Marxista-leninista esztétika. Kossuth, 1969.
145. Moses Mendelssohn’s gesammelte Schriften. Bd. I – IV. Leipzig, 1843 – 1844.
146. Milthaler J. Das Rätsel des Schönen. Eine Studie über die Principien der Ästhetik. Leipzig, 1896.
147. Morgenstern K. Grundriß einer Einleitung zur Ästhetik. Dorpat, 1815.
148. Munro Th. Toward Science in Aesthetics. N. Y., 1956.
149. Ogden R. M. The Psychology of Art. N. Y., 1938.
150. Parker, de Witt H. The Analysis of Art. N. Y — L., 1926.
151. Paulhan F. Le mensonge de l’art. P., 1907.
152. Pepper St. С. Principles of Art Appreciation. N. Y., 1949.
431 153. Pictet A. Du beau dans la nature, l’art et la poésie. Études esthétiques. P., 1856.
154. Pilo M. La psychologie du beau et de l’art. P., 1895.
155. Quatremère de Quincy. Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation dans les beaux-arts. P., 1823.
156. Schasler M. Ästhetik als Philosophie des Schönen und der Kunst. Bd. I – II. B., 1872.
157. Schlegel A. W. Die Kunstlehre. In «Kritische Schriften und Briefe». Stuttg., 1963, Bd. II.
158. Schleiermacher F. D. Ästhetik. Werke, 3 Abt, Bd. VII.
159. K. W. F. Solger’s Vorlesungen über Ästhetik. Leipzig, 1829.
160. Sully-Prudhomme. L’Expression dans les beaux-arts. P., 1883.
161. Sulzer J. G. Allgemeine Théorie der schönen Künste. 2te Aufl., Bd. I – III. Leipzig, 1793.
162. Szigeti J. Bevezetés a marxista-leninista esztétikaba. II rész. Kossuth, 1966.
163. Tappenbeck W. Die Religion der Schönheit. Ihr Fundament. Leipzig, 1898.
164. Utitz E. Grundlegungen der allgemeinen Kunstwissenschaft. Bd. I – II. Stuttg., 1914 – 1920.
165. Vischer Fr. Th. Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen. III Die Kunstlehre. Stuttg., 1857.
166. Volkelt J. System der Ästhetik. München, 1914, Bd. I – III.
167. Wundt W. Völkerpsychologie. III Bd.: Die Kunst. Leipzig, 1908.
168. Zeising A. Ästhetische Forschungen. Fr.-a-M., 1855.
III. Работы, в которых разрабатывается теория отдельных видов, родов и жанров искусства
169. Абрамович Г. Л. Введение в литературоведение. М., 1956.
170. Авдеев А. Д. Происхождение театра. Л.-М., 1959.
171. Андроникова М. Сколько лет кино? М., 1968.
172. Античные теории языка и стиля. Сб., М.-Л., 1936.
173. Арнхейм Р. Кино как искусство. Сб. статей по теории киноискусства. М., 1960.
174. Асафьев Б. (И. Глебов). Музыкальная форма как процесс. Книга вторая — Интонация. М., 1947.
175. Багиров Э., Кацев И. Телевидение. XX век. Политика. Искусство. Мораль. М., 1968.
176. Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М., 1968.
177. Бебутов В. О театре представления. «Театр», 1956, № 12.
178. Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971.
179. Борисовский Г. Б. Современная строительная техника и эстетика. М., 1963.
432 180. Борисовский Г. Б. Наука. Техника. Искусство. Мысли о современной архитектуре. М., 1969.
181. Бродский Б. Оформление выставок. Л., 1960.
182. Бродский Б. Художник-оформитель. Л., 1962.
183. Бродский Б. Художник и город. М., 1965.
184. Буало. Поэтическое искусство. М., 1957.
185. Буров А. К. Об архитектуре. М., 1960.
186. Вадимов А. А. и Тривас М. А. От магов древности до иллюзионистов наших дней. М., 1966.
187. Ванслов В. В. Об отражении действительности в музыке. М., 1953.
188. Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940.
189. Вилар Ж. О театральной традиции. М., 1956.
190. Виноградов И. Вопросы марксистской поэтики. Л., 1936.
191. Волькенштейн В. Драматургия кино. М., 1937.
192. Волькенштейн В. Драматургия. 5-е изд. М., 1969.
193. «Восточный театр», Сб., Л., 1929.
194. Габрилович Е. Кино и литература. М., 1965.
194а. Гайда И. Театр китайского народа. М., 1959.
195. Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. М., 1968.
196. Гидони Г. И. Искусство света и цвета. Л., 1930.
197. Глазычев В. О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на Западе. М., 1970.
198. Глебов И. Музыкальная форма как процесс. М., 1930.
199. Гончаров А. Д. Об искусстве графики. М., 1960.
200. Гончаров А. Д. Художник и книга. М., 1964.
201. Горнфельд А. Сонет. Энциклопед. словарь, т. XXX. СПб., 1900.
202. Гофман В. Слово оратора (риторика и политика). Л., 1932.
203. Гропиус В. Границы архитектуры. М., 1971.
204. Гуревич Л. Творчество актера. М., 1927.
205. Гусев В. Е. Эстетика фольклора. Л., 1967.
206. Давлетов К. С. Фольклор как вид искусства. М., 1966.
207. Давыдов И. Чтения о словесности. М., 1837.
208. Дмитриев Ю. Русский цирк. М., 1953.
209. Добин Е. Поэтика киноискусства. Повествование и метафора. М., 1961.
210. Должанский А. Относительно фуги. «Советская музыка», 1959, № 4.
211. Должанский А. Краткий музыкальный словарь. Л., 1964.
212. Дюрер А. Дневники. Письма. Трактаты. Т. I – II. Л.-М., 1957.
213. Евреинов Н. Театр как таковой (Обоснование театральности в смысле положительного начала сценического искусства и жизни). СПб., 1912.
214. Емельянов Л. И. Нерешенные проблемы в изучении народного творчества. «Русский фольклор», IX. М.-Л., 1964.
215. Ждан В. Специфика кинообраза. М., 1965.
216. Жовтис Л. Границы свободного стиха. «Вопросы литературы», 1966, № 5.
433 217. Завадский Ю. О самом сокровенном. «Театр», 1969, № 1.
218. Залесская Л. С. Курс ландшафтной архитектуры. М., 1964.
219. Захава Б. За синтез театра «представления» и «переживания». «Театр», 1957, № 1.
220. Земпер Г. Практическая эстетика. М., 1970.
221. Зигель К. Структура и форма в современной архитектуре. М., 1965.
222. Игрушка, ее история и значение. Сб., М., 1912.
223. Ильина Т. В. Игрушка не игрушка. Л., 1964.
224. Искусство голубого экрана. Сб. М., 1968.
225. Искусство звучащего слова. Сб. Вып. 1 – 7. М., 1965 – 1970.
226. Искусство и зритель. Сб. 1. Л., 1961.
227. Искусство клоунады. Сб. М., 1969.
228. Искусство книги. Сб. Вып. 1 – 5. М., 1960 – 1968.
229. Искусство эстрады. Сб. Вып. 1 – 4. М., 1961 – 1962.
230. Каган М. С. О прикладном искусстве. Л., 1961.
231. Каган М. С. Эстетика и художественная фотография. Теоретические очерки. «Советское фото», 1967, № 9 – 12; 1968, № 1 – 8.
232. Кантор К. М. Красота и польза. Социологические вопросы материально-художественной культуры. М., 1967.
233. Кантор К. М. Социальный функционализм и культура. В кн.: Дж. Нельсон. Проблемы дизайна. М., 1971.
234. Карп П. О балете М., 1967.
235. Карташев Ф. Лирическая поэзия, ее происхождение и развитие. «Вопросы теории и психологии творчества». Т. II, вып. I, 1909.
236. Квинтилиан М.-Ф. Правила ораторского искусства. СПб., 1896.
237. Керимов Л. Азербайджанский ковер. Баку — Л., 1961.
238. Кильчевская Э. От изобразительности к орнаменту. М., 1968.
239. Ковтун Е. Ф. Что такое эстамп. Л., 1963.
240. Кодуэлл Кр. Иллюзия и действительность. Об источниках поэзии М., 1969.
241. Кожинов В. В. Жанр. Краткая литературная энциклопедия. Т. 2. М., 1964.
242. Конференция «Свет и музыка». Тезисы и аннотации. Казань, 1969.
243. Корбюзье, Ле. Архитектура XX века. М., 1970.
244. Корганов Т., Фролов И. Кино и музыка. Музыка в драматургии фильма. М., 1964.
245. Кочарян С. В поисках живого слова. М., 1960.
246. Краткий словарь терминов изобразительного искусства. М., 1959.
247. Кремлев Ю. Очерки по вопросам музыкальной эстетики. М., 1957.
248. Крючечников Н. В. Слово в фильме. М., 1964.
249. Кугель А. Р. (Homo Novus). Утверждение театра. М., 1923.
250. Кузнецов Е. Цирк. Происхождение. Развитие. Перспективы. 2-е изд. М., 1971.
251. Лангер В. Краткое руководство к познанию изящных искусств, основанных на рисунке. СПб., 1841.
434 252. Ландшафтная архитектура. Сб. М., 1963.
253. Леонардо да Винчи. Книга о живописи мастера Леонардо да Винчи, живописца и скульптора флорентийского. М., 1934.
254. Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. М.-Л., 1936.
255. Лисса З. Эстетика киномузыки. М., 1970.
256. Литературная теория немецкого романтизма. Сб. Л., 1934.
257. Лопухов Ф. Пути балетмейстера. Л., 1925.
258. Люблинский В. С. На заре книгопечатания. Л., 1959.
259. Ляхов В. Н. Очерки теории искусства книги. М., 1971.
260. Львов Н. Грим и образ. М., 1960.
261. Мазель А. О мелодии. М., 1952.
262. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1960.
263. Маневич И. Кино и литература. М., 1966.
264. Мартен М. Язык кино. М., 1959.
265. Марченко Т. Радиотеатр. Страницы истории и некоторые проблемы. М., 1970.
266. Мастера искусства об искусстве. Т. I – IV. М.-Л., 1937.
267. Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов в семи томах. М., 1965 – 1970.
268. Мастерство перевода. Сб. Вып. 1 – 6. М., 1959 – 1970.
269. Мерзляков А. Краткое начертание теории изящной словесности. М., 1822.
270. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. Сб. М., 1968.
271. Музыкальная эстетика Западной Европы XVII – XVIII веков. М., 1971.
272. Музыкальные жанры. Сб. М., 1968.
273. Мюллер-Фрейенфельс Р. Поэтика. Харьков, 1923.
274. Некоторые вопросы теории изобразительного искусства. Сб. М., 1957.
275. Нельсон Д. Проблемы дизайна. М., 1971.
276. Немирович-Данченко В. И. Статьи, речи, беседы, письма. М., 1952.
277. Новерр Ж.-Ж. Письма о танце и балетах. Л.-М., 1965.
278. Об ораторском искусстве. 3-е изд. М., 1963.
279. Опыт теории словесных наук (анонимн.). СПб., 1832.
280. О специфике некоторых видов искусства. Сб. Свердловск, 1958.
281. Пахомов Е. В. Книжное искусство. Т. 1 – 2. М., 1961 – 1962.
282. Попова Т. Музыкальные жанры и формы. М., 1954.
283. Поспелов Г. Н. К вопросу о поэтических жанрах. «Доклады и сообщения филологического факультета МГУ», 1948.
284. Потебня А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1965.
285. Потебня А. Мысль и язык. Полн. собр. соч., т. 1.
286. Пропп В. Я. Принципы классификации фольклорных жанров. «Советская этнография», 1964, № 4.
287. Пропп В. Я. Жанровый состав русского фольклора. «Русская литература», 1964, № 4.
288. Пудовкин В. Избранные статьи. М., 1955.
289. Пуссен Н. Письма. М.-Л., 1939.
435 290. Раппопорт С. Х. Неизобразительные формы в декоративном искусстве. М., 1968.
291. Раугул Р. Д. Грим. М., 1935.
292. Реми Т. Клоуны. М., 1965.
293. Рехельс М. Режиссер — автор спектакля. Этюды о режиссуре. Л., 1969.
294. Рижский И. Введение в круг словесности. Харьков, 1806.
295. Роберте Э. Б. Телевизионная драматургия. М., 1967.
296. Розенфельд Б. Роды поэтические. Литературная энциклопедия. Т. 9. М., 1945.
297. Розов В. Процесс созидания. «Вопросы литературы», 1968, № 8.
298. Румнев А. О пантомиме. Театр. Кино. М., 1964.
299. Саппак Вл. Телевидение и мы. М., 1963.
300. Сахновский-Панкеев В. Драма. Л., 1969.
301. Свидерский В. М. Малые архитектурные формы. Киев, 1952.
302. Симонов Р. О театрах «переживания» и «представления». «Театр», 1956, № 8.
303. Славов И. Л. Влияние градостроительных факторов на развитие формообразования средств городского массового пассажирского транспорта. Автореферат диссертации. М., 1970.
304. Смоленский Я. М. Искусство звучащего слова. М., 1967.
305. Сохор А. Музыка как вид искусства. 2-е изд. М., 1970.
306. Сохор А. Эстетическая природа жанра в музыке. М., 1968.
307. Станиславский К. С. Собрание сочинений в 8-ми т.
308. Стасов В. В. Избранные сочинения в 3-х т.
309. Стойчев Л. И. Парковое и ландшафтное искусство. София, 1962.
310. Сунягин Г. Ф. Искусство и общественно-технический прогресс. Автореферат кандидатской диссертации. Л., 1965.
311. Сыркин М. Г. Пластические искусства. Живопись, скульптура, архитектура. Опыт эстетического исследования. СПб., 1900.
312. Таиров А. Записки режиссера. М., 1921.
313. Тарабукин Н. Опыт теории живописи. М., 1923.
314. Тарасевич Г., Грохотов В., Павлинова Е. Художник-оформитель. М., 1966.
315. Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры литературы. М., 1964.
316. Тиандер К. Синкретизм и дифференциация поэтических видов. «Вопросы теории и психологии творчества». Т. II, вып. 1, 1909.
317. Тиандер К. Морфология романа. Там же.
318. Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. 3-е изд. М., 1966.
319. Товстоногов Г. Театр и кино. «Вопросы киноискусства», 1964, вып. 8.
320. Туркин В. К. Драматургия кино. Очерки по теории и практике киносценария. М., 1938.
321. Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1935.
322. Фрид Э. Л. Музыка в советском кино. Л., 1967.
323. Харлап М. О стихе. М., 1966.
436 324. Хохлов Ю. О музыкальной программности. М., 1963.
325. Цейтлин А. Жанры. Литературная энциклопедия. Т. 4. М., 1930.
326. Цуккерман В. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм. М., 1964.
327. Цуккерман В. Динамический принцип в музыкальной форме. В его кн. «Музыкально-теоретические этюды и очерки». М., 1970.
328. Чекалевский П. Рассуждение о свободных художествах, с описанием некоторых произведений Российских художников. В СПб., 1792.
329. Чирков А. Очерки драматургии фильма. М., 1939.
330. Что и как в театре кукол. Сб. М., 1969.
331. Чуковский К. И. Высокое искусство. О принципах художественного перевода. М., 1964.
332. Школьников С. П. Искусство грима. Минск, 1963.
333. Щепилова Л. В. Введение в литературоведение. М., 1956.
334. Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6-ти т.
335. Эстетика и производство. Сб. М., 1969.
336. Эткинд Е. Г. Поэзия и перевод. М.-Л., 1963.
337. Эткинд Е. Г. Разговор о стихах. М., 1970.
338. Юровский А. Специфика телевидения. М., 1960.
339. Юрьев Ф. И. Музыка света. Киев, 1971.
340. Яхонтов В. Театр одного актера. М., 1958.
341. Brunetière F. L’évolution des genres dans l’histoire de la littérature. P., 1890.
342. Castel R. P., jesuite. L’Optique des couleurs. à P., 1740.
343. Castel R. P. Nouvelles expériences d’optique et d’acoustique. «Mémoires pour l’histoire des Sciences et des Beaux-Arts», 1735.
344. Dean A. (revised by L. Carra). Fundamentals of Play Directing. N-Y., 1965.
345. Dictionary of World Literature. N. Y., 1943.
346. Falke J., von. Ästhetik des Kunstgewerbes. Stuttg., 1883.
347. Félibien A. Des Principes de l’Architecture, de la Sculpture et de la Peinture et des autres Arts qui en dépendent. 3 ed. P., 1697.
348. Feéibien A. Entretiens sur la vie et sur les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes. Tt. I – III. a Trevoux, 1725.
349. Francastel P. Art et technique au XIX et XX s. P., 1956.
350. Du Fresnoy. De Arte graphica. «Revue Universelle des Arts», 1863, t. XVII.
351. Jouin H. Conférences de l’Academie royale de peinture et de sculpture. P., 1883.
352. Kagan M. S. L’Esthétique contemporaine et l’art appliqué. «Revue d’Esthétique», 1970, № 2.
353. Kayser W. Das sprachliche Kunstwerk. Bern und München, 1965.
354. Landmann M. Die absolute Dichtung. Essais zur philosophischen Poetik. Stuttg., 1963.
355. Lissa Z. Aufsätze zur Musikästhelik. В., 1969.
356. Molière. La gloire de Val-de-Grâce. Oeuvres, t. VIII. 1825.
437 357. Perrault Ch. La Peinture. Poême, á P., 1668.
358. Petersen J. Die Wissenschaft von der Dichtung. System und Methodenlehre der Literaturwissenschaft. В., 1939.
359. Piles R., de. Abrégé de la vie des Peintres. à P., 1699.
360. Scherer W. Poetik. 1888.
361. Semper Q. Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten. Bd. 1 – 2. В., 1860 – 1863.
362. Sochor A. N. Die Theorie der Musikalischen Genres: Aufgaben und Perspektiven. «Beilräge zur Musikwissenschaft». 1970, Heft 2.
363. Sorel Ch. De la connaissance des bons livres, ou examen de plusieurs auteurs. à Amst., 1672.
364. Wellek R., Worren A. Theorie of Literature. N. Y.
IV. Работы по истории эстетической мысли и художественной культуры
365. Абрамова З. А. Изображения человека в палеолитическом искусстве Евразии. М.-Л., 1966.
366. Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967.
367. Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968.
368. Асмус В. Ф. Немецкая эстетика XVIII в. М., 1962.
369. Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. Т. I – III. М., 1865 – 1869.
370. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
371. Берковский Н. Я. Эстетические позиции немецких романтиков. В сб. «Литературная теория немецкого романтизма». Л., 1934.
372. Берковский Н. Я. О романтизме и его первоосновах. В сб. «Проблемы романтизма. 2». М., 1971.
373. Бородай Ю. М. Древнегреческая классика и судьбы буржуазной культуры. В кн.: А. Ф. Лосев. История античной эстетики. М., 1963.
374. Бурнонвиль А. Моя театральная жизнь. В сб. «Классики хореографии». Л., 1937.
375. Бюхер К. Работа и ритм. М., 1923.
376. Ванслов В. В. Эстетика романтизма М., 1966.
377. Вельфлин Г. Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса. Л., 1934.
378. Верли М. Общее литературоведение. М., 1957.
379. Вомперский В. П. Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трех стилей. М., 1970.
380. Гилберт К., Кун Г. История эстетики. М., 1960.
381. Гусев В. Е. Проблемы фольклора в истории эстетики. М.-Л., 1963.
382. Давыдов Ю. Н. Искусства и элита. М., 1966.
383. Давыдов Ю. Н. Искусство как социологический феномен. М., 1968.
384. Давыдов Ю. Н. Освальд Шпенглер и судьбы романтического миросозерцания. В сб. «Проблемы романтизма. 2». М., 1971.
385. Иванов С. В. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX – начала XX вв. М.-Л., 1954.
438 386. Каган М. С. Эстетическое учение Н. Г. Чернышевского. Л., 1958.
387. Каган М. С. Из истории французской эстетики. Абраам Босс и Шарль Сорель как теоретики искусства. Ученые записки ЛГУ, № 252, вып. 29, 1958.
388. Каган Ю. О. Западноевропейские резные камни XIII – XIX веков. Выставка. Л., 1971.
389. Каллистов Д. П. Античный театр. Л., 1970.
390. Кожинов В. Происхождение романа. Теоретико-исторический очерк. М., 1963.
391. Козмин Н. К. Н. И. Надеждин. Жизнь и научно-литературная деятельность. 1804 – 1836. СПб., 1912.
392. Лазарев В. Н. История византийской живописи, т. I – II. М., 1947.
393. Лебедев А. Эстетические взгляды А. В. Луначарского. 2-е изд. М., 1970.
394. Липе Ю. Происхождение вещей. Из истории культуры человечества. М., 1954.
395. Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957.
396. Лосев А. Ф. История античной эстетики (ранняя классика). М., 1963.
397. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ, Платон. М., 1969.
398. Максимова М. И. Античные резные камни Эрмитажа. Л., 1926.
399. Максимова М. И. Резные камни XVIII и XIX вв. Л., 1926.
400. Манн Ю. Русская философская эстетика. М., 1969.
401. Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические памятники. М., 1963.
402. Михайлов Д. Удивительный мир африканской музыки. В сб. «Африка еще не открыта». М., 1967.
403. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М., 1969.
404. Окладников А. П. Утро искусства. Л., 1967.
405. Ольдерогге Д. Искусство народов Западной Африки в музеях СССР. Л.-М., 1958.
406. Пропп В. Я. Морфология сказки. Изд. 2-е. М., 1969.
407. Пропп В. Я. Русский героический эпос. Изд. 2-е. М., 1958.
408. Соболев П. В. Философская эстетика и художественная мысль (к вопросу о задачах изучения истории русской литературы первой половины XIX века). «Русская литература», 1971, № 2.
409. Соболев П. В. Очерки русской эстетики первой половины XIX века. Ч. 1. Курс лекций. Л., 1972.
410. Тасалов В. И. Эстетика техницизма. М., 1960.
411. Тасалов В. И. Прометей или Орфей. М., 1967.
412. Тэйлор Э. Первобытная культура. М., 1939.
413. Формозов А. А. Очерки по первобытному искусству. М., 1969.
414. Харузина В. Н. Примитивные формы драматического искусства. «Этнография», 1927, № 1.
415. Циркунов В. Ю. О происхождении зодчества. М., 1965.
439 416. Шахнович М. И. Первобытная мифология и философия. Предыстория философии. Л., 1971.
417. Шевырев С. Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов. М., 1836.
418. Шерстобитов В. У истоков искусства. М., 1971.
419. Юань Кэ. Мифы древнего Китая. М., 1965.
420. Юровская Э. П. Эстетика Ж.-П. Сартра. Автореферат канд. диссертации. Л., 1969.
421. L’art abstrait. Ses origines, ses premiers maitres. P., 1950.
422. Borinski K. Die Antike in Poetik und Kunsttheorie. Bd. I – II. Lpzg. 1914 – 1924.
423. Bosanquet B. A History of Aesthetics. L — N. Y., 1892.
424. Bucher B. Geschichte der technischen Künste. Bd. 1 – 3. Stuttg., 1875 – 1893.
425. Fontaine A. Les doctrines d’art en France. De Poussin a Diderot. P., 1909.
426. Hautecoeur L. Littérature et peinture en France. P., 1942.
427. Lemonnier H. L’art français au temps de Richelieu et de Mazarin. P., 1893.
428. Listowell D. A., Earl of Ph. Critical history of modern aesthetics. L., 1933.
429. Lohmüller H. Französische Theorie der Malerei des 17. Jahrhunderts. Marburg, 1933.
430. Lotze H. Geschichte der Ästhetik in Deutchland. München, 1868.
431. Morpurgo — Tagliabue G. L’esthétique contemporaine. Une enquête. Milan, 1960.
432. Müller E. Geschichte der Theorie der Kunst bei den Alten. Bd. 1 – 2. Breslau, 1834.
433. Mumford L. Kunst und Technik. Stuttg., 1959.
434. Munro Th. Evolution in the Arts and other Theories of Culture History. N. Y., s. a.
435. Read H. Art and Industry. L, 1956.
436. Sedlmayr H. Die Revolution der modernen Kunst. Hamburg, 1955.
437. Sedlmayr H. Kunst und Wahrheit. Zur Theorie und Methode der Kunstgeschichte. Hamburg, 1961.
438. Sydow, E. von. Primitive Kunst und Psychoanalyse, 1927.
439. Walter J. Die Geschichte der Ästhetik im Altertum. Leipzig, 1893.
V. Философские, психологические, исторические, лингвистические и пр. исследования
440. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Л., 1969.
441. Анисимов А. Ф. Об исторических истоках и социальной основе тотемических верований. «Вопросы истории религии и атеизма», VIII. М., 1960.
442. Анисимов А. Ф. Духовная жизнь первобытного общества. Л., 1966.
443. Анисимов А. Ф. Исторические особенности первобытного мышления. Л., 1971.
440 444. Банфи А. Избранное, М., 1965.
445. Гурьев Д. В. О возникновении религиозного сознания. «Вопросы философии», 1970, № 6.
446. Давыдов Ю. Труд и свобода. М., 1962.
447. Замятнин С. Н. Очерки по палеолиту. М.-Л., 1961.
448. Каган М. С. Опыт системного анализа человеческой деятельности. «Философские науки», 1970, № 5.
449. Кедров Б. М. Классификация наук. Т. I – II. М., 1961 – 1965.
450. Клаус Г. Сила слова. Гносеологический и прагматический анализ языка. М., 1967.
451. Ленин В. И. Полное собрание сочинений, 5-е изд.
452. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. М., 1969.
453. Лурия А. Р. Психология как историческая наука. В сб. «История и психология». М., 1971.
454. Маркарян Э. С. Очерки теории культуры. Ереван, 1969.
455. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2-е изд.
456. Марр Н. Я. Избранные работы. Т. 1 – 5. Л., 1933 – 1935.
457. Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966.
458. Окладников А. П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья. «Материалы и исследования по археологии СССР», ч. I – II, № 18, 1950.
459. Пиаже Ж. Психология, междисциплинарные связи и система наук. «Вопросы философии», 1966, № 12.
460. Семенов Ю. И. Как возникло человечество. М., 1966.
461. Толстой Л. Н. Дневник. Полное собрание сочинений, т. 53.
462. Ученова В. В. Гносеологические проблемы публицистики. М., 1971.
463. Cassirer E. The logic of the Humanities. N-Haven, 1961.
464. Huizinga J. Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel. Hamburg, 1966.
465. Lévy-Bruhl L. L’ame primitive. Nouv. éd. P., 1963.
466. Lévy-Bruhl L. La mythologie primitive. Nouv. éd. P., 1963.
467. Mandrou R. Introduction a la France moderne. Essai de psychologie historique. 1500 – 1640. P., 1961.
468. Matthieu. Histoire de France, á P., 1631.
469. Savarin B. Physiologie du goût, ou meditations de gastronomie transcendante. Ouvrage théorique, historique et a l’ordre du jour, dédié aux gastronomes parisiens. P., 1864.
470. Sorel Ch. La Science universelle. Tt. I – IV. à P., 1668.
ПОСТРАНИЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
1* Здесь и в дальнейшем ссылки на цитируемые или упоминаемые источники даются в тексте в скобках: первая цифра (курсивом) указывает порядковый номер источника в списке использованной литературы, находящемся в конце книги, вторая цифра — номер цитируемой страницы; если издание многотомное, то перед номером страницы указывается номер тома.
2* Насколько нам известно, впервые под этим углом зрения античную мифологию исследовал С. Шевырев (см. 417), а в наше время — Н. Марр (456, т. 2, 86 – 87).
3* Следует отметить, что понятие «свободные искусства» встречается уже У Аристотеля, но использовалось им совсем в другом смысле. О проблеме «свободных искусств» в античной эстетике см. в капитальном исследовании Э. Мюллера (432).
4* Ср. также стр. 263 – 264, где Августин рассказывает о своем отношении к театральным зрелищам. Буквально то же самое говорил Лактанций: «Поэты опасны тем, что из-за сладкозвучия их строф души отворачиваются от благости» (см. 380, 141). Исследователь средневековой музыкальной эстетики имел все основания заключить: «Отцы церкви почти полностью исключают из музыки эстетический элемент. Все они в один голос заявляют, что чувственное удовольствие, приятность, наслаждение, исходящие от музыки, есть уступка святого духа слабости человеческой природы» (270, 25).
Впрочем, внутренняя противоречивость отношения христианской эстетики к искусству (и невозможность разрешить это противоречие!) позволяла Брацию, напр., утверждать: «музыка связана с нами настолько естественно, что, даже если бы мы захотели, мы не могли бы лишиться ее» (66, т. I, 252).
Богатый материал, характеризующий отношение христианства к искусству, см. в упоминавшемся выше исследовании А. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» (369, т. I, 339 – 349); на материале восточных религий эта проблема интересно освещена Э. Кильчевской (238, 7 – 10).
5* Подробнее о «семи свободных искусствах» см. 345, 54 – 56.
6* Здесь обнаруживается диффузное единство тех двух пониманий музыки, которые в дальнейшем афористически сформулируют Лейбниц и Шопенгауэр: согласно определению первого, «музыка есть скрытое упражнение в арифметике души, не умеющей себя вычислить», второй же утверждал, что «музыка есть скрытое упражнение в метафизике души, не умеющей о себе философствовать».
7* К. Гильберт и Г. Кун собрали интересный материал, показывающий, как подчеркивали Петрарка, Боккаччо и ряд других мыслителей этой эпохи родство поэзии и богословия (380, 186 – 187). К этим высказываниям можно добавить весьма выразительное суждение Лютера, сравнивавшего с теологией музыку и утверждавшего, что «только она одна после теологии способна дать то, что дает лишь теология, то есть покой и радость души, а это явное доказательство, что дьявол, виновник печальных забот и тревожных скорбей, бежит при звуке музыки почти так же, как от слова теологии» (66, т. I, 606).
8* Деметрий различал даже четыре стиля — «скудный, величавый, изящный и мощный», да еще «смешанный» (172, 274), однако это деление популярности не завоевало. Ср. 422, 35. История такого жанрово-стилевого членения ораторского искусства и поэзии, от античности и до русского XVIII в., прослежена в монографии В. П. Вомперского (см. 379).
9* Здесь же авторы приводят любопытные данные об отношении крупнейших философов XVII в. к искусству, делающие понятным их безразличие к эстетической теории.
Едва ли не единственный пример включения эстетической проблематики в философский трактат — «Всеобщая наука» Ш. Сореля, где есть специальные разделы, посвященные изобразительным искусствам и поэзии (см. 470, т. III, 207 – 212; т. IV, 99 – 101). Правда, Сорель был философом, так сказать, по совместительству; прежде всего он был писателем и литературным критиком, так что это исключение принадлежит к числу тех, которые лишь подтверждают правило.
10* См об этом подробнее в нашей статье, специально посвященной анализу трактатов Ш. Сореля и А. Босса (387).
11* Трактат был написан по-латыни и опубликован в 1668 г. Миньяром после смерти автора. В XVII в. несколько раз переводился на французский язык — и стихами (А. Рену), и прозой (Р. де Пилем и Р. де Борегором). Цит. по более точному стихотворному переводу А. Берне, опубликованному в XIX в. (350, 90).
12* Это отчетливо осознавалось самими художниками и писателями этого времени — Ж. Мольером (356, 367 – 368), Ш. Перро (357, 23 – 24), Н. Пуссеном (289, 194 – 195), А. Фелибьеном (348, т. I, 86, 92; 347, 288). Об этом не раз писали и историки французской эстетической мысли (см., напр., 425, 15).
13* На это обратил внимание Г. Фридлендер во вступительной статье к «Лаокоону» (см. 12, 35 – 36).
14* Мы добавили бы, что аналогичным образом ставится в это время и вопрос о соотношении других искусств, например поэзии и музыки, особенно в трактатах английских теоретиков — Д. Броуна, Д. Уэбба, Д. Бетти, Д. Хэрриса (см. соответствующий раздел антологии музыкальной эстетики этой эпохи, составленной В. Шестаковым — 271, 566 – 675).
15* Правда, в России еще в конце XVIII в. мы встречаем рассуждения, буквально повторявшие доводы Леонардо да Винчи: «Кажется, что живопись более стихотворства имеет силы над людьми, потому что она действует посредством чувства зрения, которое больше других чувств имеет власти над душою нашею» (328, 103).
16* Вот крайне типичное для эпохи суждение: «Так же, как храмы и дворцы имеют более совершенную организацию, чем простые здания, так история королей требует большего совершенства и изысканности стиля, чем обыкновенные сочинения» (468, 5).
17* Справедливо отмечает Н. Сигал в предисловии к «Поэтическому искусству» Буало, что «косвенно рекомендуя… выводить в комедиях дворян и буржуа (в отличие от трагедии, которая в соответствии с иерархией жанров имеет дело только с царями, полководцами, прославленными героями), Буало совершенно недвусмысленно подчеркивает свое пренебрежение к простому народу. В знаменитых строках, посвященных Мольеру, он проводит резкую грань между его “высокими” комедиями, лучшей из которых он считал “Мизантропа”, и “низкими” фарсами, написанными для простого народа» (184, 47; ср. также исследование А. Аникста, части 4 – 5).
18* Упоминавшаяся выше монография В. П. Вомперского избавляет нас от необходимости более детального рассмотрения данной темы.
19* Интересно, что с аналогичной критикой Баумгартена и Мейера выступит один из первых русских эстетиков начала XIX в. И. Средний-Камашев: в их учении, — писал он, — «все правила и доказательства прилагаются только к поэзии и красноречию», а «живопись, музыка, мимика, искусства образовательные» оказываются вне поля зрения эстетической теории, «остаются не разрешенными задачами в эстетике Баумгартена» (см. 94, 37).
20* Трактат Д. Хэрриса впервые переведен на русский язык в антологии музыкальной эстетики XVII – XVIII вв. (см. 271, 566 – 575).
21* Трактат этот был переведен на русский язык и издан в 1806 г. Отрывки из него опубликованы во втором томе «Памятников истории эстетической мысли» и в антологии музыкальной эстетики XVII – XVIII вв. (66; 271).
22* Мы уже не говорим о ряде конкретных частных претензий, которые можно было бы к ней предъявить, — и в данном случае нужно признать полную правоту критических замечаний Круга (29, 59).
23* Гердер имеет в виду весьма забавное, но типичное для того времени сочинение — изданный в 1746 г. сборник речей «Состязание живописи, музыки, поэзии и театрального искусства», произнесенных «под наблюдением» В. Л. Грефенхана, магистра философии.
24* Можно предположить, что Бендавид опирался в этих рассуждениях на работы французского математика иезуита Кастеля, в которых описывался изобретенный им «цветовой клавесин», позволяющий пользоваться цветом так же, как музыка пользуется звуком (см. 342; 343). Это изобретение не было по достоинству оценено современниками, а у тех, кто работает в области цветомузыки в наше время, оно вызывает живой интерес. В этом свете следует оценить и теоретическую дедукцию данного искусства у Бендавида.
25* Об этом же в свое время писал еще Н. Берковский: «Для романтической эстетики характерно, что она с большей последовательностью, чем остальные эстетические учения в XVIII в., строится как всеобщая теория искусства, что живопись, музыка, поэзия, архитектура рассматриваются у романтиков как явления единого художественного мышления». В отличие от Лессинга, который говорил о «границах» искусств, романтики говорят «об относительности, о переходимости границ» (371, 77).
26* Правда, остается совершенно непонятным, почему автор несколько ниже называет такое деление искусств «идеалистичным» (там же, 242) и как вообще какое бы то ни было деление можно квалифицировать с помощью мировоззренческих категорий.
27* Поскольку, говорит Шлегель, зрение обращено вовне, а слух — внутрь, постольку «изобразительные искусства дают нам самые ясные представления, а музыка — самые душевно углубленные (die innigsten); они связаны теснейшим образом с познанием, а музыка с переживанием», в которое вовлекается «вся полнота нашего существования» (там же, 102). Рядом с музыкой у Шлегеля встает поэзия, хотя она «действует не на слух, а через слух».
28* В данном случае термин bildende следует переводить не как «изобразительные», а как «образные» или «чувственно-образные» — только поэтому Шеллинг мог относить к данной группе искусств и музыку, и архитектуру. О переводе термина bildende Künst на русский язык см. 311, 24 – 25.
29* Эта теория содержалась в опубликованной в 1800 г. «Системе трансцендентального идеализма» и в напечатанной в 1807 г. речи «Об отношении изобразительных искусств к природе». Лекции Шеллинга увидели свет только в 1859 г., а до этого распространялись в списках, известных, однако, и в Англии, и в России.
30* Трактат Бахмана «Всеобщее начертание теории искусств» был переведен на русский язык другом Белинского М. Чистяковым и издан в Москве в 1832 г. Сочинение это Белинский неоднократно поминал недобрым словом, видя в нем опошление эстетических идей классической немецкой философии (см. 48, т. III, 277, 280, 401, 421; т. VI, 73).
Стоит отметить, что влияние Шеллинга сказывалось и в конце XIX в., — свидетельство тому лекции Ф. Брентано, которые он читал в 1885 – 1886 гг. Брентано оставил большое рукописное наследие, опубликованное уже в наше время. Здесь трактуется и проблема соотношения искусств (111, 130).
31* Вызывает удивление, что в книге Ю. Манна «Русская философская эстетика», специально посвященной формированию эстетической мысли в России в начале XIX в., имя Галича лишь время от времени упоминается, тогда как он был у нас одним из действительных основоположников того, что Мани называет «философской эстетикой». Мы полностью присоединяемся в этом смысле к оценке эстетики Галича, которую высказал П. Соболев (408; 409).
32* Конспекты лекций Надеждина были опубликованы в монографии Н. К. Козмина (см. 391, 266 – 270). Здесь же приводится признание Надеждина, что при подготовке лекций по эстетике он опирался на трактаты «Бутервека, Бахмана и других немецких эстетиков», а отчасти на прослушанные им в духовной академии лекции П. И. Доброхотова (там. же, 262). Имя Галича тут, однако, не упоминается.
33* Хотя учение одного из них Шопенгауэр назвал «пустозвонством», а учение другого — «шарлатанством» (там же, XII).
34* Помимо примеров такого понимания родовой структуры поэзии, приведенных нами в предыдущем параграфе, можно сослаться и на работы Г. Хоума (128), И. Эшенбурга (119) и ряд других.
35* Подробное изложение этой концепции см. у Г. Лотце (430, 455 – 456). Данную схему подверг справедливой критике А. Калерт, резонно заметивший, что роды поэзии и музыки не могут находиться на том же уровне деления, что виды пространственных искусств — живопись, скульптура, архитектура (131, 236). С другой стороны, Калерт, а за ним М. Карьер подвергли критике унаследованный гегельянцами иерархический подход к определению сравнительной ценности различных видов искусств, поскольку каждое из них выражает всю полноту духа, только своими средствами, и потому «в своем роде совершенно» (см. 113, 531).
36* В «Истории эстетики» Гильберт и Куна мы встречаем в одном из примечаний такую ядовитую характеристику фон Кирхмана: «Часто обращавшийся к идеалистической эстетике, он пытался, тем не менее, подменить основу идеалистических концепций унылым сенсуализмом и так наз. реализмом» (380, 541, прим.).
37* Вот крайне показательный факт: В. Покровский, защитник «идеального искусства» (т. е. такого, которое является выразителем «прекрасного и высокого… в человеке, природе и, конечно, виновнике их бытия и деятельности — в боге, как абсолютной и первичной красоте»), был готов согласиться даже с «ярым врагом идеального искусства» — Чернышевским в том, что поэзия есть «главный фактор эстетического развития, по сравнению с другими искусствами» (58, 8). Вспомним также, как Кирхман, воюя с идеалистической эстетикой, был солидарен с морфологической концепцией Гегеля и Фишера.
38* Более подробно эта тема освещена нами в специальной главе «Виды искусства и их соотношение» в монографии об эстетике Чернышевского (386).
«Литературоцентризм» революционных демократов получил недавно неожиданную поддержку в книге А. Лебедева «Эстетические взгляды А. В. Луначарского», в которой автор этих строк был подвергнут критике за то, что не разделил взгляда Чернышевского на литературу как на «ведущий вид искусства» (393, 162). При этом Лебедев попытался опереться на Луначарского. Между тем, последний говорил отнюдь не об абсолютном превосходстве литературы надо всеми другими искусствами, а о неравномерности развития различных видов искусств. К сожалению, этого принципиального различия позиций Лебедев не замечает и делает поэтому шаг назад от Луначарского к Чернышевскому.
39* В своей известной статье об эстетике символизма В. Асмус назвал классификацию искусств у Андрея Белого «формалистической», поскольку в ее основе «лежат не столько конкретные особенности, присущие образам каждой частной группы искусств, сколько крайне абстрактные и притом совершенно формальные различия между искусствами…» (367, 575). Мы сказали бы более осторожно и, как нам кажется, более точно — классификация эта (как, впрочем, и весь символизм) лежала на пути от субъективистской ветви романтической эстетики к эстетике формалистически-абстракционистской и потому не могла стать оригинальной.
40* Учитывая популярность такого подхода к классификации искусств в XIX в., можно понять появление книги, которую трудно читать сегодня без улыбки, хотя по существу она совершенно серьезна. Книга эта называется «Физиология вкуса или размышление о трансцендентной гастрономии. Произведение теоретическое, историческое и актуальное, посвященное парижским гастрономам». Она была опубликована в 1864 г. в Париже и посвящена доказательству того, что гастрономия есть один из полноценных и благороднейших видов искусства. Автор предисловия к этой книге так ее характеризует: «Я никогда не говорил без презрения о любви к еде до того, пока не прочел эту книгу; я видел в этой любви самую грубую, самую эгоистическую, самую глупую страсть; когда я прочитал книгу Саварена, мне стало стыдно, что я не гурман…» (469). Впрочем, современный французский эстетик Д. Гисман подтверждает: гастрономия — это «очень большое искусство» (129, 115).
41* Т. Манро утверждает, ссылаясь на С. Колвина, что понятия «maggiore» и «minore» в применении к искусствам стали употребляться в Италии еще в эпоху Возрождения в соответствии с особенностями гильдий и корпораций, к которым принадлежали мастера различных отраслей ремесленного производства. Терминология эта, сохранившись, имела, несомненно, оценочный характер: Манро приводит Вебстерово определение термина «majór»: «Более достойный, более значительный; высший по рангу, по качеству или положению» (35, 123). Показательно, что в «Истории эстетики» Бозанкета данные термины часто замещаются синонимами «higher» и «lesser», что уже буквально означает «высшие» и «низшие».
42* Судя по предисловию Якоб знал труды Баумгартена, Батте, Канта, Зульцера, Эшенбурга, Эбергарда, Боутервека, и некоторые их морфологические идеи были им использованы (см. там же, 2 – 3). Учения Шеллинга и Гегеля ему, очевидно, еще не были известны.
43* Пользуюсь случаем выразить искреннюю признательность П. В. Соболеву, который привлек мое внимание к этой статье, (см. также 409, 30).
44* За что его совершенно справедливо критиковал И. Фолькельт (см. 166, т. III, 382 – 383).
45* Основательной критике подверг ее Б. Бозанкет (см. 423, 420 – 424).
46* Русское издание этой книги называлось «Что такое красота? Введение в эстетику» (СПб., 1899). Эта работа была единственным сочинением Мильталера в области эстетики. Основная сфера его интересов — естественнонаучная, возможно, отсюда та строгость мышления и четкость аналитического подхода, которые видны в его книге. Заслуживает быть отмеченным также, что он ввел в систему искусств рядом с архитектурой «орнаментику», садовое искусство и — что особенно интересно — промышленное искусство (там же, 90 русского издания). Можно лишь сожалеть, что имя этого ученого не упоминается ни в одном исследовании при разработке историографии морфологического изучения искусства. Между тем таблица видов искусства, построенная Дессуаром, оказалась простым повторением таблицы Мильталера, без какой-либо, однако, ссылки на ее автора.
47* Мы не воспроизводим таблицу Мильталера — Дессуара, во-первых, потому, что в ней нет ничего принципиально нового по сравнению с таблицами Цейзинга и Шаслера, во-вторых, потому, что мы ее уже публиковали в «Лекциях по марксистско-ленинской эстетике».
48* Следует заметить, что Манро безосновательно считал Фолькельта противником двухмерного построения системы искусств (см. 35, 189 – 192).
49* Концентрические кольца данной таблицы можно без труда развернуть, разрезав их по любому радиусу и растянув в виде двухъярусного прямоугольника; точно так же любую ортогональную таблицу можно представить в виде двух или трех концентрических кругов, расчлененных на сектора.
50* Мы помним, как по-разному формулировали теоретики это простое различие, называя данные группы искусств то «объективными» и «субъективными», то «абстрактными» и «конкретными», то «предметными» и «беспредметными», то «подражательными» и «неподражательными», то искусствами «определенных ассоциаций» и «неопределенных» и т. п.; Сурио обогатил эту коллекцию своими «уровнями».
51* Попытку усовершенствовать классификацию своего дяди предприняла Анна Сурио (39), но ничего существенного в этой статье ей сделать не удалось.
52* Вообще говоря, у Ницше уже намечается та типология культур — «сократической», «художественной» и «трагической», или — «если допустить историческое сравнение» (!) — александрийской, эллинской и буддийской (там же, 155), которая станет основой теории Шпенглера.
53* Краткое описание этой дискуссии см. у А. Н. Веселовского (188, 243 – 255). Позднее появится и третья точка зрения, утверждающая изначальность драмы, — ее страстным пропагандистом был Н. Евреинов (см. 213).
54* Крайне интересно, что, очевидно, под влиянием Веселовского, изменилась и точка зрения Потебни. Во всяком случае, в его рукописном наследии сохранились заметки, в которых генетико-морфологические проблемы решаются совсем иначе, чем в цитированной выше работе «Мысль и язык». Здесь говорится о двух группах искусств — пространственных и временных, причем деление это, подчеркивает Потебня, «имеет и генетическое, родословное значение»: можно предположить, что эти искусства «обособились, выделились из 2-х основных», древнейших, синкретических; так, с одной стороны, «скульптура и живопись отделились от зодчества», а с другой — «музыка инструментальная, и доныне неразрывно связываемая с поэзией, вышла из пения, соединенного с пляской (хоры древней трагедии, нынешние хороводы, нынешняя опера» — 284, 5). Остается лишь пожалеть, что талантливому ученому не удалось развить эту точку зрения, ибо, как мы увидим в дальнейшем, представление о двух исторических праискусствах кажется наиболее верным из всех родословных художественной деятельности, какие только строились в истории эстетической мысли.
55* В 1909 г. вышел 1 вып. II тома «Вопросов теории и психологии творчества» с подзаголовком «Опыт популяризации “Исторической поэтики” А. Н. Веселовского для высших и средних учебных заведений». Здесь были опубликованы две работы — «Синкретизм и дифференциация поэтических видов» К. Тиандера и «Лирическая поэзия, ее происхождение и развитие» Ф. Карташева (см. 316 и 235).
56* Следует иметь в виду, что понятие «жанра» употребляется Брюнетьером в очень широком смысле — включая и отрасли, и разновидности, т. е. едва ли не все членения, которые имеют место в искусстве.
57* Еще один интересный и совсем свежий опыт соединения исторического и теоретического аспектов рассмотрения литературных жанров осуществлен М. Ландманом в его сочинении по теории литературы (354), одна из глав которого носит выразительное название: «Смерть и бессмертие жанров». Речь идет в ней не только о жанрах в собственном смысле слова, но и о поэтических родах — немецкое понятие «Gattung» объединяет те и другие.
58* Что, однако, не помешало популярности этой книги, выдержавшей во Франции еще два издания (в 1926 г. и в 1963 г.). Панегирический очерк об Алене (псевдоним E. Chartier), явно несоответствующий действительной научной ценности его сочинений, написал его ученик Моруа (см. А. Моруа. Литературные портреты. М., 1970.)
59* Поскольку главной целью романа бальзаковского типа является познание, а не красота, постольку роман этот можно назвать искусством, «если хотите, великим искусством, но это не искусство красоты» (там же, 42). «Высшей формой словесных искусств» оказывается, естественно, поэзия (там же, 43).
60* Мы пользуемся случаем выразить искреннюю признательность Л. Л. Фарбштейну, который помог нам получить представление о книге Я. Макоты.
61* В главе, специально посвященной историографии данной проблемы, рассказывается только о морфологических теориях Шеллинга, Зольгера, Гегеля, Вейссе, Фишера, Коозена и Цейзинга, лишь мельком упоминаются точки зрения Лессинга, Канта, Гердера, и этим все ограничивается.
62* Спустя полвека рассуждения Кона будет повторять Жильсон (25, 24 – 25). Эти же аргументы мы встречаем еще у одного французского эстетика — М. Корнфельда (см. 135, 106 – 108). Отсюда видно, как недалеко в данном случае от эмпиризма к скептицизму — по сути дела, они дополняют друг друга в общем деле разрушения морфологического анализа искусства.
63* Убедительное опровержение этой позиции Кроче мы встречаем и у некоторых буржуазных эстетиков. Так, Э. Кассирер отмечал, что специфическая форма существования произведения искусства «выражает не только технику его конструирования, но также его истинный смысл». Иначе говоря, сама «интуиция» Бетховена является музыкальной, а Фидия — пластической, Мильтона — эпической, а Гете — лирической. Поэтому классификация искусств вполне правомерна (463, 206 – 208. Цит. по английскому переводу, т. к. немецкого издания нам не удалось найти). Серьезную критику антиморфологических взглядов Кроче и его ученика Ф. Флора мы находим также в упоминавшейся статье Ф. Медикуса (34). У нас есть также все основания полагать, что хотя Н. Гартман непосредственно не полемизирует с Кроче, однако, все, что он говорит об эстетической значимости материальной формы в искусстве, равно как и проводимое им деление искусств на пространственные и временные, обращено против концепции Кроче, а может быть и Шпенглера (54, 31, 134 – 135 и др.).
64* Показательный пример: еще в 1927 г. А. Ф. Лосев издал в Москве книгу под названием «Диалектика художественной формы», которая была написана, как сам он указал, с позиций… неоплатонизма; в ней была сделана, в частности, попытка построения системы искусств, но вряд ли стоит удивляться, что при такой философско-методологической основе она оказалась чем-то средним между системами Гегеля и Шопенгауэра (см. 76, 97 сл., 212 сл.).
65* К данной проблеме наш выдающийся лингвист не раз возвращался в своих работах (см., напр., 456, т. 5, 259). О значении, которое он ей придавал, говорит специально посвященный ей пункт в составленной им программе общего курса учения о языке (456, т. 2, 9).
66* Правда, еще в 1924 г. своеобразный опыт морфологического исследования искусства с позиций марксизма сделала в Германии Лю Мэртен в книге «Сущность и изменчивость форм и искусств. Итоги историко-материалистических исследований» (143) (книга была сожжена фашистами в 1933 г. и в 1949 г. переиздана в ГДР в новой авторской обработке). Однако в этой работе исторический подход полностью поглотил системный: в книге дается последовательное изложение зарождения и развития различных видов искусства, каждому из которых посвящается одна-две главы (последовательность такова: орнамент, танец, музыка, архитектура, скульптура, живопись, литература, киноискусство), но никакой внутренней системной связи между этими отраслями художественной культуры автор и не пытается обнаружить.
67* Показательно, что в 1958 г. в Свердловске вышел сборник студенческих работ «О специфике некоторых видов искусства», под редакцией и со вступительной статьей Л. Н. Когана (280).
68* Мы не можем, однако, судить о том, известна ли она была Поспелову, т. к. в его книге нет ссылок ни на кого из его предшественников в данной области.
69* Пять лет спустя в новой книге этого автора «Эстетическое и художественное», которая была переработанным и расширенным вариантом первой его книги, данный ее раздел оказался воспроизведенным с одним-единственным уточнением: танец и пантомима были объявлены здесь двумя родами одного искусства — «искусства телодвижения», подобно тому, как эпос и лирика являются родами единого словесного искусства (90, 288 – 289 и 295 – 296). Осталось, однако, неразъясненным, зачем нужно было такое теоретическое нововведение, что оно дает для понимания законов существования искусства.
70* Мы не беремся объяснять это совпадение, поскольку у Кожинова, как и у Поспелова, нет никаких ссылок на работы его предшественников и никаких указаний на источники, от которых он отталкивался в своих морфологических размышлениях.
71* «Содержание поэзии, — мотивировал это автор буквально теми же словами, что и Поспелов, — всеохватывающе, универсально, ибо слова способны схватить, отразить в себе любое явление мира» (11, 78).
72* Вообще приходится признать, что эта первая книжка Кожинова, в отличие, например, от следующей его весьма основательной работы «Происхождение романа», была написана удивительно неряшливо, небрежно и пестрела всевозможными несуразицами и ошибками. Можно лишь удивляться тому, как мог В. Кудин счесть ее единственным (!) недостатком… отсутствие в таблице Кожинова телевидения и полностью принять его концепцию (см. 74, 110 – 111).
73* В одном из примечаний автор отметил: «Настоящая глава была написана до выхода в свет книги М. Кагана, и мы пришли к сходным выводам независимо друг от друга» (205, 85).
74* Правда, Гусев не мог не заметить, что возникающее тут тройственное членение совпадает с делением искусств на пространственные, временны́е и пространственно-временны́е, но вместо того, чтобы сделать отсюда вывод о прямой зависимости данного деления от первого, он попытался обосновать его самостоятельность и равноправие, исходя из того, что совпадение этих двух делений не является якобы абсолютным. В каких же конкретно пунктах они расходятся? Только в том, что в ряду зрительных искусств оказались… «пантомима» и «немая кинопантомима». Основание явно недостаточное, тем более, что «немая кинопантомима» есть переходное и кратковременное явление в истории искусства, а простая пантомима, как правило, имеет то же музыкальное сопровождение, что и танец. Вот почему нельзя признать теоретически основательным предложение дополнить двухмерную модель системы искусств третьей координатой — для этого нет ни фактических, ни логических оснований.
75* Сходные идеи были высказаны за несколько лет до этого в «Теории литературы» Р. Уэллека и О. Уоррена. Здесь говорилось: «Жанр должен рассматриваться, с нашей точки зрения, как группа литературных произведений, объединенная теоретически и внешней формой (специфический метр или структура), и внутренней формой (отношением, тоном, целью, — более грубо, предметом изображения и восприятием слушателей). Наиболее очевидным может быть либо одно, либо другое основание (напр., в “пасторали” и “сатире” — внутренняя форма, в двустопном стихе и пиндарической оде — внешняя); но задачей критики становится тогда поиск другого измерения, которое должно пополнить схему» (364, 241).
76* Не лучше, разумеется, обстоит дело и в буржуазном литературоведении. Характеризуя состояние западноевропейского литературоведения в середине XX в., М. Верли имел все основания заключить, что «в определении понятия “жанр” не существует согласованного мнения» и что попытки ученых разработать морфологию литературного творчества вылились в «безнадежно запутанную картину… перекрещивающихся во всех направлениях и противоречащих друг другу типологий…» (378, 98 – 99; ср. аналогичные высказывания Р. Уэллека и А. Уоррена (364, 338), В. Кайзера (353, 330 – 332)).
77* Собственно говоря, основные ее идеи были в эскизном виде изложены в статьях, написанных Гачевым для коллективной академической «Теории литературы», однако только в монографии он сумел развернуть свою концепцию с необходимой широтой и основательностью.
78* Например: «Таким образом, куда ни двинься, каждый (!) структурный элемент эпической формы чреват каким-то важным (!) миросозерцательным положением». И т. д. И относится это к эпической форме не только в ее генезисе, но и в современном ее употреблении! (там же, 102).
79* В «Кратком словаре терминов изобразительного искусства» жанр определяется коротко и ясно как «область искусства, ограниченная определенным кругом тем» (246, 48).
80* В русском издании термин «художественные» переведен странным образом — «артистические». К сожалению, весь перевод выполнен крайне неквалифицированно.
81* Нам представляются в этой связи очень глубокими те соображения, которые высказал Г. Гачев, оспаривая распространенное в наше время не только среди мастеров искусства, но и среди теоретиков — вспомним хотя бы академическую «Теорию литературы» — нигилистическое отношение к жанру: «Каждая эпоха и каждая субъективность, — писал Гачев, — склонны отдавать предпочтение новизне. (Поскольку они действительно обновляют бытие, они и любят пуще всего именно это обновление, ибо в нем они любят себя: в современном ведь отразилась именно их суть, их преходящий век). Но бытие, видно, недаром вырабатывает устойчивые формы: изготовления вещей, общения людей, быта, мышления. В них каждый раз осуществляется его равенство самому себе и братство эпох. В них длится предметная жизнь умершего человечества; разум предшествующих эпох в них понимает, осваивает и приобщает к лику человечества все нововведения». Поэтому в силе традиции, хранящей устойчивость жанра, нужно видеть «не только нечто отрицательное, но и благостную, народную силу, отражающую в себе глубинную устойчивость бытия, простоту и ясность его коренных ценностей, которые не поддаются расползанию в суетливой свистопляске новизны и моды» (195, 19).
82* Не учитывая этого различия, можно прийти к тому неосновательному выводу, к которому пришла З. Лисса, которой показалось, что синтетичность киноискусства «опрокидывает все до сих пор применявшиеся принципы классификации искусств» (255, 57 и 42). Впрочем, несмотря на такие утверждения, Лисса широко пользуется в своей книге существующими классификациями.
83* Аналогичную постановку вопроса мы встречаем, к сожалению, и в ряде других, весьма ценных по фактическому материалу, исследованиях С. Замятнина (447, 48), С. Иванова (385, 746 и 748), А. Авдеева (170, 747 и 748). См. также недавно вышедшую книгу В. Шерстобитова «У истоков искусства» (418). Справедливую критику подобных, по сути своей метафизических, представлений дал А. Формозов (413, 8 – 9). Нельзя не согласиться с его тезисом: «В сознании палеолитического человека не могло еще произойти дифференциации особой религиозной сферы и сферы искусства, внерелигиозной… Нужно говорить о своеобразном синкретизме первобытного мышления, включавшем в себя и элементы религии, и элементы реального опыта». Аналогичную постановку вопроса см. в убедительной статье Д. Гурьева «О возникновении религиозного сознания» (445).
Впрочем, Анисимов незаметно для самого себя опровергает свою концепцию, когда присоединяется к ученым, обнаруживающим «первые проявления религиозности» уже в мустьерское время, т. е. задолго до возникновения позднепалеолитического изобразительного искусства (см. 443, 65 сл.).
84* «Миф есть древнейшая поэзия», — писал в своем классическом исследовании «Поэтические воззрения славян на природу» А. Афанасьев (369, т. I, 11). С другой стороны, «первые молитвы (молить-молыти, молвити) народа были и первыми его песнопениями; они являлись плодом того сильного поэтического одушевления, какое условливалось и близостью человека к природе, и воззрением на нее как на существо живое, и яркостью первичных впечатлений ума, и творческою силою древнейшего языка, обозначавшего все в пластичных, живописующих образах. От священных гимнов Вед веет истинным, неподдельным духом поэзии…» Неудивительно, что «издревле поэзия признавалась за некое священнодействие» (там же, 412 – 413).
85* Огромный материал, характеризующий эту метафорическую структуру первобытного сознания, можно найти во всех трех томах цитированного выше исследования А. Афанасьева.
86* Очень важно отметить, что психология приходит сейчас к выводу (см., напр., работы А. Лурия) о наличии — и в онтогенезе, и в филогенезе — разных типов мышления, заключая, что оно меняется не только по содержанию, но и по своей структуре; в связи с этим делается вывод, что психология должна стать исторической наукой (см. 453).
87* Это значит, что Ницше вполне произвольно использовал имя Аполлона для символизации пластически-изобразительного творчества — «аполлоновскими» следовало бы назвать скорее те искусства, которые Ницше именовал «дионисийскими». Но принципиальное различие этих двух сфер художественной деятельности философ почувствовал верно. Об этом же совершенно точно говорит и такой знаток античной культуры, как И. Хейзинга, хотя объясняет он это историческое раздвоение художественного творчества неверно — с позиций своей теории игровой сущности культуры (464, 159 – 161).
Китайские мифы, говоря о происхождении искусства, имеют в виду только «мусические» формы художественного творчества (419, 55, 69 – 70, 75 и др.).
88* Интересна мысль Г. Зедльмайра, что архитектура и скульптура связаны генетически теснейшим образом и выросли «из единого корня: от менгира произошла и монументальная, свободно стоящая фигура, и тектонический обелиск, и, возможно, колонна». Да и сама колонна является, по его убеждению, «в такой же мере тектоническим образом, как и пластическим» (437, 18).
89* Ю. Липе убедительно показал, что только в эпоху неолита, в связи с переходом к оседлому образу жизни, в строительной деятельности первобытного человека впервые начинает играть существенную роль эстетическое начало — «впервые здесь замечается стремление к украшению дома внутри и снаружи». Это касается и общих архитектонических решений, и продуманности, выразительности пропорций и т. д. (394, 27 сл.). Позиция советского историка архитектуры В. Циркунова (415) оказывается противоречивой: с одной стороны, он говорит о том, что строительство старше архитектуры как искусства, с другой стороны, в самом тексте книги технический и художественный аспекты проблемы, в сущности, не различаются.
90* Художественные ремесла, совершенно основательно писал Г. Земпер, родились «на многие века раньше, чем была создана архитектура как искусство» (220, 149 и 177).
91* См., например, расшифровку первоначального смысла орнаментальных мотивов в интересном исследовании Л. Керимова «Азербайджанский ковер» (237). В этой связи нельзя не отметить, что А. Анисимов — в явном противоречии со своей концепцией более позднего возникновения религии по сравнению с искусством — вполне основательно утверждает, что за изображавшимися первобытным человеком образами животных и за фантастическими образами полулюдей-полузверей стояли мифологические представления тотемного характера — см. его статью «Об исторических истоках и социальной основе тотемистических верований» (441, 297. Ср. 365, 102 – 103, 158).
92* Обстоятельный анализ проблемы и серьезнейшую аргументацию данной точки зрения можно найти в книге Семенова «Как возникло человечество» (460, гл. XIV).
93* Вот почему несостоятельны всякие попытки установить ту или иную последовательность возникновения родов и жанров художественного творчества. Нет ничего удивительного в том, что выводы, к которым приходили на этом пути теоретики, были весьма разноречивыми, а В. Кожинов, например, сумел предложить в одной статье четыре разных (!) решения проблемы: вначале он утверждал, что «уже с самого своего рождения» литература развивается «в трех основных формах эпоса, лирики и драмы»; затем признал драматический род более поздним образованием, чем лирический и эпический; еще дальше выдвинул третью гипотезу, согласно которой «сначала рождается» лирика, затем драма и позже всего — эпос, а в конце концов заявил, что «в отличие от лирики и драмы, эпос представляет нам огромное художественное наследство древнейшего происхождения» (315, 39, 43, 49).
94* Безусловно заслуживает внимания мысль Давлетова, что нельзя искать в фольклоре такого же четкого родового и жанрового членения, какое мы находим в художественной литературе, что кристаллизация и выделение специфических родовых и жанровых структур происходят здесь, как он остроумно выразился, «несимметрично»; эпический род развит в нем больше, чем лирический, драматический же вообще находится в зачаточном состоянии, и соответственно жанровое деление более развито в пределах эпоса, чем в области лирики и, тем более, драмы (206, 60 – 62).
95* Только сейчас успешно вырабатываются специальные средства фиксации танца.
96* Так называемая Lesedrama, т. е. «драма для чтения» — своеобразный казус в истории драматургии, точнее — пограничное явление на пути от драматургического рода к эпическому или лирическому, и вполне понятно, что она не получила сколько-нибудь широкого распространения.
97* Впрочем, мысль о родстве архитектуры и музыки, а также садового искусства, высказывалась еще в XVIII в. Хоумом (128, т. II, 241). Родство это основано, по его мысли, на том, что данные искусства не «подражают природе», а «творят оригинальные произведения».
98* Правда, при слишком богатом воображении и определенной концепционной устремленности можно и архитектурные образы счесть изобразительными. Эккард фон Сидов, например, доказывал, что архитектура имела исторически два источника — пещеру и ветровой заслон, но источники эти не были равнозначными: ветровой заслон (Wettersturm) послужил исходным пунктом технического развития зодчества, а пещера стала «эстетическим прообразом древнейших пространственных построений (Raumformung)» (438, 68). Почему же пещера сыграла такую роль в становлении архитектуры? Потому что, оказывается, она есть символ материнского чрева, а вслед за ней такими символами стали и дом, и город, и строительство вообще (там же, 70 – 72). Естественно, что все эти рассуждения насыщены ссылками на Фрейда, Юнга и других психоаналитиков, толкующих древние мифы, образ «земли-матушки» и пр.
Куда привлекательнее этих фантастических рассуждений концепция А. Шопенгауэра, который, хотя и из идеалистических оснований, выводил точное заключение: «Как музыка, так и архитектура далеко не подражательные искусства, хотя часто ошибочно их и считали таковыми» (102, 504). Уточняя этот тезис, философ говорил: если архитектура «отнюдь не должна подражать формам природы… то все-таки она должна работать в духе природы» (там же, 505). Заслуживает быть отмеченным, что Шопенгауэр видел родство архитектуры и прикладного искусства — это позволяло ему приводить в качестве примеров наряду со зданиями и греческие вазы (там же, 506).
99* В фундаментальной трехтомной «Истории технических искусств», написанной в конце XIX в. в Германии коллективом искусствоведов под руководством Б. Бухера (424), именно такой принцип положен в основу, и оттого здесь отнесены к «техническим» искусствам и прикладные искусства, и изобразительные — с одной стороны, мебель, текстиль, стекло, с другой — глиптика, мозаика, гравюра.
100* Правда, в истоках своих цирк, в отличие от эстрады (как убедительно показал Е. Кузнецов), был «однородным», «монолитным» искусством, однако в дальнейшем он превратился в конгломерат «взаимно отчужденных, разнородных, но равноправных самостоятельных составных элементов» (250, 207, 273, 277). Однако при этом цирк сохранил неизвестный эстраде «единый специфический признак» всех исполняемых на арене номеров — трюк (там же, 284), так что степень гетерогенности циркового и эстрадного представлений оказывается разной.
101* О цветомузыкальном синтезе мечтал еще в XVIII в. Р. Кастель, затем — Р. Вагнер, А. Скрябин, но серьезные работы в этом направлении развертываются лишь в наше время. Вот краткий перечень того, что сделано советскими художниками и конструкторами в этом направлении (по обзору Б. Галеева): «Светомузыкальные эффекты используются в цветном телевидении и кинематографе (опыты студии им. Довженко и др.), для декоративного оформления интерьеров и бытовой радиоаппаратуры (радиола “Гамма”), в клинических исследованиях (ВНИИ им. А. С. Попова), в инженерной психологии (СКВ “Прометей”, Казань). Широкое распространение получает применение светозвуковых эффектов в кинетическом искусстве, а также при создании “световой архитектуры” (СКВ “Прометей”). В определенной мере связаны с этой областью искусства и идея беззвучной “музыки света”, и попытки живописать музыку на полотне. Пропаганду подобных опытов, наряду со светомузыкой, ведет клуб Чюрлениса в Одессе» (242, 6). Судя по выступлениям на конференции в Казани в 1969 г., опыты в данном направлении ведутся и в ряде других городов нашей страны. Ср. также интересную книгу Ф. Юрьева «Музыка света» (339).
Что касается кинетического искусства, то о его успехах можно было судить по состоявшимся в конце 60-х гг. выставкам в Москве и Ленинграде, а также по ряду динамических декоративных сооружений, воздвигаемых в праздничные дни на набережных и площадях Ленинграда (работы группы. Л. Нусберга). Само собою разумеется, что это направление художественных исканий не имеет ничего общего с бессмысленными формалистическими «мобилями» А. Колдера или «кинетикой» Ж. Тингели (см. 403, 201 – 202).
102* В. Кожинов правильно говорит о «принципиально письменной природе» романа, в отличие от стихотворной поэмы, которая обращена «непосредственно к слуху» (390, 4). Следовало бы лишь добавить — письменно-печатной, т. к. на рукописной технической базе роман тоже еще не мог возникнуть.
103* Л. Мамфорд имел все основания сопоставить роль книгопечатания в истории литературы с ролью промышленной революции в истории архитектуры и прикладных искусств (433, 57 – 68). Это сопоставление тем более основательно, что само книжное искусство, как точно показал в своей интересной книге В. Ляхов, есть разновидность художественно-конструкторской деятельности, осуществляющейся в единстве с деятельностью изобразительной (с книжной иллюстрационной графикой) (259, 88 сл.). В этом анализе остается лишь непонятным, каким образом включается в книжное искусство третий компонент, названный автором «типографское искусство» (там же, 95).
104* Вообще говоря, балет на льду и массовые спортивные праздники показывают, как тесно связаны в наше время техника спорта и техника производственная, — в первом случае претворение фигурного катания в художественное действо оказалось возможным только благодаря обеспеченному техникой искусственному льду (это позволило организовать необходимую «эстрадную базу» — закрытые и круглогодично функционирующие помещения), а во втором — техника в виде мотоциклов, автомобилей, а подчас и самолетов, становится непременным компонентом физкультурных парадов.
105* Этот вопрос был специально и достаточно обстоятельно рассмотрен нами в серии теоретических очерков «Эстетика и художественная фотография» (231).
106* Термин «дизайн», прочно вошедший в обиход не только на Западе, но и в нашей стране, не получил еще, однако, точного и однозначного определения. Автор одного из новейших исследований данной проблемы пишет: «Хотя западная литература по дизайну насчитывает более полувека развития, о единой точке зрения в ней не может быть и речи. Дело в том, что достаточно часто “дизайн” означает собственно деятельность художников в промышленности, значительно чаще — продукт этой деятельности (вещь или система вещей), а иногда — область организации деятельности, взятую как целое. В некоторых случаях “дизайн” трактуется предельно расширительно и далеко выходит за рамки обозначения деятельности художника по решению задач промышленного производства» (197, 5 – 6 и 134). Наиболее авторитетным следует, по-видимому, считать определение, принятое в 1964 г. международным семинаром по дизайнерскому образованию: «Дизайн — это творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий. Эти качества включают и внешние черты изделия, но главным образом те структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое как с точки зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя» (там же, 6. Ср. также определения, которые дает в своей книге Д. Нельсон — 275). Сам В. Глазычев (автор цитируемой книги) предлагает такое определение: «Дизайн — форма организованности (служба) художественно-проектной деятельности, производящая потребительскую ценность продуктов материального и духовного массового потребления» (197, 125). При этом оказывается необходимым «развести», как выражается сам автор, «дизайн» и «дизайнерскую деятельность», причем эта последняя оказывается «художественно-проектной деятельностью» (там же, 176). Концепцию Глазычева мы еще будем иметь возможность специально рассмотреть, сейчас же мы хотим лишь подчеркнуть, что данная «разводка» понятий кажется нам в чисто терминологическом смысле не проясняющей, а лишь запутывающей дело и поэтому вряд ли приемлемой, как и предложение Кантора «развести» понятия «дизайн» и «промышленное искусство» (232, 151 – 200). Впрочем, сейчас Кантор как будто несколько изменил свою точку зрения, заняв дуалистическую позицию: «Рассмотренный социологически, — пишет он в одной из своих последних статей, — дизайн есть система управления взаимодействием промышленности и рынка…» и т. д. Но: «Рассмотренный культуроведчески, дизайн — искусство» (233, 23).
107* Более подробно мы имели возможность осветить эту проблему в книге «О прикладном искусстве» (230). На нынешнем уровне развития общественных наук есть возможность дать более глубокое решение проблемы, рассматривая ее в аксиологической, семиотической и социально психологической плоскостях. Такая постановка вопроса была уже изложена нами в статье, опубликованной два года тому назад в журнале «Revue d’Esthétique» (352). Анализ конкретных художественных явлений под этими углами зрения осуществлялся до сих пор лишь в единичных случаях. Один из наиболее интересных — статья П. Богатырева «Функции национального костюма в Моравской Словакии», в которой проведен семиотический анализ народного костюма, рассмотренного как динамическая полифункциональная система (178, 249 – 366).
108* Внимательно вдумываясь в аргументы, с помощью которых обосновывается противопоставление дизайна и искусства — наиболее развернуто и последовательно это сделано в книге В. Глазычева, — мы должны признать их крайнюю неубедительность. Ибо логика подобной постановки вопроса заставляет теоретика: а) оторвать понятие «искусство» от понятия «художественная деятельность»; б) вывести за пределы искусства и современное «массовое искусство», и, в сущности, все «не чистые» формы эстетической деятельности, включая религиозное искусство и политическое искусство; в) закрепить за понятием «искусство» только те характеристики, которые свойственны одной лишь исторической его форме — «чисто» художественной деятельности буржуазного общества, самым последовательным проявлением которой является так называемое «элитарное искусство» (197, гл. 5). Думается, перед нами издержки того же односторонне-социологического подхода, который мы уже отмечали в концепции Давыдова — Бородая — Кантора. Между тем действительные особенности «массового искусства» и дизайна в буржуазном обществе — а они очень хорошо выявлены и описаны Глазычевым — не снимают того решающего обстоятельства, что данные формы деятельности принадлежат именно к сфере искусства, а не к какой-либо иной. Как бы ни профанировалась природа искусства в комиксах или в стайлинге, все же именно она определяет и их структуру, и их функционирование; в этом смысле пошлейший вестерн и фильм Антониони лежат в одном ряду, так же как автомобиль «кадиллак» и вилла Райта. Следовательно, метаморфозы, которые претерпевает искусство на протяжении всей своей истории под влиянием социальных факторов, не должны мешать нам видеть структуру художественного инварианта, сохраняющегося во всех этих вариациях. А она-то и оказалась утерянной Глазычевым, для которого художественное одухотворение вещей свелось к одной только престижной символизации (там же, 179).
109* Изданный в 1960 г. в Риге альбом В. Тоотса называется «300 шрифтов», однако и это число не исчерпывает возможные вариации рисунка шрифта.
110* Вспомним в этой связи мудрое замечание В. Стасова: «Есть еще пропасть людей, которые воображают, что нужно быть изящным только в музеях, в картинах, в статуях, в громадных соборах, наконец, во всем исключительном; особенном, а что касается до остального, то можно расправляться как ни попало — дескать, дело пустое и вздорное. Что может быть несчастнее и ограниченнее таких понятий! Нет, настоящее, цельное, здоровое в самом себе искусство существует уже лишь там, где потребность в изящных формах, в постоянной художественной внешности простерлась уже на все сотни тысяч вещей, ежедневно окружающих нашу жизнь» (308, т. 1, 540).
111* Его былое величие показано на большом и очень интересном материале в специальной главе книги Ю. Липса «Происхождение вещей» (глава эта остроумно названа «В салоне красоты дикарей»). Ср. также интересные рассуждения на сей счет Г. Земпера (220, 120 – 121).
112* Сохранение риторики как самостоятельного раздела в ряде сочинений по теории словесности в России в первой половине XIX в. кажется уже явным анахронизмом. Во всяком случае Белинский восклицал: «… ужасная эта наука — риторика! Блажен, кто мог стряхнуть с себя ее педантическую гниль и пыль» — и утверждал, что риторика должна быть вытеснена стилистикой (48, т. 3, 260 – 262). При этом критик отнюдь не отрицал художественной природы красноречия: «Красноречие есть искусство», — заявлял он, но «не целое и полное, как поэзия», т. к. главная цель красноречия «всегда практическая», и потому поэзия входит в него только «как элемент, является в нем не целью, а средством» (48, т. 8, 508 – 509).
113* Историческая связь ораторского искусства с политической жизнью общества и классово-идеологической борьбой была в свое время обстоятельно показана в специальном исследовании В. Гофмана (см. 202). О преемственной связи ораторского искусства и публицистики см. также в недавней монографии В. Ученовой (462, 13, 16 и др.).
114* Обстоятельный анализ этого положения эстетики Сартра осуществила Э. П. Юровская в своей кандидатской диссертации «Эстетика Ж. П. Сартра» (420). Не менее ярко выражено оно и в «Исследованиях по эстетике» Р. Ингардена (55, 122 сл.). «Отцом» этой идеи является Гуссерль. Следует отметить, что феноменологическая эстетика не столь последовательна в отрыве духовной сути искусства от его материальных носителей, как эстетика интуитивистская — это ясно видно по книге ученицы Ингардена Макоты, в которой есть явное противоречие между пренебрежительным отношением к материальной структуре произведения — поскольку эстетическая ценность над ним якобы только «надстраивается» — и учетом этой структуры, что приводит автора к делению искусств на… те же пространственные, временны́е и пространственно-временны́е (хотя формулирует она это деление несколько причудливо — 55, 274, 277, 343).
115* Характеризуя временной характер восприятия пространственных искусств, особенно архитектуры, Ф. Бим вполне резонно замечает, что «по сравнению с композитором, с драматургом, с писателем, художник зримых искусств имеет крайне ограниченный контроль за тем отрезком времени, в который его произведение может быть воспринято» (109, 129. Ср. 41).
116* Ф. Шмит, несомненно, преувеличил реальное значение времени в архитектуре, когда он назвал ее «четырехмерным» искусством (имея в виду под четвертым измерением время (101, 120)). Однако он очень интересно и тонко показал, как в пространственных искусствах нарастает элемент «временности» от живописи к скульптуре и от скульптуры к архитектуре, так же как в музыке нарастает элемент пространственности при переходе от одноголосой «линейной» мелодий (соответствующей живописи) к полифонической музыке (аналогичной скульптуре) и гармонической (подобной архитектуре) (там же, 122).
117* Вот почему часто говорят об условности этих искусств, хотя такое суждение не совсем точно: условность присуща языку всех видов искусства, однако мера условности в искусствах второй группы значительно большая, чем первой, поскольку здесь мы имеем дело с выходом за пределы нашего чувственного опыта.
118* Мы говорим сейчас о языке, а не о речи и не о речевой деятельности. Современная лингвистика убедительно показала необходимость различения этих явлений (см., например, 452). Между тем материалом художественного творчества является именно язык, который оно использует и обрабатывает, выступая в качестве особого вида речевой деятельности.
119* Очень хорошо сказал об этом однажды, применительно к музыке Л. Толстой: «Когда бывает, что думал и забыл о чем думал, но помнишь и знаешь, какого характера были мысли: грустные, унылые, тяжелые, веселые, бодрые, помнишь даже ход: сначала шло грустно, а потом успокоилось и т. п., когда так вспоминаешь, то это совершенно то, что выражает музыка» (461, 148).
120* Вот сравнительно свежий пример такого рода рассуждений: «Литература — универсальна и синтетична по самой своей природе», — писал И. Маневич в книге «Кино и литература». В мире искусств литература «первая среди равных», т. к. «слову подвластны и время, и пространство, оно может передавать и краски, и объем, и музыку» (263, 17). Остается только недоумевать — зачем человечеству все остальные искусства? Наш теоретик представляет себе дело, видимо, так же, как тот зритель, который воскликнул, увидев пантомимы Марселя Марсо: «Как был бы хорош этот парень, если бы еще умел и разговаривать!» В этой реплике — квинтэссенция литературоцентризма, в его наивно-обыденном проявлении.
121* В построенной им таблице (см. 216, 122) обозначены: «стихотворение в прозе дисметрическое» (напр., начало «Страшной мести» Гоголя), «стихотворение в прозе метризованное» (напр., «Песня о Буревестнике» Горького), «прозо-стих» (напр., стихи Я. Рицоса в переводе С. Ильинской), «верлибр “правильный”» (напр., стихи Н. Хикмета «Великан с голубыми глазами» в переводе Д. Самойлова), «верлибр “неправильный”» (напр., «Сосед» В. Солоухина) и, наконец, «стих определившейся системы», представляемый раешниками, акцентным стихом и всеми формами метрического стиха.
При этом следует учесть, что, как справедливо отмечает М. Харлап, «граница между стихами и прозой меняется в зависимости от эпохи, литературного направления, школы и т. д. В классической арабской и персидской поэзии стихами признавалась только “речь мерная рифмованная и образная”, от которой отличались три вида прозы: мерная (с твердым распределением долгих и кратких слогов, но без рифм), рифмованная (с рифмами, но без размера) и свободная. Стихи без рифм, но с определенным размером мы теперь безоговорочно признаем стихами, однако, когда Жуковский впервые обратился к белому пятистопному ямбу без цезур, его современникам эта форма показалась слишком свободной. Во французском стихосложении, где нет однообразных стоп и где роль рифмы больше, чем в наших стихах, рифмованные стихи без единой силлабической меры, как в баснях Лафонтена, не вызывали сомнений в том, что это стихи, хотя они и признавались формой, более близкой к прозе. Но в конце XIX в. рядом с “вольными стихами” (vers libres) появляется “свободный стих” (vers libre), отказывающийся и от равносложности, и от рифмы. “Такой стих отличается от прозы только в силу субъективного решения, которое для читателя обнаруживается лишь средствами типографии”, — говорится в одной книге о французском стихе. Эти слова напоминают высказывание немецкого исследователя о некоторых стихотворениях Гете (“Прометей”, “Странник” и др.), что деление на строчки в них существует “только для глаз”» (323, 81 – 83). С другой стороны, у романтиков проза, по наблюдению Н. Берковского, часто «имитировала стиховую речь, была тщательно организована в звуковом отношении речевыми тропами и украшениями» (372, 10).
122* Вывод этот, к сожалению, был повторен Дмитриевой (3, 17).
123* Общие классификации изобразительных приемов в музыке см., например, в работах Ванслова (187, гл. 3) и Сохора (305, гл. 4).
124* Совершенно неправомерно, однако, определять термином «преобразительное» киноискусство, как это предлагает сделать М. Мартен (264, 267), явно преувеличивая способность последнего преображать жизненную данность.
125* Вот почему совершенно несостоятелен тезис Н. Тарабукина, что по природе своей живопись «не “изображающее”, а конструктивное искусство», ее цель — не изображать мир, а «творить, делать, созидать вещи», и что в этом отношении она подобна музыке (313, 64). Это — очень яркий пример того, к каким ложным выводам может привести непонимание основных морфологических законов, действующих в мире искусств.
126* Проще всего объявлять поп-арт порождением социальной шизофрении буржуазного общества и высмеивать «философию консервной банки»; однако такого рода филиппики неспособны объяснить возможность подобного явления. А она состоит в том, что поп-арт был попыткой создать «чистое», «свободное», «станковое искусство», пользуясь языком экспозиционно-оформительского и рекламного творчества, который освобождался от своего утилитарного содержания и назначения. Оказалось, однако, что при этом вещи переставали быть образными знаками, ибо утрачивалось их социально-коммуникативное значение, и поп-арт становился, так сказать, «безъязычным искусством».
По утверждению Глазычева, «система средств, отработанных изобретателями поп-арта, до настоящего времени остается основным принципом организации музейной или выставочной экспозиции»… (197, 161). На самом деле все обстояло прямо противоположным образом; об этом свидетельствуют не только теоретические соображения, но и элементарные факты: экспозиционно-оформительское искусство намного старше поп-арта.
127* Решительно неправ поэтому Г. Рид, утверждая, что произведения утилитарных искусств «воспринимаются эстетическим чувством как абстрактное искусство» (435, 23). Язык этих искусств действительно является абстрактным — т. е. неизобразительным, нефигуративным, однако на этом языке передается иная информация и передается иным способом, чем в абстрактном станковом искусстве.
128* Г. Борисовский назвал Парфенон «своего рода абстрактной скульптурой на архитектурную тему», которую создал «зодчий-ваятель» (180, 26). И еще раз: «По своей пластичности он приближается к скульптуре. Архитектурная скульптура» (там же, 120). В этой же связи хотелось бы привести тонкое наблюдение К. Зигеля, заметившего, что церковь Корбюзье в Роншане — это «скорее скульптурное произведение в масштабе архитектурного сооружения», нежели произведение архитектуры в точном смысле этого слова, так как ее форма не обусловлена конструкцией (221, 236 – 238). Так может осваивать архитектура скульптурный метод формообразования оставаясь при этом все же — что само собою разумеется — архитектурой.
129* Большой материал, характеризующий этот процесс, приводится в капитальной монографии А. Авдеева (170).
130* П. Карп называет их «пластическими мотивами» (234, 14 сл.); оба термина кажутся нам правомерными, и оба — что весьма показательно — переносятся из теории музыки.
131* «Переход от пантомимы к танцу и обратно, — справедливо отмечает А. Румнев, — может быть логичным и органичным благодаря таким промежуточным формам, как танцевальная пантомима и пантомимический (действенный) танец» (298, 5).
132* Правда, Румнев выделяет три разновидности пантомимы, называя одну «танцевальной», другую «драматической или естественной», а третью — «акробатической» (298, 11), но правомерность выделения этого третьего рода пантомимы вызывает у нас серьезные сомнения.
133* В этой связи становится вполне понятным и суждение Фридриха Шлегеля о поэтических произведениях, «проникнутых духом иронии»: «В них живет дух подлинной трансцендентальной буффонады. Внутри них царит настроение, которое с высоты оглядывает все вещи, бесконечно возвышаясь над всем обусловленным, включая сюда и собственное свое искусство… По своей форме, по исполнению — это мимическая манера хорошего обыкновенного итальянского буффо» (256, 177). Но именно потому, что хороший итальянский буффо, как и хороший современный клоун, «возвышаются над обусловленным», они творят в той же, в сущности, «мимической манере», что и носители высокого романтического стиля актерского искусства.
134* Оговорим, во избежание недоразумений, что речь идет не о мере таланта и не об уровне мастерства актрис, что мы не даем сравнительных оценок, а лишь выявляем различие типов актерского творчества, которые в равной мере нужны искусству, ибо взаимно дополняют друг друга.
135* Впрочем, в конце своей статьи Симонов говорит уже не об «абсолютно органическом соединении» этих двух способов актерского творчества, а лишь о том, что одни и те же актеры должны «одинаково блестяще уметь переживать и представлять» (302, 62). Это, конечно, другое дело, и тут только встает вопрос, могут ли часто сочетаться такие актерские данные у одного и того же человека? Скорее всего, подобная разносторонность дарования бывает исключением, а не правилом, — так же, как способность писателя к поэтическому и прозаическому творчеству или способность живописца к станковому и монументальному искусству. Поэтому попытка Л. Гуревич разрешить противоречие между «переживанием» и «представлением» ссылкой на особый характер художественных эмоций (204, 62) не могла никого удовлетворить, как, видимо, не удовлетворяют ни практику, ни теорию новейшие призывы синтезировать эти два типа актерского творчества. Запоздалым — и теоретически совсем уж неосновательным — отзвуком этой борьбы против абсолютизации школы «переживания» явилась концепция драматурга В. Розова, который предложил различать в сценическом искусстве не два, а три направления:
«1. Искусство перевоплощения: Я — есть Он.
2. Искусство переживания: Я — есть Я.
3. Искусство представления: Я — изображаю Его».
При этом «высшим искусством» Розов признал искусство перевоплощения, хотя на последнем этапе истории театра «взяло верх искусство переживания» (297, 9).
136* К этой мысли с разных сторон подходили многие мастера искусства и его теоретики — от Г. Крэга, утверждавшего, что актерский жест есть проза, а танец — поэзия, до Г. Недошивина, успешно разрабатывавшего в последние годы мысль о «поэтическом» и «прозаическом» типах живописи. В более общей форме об этом сказал английский эстетик С. Александер: дихотомия поэзии и прозы не специфична для литературы, а свойственна всем видам искусства, так как она является следствием противоречивого соединения в искусстве двух элементов — «формального и изобразительного» (105, 84).
137* Этого не понял Э. Сурио: в результате, абсолютизировав первый и второй «уровни» (по его терминологии) художественного творчества, он пришел к превознесению искусств неизобразительных над искусствами изобразительными. Впрочем, в общей эстетической концепции французского теоретика такая постановка вопроса вполне естественна.
138* К этому последнему не нужно относиться со ставшим у нас привычным пренебрежением — ведь и знаменитые серии Буша или Эффеля тоже являются по своей структуре комиксами. Весь вопрос в том, каковы идейное и художественное качества вступающих здесь в синтез текста и изображения. История лубка, карикатуры и плаката достаточно убедительно показала, что здесь возможны полноценные решения.
139* Эта же и некоторые другие пантомимы такого рода описаны в интересном сборнике «Что и как в театре кукол» (330, 19 – 20).
140* В интересной книге А. Вадимова и М. Триваса «От магов древности до иллюзионистов наших дней» собран обширнейший материал, подтверждающий такое понимание этого своеобразного вида искусства. Вместе с тем авторы этой книги убедительно показали, как в прошлом иллюзионное искусство выступало не в сценической, а в «прикладной» форме, будучи важнейшим элементом различных религиозных обрядов (186, 11 – 13). Есть в этой книге и отличный библиографический указатель.
141* По определению В. Немировича-Данченко, «режиссер — существо трехликое:
1) режиссер — толкователь; он же — показывающий, как играть; так что его можно назвать режиссером-актером или режиссером-педагогом;
2) режиссер — зеркало, отражающее индивидуальные качества актера, и
3) режиссер — организатор всего спектакля» (276, 256).
142* См. об этом также в статье П. Богатырева и Р. Якобсона «Фольклор как особая форма творчества» — (178, 369 сл.).
143* Музыкальность живого слова как непременное качество высокохудожественного исполнения литературного текста отчетливо осознается самими чтецами; хорошо писали об этом В. Яхонтов (340), С. Кочарян (245), Я. Смоленский (304). Последний резюмировал в одной из своих работ, что стихи «обретают полную жизнь в звучании голоса; в этом смысле они сродни музыкальным сочинениям» (304, 50).
144* Не случайно, как показывает практика, большие актеры являются, как правило, посредственными, если не плохими, чтецами, а большие чтецы — посредственными (или никакими) актерами.
145* В дополнение к сказанному приведем лишь выразительный отрывок из анонимного трактата «Опыт теории словесных наук», вышедшего в 1832 г. в Петербурге: «Словесные науки (т. е. искусство слова. — М. К.) имеют два главных вида: словесность прозаическую, или красноречие, и словесность стихотворную, или поэзию. Оне, почерпая богатства свои из одного источника, употребляя одно орудие — слово, и вообще имея столь тесное сродство, что нет истинного красноречия, где нет поэзии, и нет истинной поэзии, где нет красноречия, — различествуют между собою: а) предметом, которым в красноречии должно быть всегда истинное, а в поэзии может быть и вероятное, баснословное, чудесное, возможное и невозможное; б) целью, ибо цель красноречия есть — научить с приятностью, а поэзии — увеселить с назиданием. Оратор говорит более для других; забывая самого себя, он живет и действует более в тех, коим старается перелить свои чувствования. Поэт, напротив, будучи восхищен сам, забывает все; мало заботится о том, занимаются ли им другие, поет часто для себя; в) способностями, коими они более руководствуются. Красноречие, можно сказать, есть рассудок, облеченный некоторыми цветами воображения; а поэзия есть воображение, управляемое рассудком. Красноречие есть язык более мыслей; поэзия — более чувствований и страстей. Наконец, е) формой изображения…» (279, 11 – 12).
146* О сложившихся в музыковедении принципах классификации инструментов см. соответствующие статьи в «Энциклопедическом музыкальном словаре»; там же указана и специальная литература.
147* Термин «музыка письменная» принадлежит Б. Асафьеву, который отличал ее от «музыки устной традиции» (198, 11 – 12; 174, 107).
148* К. Маркс и Ф. Энгельс определяли в «Немецкой идеологии» язык как «действительное сознание», как непосредственное бытие человеческой мысли (455, т. 3, 29), а Н. Чернышевский разделял пение на «естественное» и «искусственное», первое же вместе с речью определял именно как прямое и непосредственное выражение душевных состояний человека (99, т. II, 61 – 63).
149* «В отличие от современной, в примитивной музыке наибольшее значение придается ритму, и ритм этот значительно сложнее, разнообразнее и богаче, чем даже в наших симфониях» (394, 298). Об этом говорят и многие другие этнографы и музыковеды.
Весьма любопытно предположение Б. Асафьева: преобладание ударного инструментализма в первобытных музыкальных культурах было связано с тем, что «человеческое сознание долгое время прибегало к различным формам намеренного сокрытия тембра человеческого голоса посредством его маскировки инструментальными тембрами, чуждыми живой интонации, оказывающейся под запретом (интонационное “табу”)». Однако определяющая причина была все-таки иной — «первобытное искусство оставалось так долго замкнутым в пределах темброво-ударных интонаций» потому, что они диктовались «немыми» стимулами — шагом, жестом, мимикой, танцем (174, 13).
150* Любопытно, что Новерр, сопоставляя в своих «Письмах о танце» этот вид искусства с другими (в самых различных отношениях), обращается наряду с живописью, музыкой и к дрессировке лошадей (277, 89). Много крайне интересных материалов по истории конного цирка приводит в своей монографии Е. Кузнецов (250).
151* И этот вид искусства интересно описан Кузнецовым — 250, 205 сл.
152* Дальнейшее движение по этому пути привело авторов упоминавшейся ними «Истории технических искусств» (во главе с Б. Бухером) к включению в рамки одного вида и изобразительных, и архитектонических способов творчества: так, видом искусства объявлялась, например, художественная обработка дерева, охватывающая деревянную скульптуру, деревянную архитектуру, деревянную посуду, деревянную мебель и даже… гравюру на дереве.
153* «Малые архитектурные формы, — пишет В. Свидерский, — это сооружения и устройства, которые дополняют архитектуру городских зданий и сооружений и являются элементами благоустройства городских площадей, улиц, садов, парков и т. п.». К таким формам он относит 11 типов сооружений (301, 3).
154* Этой проблеме была посвящена интересная диссертация И. Л. Славова «Влияние градостроительных факторов на развитие и формообразование средств городского массового пассажирского транспорта» (см. 303).
155* Японское искусство икебана можно рассматривать как своеобразный миниатюрный жанр «зеленой архитектуры», предназначенный для существования в интерьере.
156* В своей любопытной книжке «Искусство света и цвета» Г. Гидони спрашивал: почему, «достигнув кульминационных точек, к началу XIX в. рассыпались прекрасные композиции великих фейерверкмейстеров, и остались лишь огоньки иллюминаций по “торжественным дням” — почему так быстро погасло это искусство? Потому, — отвечал он, — что… в жизнь вошло электричество» (196, 9).
157* Впрочем, В. Харузина, опираясь на обширный этнографический материал, утверждает, что уже на самой ранней стадии развития драматического искусства существует организующее его режиссерское начало (414, 63 – 65). К несколько более позднему времени относит зарождение режиссуры американский теоретик А. Дин — первым режиссером он считает хорега (руководителя хора) в древнегреческом театре (344, 23). Между тем, по Д. Каллистову, в античном театре «хорег брал на себя всю организационную часть и все расходы, а автор — всю режиссерскую часть, включая и репетиции» (389, 78). См. также интересные суждения о режиссерском творчестве в фольклоре у П. Богатырева (178, 91 – 103).
158* Соответствующие прогнозы Таирова не кажутся нам утопическими, с той лишь оговоркой, что импровизационный театр не вытеснит театра «литературного», а будет существовать рядом с ним. Согласимся с Ю. Завадским, что «настало время для театра импровизации, где актер будет не вещателем чужих мыслей, а равноценным создателем спектакля, настоящим творцом пьесы» (217, 76). Прекрасную базу для этого создает самодеятельность. Во всяком случае, мы склонны считать глубоко симптоматичным то развязывание импровизационной инициативы, которое намечается уже сегодня в становящихся крайне популярными телевизионных КВН, и думаем, что именно по этому пути, а не по пути подражания профессиональным театрам, должны идти народные театры.
159* «Театр — это актер, хотя бы ведущая роль принадлежала драматургу, и театральное искусство есть прежде всего актерское искусство», — так выражал эту противоречивую ситуацию Немирович-Данченко (276, т. I, 46).
160* К их числу не относятся ни цирк, ни эстрада, ни массовые зрелища и праздники, т. к. они представляют собой — как это. было показано выше — формы конгломеративного или ансамблевого сочетания различных искусств, а не того их органического синтезирования, которое рождает перечисленные нами виды театрального искусства.
161* Это положение вступает, как будто, в противоречие лишь со структурой китайского театра. Исследовательница пишет, что, «познакомившись с классическим китайским театром, ответить на вопрос, что же в нем главное, очень трудно. Синтетический характер китайского традиционного театра, то есть слияние в нем в единое целое музыки, танца, пения, диалога составляет… его замечательную особенность» (194а, 5). Мы должны, однако, уточнить, что здесь следует говорить не о синтетической, а о синкретической структуре, которая удержала в китайском театре исконное единство «мусических» элементов, да еще и изобразительного искусства и циркового, и именно в силу этого не имеет ярко выраженной доминанты. Впрочем, мы вправе сказать, что у него все же есть такая доминанта — ею является именно актерское искусство, выступающее в синкретическом единстве своих выразительных средств — недаром тот же автор заключает, что в этом театре «все внимание сосредоточивается на актере» (там же).
162* Аналогична позиция таких советских теоретиков киноискусства, как, например, М. Андроникова (171), Э. Фрид (322, 14) и ряда других.
163* Безусловно правы теоретики, которые противопоставляют в этом плане киноизображение как воссоздание прошедшего и телеизображение как показ настоящего (175, 202), и остается лишь удивляться, как мог М. Мартен утверждать, что «важная черта киноизображения — развитие действия в “настоящем времени”» (264, 31). Во всяком случае, приводимые им аргументы совершенно неубедительны.
164* Вопрос об отношении телеискусства к театру, с одной стороны, и кинематографу, с другой, дебатируется уже более десяти лет, начиная с книги А. Юровского «Специфика телевидения» (338) и замечательной работы Вл. Саппака «Телевидение и мы» (299), но и в последних теоретических исследованиях (175; 224) ясность и единство взглядов тут еще не достигнуты.
165* Такое искусство было описано И. Ефремовым в «Туманности Андромеды»; сейчас подобные экспериментальные фильмы делаются в Казани, в СКБ «Прометей».
166* Только поэтому в данных таблицах, а также в табл. 46, театр кукол и киноискусство оказались в ряду пространственных искусств, а литературно-драматический и музыкальный театр — в ряду искусств временны́х. На самом деле все они принадлежат, конечно, к классу пространственно-временны́х искусств.
167* «В стихах народной песни, — несколько грубовато излагал эту связь Ницше, — речь стремится всеми силами подражать музыке»; этим лирика и отличается от эпоса, который ближе к пластическим искусствам (82, 37 и 44 – 45).
168* «Драма есть изображение конфликта в виде диалога действующих лиц и ремарок автора», — кратко определил самую суть драмы В. Волькенштейн (192, 9). Попытка В. Сахновского-Панкеева оспорить это положение кажется нам лишенной достаточных оснований (300, 6 – 9).
169* В. Харузина очень убедительно показала заключенный в сказках и песнях «драматический элемент», который требовал от сказителя-певца соответствующего — по сути дела актерского — исполнения (414, 72 – 73).
170* Эту ответственность делит с ними обычно режиссер, но реализация режиссерской интерпретации все равно остается делом актера.
171* В этой связи проясняется давний спор о том, для постановки или для чтения пишется драма. Волькенштейн, например, называет обе точки зрения «односторонними», т. к., с одной стороны, драма создается, конечно, для сценического воплощения, но с другой — «зачем лишать людей удовольствия прочесть хорошую драму?» (192, 12).
Этот наивный вопрос способен вызвать лишь улыбку. Дело, разумеется, не в том, чтобы прекратить публикацию драм, а в том, чтобы понять природу этой формы словесного творчества. Нельзя поэтому в данном случае не согласиться с Сахновским-Панкеевым, который утверждает, что пьеса создается «с расчетом на сценическое воспроизведение» — так было и в античности, и в эпоху Возрождения, когда пьесы действительно не публиковались (300, 155).
172* «Еще совсем недавно, — писал Бела Балаш, — приходилось доказывать обывателям, что кино — это самостоятельное искусство с собственными принципами и законами. А сегодня нужно доказывать также, что литературная основа этого зримого нового искусства представляет собой самостоятельную, особую литературную художественную форму, так же, как, например, записанная драма. Сценарий не просто техническое вспомогательное средство, строительный каркас, который сносят, как только готов дом, а литературная форма, достойная того, чтобы над ней поработать писателю…» (176, 253). Другой теоретик 30-х гг., полемизируя с рядом режиссеров и теоретиков 20-х гг., видевших в киносценарии только эстетический «полуфабрикат», утверждал его художественную полноценность, но определял его не как новый род литературы, а лишь как «особую форму» или «особый вид» драматургии (320, 8 и 13). Впрочем, он мог в то же время ставить сценарий на морфологический уровень драматургии (там же, 24). Подобная морфологическая беззаботность позволяла еще одному кинотеоретику говорить, что «сценарий является особым и полноправным литературным жанром», применяя здесь термин «жанр» только в силу его морфологической неопределенности (329, 36); аналогичной была позиция Е. Габриловича (194) и В. Волькенштейна (191).
173* Об отличии игры актера в театре и в кино см. специальную работу В. Пудовкина «Актер в фильме» (288).
174* Сошлемся также на специально посвященную этому статью А. Свободина под характерным названием: «Существует ли телевизионный актер?» Ее автор дает утвердительный ответ на этот вопрос и доказывает, что существует особая структура актерского дарования, максимально соответствующая специфике телевизионной драматургии (224, 94 – 106).
175* «Оценка, — пишет Г. Клаус, — это сознательная деятельность, которая влечет за собой положительную или отрицательную позицию оценивающего по отношению к оцениваемому» (450, 21).
176* Так, В. Волькенштейн находит точное основание для жанрового деления драматургии в аксиологической плоскости: «Определение характера “драматической вины” — осуждение героя (героев) пьесы автором, оправдание его или возвеличивание — дает нам основания для определения жанра пьесы» (192, 129). При характеристике музыкальных жанров Б. Асафьев исходил из специфического для этого вида искусства основания — из особенностей интонационного строя, свойственного данной группе произведений. Так, жанр канта определялся им как «хоровая хвалебная песня», в «ритмо-интонации» которой выражен мотив «шествие с поздравлением». «От канта идут застольные песни, вокальные серенады, студенческие песни и песни революционные, с их непременной “интонационностью шествия”» (174, 80 и 83).
177* Критик обнаружил содержательный смысл фуги, определивший ее формирование как особого жанра средневековой музыки. Содержание это — раскрытие и доказательство некоего афористического по характеру тезиса. Этим фуга отличается от сонаты: суть последней — «в изменении первоначально данного положения» (осуществляющемся в репризе), суть первой — «в утверждении (защите) исходного положения». «Соната — форма постепенного драматического становления вывода, в фуге он предопределен (“навязан” темой)» (210, 101). Отсюда и разное соотношение рациональной и эмоциональной сторон в содержании этих жанров.
Интересно, что Должанский обнаруживает сходство фуги с сонетом (там же, 97), о чем говорили и некоторые литературоведы (напр., А. Горнфельд, см. 201).


