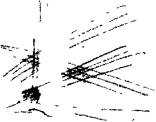7 От составителя
Предлагаемым томом продолжается издание альманаха «Мнемозина: Документы и факты из истории русского театра XX века» (М., 1996. Вып. 1) и «Мнемозина: Документы и факты из истории отечественного театра XX века» (М., 2000. Вып. 2). Когда-то, открывая первый выпуск, я писал, что театр в диаспоре является неотъемлемой частью истории русского театра, и сетовал, что архивы Европы и США остаются малодоступными для отечественного исследователя, что финансовый занавес является не менее труднопреодолимым, чем идеологический. Ситуация с тех пор мало изменилась. Работа в зарубежных архивах — по преимуществу счастливый и редкий случай, о систематических усилиях не приходится и мечтать. Но «случай» тем не менее — это то, что случается. Летом 2000 года мне довелось представлять российскую экспозицию на Международной выставке театральной литературы и периодики в городе Нови Сад. Именно в этом городе заканчивал свои дни Юрий Львович Ракитин, о котором в первом выпуске альманаха писала Н. М. Вагапова, и именно здесь в Театральном музее края Воеводина хранится его архив. Связанный официальной программой, я располагал крайне ограниченным временем для знакомства с ним. И конечно, мне бы вряд ли толком удалось что-либо сделать, если бы не сербское гостеприимство г-на Луки Хайдуковича, директора музея. Среди привезенных документов — письма Н. Н. Евреинова, Р. А. Унгерна, Н. Ф. Балиева, Е. П. Студенцова и ряд других еще ждущих публикации.
Пользуюсь возможностью выразить признательность тем, кто помогал создать эту книгу:
председателю Бахметьевского комитета профессору Р. Вортману за разрешение на публикацию писем Ю. Л. Ракитина и Вс. Вяч. Хомицкого;
Государственному центральному театральному музею им. А. А. Бахрушина, Российскому государственному архиву литературы и искусства и Санкт-Петербургскому государственному музею театра и музыкального искусства, предоставившим письма В. А. Теляковского и А. И. Южина;
г-же Ноэль Гибер, директору департамента зрелищных искусств Национальной библиотеки Франции за уникальные фотографии мейерхольдовской постановки «Пизанеллы» Г. Д’Аннунцио;
заместителю директора СПб ГМТиМИ Н. И. Метелице и ведущим научным сотрудникам Е. М. Федосовой и Е. И. Грушвицкой за содействие и разрешение 8 опубликовать шесть эскизов костюмов Николая Калмакова к пьесам «Юдифь» К.-Ф. Геббеля, «Черные маски» и «Анатэма» Л. Н. Андреева;
директору Научной библиотеки Союза театральных деятелей Вяч. П. Нечаеву и сотрудникам ее библиографического кабинета.
Пьеса Н. Н. Евреинова «Любовь под микроскопом», как и его письма, публикуется с любезного разрешения г-на Кристофера Коллинза (США), которому принадлежат авторские права на неопубликованные произведения Евреинова. Материалы из архива Н. Н. Чушкина предоставлены А. Б. Бяликом.
Альманах подготовлен в основном усилиями сотрудников Отдела театра Государственного института искусствознания, но среди авторов есть и наши коллеги из Санкт-Петербурга (М. В. Заболотняя, А. А. Кириллов, А. А. Чепуров), Парижа (Б. Пикон-Валлен), Афин (А. Эффклидис), США (К. Триббл), что не только вызвано научной необходимостью, но и имеет моральный консолидирующий смысл.
При публикации документов в настоящем издании приняты некоторые общие правила. Авторский синтаксис сохраняется, при этом пунктуация и написание имен приближены к современным нормам литературного языка. Недописанные, сокращенные слова восстановлены без специальных оговорок, кроме тех случаев, когда возможны разночтения. В квадратные скобки заключены слова предположительного чтения, а также слова-связки. Все формы выделения слов в документах и цитируемых печатных источниках передаются курсивом. При публикации писем форма написания дат принадлежит публикатору, за исключением отдельно указанных случаев. Все примечания вынесены в конец книги. Если публикатор не располагает сведениями, достаточными для комментирования того или иного факта, в тексте документа на уровне верхнего индекса стоит буква «н». Для удобства поиска в содержании в квадратных скобках указаны страницы, на которых начинаются примечания к публикациям и статьям. В именном указателе жирным шрифтом отмечены те страницы, где даются основные биографические сведения об упоминаемом лице.
Пользуюсь случаем принести благодарность А. М. Смелянскому и И. Н. Соловьевой, обратившим внимание составителя на ряд текстологических неточностей при публикации писем М. Н. Германовой во втором выпуске «Мнемозины». В исправленном и дополненном виде эти письма войдут в книгу В. А. Максимовой «Актрисы Серебряного века».
9 I
С. Ан-ский
МЕЖ ДВУХ МИРОВ (ДИБУК)
Цензурный вариант
Публикация, вступительный текст
и глоссарий В. В. Иванова
Пьеса С. Ан-ского «Гадибук»1* приобрела репутацию одной из самых известных еврейских пьес XX века. Спектакль Вахтангова, поставленный в «Габиме» (1922), сделал ее знаменитой. Обозначим только некоторые вехи ее сценической истории. В Париже Гастон Бати предложил три версии «Гадибука» (Студия Елисейских полей, 1928, февраль; Театр Авеню, 1928, апрель; Театр Монпарнас, 1930). Лотар Валернстайн дважды показал в «Ла Скала» одноименную оперу Лодовико Рокко (1931, 1934). Позже «Гадибук» инспирировал вторую волну авангарда — спектакли Андре Вилье (Париж, Театр в круге, 1977) и Джозефа Чайкина (Нью-Йорк, Шекспировский фестивальный публичный театр, 1977). Вахтанговский спектакль эхом отозвался и в балетном искусстве. Достаточно упомянуть постановки Джерома Роббинса (Нью-Йорк сити балле, 1974) и Мориса Бежара (Бежар балле, Лозанна, 1988). Разнообразные версии «Гадибука» продолжают появляться и по сей день.
А между тем оригинал пьесы, написанной С. Ан-ским на русском языке, долгое время считался утерянным. Пьеса жила в многочисленных переводах. В вахтанговской редакции от нее остался короткий сценарий. Правда, полный текст был опубликован на иврите уже в 1918 г. в первом номере журнала «Га-ткуфа» («Эпоха»), Но это был перевод, сделанный Х. Н. Бяликом. Когда в 1920 г. виленская труппа задумала сыграть «Гадибук» на идиш, то пришлось переводить с иврита.
В 2001 г. в Санкт-Петербургской театральной библиотеке им. А. В. Луначарского (отдел редких книг) в коллекции пьес, прошедших драматическую цензуру, были обнаружены две тетради, представленные С. Ан-ским для рассмотрения в Главное управление по делам драматической цензуры. На одной из них, включающей три действия, можно видеть пометку «К представлению дозволено», датированную 10 октября 1915 г. Вторая состоит из ненумерованных листов и включает пролог, эпилог и сцену свадьбы, которых нет в первой тетради. Цензурное разрешение здесь датировано 30 ноября 1915 г. Таким образом, пролог, эпилог и второй акт были написаны позже и отправлены в цензуру досылом. К особенностям обнаруженного текста относится прежде всего то, что в машинке, которой пользовался С. Ан-ский, отсутствовали вопросительный и восклицательный знаки. Но если в первой тетради автор добросовестно восполнил выпавшие знаки препинания, то во второй тетради он этого делать не стал. Мы по возможности расставили эти знаки там, где того требуют правила, что, однако, не в полной мере передает синтаксис С. Ан-ского, склонного удваивать, утраивать подчас в самых неожиданных конструкциях восклицательные знаки. Воссоединяя при публикации первую и вторую тетради, естественно, пришлось 10 изменить нумерацию актов. Второй и третий акты первой тетради превратились соответственно в третий и четвертый.
Скажем несколько слов об С. Ан-ском и истории формирования текста. Настоящие имя и фамилия автора Семен (Шломо) Раппопорт. В 1880-е гг. он сотрудничал с народническим журналом «Русское богатство», русско-еврейским изданием «Восход». С 1894 г. жил в Париже, где работал секретарем известного народника П. Лаврова. До 1904 г. писал в основном по-русски, а затем и на идиш. Вернувшись в Россию, принял участие в организации партии эсеров. Написанное С. Ан-ским стихотворение «Клятва» стало гимном Бунда, «марсельезой еврейских рабочих»1. В стремлении к общественному обновлению он уходит от иудаизма, но возвращается к нему на исходе жизни. Возглавляя организованную на средства барона Владимира Горациевича Гинцбурга еврейскую этнографическую экспедицию, С. Ан-ский вместе с композитором Юлием (Йоэлем) Энгелем и художником Соломоном Юдовиным собирал в деревнях Волыни и Подолии фольклорный материал (1912 – 1914). На его основе он по-русски написал пьесу «Меж двух миров» («Дибук»). То, что пьеса была написана именно на русском языке, он сам подчеркивал. О том свидетельствует Лексикон идишского театра: «Ан-ский рассказывал, что идея драмы “Меж двух миров” (“Дибук”), которую он сначала написал по-русски, а потом на идиш, пришла к нему в 1911 году. Первый акт пьесы был написан в Тарнове, второй акт в другом галицийском местечке и последние два акта в Москве»2.
Сюжетом для драмы стала банальная жизненная ситуация, которую С. Ан-ский подсмотрел в местечке Ярмолинцы на Подолии во время этнографических экспедиций: «Глава семьи, вопреки желанию дочери, влюбленной в бедного боготворившего ее ученика религиозной школы, решил выдать ее замуж за сына богатого соседа. Горе семнадцатилетней девочки было столь красноречивым, что запомнилось Ан-скому»3. Здесь существенно отметить два момента: важность для автора непосредственного жизненного впечатления и желание увести его от бытовой мелодрамы в мир легенд и преданий.
Документом, в котором впервые упоминается пьеса С. Ан-ского и который одновременно стал первой рецензией на нее, является письмо барона Владимира Гинцбурга от 30 января 1914 г., адресованное автору:
«Сердечно благодарю Вас за Ваше письмо от 24.1/6.2 и за рукопись, которую на днях получил.
Я в ней нашел то, чего искал, яркую вдохновенную картину духовного быта народа, изучению которого Вы посвятили столько лет своей жизни. Она меня положительно захватила, и я от нее оторвался только тогда, когда дочитал до последней странички. “Дибук” представляет для меня изложенное на нескольких страницах выражение в художественных, поэтических, но реалистических красках всего того, что последние два или три года так живо нас с Вами интересует. Поэтому неудивительно, что я был в восторге. Впрочем, вышесказанное касается общей оценки Вашего произведения. Вы же от меня требуете другого и ожидаете всестороннего анализа пьесы как с точки зрения художественной, так и в отношении технически-сценическом. Иначе говоря, я должен был сделать то, что призван сделать литературно-театральный критик. Но у меня нет для этого ни должного опыта, ни знаний, ни, впрочем, и необходимого беспристрастия. Слишком уж я склонен найти Ваш труд совершенным, и я слишком нахожусь под общим чарующим впечатлением созданной Вами картины.
Желая все же исполнить Ваше желание и заставляя себя откапывать недостатки “Дибука”, я позволю себе сказать, что вещь более рассчитана на читателя, чем на зрителя. 11 Для вещи сценической не хватает очень серьезного элемента (главным образом в первом действии), не хватает движения. Интерес драмы слишком сосредоточен в том, что действующие лица говорят, и недостаточно перенесен на то, что они делают. <…> Отношение к отдельным лицам мне кажется несколько односторонним и представляет слишком цельную, почти ничем не нарушенную апологию. Единственный элемент немного отрицательный — это коммерческое прозаическое отношение служки и других к исполнению за плату <…> псалмов <…> и борьбы с заговором. Если к описанию жизни Вы прибегаете как инструменту для создания художественной картины, то, как всякий инструмент, и жизнь должна показать свои отрицательные стороны. У Вас достаточно действующих лиц, чтобы некоторым из них Вы могли поручить действия, не проникнутые духовной цельностью развертывающейся драмы. Еще могу сказать, что Вашему Цадику я не верю. Ваше изложение не оставляет сомнения в том, что окружающие преисполнены верой в его сверхъестественное могущество, но ничего не указывает на честность, искренность и веру. Я с его стороны вижу умение пользоваться состоянием умов паствы и желание сохранить свой авторитет, уладить [дело] в интересах тех лиц, с которыми ему еще придется быть в сношениях, для каковой цели он готов на несправедливость по отношению к пострадавшим, мертвым. Я не вижу, чтобы он был проникнут величием своей роли, чтобы он был в некоторой степени рабом своего великого призвания. Как Вы бы написали, если бы хотели показать нам ханжу-шарлатана, а не искреннего пророка?
Не найдете ли Вы, что я уже слишком разошелся? Тем более, что по всем пунктам критики я ограничиваюсь указанием на то, что мне кажется несовершенным, и не говорю, чем бы можно было пробелы заменить, но не мне же Вам давать советы. С меня достаточно, что я решился искать так называемые недостатки и изложил Вам то, что я нашел. Если я переусердствовал, то виноваты Вы, а не я»4.
Барон Гинцбург оказался проницательным читателем и обозначил те основные направления, по которым впоследствии шла переработка пьесы. Так или иначе, первый вариант пьесы существовал уже в феврале 1914 г. С. Ан-ский, однако, не спешил предавать его гласности и скорее всего пытался учесть замечания.
По имеющимся сведениям, автор не предпринимал попыток предложить ее еврейским труппам, которые в силу сложившихся обстоятельств и существовавших ограничений представляли собой жалкое зрелище. Об отношении к ним С. Ан-ского можно судить по дневниковой записи, сделанной им в Ровно 1 января 1915 г.: «Новый год родился в глубоком трауре. Ни пожеланий, ни надежд, точно стоишь возле покойника. Тоскливо провел день. Ночью пошел в “еврейский театр”. Давали бессмысленнейшую оперетку “Хонце ин Америке”. Играли бездарнее бездарного. Но театр был набит битком и публика была в восторге»5.
Писателю (ибо С. Ан-ский не являлся новичком в литературе: к 1915 г. он написал несколько пьес, рассказов, повестей, новелл и проч.) в ту пору был уже пятьдесят один год, и авторские амбиции и общественный темперамент заставляли его метить высоко. Поначалу он сделал некоторые поползновения в сторону Александринского театра и обратился к известному историку русской литературы С. А. Венгерову с тем, чтобы тот поговорил с другим филологом, Ф. Д. Батюшковым, в ту пору председателем Театрально-литературного комитета Александринского театра. Согласно дневниковой записи С. Ан-ского от 12 сентября 1915 г., «он [С. А. Венгеров] ответил, что охотно сделает это, но не надеется, чтобы она [пьеса] могла пойти в Александринском. После постановки там пьесы Юшкевича “Мендель Спивак” директор получил от Вел. князя (не помню какого) телеграмму: до чего дошел Александринский театр, что ставит еврейскую пьесу. Вообще, — сказал он, — чтобы написать 12 хорошую пьесу, нужно иметь талант, чтобы поставить ее, надо быть гением. Между прочим, пожаловался мне, что сын его, родившись, уже когда он, Семен Афанасьевич, был крещеным, не производится в офицеры. Я не выразил ему сочувствия»6.
Судя по всему, в той табели о рангах, которая виделась С. Ан-скому, следующим после Императорских театров стоял МХТ. Несомненно, существенную роль сыграл не только художественный авторитет труппы, но и общественная репутация, сочувственное отношение к «еврейской теме». Спектакль, поставленный Вл. И. Немировичем-Данченко в 1909 г. по пьесе «Анатэма», в которой Л. Н. Андреев дал символизированный образ еврейской жизни, имел большой общественный резонанс. Годом позже Немирович-Данченко ставит пьесу «Miserere» С. С. Юшкевича, «еврейского Чехова».
Но пути на сцену были извилисты и неисповедимы. С. Ан-ский обратился за содействием к Николаю Александровичу Попову (1871 – 1949), который был знаком с К. С. Станиславским еще по Обществу искусства и литературы, затем руководил Народным театром Василеостровского общества народных развлечений в Петербурге, был режиссером Театра В. Ф. Комиссаржевской (1904 – 1906), московского Малого театра, главным режиссером киевского Театра Соловцева. В 1914 – 1917 гг. Попов имел отношение к Первой студии МХТ. На счету его была и первая монография о Станиславском. Документом, которым начались театральные хлопоты С. Ан-ского, можно считать его письмо Попову от 13 августа 1914 г.:
«На днях вернулся из Киева и, вероятно, на будущей неделе поеду обратно на юг, поближе к театру войны. Очень хотелось бы повидаться с Вами. Как это устроить? Может быть, на этих днях будете в Петербурге. Если нет — нельзя ли заехать к Вам на часик?
Буду Вам искренне благодарен, если ответите мне поскорей»7.
Как можно догадаться, Попов пребывал на даче, и С. Ан-ский готов отправиться за город, если встреча в Петербурге не предвидится. Хотя о пьесе в письме нет ни слова, торопливость С. Ан-ского пьесой объясняется. На конверте рукой Попова позже была сделана приписка: «Ан-ский (Раппопорт) Семен Акимович, литератор (автор “Гадибука”, который шел потом в “Габиме” на древнееврейском языке). Дух Банко (Гликман) привел ко мне на дачу Ан-ского читать “Гадибука”. Мы расположились в саду. Пьеса своей талантливостью меня очень заинтересовала, и я о ней сообщил Станиславскому»8. Однако между чтением пьесы «Меж двух миров» на даче Попова и встречей со Станиславским, судя по всему, пролегал неблизкий путь.
Пробовал подойти к Художественному театру С. Ан-ский и с другой стороны. О том свидетельствует письмо Григория Высоцкого, принадлежавшего семье известных чаеторговцев: «Дочь моя, Н. Г. Высоцкая, принципиально согласна пригласить В. И. Качалова к себе и познакомить его с тобою, для того чтобы он прослушал пьесу. Но, к сожалению, это не может случиться раньше середины или конца октября <…>»9.
Другие события 1915 г. можно восстановить по дневникам С. Ан-ского, хранящимся в Российском государственном архиве литературы и искусства. После Нового года местом действия становится Москва. В основном С. Ан-ский мечется по областям, где идет война, и разыскивает вагоны, формирует составы для эвакуации евреев. Изредка он вырывается в Москву и первым делом хлопочет по поводу пьесы. 5 января 1915 г.: «Телефонировал Николаю Александровичу Попову. Обещал через пару дней свести меня с Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко и устроить, чтобы я прочел ему пьесу»10. Спустя неделю он уже снова в Москве: «Вчера и сегодня видался с Поповым, который свел меня с артистом Художественного театра Георгием Сергеевичем Бурджаловым, обещавшим свести меня с Немировичем-Данченко, 13 но ничего не вышло, так как Немирович неуловим. Виделся с журналистом Джонсоном Иваном Васильевичем, с которым познакомился весной у Попова. Он обещал после моего отъезда постараться, чтобы Немирович-Данченко прочел пьесу»11.
Время шло, но дела в Художественном театре продвигались крайне медленно и перспективы были сомнительны. Тогда С. Ан-ский решил попробовать и другие возможности. Артист Н. Н. Ходотов, с которым он познакомился на вечерах у Ф. К. Сологуба, дал ему рекомендательное письмо к А. А. Санину, в это время режиссеру Драматического театра Суходольского. 20 сентября 1915 г. С. Ан-ский записывает:
«В Москве пробыл 2 дня. Санин, невысокий, полный, средних лет еврей или из евреев, встретил меня хорошо, заинтересовался по письму Ходотова пьесой и назначил чтение в присутствии всех режиссеров на следующий день. “Хотя, — прибавил он, — момент неудачный. У нас пьеса Андреева только что принята и еще 4: пьесы Найденова, А. Толстого, Юшкевича и еще одна на 80 % принята. Все же послушаем вашу пьесу. Но какой это совершенно новый, еще никогда не описанный быт, о котором пишет Николай Николаевич (Ходотов)?
— Из жизни евреев мистиков, хасидов и цадиков, — ответил я.
— А-а, вот что…
И лоб его наморщился.
— А какая тема?
Я в нескольких словах сказал ему. Он еще более наморщился.
— Да… Это очень интересно, но для настоящего момента совершенно не подходит. Теперь публика ищет жизнерадостного, светлого, чтобы не видеть и не слышать все, что происходит, чтобы забыть про всю эту сволочь (он назвал имена). А ваша пьеса тяжелая… Если хотите, мы ее будем читать, но заранее уверен, что она не пойдет. Если не жалеете времени, мы ее прочтем завтра…”
Я откланялся и ушел.
Вечером того же дня говорил с И. В. Джонсоном. Он поговорил с Л. А. Сулержицким, который в прошлом году читал пьесу для Художественного театра и сделал некоторые указания. Теперь я по его указаниям ее переработал. Условились на следующий день читать ее. Вчера читал. Сулержицкий в целом нашел ее приемлемой, но указал, что недостает первого действия, где выступила бы ясно любовь Хонона и Лии. Теперь об этом можно только догадываться.
Я отказался прибавить действие, но обещал в 1-м действии прибавить кое-где штрихи, которые подчеркнули бы любовь молодых людей. Когда сделаю это — извещу Сулержицкого, и он назначит общее чтение и вызовет меня телеграммой»12.
Из записи следует, что впервые Сулержицкий прочел пьесу осенью (самое позднее зимой) 1914 г., то есть после августовского чтения на даче. Здесь возможны два сценария. Либо Попов, как и пишет на конверте, поговорил с самим Станиславским, а тот в свою очередь поручил пьесу заботам Сулержицкого. Либо наоборот: путь к Станиславскому пролегал через Сулержицкого, бравшего на себя хлопоты предварительной оценки, предварительного отбора и доведения пьесы до такого состояния, чтобы ее можно было показать Станиславскому. Подробности об изменениях, сделанных по замечаниям Сулержицкого, можно найти в записи от 1 октября, где Ан-ский описывает свою встречу с Федором Сологубом и Анастасией Чеботаревской: «Рассказал то, что по предложению Сулержицкого я несколько изменил мою пьесу, между прочим сцену суда с мертвецом сделал более реальной. Не мертвец говорит из-за полога, а раввин передает его слова. Сологуб очень отрицательно отнесся к этой переделке. Сказал, что я напрасно это сделал, что испортил это место»13.
14 Несколько ранее, в сентябре 1915 г. С. Ан-ский начинает хлопотать о получении цензурного разрешения. Ходатаем выступал издатель Зиновий Исаевич Гржебин, который и доставил экземпляр барону Дризену. 30 сентября Ан-ский записывает не слишком приятное известие: «Гржебин мне сообщил, что барон Дризен нашел в моей пьесе в изгнании Дибука аналогию с евангельским рассказом об изгнании бесов. Поэтому затрудняется пропустить. Просил завтра меня зайти к нему»14. Встреча состоялась 2 октября: «Был в Главном управлении по делам драматической печати, у товарища Директора барона Дризена, которому Гржебин передал мою пьесу для цензуры. Дризен — барин, очень элегантный, обходительный, держится просто. Кажется, сам имеет отношение к литературе, издает какой-то исторический журнал и в свое время организовал “Старинный театр”. Он объявил мне, что не может пропустить мою пьесу, так как сцены изгнания Дибука напоминают евангельскую притчу об изгнании бесов. Сколько ни доказывал я ему, что Дибук не бес и тут аналогия отдаленная, он стоял на своем. Наконец, пошел вместе со мною и пьесой к директору кн. Урусову, которому изложил свои сомнения. Урусов заметил, что вообще он не любит искать аналогий, но, не зная пьесы, не может ничего сказать. Обещал прочесть ее»15. Через шесть дней, 8 октября последовала новая встреча: «Был у барона Дризена. Заявил вторично, что в таком виде он пьесы пропустить не может, и предложил мне переделать ее в этом смысле. В каком? Изгнать изгнание духа? Тогда и пьесу уничтожить. Попытаюсь со своей стороны “изгнать дух” и вместо него вставить слово “душа”, “тень человека” и т. п.»16.
После встречи с Дризеном С. Ан-ский «целый день занимался “изгнанием Духа” из пьесы»17. Результаты переработки по требованиям цензора отражены в публикуемом варианте. Надо сказать, что выглядят они весьма косметическими. Дризен был готов довольствоваться малым. 10 октября последовал окончательный вердикт: «Барон Дризен удовлетворился моей переделкой пьесы, заменой слова “дух” словом “душа” или “тень”, попросил еще в одном месте изгнать ангела (“Тартаковский цадик! Я знаю, что ты повелеваешь ангелами!”) и пропустил пьесу»18. Достоверность описания Ан-ского подтверждает и тот факт, что на цензурном экземпляре стоит: «К представлению дозволено. Петроград 10 октября 1915 года. Цензор драматических сочинений [нрзб.]». Подпись цензора неразборчива, но ясно, что это не подпись Дризена, который, вероятно, спустил разрешение кому-то из нижестоящих чиновников.
Однако вариантом текста, разрешенным к представлению 10 октября 1915 г., текстологическая ситуация не исчерпывается. К нему приложена еще одна тетрадка, также требующая цензурного разрешения. В нее входят дополнительные фрагменты: обновленный список действующих лиц, пролог, эпилог и второе действие (свадьба), которые не вызывают цензорских сомнений и не содержат существенной правки. На этой тетрадке стоит цензорское разрешение от 30 ноября 1915 г. Несомненно, что именно эти добавления имел в виду Ан-ский в записи от 21 октября, передавая разговор с Сулержицким: «Видел Джонсона, говорил по телефону с Сулержицким. Все не могут найти часа для совместного чтения моей пьесы Уверяет меня, что это не отговорка. Сейчас поглощены [всецело] постановкой пьесы, кажется, “Потоп”. Обещали к 15 ноября, когда постановка будет закончена, выбрать вечер. Я сказал Сулержицкому, что собираюсь вставить еще действие, после 1-го, — свадьбу, — и он сказал, что тогда пьеса может скорее подойти для Художественного театра и на чтении надо будет, чтобы был Немирович-Данченко»19.
К великому сожалению, на этой тетради заканчиваются дневники писателя, хранящиеся в РГАЛИ. Общее же количество тетрадей, судя по той нумерации, которую 15 тщательно проставлял автор, несоизмеримо больше. Состоялось ли то чтение пьесы на труппе Художественного театра или в Первой студии, которого ждал С. Ан-ский, присутствовал ли Немирович-Данченко, как воспринял пьесу Станиславский (театральные предания настаивают на том, что он давал советы автору и что эпизодическая роль Прохожего старика из первого акта превратилась в осевую фигуру Прохожего (Посланника) именно благодаря советам Станиславского) — все это осталось за пределами сохранившихся дневников и не нашло отражения в архиве Художественного театра. Ясно только, что в декабре 1915 г. Станиславский еще не был знаком с пьесой, а люди, близкие С. Ан-скому, настойчиво пытались заинтересовать великого режиссера. Так, 19 декабря 1915 г. З. И. Гржебин, который и в цензуре хлопотал за С. Ан-ского, писал Станиславскому: «Глубокоуважаемый и дорогой Константин Сергеевич! Семен Акимович Ан-ский написал прекрасную пьесу из любопытного быта “Хасидов” [именно так, с большой буквы и в кавычках написано у Гржебина. — В. И.]. Экстаз, мистика, этнография — здесь все дано убедительно и с чувством театра. Это не только мое такое мнение. Все, кому пришлось слышать пьесу, — и русские и не русские, того же мнения. Я считаю своим долгом Вас известить об этом. Я верю, что “Студия”, с такой любовью относящаяся к делу, сумеет использовать весь материал этой пьесы, выявить тончайший аромат этого быта. Очень прошу Вас, дорогой Константин Сергеевич, дать автору возможность прочесть Вам свою пьесу и надеюсь, что Вы тогда согласитесь со мною»20.
Единственным документальным свидетельством участия Станиславского в судьбе пьесы может служить его письмо Попову от 30 декабря 1915 г.:
«Будьте милы и скажите Раппопорту, чтобы он прислал мне пьесу, но при следующих условиях:
1) Я могу сказать: годится или не годится она для студии.
2) Мне надо дать время на прочтение.
3) Никакой критики я делать не берусь»21.
Попов на этом письме Станиславского оставил важную пометку: «Письмо по поводу пьесы Ан-ского (Раппопорта) “Гадибук”, написанной сначала по-русски»22.
Зимой 1916 г. в первом номере еженедельника «Еврейская жизнь», выходившем в Москве, был опубликован фрагмент пьесы «Меж двух миров», а именно — диалог Хонона и Энеха из первого действия, заканчивающийся появлением Лии. Эта сцена буквально повторяет текст цензурного варианта за редкими, но характерными исключениями. С. Ан-ский подбирает слова, пытаясь передать важные для него оттенки иудейской демонологии. Вместо «сатана» пишет «дьявол», вводит «Самоэль», одно из имен сатаны. На окончательной редакции эти поиски не отразились.
Ясно одно, что на протяжении всего 1916 г. шли обсуждения и, возможно, переделка пьесы, за которыми последовало решение. Хроникер «Театральной газеты» в январе 1917 г. писал: «Пьеса С. Ан-ского “Меж двух миров” принята для постановки Художественным театром»23.
Тогда же, зимой появились и первые сообщения, связывавшие пьесу с «Габимой»: «Новая пьеса С. А. Ан-ского “Меж двух миров”, принятая для постановки в студии московского Художественного театра, представлена автором в распоряжение “Габимы”. Перевод этой пьесы на еврейский язык взял на себя Х. Н. Бялик»24. Нужно сказать, что историческая встреча Наума Цемаха со Станиславским, после которой «Габима» стала неформально называться «библейской студией» Художественного театра, состоялась 26 сентября 1917 г. А в январе – феврале Художественный театр и студия «Габима», существовавшая еще только в воображении Н. Цемаха, Х. Ровиной и 16 М. Гнесина, оказались в положении курьезной конкуренции. Но уже осенью, с появлением в «Габиме» Евгения Вахтангова и фактическим удочерением студии, вопрос решился как-то сам собой.
Именно тот текст, который получил для перевода Бялик, текст, сложившийся после активного сотрудничества С. Ан-ского с Художественным театром, можно считать окончательной авторской редакцией. В переводе Бялика на иврит эта редакция была опубликована в журнале «Га-ткуфа» (Москва, 1918) и впоследствии переводилась на идиш, английский и другие языки. В ней отсутствуют пролог и эпилог. С. Ан-ский вводит протяжный хасидский напев, пронизывающий всю пьесу. Цадик Шлоймеле Тартаковер превращается в цадика Азриэля из Мирополя. Фигура Прохожего старика укрупняется, становится осевой и мистической. Таких перемен немало.
Изменения, внесенные Вахтанговым, происходили в том же русле, но с несравненной решительностью и радикальностью. Он превратил пьесу в тридцатистраничный сценарий. Уничтожая эпическую обстоятельность, Вахтангов сокращал целые сюжетные и тематические линии: новобрачных, убиенных во время погрома в давние времена, приглашение на свадьбу покойной матери и т. д. В его толковании действие не разворачивалось, но неслось, разрывая воздух.
С. Ан-ский не был сложившимся драматургом, да и театр, судя по всему, знал плохо, к тому не располагали его прежние занятия сначала политикой и этнографией. Неискушенность и наивность С. Ан-ского как драматурга поразительным образом совпали с наивностью фольклорного материала.
В русской театральной среде 1910-х гг. были распространены мечтания о таких средневековых формах театрального наивного зрелища, питавшие, к примеру, стилизации Алексея Ремизова. В пьесе же С. Ан-ского традиция примитива ожила словно сама собой, без остраняющей художественной рефлексии. Этим, может быть, объясняется ее притягательность для многих режиссеров XX века.
Разница в написании еврейских имен (Хонон, Лия, срав. Ханан, Лея) связана с различиями в транскрипциях иврита и идиша. С. Ан-ский ориентировался на идиш. Но в русскую театральную традицию имена героев вошли благодаря спектаклю театра «Габима», использовавшего перевод Х. Н. Бялика на иврит.
Постраничные сноски принадлежат С. Ан-скому. Курсивом (кроме ремарок) набраны фразы, вписанные автором поверх вычеркнутых по требованию цензуры. Вычеркнутые слова и фразы восстановлены и печатаются в квадратных скобках. Сохранено авторское написание имен и названий, связанных с религиозной еврейской жизнью.
Выражаю сердечную признательность режиссеру Геннадию Рафаиловичу Тростянецкому, который обратил мое внимание на цензурный текст пьесы С. Ан-ского «Меж двух миров» в Санкт-Петербургской театральной библиотеке, а также Ирине Анатольевне Сергеевой, заведующей отделом фонда иудаики Института рукописей при Национальной библиотеке Украины, любезно ознакомившей меня с неопубликованными письмами барона Гинцбурга, издателя Гржебина и предпринимателя Высоцкого.
Цензурный вариант пьесы С. Ан-ского был обнаружен и подготовлен к печати еще осенью 2001 г. Но работа над книгой, куда, наряду с этой пьесой, входило и множество других архивных материалов, дело, естественно, долгое. Тем временем в киевском альманахе «Егупец» (2002. № 10. С. 167 – 248) Й. Петровский-Штерн опубликовал именно цензурную редакцию пьесы. Можно сетовать на иронию судьбы и 17 мистику архивных поисков, когда пьеса, 80 лет считавшаяся утерянной, одновременно обнаруживается разными исследователями. Но гораздо больше оснований горевать по поводу вполне прозаической «утечки информации».
Работу Петровского-Штерна — увы! — с полным правом следует отнести к дефектным публикациям, вводящим читателя в заблуждение. Прежде всего нужно отметить, что Петровский-Штерн представил как «два совершенно разных русских варианта “Дибука”» (С. 169) фрагменты одного текста. Серьезность такой ошибки вряд ли необходимо объяснять, а ведь именно на этом допущении держатся едва ли не все концептуальные построения публикатора.
Мы уже знаем, что вторая тетрадь спешно дописывалась С. Ан-ским в октябре 1915 г. и отправлялась в досыл к первой, лежавшей в цензуре (см. цитированную выше дневниковую запись С. Ан-ского от 21 октября 1915 г.) Таким образом, все попытки датировать вторую тетрадь серединой 900-х годов, приурочить ее к драматической семейной жизни писателя и объявить первоначальным вариантом пьесы, предназначенным «вовсе не для постановки, но скорее как текст для чтения» (С. 175), выглядят ничем не подкрепленной фантазией. Сравнение двух тетрадей как двух редакций и анализ эволюции замысла пьесы и умонастроений С. Ан-ского кажутся и вовсе комической филологией.
Не повезло тексту и в другом. Дефекты пишущей машинки Петровский-Штерн часто воспринимает как последнюю авторскую волю. Остались вне поля его зрения и обстоятельства формирования цензурного варианта, когда С. Ан-скому пришлось согласиться на устранение рискованных мест. Как правило, вычеркнутое поддается восстановлению. Но публикатора вся эта мелочная текстология не заинтересовала. Он просто оставил без внимания доцензурный слой. Все это можно понять, если вспомнить, что Й. Петровский-Штерн прежде не был замечен на публикаторском поприще. Но «Гадибук» его попутал.
С. Ан-ский
МЕЖ ДВУХ МИРОВ (ДИБУК)
Еврейская драматическая легенда в четырех действиях с прологом и эпилогом
Лица
В прологе и эпилоге:
Старик.
Дочь.
В драме:
Раби Шлоймеле Тартаковер — цадик, старик.
Михоэль — его главный служка (габай).
Раби Шамшон — раввин в Тартакове.
1-й духовный судья (даян).
2-й духовный судья (даян).
Раввин в Бринице.
Сендер Гевирцман — купец, хасид в Бринице.
18 Лия — его дочь.
Фрада — ее старая няня.
Гитель — племянница Лии, приезжая.
Бася — племянница Лии, приезжая.
Хонон — ешиботник в Бринице.
Энех — ешиботник в Бринице.
Хаим — ешиботник в Бринице.
Меер — синагогальный служка в Бринице.
1-й |
2-й | — синагогальные завсегдатаи, старики.
3-й |
Прохожий старик.
Старый хасид.
Пожилая еврейка.
Маршалок — свадебный поэт.
Алтер — сервировщик.
Бабка Хана — повитуха.
Кухарка.
Свадебный гость.
Горбун.
Нищий на костылях.
Хромая |
Безрукая | — нищие старухи.
Полуслепая |
Высокая, бледная женщина, нищая.
Хасиды, ешиботники, прихожане, лавочники, лавочницы, свадебные гости, слуги, нищие, уличные прохожие, женщины, дети, водонос, 2-я кухарка.
Первое и второе действия происходят в Бринице, третье и четвертое — в Тартакове, в доме раби Шлоймеле. Между первым и вторым действием — три месяца.
ПРОЛОГ
Большая, хорошо убранная комната. Посреди комнаты стол, заваленный старыми фолиантами. У стены — мягкий диван. У входных дверей — пожилой человек в темном пальто и котелке, собираясь уйти, крепко пожимает руку провожающего его с лампой в руке Старика и печально, с поникшей головой медленно уходит. Старик, подавшись вперед, точно желая его задержать, остается на месте. Потом проводит рукою по лбу, возвращается медленно к столу, ставит лампу, садится в кресло, раскрывает фолиант и углубляется в чтение. Пауза. Из внутренних комнат неслышно выходит в белом ночном одеянии Дочь, бледная и хрупкая. Останавливается у дверей.
Дочь (нерешительно). Папа…
Старик (оборачивается к ней, тревожно). Что ты, дочь моя?
Дочь. Не могу уснуть… Жутко… Тяжело дышать… Побуду немного с тобою.
Старик (тревожно). Доктор сказал, что тебе следует лежать.
Дочь. Ничего… Посижу здесь на диване. (Взбирается на диван, садится в углу.)
Старик. Я принесу одеяло или платок закутать тебя.
Дочь. Не надо, папа, так мне легче… Ты читай себе, как раньше. Я буду сидеть молча, не буду тебе мешать. (Пауза.) В детстве я очень любила глядеть, как ты изучаешь твои фолианты. Я иногда целыми часами просиживала неподвижно на этом месте и следила за тобою, как ты, чуть-чуть раскачиваясь, тихо произносишь странным грустным напевом непонятные слова. Мне тогда казалось, 19 что фолиант тоже живой и мудрый, что вы шепчетесь о чем-то очень важном и сообщаете друг другу тайны, которых никто не должен подслушивать… (Тише, подавленным голосом.) Как давно это было…
Старик (поникнув головой). Давно…
Пауза.
Дочь. Тогда мне казалось, что никто не в состоянии понять и не должен знать то, о чем ты шепотом беседуешь с фолиантом… А теперь мне хотелось бы знать, что там написано. О чем ты сейчас читал?
Старик (растерянно). Тебе трудно будет понять… (Заглядывает в фолиант.) Впрочем, как раз это место, где я остановился, тебе будет понятно. (Глядя в книгу.) «И сказал раби Иосаи: “Однажды, будучи в пути, я зашел в один из разрушенных домов Иерусалима, чтобы там помолиться. Когда вышел, я нашел у дверей Илью-пророка, и он спросил меня: — Сын мой, какой глас слышал ты в сем пустынном доме? — И я ответил ему: — Я слышал глас голубиный, рыдающий и говорящий: Горе мне! Я разрушил свой дом, сжег свой Храм и обрек своих детей на скитание между чужими народами. — И сказал мне Илья: Клянусь жизнью и головой твоей, что не только в сей час, но три раза в день раздастся этот плачущий глас Господа”»…
Дочь (поражена). Неужели все это так и сказано?.. Бог кается! Бог плачет! Как это неожиданно! Я всегда представляла себе еврейского Бога грозным и непреклонным. И вдруг оказывается, Ему присущи человеческие чувства, раскаяние, слезы…
Старик. Господь любит кающихся.
Дочь. И прощает их?
Старик. В Талмуде сказано: «Величайшим праведникам недоступны чертоги, уготованные для раскаявшихся грешников».
Дочь (вдруг совершенно иным тоном. Громко и сухо). Господь прощает. А ты? Ты не прощаешь!
Старик (растерявшись). Что ты говоришь?..
Дочь. Я говорю, что ты не прощаешь! (С отчаянием.) Почему ты все время молчишь?
Старик. Что ты, дочь моя, что ты! Успокойся, не волнуйся. Кто молчит?
Дочь. Вот уже месяц, как я вернулась к тебе, больная и надломленная. И ты мне еще ни одного слова не сказал.
Старик. Что же я должен был тебе сказать? Что я мог сказать?
Дочь. Как? Дочь, единственная дочь, опозорила твои седины, бежала из-под венца с человеком, которого ты к себе на порог не пускал, пропадала без вести целых пять лет. И вдруг неожиданно вернулась домой… И ты не нашел, что сказать ей?
Старик (сухо). Не нашел…
Дочь. Ты не выгнал, не проклял меня, не упрекнул. Ты окружил меня нежным уходом. Но ты поставил между собой и мною немую стену, которую ничем нельзя пробить. Ты отнял у меня всякую надежду на прощение…
Старик (подавленным голосом). Я тебя простил…
20 Дочь. Так не прощают… Так не прощают живых людей… Ты думаешь, я не понимаю, почему ты так осторожно относишься ко мне…
Старик (вскакивает, кричит). Молчи! Ты ничего не понимаешь! Ни ты не понимаешь, ни я не понимаю, ни доктор не понимает. Понимает лишь Один, Тот, Кто все знает!
Дочь (притихнув). Да… Мы не понимаем. Поэтому, может быть, мы не умеем прощать… (С горечью.) Но почему ты не сделал попытки понять меня?
Старик (с мольбой). Дочь моя, не будем говорить об этом. Я не могу тебя понять.
Дочь. Ты можешь, ты должен меня понять! Ты должен понять, что я полюбила этого человека беззаветно, безумно…
Старик. Беззаветно… Безумно… Знала ты его всего несколько недель, может быть, несколько дней… И был еще человек, которого ты целых восемнадцать лет любила и, казалось, тоже беззаветно, человек, у которого, кроме тебя, никого в мире не было. Почему же вторая любовь перевесила первую?
Дочь. Не перевесила… Я продолжала тебя любить, как раньше. Но та любовь была совершенно иная…
Старик (тихо). Иная… иная… Не понимаю…
Дочь. Отец! Ведь ты сам был когда-то молод. Неужели ты никогда не любил?
Старик (печально). Как не любил? Любил! Твою покойную мать, и сильно любил. Любил всякого, кто был достоин любви…
Дочь (в отчаянии). Ах, не то… Не то… (Иным тоном.) Отец, ты мне рассказывал, что в молодости учился в ешиботе. Там были сотни юношей. Неужели ни с кем из них не случилось ничего подобного? Чтобы кто-нибудь влюбился в женщину. Понимаешь, влюбился!
Старик. Влюбился в женщину… Нет. Случались развратники. Но о них не стоит говорить… А о любви мы не слыхали. У нас мысль была занята совершенно иным…
Дочь (в сильном волнении). Отец! Этого быть не может. Молодость всегда и везде одна. Подумай! Припомни!..
Старик. Ради Бога, не волнуйся! (Торопливо.) Ну, я припомнил, припомнил… Был такой случай… Но это было нечто совершенно другое.
Дочь (радостно). Был случай! Был!
Старик. Когда я был юношей, у нас в синагоге рассказывали историю про ешиботника. Но это совершенно не то, что ты думаешь!
Дочь (жадно). Расскажи! Расскажи!
Старик. История эта длинная и очень печальная! Там вмешались сверхъестественные силы. По вашим теперешним понятиям ты, пожалуй, не поверишь, что все это могло случиться. Но я слышал историю от людей, которые собственными глазами все видели.
Дочь. Расскажи! Я поверю! Я всему поверю!
Старик (закрывает фолиант, садится против дочери и начинает повествовательным тоном). У Талненского цадика, раби Довидл, блаженной памяти, был золотой трон, и на этом троне было начертано: «Давид, царь Иудейский, жив и вечен».
С первых его слов занавес начинает медленно опускаться.
21 ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Низенькая, очень старая деревянная синагога с почерневшими стенами с подпорками. С потолка спускаются два старинных медных канделябра. Посреди передней стены — кивот со свитками под завесой, рядом с ним справа (от зрителей) амвон, на котором горит толстая восковая поминальная свеча. У стены длинные скамьи со спинками. Посреди синагоги алмемор, покрытый темной скатертью. В стене справа, ближе к зрителям невысокая дверь в отдельную молельню, над дверьми и во всю правую стену несколько небольших оконцев из женского отделения. Вдоль стены длинный деревянный некрашеный стол, заваленный старыми фолиантами. В двух подсвечниках горят сальные огарки. За столом в разных позах сидят ешиботники и тихо, тонким напевом, читают Талмуд. Отдельно, у передней стены, неподалеку от амвона, за пюпитром сидит, облокотившись и углубившись в фолиант, Энех. В левой стене, ближе к зрителям, большая дверь с улицы, у дверей — рукомойник и грубого полотна полотенце в кольце. За дверьми большая выбеленная печь, длинный деревянный простой стол, на нем тоже фолианты и бутылка с сальным огарком. У стола сидят 1-й, 2-й и 3-й синагогальные завсегдатаи в позах беседующих на скамье, у печи лежит Прохожий старик с туго набитым мешком в головах. За столом — шкаф с книгами. Возле него стоит, держась рукою за верх шкафа и прислонившись к стене, в задумчивой позе Хонон. У раскрытого алмемора сидит на корточках Меер, раскладывая молитвенные облачения. В синагоге полумрак, тяжелые тени. На всем печать глубокой грусти. Долгая пауза.
1-й старик (медленно, мечтательно, тоном легенды). У Талненского цадика, раби Довидл, блаженной памяти, был золотой трон, и на этом троне было начертано: «Давид, царь Иудейский, жив и вечен»…
Пауза.
2-й старик (таким же тоном). Святой раби Исроэль Ружинский вел себя истинным монархом. За его столом постоянно играла капелла из двадцати четырех музыкантов. Выезжал он не иначе, как на шестерке лошадей цугом.
3-й старик (с умилением). А о раби Шмуэль Каминкере рассказывают, что он ходил в золотых туфельках… в золотых туфельках!..
Прохожий старик (приподымается, садится. Тоном протеста). А святой раби Зуся Анопольский всю жизнь был нищим, собирал милостыню, ходил в сермяге, опоясанный веревкой, а все-таки творил не меньше чудес, чем Талненский или Ружинский цадики; даже, может быть, больше…
1-й старик (с неудовольствием). Вы, извините, не понимаете, о чем говорят, и вмешиваетесь. Когда рассказывают о величии Талненского или Ружинского, разве имеют в виду их богатства? Мало ли богачей на свете!.. Надо же понимать, что и в золотом троне, и в капелле, и в шестерке лошадей, и в туфельках скрывался глубокий и таинственный смысл.
3-й старик. Конечно, конечно!
2-й старик. Кто имел очи — тот видел. Рассказывают: когда великий Аптрский раввин встретился с Ружинским, он бросился целовать колеса его кареты. И когда его спросили, что это означает, он воскликнул: «Слепцы, вы не видите, что это Небесная Колесница?»
3-й старик (в восторге). Ай, ай, ай!
1-й старик. Вся суть в том, что золотой трон не был золотым троном, лошади не были лошадьми, капелла не была капеллой. Все это была одна видимость, отражение величия. И необходимо это было как материальная оболочка для их великой мощи.
22 3-й старик. Их мощь! их мощь! Она не имела границ!
1-й старик. Шутка ли, их мощь! Вы слышали историю с плеткой святого раби Шмельке Никельсбургского? Стоит послушать! Однажды бедняк пожаловался ему на первого богача в округе, который был близок к царю и перед которым все падали ниц. Раби Шмельке вызвал их на суд, разобрал дело и признал богача неправым. Богач рассердился и начал кричать, что не подчинится приговору. Тогда раби Шмельке говорит ему спокойно: «Ты подчинишься. Когда раввин велит, нельзя ослушаться». Богач еще больше раскипятился и начал кричать: «Я смеюсь над вами и над вашим судом!» Раби Шмельке поднялся во весь рост и воскликнул: «Сию минуту подчинись моему приговору! Иначе я возьму плетку!» Тут богач совсем разгневался, начал ругать и оскорблять раввина. Тогда раби Шмельке чуть-чуть приоткрыл ящик стола — и оттуда выскочил Первозданный Змий, окутался вокруг шеи богача и стал его душить. Ну, ну! можете себе представить, что он запел. Стал кричать, молить раввина, чтобы тот его простил, обещал покорно исполнять все его повеления. И сказал ему раби Шмельке: «Ты и внукам и правнукам закажешь, чтобы они боялись раввинской плетки».
3-й старик. Ха-ха-ха! Хорошая «плетка», нечего сказать!
Короткая пауза.
2-й старик (1-му старику). Мне кажется, что вы, раби Волф, ошибаетесь. Дело было, вероятно, не с Первозданным Змием.
3-й старик. Почему? Почему нет?
2-й старик. Очень просто: раби Шмельке не стал бы пользоваться Первозданным Змием. Кто такой Первозданный Змий! Ведь это Оборотная Сторона — Ситро Ахро! (Отплевывается.)
3-й старик. Что же из этого? Раби Шмельке, конечно, знал, что он делает!
2-й старик. Я уверен, что даже нет таких священных имен и каббалистических сочетаний, чтобы вызвать Ситро Ахро. (Отплевывается.)
1-й старик. Что ты говоришь! Я ведь рассказываю историю, которая случилась. Десятки людей видели это собственными глазами, а ты говоришь: этого не могло быть!
Прохожий старик (уверенно). Это могло быть! Действенной каббалой можно все сделать. Я это хорошо знаю. У нас в местечке был заклинатель, великий чудодей. Он, например, святым Именем вызывал пожар и сейчас же другим Именем тушил его; он видел, что творится за тысячи верст от него, умел цедить вино из стены, стать невидимкой. Он и разъяснил мне все эти дела. Он говорил, что действенной каббалой можно воскрешать мертвых, вызывать нечистую силу, даже самое Ситро Ахро. (Отплевывается.) Конечно, это очень опасно, но умеючи можно все сделать. Я это слышал из собственных уст заклинателя.
Хонон (прислушивавшийся внимательно к словам Прохожего старика, делает шаг к столу. Глухим голосом). Где он теперь?
Прохожий старик (с удивлением оглядывается в его сторону). Кто?
Хонон. Заклинатель.
Прохожий старик. Где ему быть? У нас в местечке, если он еще жив.
Хонон. Далеко отсюда?
Прохожий старик. Местечко? Очень далеко. В глубине Полесья.
23 Хонон. Сколько ходьбы?
Прохожий старик. Ходьбы? Недели три. Пожалуй, месяц… А ты зачем об этом спрашиваешь? Может быть, хочешь пойти к нему?
Хонон молчит.
Местечко называется Красное. Заклинателя зовут раби Элхонон.
Хонон. Элхонон? (Про себя.) Эль-Хонон… Эль Хонон: Бог Хонона… Странно…
Прохожий старик. Стоит его повидать, если он еще жив. Его чудеса прямо удивительны! Он однажды каббалистическими сочетаниями…
3-й старик. Не надо говорить к ночи об этих вещах, да еще в синагоге!
2-й старик. Вообще не следует громко говорить о каббалистических сочетаниях. Можно нечаянно промолвиться словом, сочетанием и наделать бедствия. Бывали случаи!
Хонон медленно выходит из синагоги.
Прохожий старик (глядит ему вслед). Какой-то странный юноша. Кто он такой?
1-й старик. Ешиботник… Замечательный юноша! Тончайший сосуд!
2-й старик. Гений! Знает почти весь Талмуд наизусть.
1-й старик. Старые раввины обращались к нему за разрешением спорных вопросов.
Прохожий старик. Откуда он?
Меер (подходит к столу). Он откуда-то из Литвы. Учился здесь несколько лет, считался украшением нашего ешибота, получил звание раввина. И вдруг куда-то исчез. Говорили, что он отправился «справлять изгнание». Недавно он вернулся. Странный какой-то стал. Постоянно сидит задумавшись, постится от субботы до субботы, часто ходит в бассейн окунаться и проводит там иногда целые часы. (Тише.) Ешиботники говорят, что он углубился в каббалу.
2-й старик. Об этом говорят и в городе. Я знаю, что к нему уже приходили просить камеи, но он не дал.
3-й старик. Кто знает, кто он! Может быть, из великих… Кто может знать? А подсматривать — опасно.
Пауза.
1-й старик (зевает). А-а, надо лечь спать… (Улыбается.) Вот если б сюда явился заклинатель ваш, который умеет цедить вино из стены. А! Я бы теперь ожил от рюмочки! Целый день крошки во рту не имел.
2-й старик. У меня сегодня тоже пост. Только утром гречаный коржик съел.
Меер (полутаинственно). Подождите, кажется, скоро будем иметь хорошую выпивку. Будет и водочка, и коржики, и пряники… Сендер поехал смотреть жениха для дочки. Он и сваты съехались в Климовке. Если состоится обручение — Сендер угостит на славу!
1-й старик. А! Я уже не верю, чтобы он когда-нибудь обручил дочку. Три раза ездил смотреть женихов, и все возвращались ни с чем. То ему жених не нравится, то сваты оказывались недостаточно знатного рода, то не сходился насчет приданого. Нельзя так выбирать!
Меер. Сендер может себе позволить быть разборчивым. Слава Богу, не сглазить бы, богат, знатен, дочка — красавица.
24 3-й старик. Люблю Сендера! Истинный хасид! Из Тартаковских хасидов: с огнем, с порывом!
2-й старик. Хасид-то он хороший, это верно. Но единственную дочь свою он мог бы выдать замуж иначе…
3-й старик. А что? а что?
2-й старик. В былое время богатый и знатный еврей, когда ему был нужен жених для единственной дочери, — то он не искал ни богатства, ни знатности, а отправлялся в какой-нибудь прославленный ешибот, подносил главе ешибота хороший подарок и выбирал себе в зятья самого лучшего, самого способного ешиботника… Сендер мог бы тоже взять для дочери жениха из ешибота.
1-й старик. Ему и не надо было далеко ехать для этого. Что, Хонон не был бы подходящим женихом для его дочери?
2-й старик. Да все и считали, что он возьмет его в зятья. Держал его год у себя в доме, кормил, поил… Домашние относились к нему, как к родному.
1-й старик (улыбнувшись). Однажды зашел я к Сендеру. Хонон, по обыкновению, сидел в особой комнате и читал нараспев Талмуд, а в соседней комнате дочь Сендера, Лия, сидит не двигаясь, затихшая, как зачарованная, и слушает. Я не удержался и говорю ей: «Что, Лееле, хотела бы иметь жениха, который бы так сладко, так проникновенно учил Тору?» Она вся покраснела, потупилась и стыдливо прошептала: «Да». Хе-хе-хе!
2-й старик. А Сендер, когда ему предложили жениха с десятью тысячами червонцев приданого, поехал сговариваться со сватами. Тартаковский хасид не должен бы так поступать.
3-й старик. Ну, ну! Не надо осуждать, не надо. Не состоялось — значит, не суждено было. Сказано: «Сорок дней перед рождением ребенка глас небесный вызывает: — Дочь такого-то предназначена для сына такого-то».
Вбегает Пожилая еврейка, таща за руки двух детей.
Еврейка (кричит с плачем). А-ай! Создатель! Помоги и мне!! (Устремляется к кивоту.) Ай, деточки, деточки! Мы раскроем кивот, мы припадем к священным Свиткам. Мы не уйдем отсюда, пока не вымолим исцеления для вашей матери. (Отдернув завесу, раскрывает кивот и припадает головой к Свиткам. Рыдающим молитвенным речитативом.) Бог Авраама, Исаака и Якова! Воззри на мое великое горе-е! Сжалься над моей единственной дочерью! Воззри на горе ее бедных деточек! Священные Свитки Торы! Идите, предстательствуйте перед Господом Богом за мою доченьку! Святые патриархи, святые праматери, бегите, спешите к Господнему Престолу, просите, молите, чтобы молодое деревцо не было вырвано с корнем, чтобы тихая овечка не была изгнана из стада, чтобы нежная голубка не была выброшена из гнезда!.. Я не уйду отсюда! Я лягу у подножия кивота! Я разбужу все святые души! Я нарушу покой всех миров, пока мне не возвратят мою красу и гордость!!
Дети плачут.
Меер (подходит. Осторожно трогает Еврейку за руку). Еврейка, не посадить ли десять человек читать Псалмы?
Еврейка. Ой, читайте, читайте! Только скорее, скорее! Каждый час дорог! Она тает, как свеча! Уже два дня, как лежит без языка и борется со смертью!
25 Меер (торопливо). Сию минуту! Соберу десять человек, и сядем читать… (Заискивающе.) Но ведь им надо что-нибудь дать… бедняки…
Еврейка. Как же! (Дает ему монету.) Вот вам злотый. Больше у меня нет.
Меер. Маловато… По три гроша на человека…
Еврейка (не слушая его). Пойдемте, дети, в другие синагоги!
Уходят.
Меер (возвращается к столу). Вот и послал нам Господь злотый. Почитаем Псалмы, выпьем по капельке, пожелаем болящей исцеления — и она, даст Бог, выздоровеет.
1-й старик. Пойдемте читать в молельню. (Громко, ешиботникам.) Юноши, кто будет читать Псалмы? По коржику получите!
Подходят несколько ешиботников. Старики, Прохожий, ешиботники уходят в молельню. Скоро оттуда начинает доноситься громкое пение «Блажен муж» и т. д. Входит Хонон.
Хонон (идет медленно, устало, еле держась на ногах. Идет наугад, не думая куда. В некотором расстоянии замечает раскрытый кивот, останавливается пораженный). Кивот раскрыт?.. Кто отдернул полог?.. Кто раскрыл кивот?.. Для кого он раскрылся в час ночной?.. (Подходит ближе.) Свитки… Стоят, как живые, прижавшись друг к дружке, спокойные, безмолвные… А в них-то сокрыты все тайны, все тайны от сотворения миров до их исчезновения, до скончания веков! Все тайны, все намеки, все Священные Имена, все сочетания! А как трудно от них добиться указания… как трудно! (Считает.) Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять Свитков. Слово «Истина» по малому буквенному счислению2*. А в каждом из Свитков по четыре «Древка жизни»… Опять 36!.. Не проходит дня, чтобы я не столкнулся с этим числом, а что оно означает — не знаю. Но я чувствую, что в этом числе лежит все… 36 по буквенному счислению имя Лия. Три раза 36 — Хонон. 36 произносится «Лой». Лой означает «ему». Кому?.. А Лия? (Вздрагивает.) Опять эта мысль Ло-ha. Не-Бог, Не Через Бога… Какая страшная мысль — и как она меня влечет!..
Энех (поднимает голову и долго внимательно глядит на Хонона). Хонон, ты ходишь как во сне.
Хонон (оглядывается, замечает Энеха. Механически направляется к нему. Садится. Про себя). Намеки, намеки без конца, а прямого пути не видно…
Энех. Что ты говоришь?
Хонон (удивленно). Я? Ничего. Я думал…
Пауза.
Энех (качает головой). Ты слишком увлекся каббалой. С тех пор, как ты вернулся, ты книги не раскрыл.
Хонон (силится понять). Книги не раскрыл? Какой книги?
Энех. Как — какой? Талмуда, Постановлений. Что ты спрашиваешь?
Хонон. Талмуда?.. Постановлений?.. Кажется, не раскрыл… Кажется… Талмуд холоден и сух. Постановления холодны и сухи… (Как бы очнувшись. Говорит сперва 26 медленно и задумчиво, затем более оживляется.) Под землею находится точно такой же мир, как и над землей. Там имеются глубокие моря и бездонные пропасти, большие и грозные пустыни, густые, непроходимые леса. И по морям там носятся огромные корабли и подымаются страшные волны. По пустыням проносятся сильные ветры и ураганы. А в дремучих лесах царит грозное величие. Только одного там нет. Нет высокого неба, не видно ни яркого солнца, ни ослепительных молний, не слышно громов. Таков Талмуд. Он велик, он грозен, он беспределен. Но он приковывает к земле, не дает подниматься ввысь! А каббала! А каббала! Она раскрывает пред глазами все врата небес! Она яркими молниями освещает тысячи миров! Она великими прорывами устремляет душу к бесконечному! Она ведет в чертоги высших Тайн, доводит до Пардеса3*, приподнимает Великий Полог!.. (Откидывается обессиленный.) Тяжело говорить. Сердце замирает.
Энех (очень сосредоточенно). Все верно, но ты забываешь, что ввысь надо подыматься медленно и осторожно. И чем выше ты возлетишь одними порывами, тем труднее удержаться там, тем страшнее может быть падение в пропасть. Талмуд поднимает душу к бесконечному медленно, без порывов, но он защищает человека. Он плотно обхватывает его, как стальным панцирем, и не дает уклониться от прямого пути ни вправо, ни влево. Он бдит над человеком, как верный страж, который не спит и не дремлет… А каббала? Ты помнишь, что сказано в Талмуде о тех, которые дерзнули приподнять Великий Полог? (Талмудическим напевом.) Четверо вошли в Пардес: Бен Азай, Бен Зоймо, Ахойр и раби Акива… Бен Азай заглянул и был сражен; Бен Зоймо заглянул и был задет в рассудке; Ахойр подрубил Насаждения, отрекся от Бога, и только раби Акива вошел с миром и вышел с миром.
Хонон. Не пугай меня ими. Мы не знаем, каким путем и зачем они шли в Пардес. Может быть, они были задеты только потому, что шли смотреть, а не исправлять. Ведь вот последующие великаны от святого Ари, от святого Бешта шли и не были задеты.
Энех. Ты сравниваешь себя с ними?
Хонон. Я не сравниваю, я иду своим путем.
Энех. Каким?
Хонон. Ты меня не поймешь…
Энех. Я тебя пойму. В моей душе тоже живет стремление к высшим ступеням.
Хонон (после некоторого колебания). Деяния цадиков, великанов поколений, заключаются в том, что они исправляют души, срывают цепи греха и поднимают их к светлому первоисточнику. Эта борьба очень тяжелая. Ибо «грех лежит у дверей». Одержана победа над одним грешником, является другой человек с новыми грехами; одержана победа над одним поколением — и его сменяет другое, опять греховное. И приходится начинать все сначала. А поколения становятся мельче, а грехи становятся сильнее, а цадики слабее.
Энех. Что же, по-твоему, делать?
Хонон (тихо, но очень определенно). Надо не бороться с грехом, а исправлять его. Как золотоделатель очищает огнем золото от шлака, как земледелец отделяет полновесное зерно от пустого, так надо очистить грех от его скверны и оставить в нем только искру святости.
27 Энех (удивленно). Искру святости в грехах?
Хонон. Да. Нет такого греха, в котором бы не было искры святости. То, что создано Богом, не может не иметь в себе святого начала.
Энех. Что ты говоришь! Грех создан не Богом, а сатаной.
Хонон (спокойно). А сатану кто создал? Тоже Бог! Значит, и в сатане есть святость.
Энех (испуганно). В сатане?.. В Ситро Ахро? Святость?!.
Хонон. Ситро Ахро есть оборотная сторона Божества. И раз оно — сторона Божества, в нем должна быть святость.
Энех (потрясенный). Я не могу! Дай мне сообразить! (Закрывает лицо руками, наклоняется к пюпитру и опирается об него головой. Остается все время в такой позе.)
Хонон (трепетно). Какой грех всего страшнее для человека и всего больше влечет его? Какой грех всего труднее победить? Грех стремления к женщине? Да?
Энех (не поднимая головы). Да!
Хонон (с трепетной радостью). А если это греховное стремление очищать в огне до тех пор, пока в нем останется одна лишь искра Божества — тогда величайшая скверна превратится в высшую святость, в песню песней, в «Песнь Песней». (Выпрямляется, закрывает глаза и, откинув немного набок голову, тихо, восторженно поет.) «Ты прекрасна, подруга моя, ты прекрасна. Глаза твои голубиные выглядывают из-под кудрей твоих; волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской. Зубы твои, как стадо выстриженных овец, вышедших из умывальни, из которых у каждой пара ягнят, а бесплодной меж ними нет…».
Слабый стук. Дверь тихо открывается, входят нерешительно Лия, ведя за руку Фраду, и Гитель, останавливаются у дверей. Из молельни выходит Меер.
Меер (узнает пришедших. Удивлен. Подобострастно). Смотри!.. дочь раби Сендера?.. Лия?
Лия (смущенно). Помните, вы обещали показать мне старые-старые завесы кивота?
При первых ее словах Хонон обрывает пение и широко раскрытыми глазами глядит на Лию. Затем все время он то глядит на нее с молитвенным восторгом, то стоит с закрытыми глазами.
Фрада (Мееру). Покажи ей старые завесы, покажи! Лиеле дала обет к поминальному дню по матери вышить завесу для кивота. Вышьет она чистым золотом по нежному бархату святую завесу, как в старину вышивали, со львами, с орлами. Повесят над кивотом — и будет радоваться сердце матери в раю…
Лия нерешительно оглядывает синагогу. Увидав Хонона, опускает глаза, отступает на шаг, остается все время с опущенными глазами, в трепетном напряжении.
Меер (предупредительно). Как же! как же! Сейчас принесу из шкафа все самые старые, самые дорогие завесы. (Отходит к шкафу.)
Гитель (хватает Лию за руку). Лиенка! Тебе не страшно ночью в синагоге?
Лия. Я никогда не была здесь ночью. Да и днем была всего один раз. Ведь девушки не ходят в синагогу… Как здесь печально, как печально…
Фрада. Деточки мои, в синагоге не может быть иначе. В полночь приходят покойники молиться и оставляют здесь свою печаль…
28 Гитель. Бабушка, не рассказывайте о покойниках, мне страшно…
Фрада (не слушая ее). А когда на заре Господь плачет над разрушенным Храмом, Его слезы падают в синагоги. Поэтому в старых синагогах стены заплаканные. И их нельзя белить. Если их белить — они сердятся и кидают камнями…
Лия. Какая она старенькая-старенькая. Снаружи я не замечала этого…
Фрада. Старенькая, очень старенькая. Никто, никто не помнит и не знает, когда ее строили. Говорят даже, что она была найдена под землей выстроенной… Сколько было пожаров, сколько раз весь город выгорал дотла — а она оставалась целой. Однажды только загорелась в ней крыша. И прилетели голуби, целая стая голубей, стали кружиться над крышей, махать крылышками — и потушили огонь. (К Гитель.) А обгороженный холмик возле синагоги ты видела? Это святая могилка.
Лия (вздохнув). Могилка жениха и невесты…
Фрада (жалостливо). Когда их венчали, Хамелюк напал и убил их под венцом. На том месте их и похоронили. И теперь, когда раввин венчает жениха и невесту возле синагоги, он слышит из могилки стоны… А после свадебного пира все идут туда и пляшут вокруг могилки, увеселяют жениха и невесту, которые там похоронены.
Лия (не слушая ее. Как бы про себя). Как здесь печально и как хорошо. Я не ушла бы из этой старенькой и бедненькой синагоги… Мне хотелось бы нежно ласкать ее, прижаться к ней, спросить ее, отчего она такая печальная и задумчивая, такая заплаканная и безмолвная… Хотелось бы… сама не знаю чего, но во мне сердце разрывается от жалости и нежной печали…
Фрада (умильно). Когда ты так говоришь, Лиеле, мне кажется, что слышу голос твоей бабушки, праведницы Рохеле.
Меер (приносит завесы, развертывает). Вот самая старая. Ей более двухсот лет. Мы навешиваем ее только в Пасху.
Гитель (в восторге). Какая красота! Посмотри, Лееле! Густым золотом вышито по плотному малиновому бархату. Два дерева, на них сидят голуби, а внизу два льва держат Щит Давидов. Теперь ни такого золота, ни такого бархата не найти…
Лия. Какая она нежная и тоже печальная… (Целует завесу и ласково гладит ее.)
Меер (развернув другую завесу). И вот жемчужная завеса. Наверху цветочки из алмазов. А все слова Богословения вышиты чистым жемчугом. Это мы навешиваем в Судный день.
Лия и Гитель рассматривают завесы.
Фрада (Мееру, указывая головой на Лию, негромко). Золотое дитя! Чистая голубка! А Бог наказал ее, послал на нее хворь. Похудела вся, ослабела, по ночам плачет. Я и посоветовала ей вышить завесу для кивота. Это помогает… (Тише.) Говорят, Хонке вернулся?
Меер. Да, уже несколько недель. Он здесь. Хотите, я его позову?
Фрада. Нет. Если он сам не приходит к нам, значит не надо… Ну, как он?
Меер. Изменился сильно. Стал задумчив. Углубился в каббалу…
Фрада. Углубился?.. (Вынимает из кармана горсть бобов.) На, дай ему горстку бобов, пусть полакомится.
29 Меер. Он не ест. Пост от субботы до субботы.
Фрада. От субботы до субботы?.. Хоть бы его посты помогли Лиеле, чтобы она выздоровела.
Гитель (заметив Хонона, хватает Лию за руку, шепотом). Лиеле, погляди! У амвона стоит юноша и глядит на тебя. Как странно он на тебя глядит!
Лия (не подымая глаз). Это ешиботник… Хонон… Он у нас получал стол… И жил у нас… Его долго не было здесь…
Гитель. Какими блестящими глазами он на тебя глядит.
Лия. Он всегда глядит на меня блестящими глазами. У него такие глаза… И когда он говорил со мною, у него захватывало дыхание… И у меня тоже… Ведь грех, когда чужие юноши и девушки разговаривают друг с другом…
Гитель. Он точно зовет тебя глазами… Ему, верно, хотелось бы подойти к тебе, но непристойно.
Лия. Я хотела бы знать, отчего он так бледен… Он, верно, был болен.
Фрада. Меер, дай-ка нам поцеловать священные Свитки. Как же это, быть у Бога в гостях и не поцеловать Его Торы.
Меер. Пойдемте. (Идет вперед.)
Гитель ведет Фраду, за ними Лия. Меер раскрывает кивот, вынимает Свитки, подставляет Фраде и Гитель для поцелуя.
Лия (поравнявшись с Хононом, останавливается и, чуть подняв голову, глядит на него и снова опускает глаза). Добрый вечер, Хонон… Вы опять приехали?
Хонон (шепотом). Да…
Лия. Вы теперь к нам не приходите…
Хонон (еле выговаривая слова). Я не могу приходить…
Лия. Ваша комната не занята. И все книги остались на местах, как раньше.
Хонон. Знаю. (Хочет что-то сказать, но не может.)
Лия. Только теперь у нас в доме тихо… Никто не читает Талмуда, никто так не поет молитв, как вы… Стало тихо…
Хонон. Я больше не читаю Талмуд… и не пою…
Фрада. Лиеле, иди сюда, поцелуй Свитки!
Лия подходит и, вся дрожа, припадает к Свиткам долгим страстным поцелуем.
(Тревожно.) Ну, довольно, доченька, довольно. Тору нельзя много целовать. Она огненная. Она писана черным огнем по белому огню… (Начинает вдруг тревожно торопиться.) Пойдемте, деточки, домой, пойдемте домой! Ай как поздно! Ай как поздно!
Уходят поспешно. Меер, закрыв амвон, убирает завесы и выходит. Хонон сидит неподвижно, с закрытыми глазами. Долгая пауза. Хонон продолжает петь «Песнь Песней» с того места, где остановился: «Как лента алая, губы твои и уста твои прекрасны. Как пласт гранатового яблока, виски твои под кудрями твоими…»
Энех (подымает голову, слушает). Что ты поешь?
Хонон умолкает, открывает глаза, глядит неподвижно, ничего не видя.
У тебя мокрые волосы! Ты вечером опять окунался?
Хонон (машинально). Да.
30 Энех. При окунании ты все время справляешь проникновение, совершаешь сочетания, произносишь Имена? По книге «Ангела Розиеля»?
Хонон. Да.
Энех. И тебе не страшно?
Хонон. Нет.
Энех. И ты постишь от субботы до субботы? Тебе это не трудно?
Хонон. Мне труднее в субботу есть, чем в будни постить. Я потерял охоту к еде.
Пауза.
Энех. Зачем ты все это делаешь, чего ты хочешь добиться?
Хонон (не сразу. Точно отвечая себе). Хочу… Хочу добыть яркий алмаз, растопить его, превратить в светлые слезы и впитать в свою душу. Хочу привлечь к себе лучи из «Третьего Чертога», из Чертога Красоты. (Не может больше говорить от волнения. Вдруг очень беспокойно.) Да! Еще одно! Хочу иметь два бочонка золотых червонцев… (Шепотом.) Для человека, душу которого можно привлечь только червонцами, золотыми червонцами…
Энех. Вот что! (Качает головой.) Берегись, Хонон, таких вещей прямым путем не достигнешь…
Хонон (восторженно). Я уже многого добился. Три раза! (Шепотом.) Слушай, я тебе открою: вчера я сотворил во сне Запрос — и во сне же получил ответ. Я теперь знаю, что делать. Мне только надо отгадать тайну одного слова, имеющего численное значение 36.
Энех. Берегись, Хонон. Враг силен! (Встает.) Скоро полночь. Пойду в большую синагогу справлять полуночное бдение. (Уходит.)
Приходит Меер. Из молельни выходит 1-й старик.
1-й старик (Мееру). Прочли восемнадцать Псалмов, и довольно. Не весь же Псалтырь прочесть за злотый. Но толкуй с ними. Они любят Псалмы петь.
Входит Хаим.
Хаим (возбужденно). Только что видел Боруха-портного. Он вернулся из Климовки, куда Сендер ездил смотреть жениха. Говорит, что все расстроилось. Сендер требовал кроме приданого еще десять лет стола для молодых, а сват давал только пять, И разошлись. (Уходит в молельню.)
Меер. Уже четвертый раз! Какая досада!
Хонон (выпрямляясь. С восторженной радостью). Я снова добился своего! (Падает на скамью в изнеможении, остается с застывшим выражением торжества на лице.)
Из молельни выходят старики, ешиботники.
Старики (друг другу). Пошли, Господь, болящей исцеления.
2-й старик. Теперь следовало бы выпить и закусить.
Меер. Я уже приготовил и водку, и коржиков. (Вынимает из бокового кармана бутылку и рюмочку.) Пойдемте в притвор, там и выпьем.
Шумно раскрывается дверь. Входит Сендер и несколько евреев.
31 Сендер (останавливается, весело оглядывается. Громко). Вот тебе раз! Думал, они сидят за священными книгами или спят, а они совсем собираются устраивать выпивку! Поистине, Тартаковские хасиды. Ха-ха-ха!
Все (устремляются ему навстречу. Радостно). А-а, раби Сендер! Во-от неожиданный гость! Выпьете с нами?
Сендер. Дурни, сам поставлю угощение. Поздравьте меня. В добрый час обручил дочку.
Хонон выпрямляется. Глядит, пораженный, на Сендера.
Все (радостно). Поздравляем, поздравляем!
Меер. А нам только что сказали, что все расстроилось и вы едете ни с чем обратно. Мы были страшно огорчены.
Сендер. Сперва-таки было разошлись. Из-за стола для молодых. А в последнюю минуту сват поддался, и мы совершили помолвку, в добрый час.
Хонон (задыхаясь, шепотом). Помолвку? Помолвку?.. Значит, все было напрасно… Не помогли ни посты, ни проникновения, ни окунания, ни сочетания. А?.. (Восторженно.) Теперь мне все ясно! Все! Теперь знаю, что означает число 36! Что означает имя Лия — Ло-ha. Не-Бог, Не Через Бога. (Задыхаясь от восторга.) Победа!.. Я… (Слабый крик, падает на пол.)
Сендер (указывает на бутылку в руке Меера). Что это у вас за выпивка? (Хаиму.) Хаим, сбегай ко мне, скажи, что я велел дать бутылку хорошего спирта, пряников, редьку в меду — и притащи сюда! Живо!
Хаим выбегает.
1-й старик (Мееру, шепотом). Спрячь пока эту бутылочку. Пригодится на завтра.
Меер прячем бутылку за пазуху.
Сендер. Меерка, отчего так темно? Ты бы свечи зажег! Веселее стало бы.
Меер зажигает.
Сендер. Пока принесут угощение, расскажите что-нибудь о нашем цадике, о ребе Шлоймеле. Кто знает что-нибудь новое из его деяний? Может быть, изречение его, притчу. Каждое его слово — жемчуг!
Садятся у стола.
Прохожий старик. Если хотите, я расскажу одну его притчу. Пришел однажды к нему богач. Раби Шлоймеле взглянул на него своими святыми очами и сейчас отгадал, что тот скуп. Вот он взял его за руку, подвел к окну и спрашивает: «Что ты видишь?» Богач посмотрел в окно на улицу и говорит: «Я вижу людей». Затем раби Шлоймеле подвел его к зеркалу и спрашивает: «А теперь что видишь?» Богач ответил: «Теперь я вижу себя». Тогда раби Шлоймеле ему и говорит: «Понимаешь ли: и то стекло, и это стекло. Но это немного посеребрено, и уже перестаешь видеть людей и начинаешь видеть одного себя».
3-й старик. А! А! А! Слаще меда!
2-й старик. Божественные слова! (Пауза.) Спеть бы что-нибудь! Мендель, ведь ты знаешь песни раби Лейви-Ицхока Бердичевера? Ну-ка спой что-нибудь!
Сендер. А ну-ка, ну!
32 3-й старик. Что же спеть? Разве его «Ты»? (Поет.)
«Создатель вселенной, (bis)
Я Тебе сыграю “Ты”, (bis)
Где Тебя нахожу?
И где Тебя не нахожу?
Куда ни взглянешь — только Ты!
И нет предмета без Тебя.
Все — Ты, лишь Ты, един — Ты!
Ты, Ты, Ты, Ты!
Коль хорошо — значит Ты,
А если нет — все же Ты!
Но если Ты — то хорошо.
Все — Ты, лишь — Ты, един — Ты.
Ты, Ты, Ты, Ты!
Север — Ты, запад — Ты!
Юго-восток — снова Ты!
В высях Ты. — Ты в низах!
Все — Ты, лишь — Ты, един — Ты!
Ты, Ты, Ты, Ты!»
2-й старик. Святая песнь! Святая!
Сендер. А теперь поплясать! Что? Сендер выдает замуж единственную дочку и не поплясать? Какие мы были бы Тартаковские хасиды!
Старики и Сендер делают круг. Кладут друг другу руки на плечи. Закинув головы набок, закатив глаза, начинают медленно кружиться, напевая однообразный, печальный мистический напев. Входит Хаим, расстроенный, взволнованный.
Меер (подходит к Хаиму). Ну? Где же водка и закуска?
Хаим (шепотом). Какая тебе водка и закуска! Там не до того! Дочь Сендера лежит в обмороке, и не могут ее привести в чувства… Мне велели сказать Сендеру, чтобы он шел домой.
Меер. Ну, ну! Нечего тебе к нему лезть! Он этого не любит. Еще пару пощечин получишь! Сам скоро пойдет домой.
Сендер (выйдя из круга). Ну, а теперь веселую! Эй! Юноши! Где вы? Куда запропастились?
Подходят ешиботники, Хаим.
3-й старик. Где еще? Где Энех? Где Хонон? Тащите и их!
Сендер (смущенно). А! Хонон! Ведь мой Хононке здесь! Где он? Где он? Разыщите его! Достанется ему от меня!..
Меер (увидев издали Хонона). Он спит на полу.
Сендер. Разбудите его, разбойника! Разбудите!
Несколько человек подходят к Хонону.
Меер (испуганно). Он не просыпается!
Все подходят, суетятся вокруг него.
1-й старик (вскакивает). Он умер!
33 Прохожий старик (подымая с полу книжку, в ужасе). У него в руке была Книга Ангела Розиеля! Он — сражен… сражен!!.
Занавес.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Площадь в Бринице. Слева — высокая деревянная синагога, старая, почерневшая, с целой системой крыш, одна над другою, с дверьми в виде ворот в некотором углублении. Перед нею, у правого ее края, небольшой огороженный холмик со стоящей надгробной плитой с надписью по-древнееврейски. За синагогой переулок, дальше ряд домиков, переходящих в декорацию.
Справа — большой деревянный старинной архитектуры дом реб Сендера. За ним — широкие ворота во двор, переулок, брама, ряд лавок под каменным сводом, тоже переходящих в декорацию. Далее, на декорации, корчма с высоким помелом, за нею парк и большой дворец помещика.
Широкая дорога, спускающаяся к реке. На противоположном обрывистом берегу, en face, еврейское кладбище с множеством стоящих каменных плит разной величины. С левой стороны на декорации через реку перекинута широкая гать. Стоит ветряная мельница. За нею, ближе к сцене — баня с колодцем и журавлем. На фоне — густой сосновый лес.
Ворота у дома Сендера широко раскрыты. Во дворе расставлены длинные столы, уходящие вглубь двора и выдвигающиеся из ворот на площадь. Столы накрыты, и за ними на длинных скамьях тесно сидят нищие, калеки, старики, старухи, дети и жадно едят. Из дома слуги на больших подносах, которые держат высоко над головой, разносят хлеба и яства. Перед домом, у крыльца, ближе к рампе — стол, уставленный бутылками с винами, различным печеньем. За столом сервировщик Алтер, без сюртука, с засученными рукавами, расставляет на подносах вина и печенья. Дальше сидят на земле кухарка и помощница. Первая скубит индюка, вторая толчет что-то в ступке.
На площади перед синагогой стоит приезжий гость, пожилой еврей в длинном атласном сюртуке, опоясанный черным атласным поясом, в меховой шапке, белых чулках и туфлях. Рядом с ним 1-й и 2-й старики, синагогальные завсегдатаи.
Гость (заложив руки за пояс, оглядывает синагогу). Хорошая у вас синагога, большая, красивая. Дух Божий почиет на ней. Видно, очень старая.
1-й старик. Очень старая. Старики говорят, что их деды не помнили, когда ее строили.
Гость (заметив могилу). А это что? (Подходит, читает надпись.) «Здесь похоронены святые, невинно убиенные, жених и невеста, смертью своей прославившие Господа».
1-й старик. Это давняя могилка. Когда Хамелюк, храни нас Господь, напал на местечко и вырезал многих евреев, он убил жениха и невесту, которых как раз в это время вели к венцу. Обоих и похоронили, как святых, на этом же месте, где венчали, в одной могиле. Мы называем ее «святой могилкой».
2-й старик (полутаинственно). И теперь, когда раввин венчает молодых, он иногда слышит из могилки стоны. И у нас с давних пор установился обычай, что после венчания все пляшут вокруг могилки, увеселяют похороненных тут жениха и невесту.
Гость. Хороший обычай.
Со двора Сендера выходит Меер и подходит к беседующим.
Меер (возбужденно). Ну и пир! Ну и пир! Во всю свою жизнь я такого пира для бедных не видал.
Гость. Неудивительно! Сендер выдает единственную дочь. (Медленно отходит. Останавливается то у одного, то у другого дома, осматривая их.)
34 Меер. По целому куску рыбы на человека, по тарелке жаркого. Затем еще сладкое. А перед обедом давали каждому мужчине по рюмке водки и всем по куску пряника.
1-й старик. Сендер знает, что делает. Если званому гостю не угодить — беда не велика. Самое большее, что обидится и будет дуться. А если нищий останется недовольным — можно большую беду нажить.
2-й старик. В том-то и дело, что с нищим не знаешь, с кем имеешь дело. Обыкновенного еврея сразу узнаешь, кто он: раввин, арендатор, купец. А у нищего иди-ка отгадай, кто там скрывается под лохмотьями. Может быть, обыкновенный нищий, а может быть, кто-нибудь из великих, какой-нибудь цадик, раньше чем он открылся миру, праведник, справляющий «изгнание» или же один из тех тридцати шести «сокрытых праведников», без которых рухнул бы мир.
1-й старик. А то и сам Илья-пророк!
2-й старик. Сокрытые праведники [Ведь он] всегда являются [является] в облике нищих [нищего] или мужиков [лирника]. Бешт, блаженной памяти, встречался с ними [Ильей-пророком] почти всегда на свадьбах и находил их [его] в компании нищих. Рассказывают, однажды Бешт пришел на свадьбу, но был очень расстроен и кого-то искал среди гостей. Потом он закурил трубку и стал петь. И вот из компании нищих, прибывших на пир, вышел один в сермяге, с толстой палкой в руке, подошел к Бешту, хлопнул его по плечу, рассмеялся и говорит по-хохлацки: «Гарно спиваешь, за те и поспиваешь». И исчез. Никто ничего не понял. И только через много лет Бешт открыл своим ученикам, что это был сам святой Ари, блаженной памяти [Илья-пророк] и пришел известить Бешта, что своим пением он успел отстранить грозное бедствие, которое должно было обрушиться на евреев…
1-й старик (вздыхает). Что и говорить. Ведь и в Талмуде сказано: «Относись осторожно к нищим».
Со двора выходят нищие, по одиночке, по нескольку человек, сходятся в небольшие группы. 1-й, 2-й старики и Меер отходят к столу, за которым стоит Алтер, обмениваются с Алтером шепотом несколькими словами. Он наливает им по рюмке. Пьют, закусывают пряником.
Хромая старуха. Говорили, что дадут по тарелке супу — и не дали.
Горбун. Булки давали по небольшому ломтику.
Нищий на костылях. Такой богач. Не хвор был бы дать и по целой булке на человека.
Высокая, бледная нищая. Могли бы дать и по куску курицы. (Указывает на сидящую на земле Кухарку.) Ничего, для богатых гостей готовят и кур, и индюков, и гусей.
Гость (подходит к столу, с любопытством оглядывает его). Зачем это ты так рано расставляешь угощенья?
Алтер. Это не для гостей. Эти подносы реб Сендер отнесет во двор, поздравительное нашему пану.
Гость. А-а, во двор пану…
Алтер. Тончайшие вина, самые дорогие яства.
Меер. Посылали за этим нарочного, за пятьдесят миль в город.
35 Гость. Видно, вы сильно боитесь вашего пана. Что он? Очень грозный?
Алтер. Как все паны. Может одним словом осчастливить человека и может в яме сгноить.
Кухарка (многозначительно). Может и нечто худшее сделать…
Гость (насторожившись). А что?
Кухарка. Ничего… Не обо всем следует говорить…
Меер. Вы, вероятно, слыхали о деде нашего пана, о старом графе?
Гость. Не припомню что-то. Ведь я издалека.
1-й старик (удивленно). Ничего не слыхали о старом графе? Ведь вся округа гремела им. Шутка ли, что он вытворял. И рассказывать страшно. Он по ночам превращался в черную кошку и душил еврейских младенцев накануне обрезания. И ничем нельзя было спасти от него, пока сам Бешт не выступил и не поборол его.
Меер (2-му старику). Раби Михоэль, ведь вы знаете эту историю. Расскажите. Пусть чужой еврей тоже услышит.
2-й старик (вздыхает, садится).
Садятся и другие, кроме Меера.
Однажды святой Бешт, блаженной памяти, велел своему вознице Алексе запрягать лошадь. Алекса запряг, и Бешт с учениками поехал. Как Бешт обыкновенно ездил — вы, конечно, знаете. Он сидит в кибитке и беседует с учениками, Алекса сидит на козлах спиною к лошади и спит. Лошадка сама едет, знает куда, идет тихо, еле переставляет ноги, а проезжают в полчаса тысячу миль, две тысячи миль. И это потому, что под лошадью земля скачет в обратную сторону. Едут они — вдруг лошадка останавливается возле корчмы. Остановилась — значит, так надо. Вышел Бешт с учениками из кибитки, заходят в корчму — видят: корчма убрана по-праздничному, зажжено множество свечей, а сам хозяин сидит в углу сильно удрученный и даже голову не поднял, когда они вошли. Бешт подошел к нему и спрашивает, чем он так удручен. Корчмарь сперва не хотел с ним разговаривать, но когда Бешт к нему пристал — он рассказал о своем горе. «Семь раз жена моя рожала детей, мальчиков, — рассказал он. — Рождались они совершенно здоровыми — а в полночь, накануне обрезания, все умирали. Теперь жена родила восьмого мальчика, завтра должно быть обрезание — и я знаю, что ночью этот ребенок тоже умрет». Бешт выслушал его и говорит: «Твой ребенок будет жив. Ложись спокойно спать». Корчмарь послушался. Бешт поставил возле колыбели двух своих учеников, велел им бодрствовать и дал им пустой мешок. «Этот мешок, — сказал он, — держите наготове раскрытым у самой колыбели. И если появится какое-нибудь существо и бросится к колыбели, захватите его в мешок, завяжите крепко-накрепко и позовите меня». А сам ушел в другую комнату и углубился в божественных мыслях. Ученики сделали все, как Бешт велел. Когда настала полночь, стали тухнуть свечи и в комнату вбежала огромная кошка и бросилась к колыбели. Ученики захватили ее в мешок, завязали и позвали Бешта. Он велел беспощадно бить палками по мешку и затем выбросить избитую кошку на улицу. Так и сделали. Утром ребенок оказался живым и здоровым. Уст-Роили обрезание, пировали и веселились. После пира корчмарь, по обычаю, отнес пану поздравительное угощение.
36 Меер. Этот пан и был старый граф, дед нашего пана. Понимаете?
2-й старик (продолжает). Когда корчмарь принес на двор угощение, слуги сказали ему, что пан болен. Но пан услыхал, что пришел корчмарь, и велел его позвать к себе. Корчмарь нашел пана в постели всего покрытого пластырями. Пан спросил его: «Какой это еврей приехал к тебе вчера ночью?» Корчмарь говорит: «Я не знаю, кто он, но видно, божественный человек. Он спас моего ребенка от смерти». И рассказал пану все, что случилось. Пан и говорит: «Скажи этому еврею, чтобы он пришел ко мне». Корчмарь вернулся домой опечаленный, так как боялся, чтобы пан не причинил Бешту какое-нибудь зло. Бешт рассмеялся и говорит: «Не бойся» — и пошел к пану. Как только он пришел, пан ему говорит: «Это не штука, что ты неожиданно захватил меня и избил. А вот если хочешь сразиться со мною, выйдем оба в чистое поле на бой — тогда увидишь, кто из нас сильнее». Бешт ему отвечает: «Я не думал бороться с тобою, а только хотел спасти ребенка. Но если ты меня вызываешь на бой, я не отказываюсь. Я соберу моих учеников, ты собери своих, и через месяц сойдемся на открытом месте». Ровно через месяц оба они сошлись на поле, как условились. Бешт сделал вокруг себя два круга и один вокруг учеников и велел ученикам пристально глядеть ему в лицо, и если заметят, что он изменился в лице, чтобы они усилили проникновение божественными мыслями. Пан тоже сделал вокруг себя и своих учеников круги и начал посылать из своего круга страшных зверей, которые с диким ревом кидались на Бешта. Но как только добегали до первого круга, они исчезали. Так продолжалось целый день. Наконец пан выгнал против Бешта диких кабанов, которые выбрасывали из ноздрей огонь. Кабаны бросились со страшной яростью и прорвали первый круг. Бешт изменился в лице. Ученики, увидев это, усилили божественное проникновение — и кабаны у второго круга исчезли. Три раза посылал пан кабанов, и все они исчезали. Тогда он вышел из круга и говорит Бешту: «У меня уж больше нет сил бороться с тобою. Ты победил и можешь меня убить». Бешт ему ответил: «Если бы я хотел тебя убивать, я бы мог давно это сделать. Я только хотел показать тебе величие нашего Бога. Взгляни на небо». Пан поднял глаза к небу. Прилетели два ворона и выклевали ему глаза. Пан ослеп и не мог больше творить зла, так как вся колдовская сила была у него в глазах. Так да погибнут все враги Твои, Господи.
Пауза. Все поражены рассказом.
Кухарка. Старики еще помнят, как этот старый граф ходил слепой по местечку и два гайдука водили его.
Гость. Ну, а вот теперешний пан. Разве он тоже замечен в этих делах?
Кухарка. В прошлом году умирали дети как мухи… Перед Пасхой в одну неделю умерли три роженицы… Летом утонула средь бела дня девушка-невеста. Неспроста же это…
Алтер. И подозревают… и дрожат…
Выходит Сендер, одетый по-праздничному, в сопровождении нескольких слуг.
Сендер (Алтеру). Все приготовлено, как я велел?
Алтер. Все, все, реб Сендер, все. Можете положиться на меня. (Подает слугам подносы.) Смотрите, несите осторожно.
37 Сендер в сопровождении слуге подносами направляется к площади и сворачивает в переулок направо. Все расступаются, провожают процессию глазами, шепчут друг другу: «Реб Сендер понес во двор поздравительные». Алтер убирает, уносит в дом стол вместе с остатками вина и печений. Одна за другой уходят и кухарки. 1-й и 2-й старики и Меер возвращаются в синагогу. Гость, постояв на крыльце, заходит в дом. Во дворе позади столов показывается Лия в подвенечном платье, кружась поочередно с нищими. К ней тянутся со всех сторон другие. Нищие поодиночке встают из-за стола, выходят на площадь.
Безрукая нищая. Я плясала с невестою!
Хромая старуха. Я тоже! Обняла ее и кружила, хе-хе!!!
Горбун. Почему это невеста пляшет только с женщинами? Я бы тоже хотел обнять и поплясать, хе-хе!
Нищие. Хе-хе-хе!
На крыльцо выходят Фрада, Гитель и Бася.
Фрада. Горе мне! Лееле все еще пляшет с нищими. У нее головка закружится. Девочки, уведите ее скорее! (Садится на завалинку у крыльца.)
Гитель и Бася подходят к Лии, останавливают ее.
Гитель. Довольно, Лееле, танцевать! Пойдем!
Лия (глядит на нее бессознательно. Закрывает глаза). Еще… еще…
Бася. У тебя головка закружится.
Бася и Гитель берут Лию за руки, хотят увести.
Нищие (обступают Лию, удерживают ее, кричат жалобно, плаксиво).
— Она еще со мною не плясала!
— Чем я хуже других?
— Я жду целый час!
— Пустите меня! Теперь моя очередь!!
— С хромой Яхной она долго кружилась, а со мною не хочет? Я во всем не счастнее других!
— Пусть она со мною хоть разок покружится! Хоть один разок!
Маршалок (выходит, становится на скамейку. Громко, нараспев).
Все под навес отправляйтесь скорей:
Там каждый получит по десять грошей… (Уходит.)
Нищие гурьбой, толкая друг друга, кидаются во двор, выкрикивая возбужденно: «По десять грошей… По десять грошей». На опустевшей сцене остаются Лия, Гитель, Бася и Полуслепая старуха.
Старуха (цепляясь за Лию). Хоть разок покружись со мною. Мне не надо грошей. Сорок лет уже как я не плясала… Ой, как я плясала в молодости, как плясала!
Лия обнимает ее, кружится. Старуха, вцепившись в нее, повторяет: «Еще… еще…» Кружатся. Старуха, задыхаясь, кричит: «Еще… еще…» Бася и Гитель насильно останавливают Старуху. Бася отводит ее во двор, возвращается. Гитель подводит Лию к скамье, сажает ее. Слуги убирают столы, закрывают ворота.
Фрада. На тебе лица нет, Лееле! Ты устала?
38 Лия (закрыв глаза, подняв голову, полусознательно). Они крепко обнимали меня, прижимались ко мне, впивались в меня холодными пальцами… Голова кружилась, замирало сердце, земля уплывала из-под ног. И какая-то неземная сила подхватила меня и унесла с собою далеко, далеко…
Бася. Они измяли и испачкали твое платье! Что ты теперь будешь делать?
Лия (продолжает, как раньше). Когда невесту оставляют одну в день венца, ее подхватывают духи и уносят, и она сама превращается в дух… Зачем вы меня вернули?..
Фрада (испуганно). Какие страшные слова ты произносишь, Лееле. Про духов даже упоминать нельзя. Они лукавые. Они сидят, притаившись во всех уголках, во всех щелочках, все высматривают, ко всему прислушиваются и только ждут, когда про них упомянут, чтобы наброситься на человека. Тьфу! тьфу! тьфу!
Лия (открывает глаза). Я их знаю и не боюсь их. Они не страшные…
Фрада. И хвалить их нельзя. Когда злого духа хвалят, он становится дерзким.
Лия (особенно убедительно). Бабушка, ведь нас окружают не злые духи, а души людей, которые жили на земле раньше нас и вместе с нами и умерли. Это они присматриваются ко всему, что мы делаем, прислушиваются ко всему, что мы говорим. Они живут с нами.
Фрада. Что ты, что ты, Лееле! Души умерших взлетают на небо, покоятся в светлом раю. А грешные души…
Лия (перебивает ее). Нет, бабушка, нет! Они живут с нами… (Иным тоном.) Бабушка! Ведь человек рождается для целой большой жизни! А если он умирает раньше времени — куда же девается его недожитая жизнь, его радости и горести, мысли, которые он должен был думать, дела, которые он должен был сотворить, дети, которых он должен был родить! Куда? Куда?.. (Иным тоном.) Жил юноша с высокою душой, с глубокими мыслями. И была перед ним целая жизнь. И вдруг, в один миг, она оборвалась. И пришли чужие люди и отнесли его на кладбище, и похоронили в чужой земле. А куда же делась его недожитая жизнь? его недосказанные слова? его недопетые молитвы? Бабушка, ведь если свеча гаснет раньше, чем догорает, она не исчезает. И ее можно вновь засветить, и она будет гореть, пока не догорит до конца. Как же может исчезнуть потухшая раньше времени человеческая жизнь? Как она может исчезнуть?
Фрада (качает головой). Нельзя, Лееле, думать о таких вещах. Господь знает, что делает. А мы — слепые и ничего не знаем.
Лия (тихо). Я знаю, бабушка. Жизнь человеческая не исчезает. Души покойников возвращаются на землю и бесплотными духами доживают свою жизнь, довершают свои дела, переживают свои неиспытанные радости, допевают свои молитвы. Вы сами рассказали, как по ночам покойники собираются в синагогу на молитву. Мать моя умерла молодою и не испытала всех материнских радостей. Сегодня пойду к ней на кладбище и приглашу ее к себе на свадьбу. И она придет. И вместе с отцом поведет меня под венец и потом будет плясать со мною… И все другие души тоже живут с нами, радуются и печалятся. Но мы их не видим, не понимаем. (Шепотом.) Бабушка! Если сильно захотеть, можно их видеть, и слышать их голоса, и жить с ними, как с живыми. Я знаю… (Пауза. Указывает на могилку.) Вот святая могилка! (Встает и медленно идет к могилке.)
Фрада, Гитель и Бася следуют за нею.
39 Я знаю эту могилку с раннего детства, знаю покоящихся в ней жениха и невесту, видела их много раз во сне и наяву — и они мне близки, как родные. Шли они — молодые и радостные — к венцу, и была перед ними долгая жизнь. И вдруг — крики, смятение, налетели жестокие и кровожадные люди. Блеснул топор — и жених с невестой пали мертвыми. И их похоронили в одной могилке. И они стали неразлучными навеки, и души их сплелись вместе, видят и слышат друг друга. И при каждой свадьбе, когда пляшут вокруг их могилки, они выходят и берут у новобрачных частицу их радости и веселья, и справляют собственную свадьбу. (К могилке.) Вечные жених и невеста! прошу вас явиться ко мне на свадьбу! Приходите и станьте рядом со мною под венцом.
Туш музыки. Лия вскрикивает и чуть не падает. Гитель и Бася поддерживают ее.
Гитель. Чего ты испугалась? Это приехал жених — его встречают у околицы с музыкой.
Бася (возбужденно). Я побегу посмотрю на него!
Гитель. Я тоже. Потом прибежим и скажем тебе, какой он. Хорошо?
Лия (тихо). Не надо…
Бася. Она стыдится. Не стыдись, глупенькая! Мы никому не расскажем!
Бася и Гитель поспешно уходят. Лия и Фрада возвращаются на прежнее место.
Фрада. Невеста всегда просит подружек, чтобы они поглядели и сказали ей, какой из себя жених, беленький или черненький.
Подходит Сендер.
Сендер. Что это ты сидишь здесь, дочь моя?
Фрада. Она увеселяла нищих, плясала с ними, у нее головка закружилась. Она и отдыхает.
Сендер. А-а, нищих увеселяла. Это хорошо… А я был у графа во дворе. Он остался доволен угощением и обещал прислать тебе дорогой подарок. (Глядит на небо.) Уже не рано. Сваты и жених приехали. Вы готовы?
Фрада. Мы должны еще пойти на кладбище…
Сендер. Иди, иди, дочь моя, в гости к матери. Пригласи ее на свадьбу, поплачь над ее могилкой… и скажи ей, что я тоже прошу ее прийти, что я непременно хочу вместе с ней вести к венцу нашу единственную дочь. (С волнением.) Скажи ей, что я исполнил все, о чем она меня просила на смертном одре. Все мои заботы я посвятил тебе, воспитывал тебя в страхе Божием и теперь выдаю замуж за достойного, ученого юношу из лучшей семьи… (Всхлипывает. Вытирает слезы и с поникшей головой уходит в дом.)
Пауза.
Лия. Бабушка, ведь можно и кроме матери кого-нибудь из покойников пригласить на свадьбу?
Фрада. Только самых близких родственников. Пригласишь дедушку Эфраима, тетку Миреле…
Лия (тише). Хочу пригласить одного… не родственника.
Фрада. Нельзя, дочь моя! Если пригласишь чужого, все другие покойники обидятся, что их не пригласили, и будут причинять зло…
40 Лия. Но это не чужой… Он был у нас в доме, как родной.
Фрада (шепотом). Кто?
Лия (чуть слышно). Хонон…
Фрада (испуганно). Ой, боюсь, дочь моя! Говорят, что он умер нехорошей смертью.
Лия опускает голову и беззвучно плачет.
Ну не плачь! не плачь! Пригласи и его! На себя возьму грех! (Спохватившись.) Но ведь я не знаю, где его могила. А спрашивать непристойно!
Лия. Я знаю…
Фрада. Откуда знаешь?
Лия. Я ее видела во сне! (Закрыв глаза, как бы про себя.) И его самого видела… И он говорил со мною, и рассказывал, что с ним происходит на том свете, и просил, чтобы я позвала его к себе на свадьбу.
Прибегают Гитель и Бася.
Гитель и Бася (вместе). Мы его видели! Мы его видели!
Лия (отшатнувшись, вскрикивает). Кого? Кого вы видели?
Гитель. Жениха! Он черненький-черненький!
Бася. Нет, беленький! Нет, беленький!
Пауза.
Лия (встает). Бабушка, пойдемте на кладбище.
Фрада. Постой, Лееле! Раньше ты еще должна отнести своей повитухе, бабке Хане, рубаху, которую ты для нее сшила.
Бася. И она будет в ней плясать по базару, и петь, и угощать лавочников.
Фрада. Да! Это стародавний обычай и его надо исполнять. (К Гитель и Басе.) Пойдите, девочки, в дом и принесите рубаху и угощение на подносах.
Гитель и Бася уходят в дом и выносят на двух подносах рубаху и угощение, мед и пряники. Передают поднос с рубахой Лие. Она идет вперед, за нею Гитель с другим подносом. Направляется к крайнему домику с левой стороны сцены. Сбегаются дети, подростки.
Дети (весело, подпрыгивая). Несут рубаху бабке Хане! Несут рубаху бабке Хане! (Бегут за процессией.)
Лия и другие подходят к дому Ханы.
Лия (стучит в дверь). Баба Хана, откройте! Внучка пришла, подарок принесла!
Выходит старая бабка Хана.
Бабка Хана. Внученька пришла! Бабку старую вспомнила!
Лия (подает ей поднос с рубахой). Бабушка! Рубаху эту я сама для вас шила и прошивала! (Подает ей другой поднос.) Печенье это я сама для вас пекла и выпекала! Как вы принимали меня, когда я родилась, так примите от меня подарок в день моей свадьбы. Живите до сто двадцати лет!
Бабка Хана. Немного уж осталось до сто двадцати лет, хе-хе! (Принимает второй поднос.) Внучка моя золотая! Как ты одарила меня рубахой, так да одарит тебя Господь двенадцатью сыновьями, которые день и ночь сидели бы над Торой и прославили бы твое имя во всем мире! (Целует ее. Кладет ей руки на голову.) Да благословит тебя Господь Авраама, Исаака и Иакова! (Берет рубаху, рассматривает 41 ее.) Ай, ай, ай, какая хорошая рубаха! Я оставлю ее себе на саван! Ну, пойду наряжаться! (Уходит в дом.)
Лия, накинув на плечи черный платок, уходит вместе с Фрадой в боковой переулок.
Гитель (Басе). Лия и Фрада ушли на кладбище.
Выходит Хана в рубахе, опоясанная белым шнурком.
Бабка Хана (берет в руки поднос и, подплясывая, направляется через базар к лавкам. Поет).
Наплодила бабка Хана
Множество внучат.
Все в день свадьбы ей рубаху
Белую дарят.
Нарядилась бабка Хана
В белый свой убор
И выходит, как графиня,
На широкий двор.
Выплывает бабка Хана
Да на стар базар,
Выбегают ей навстречу
Все — и млад, и стар.
Внучку Лию бабка Хана
Замуж выдает,
И подносит всем соседям
Пряники и мед.
Угощает лавочников.
Угощенье бабки Ханы
Сладко и пьяно,
Кто к губам подносит рюмку,
Тот кричит: еще.
Голоса. Еще! Еще!
Лавочники и лавочницы обступают ее, пьют мед, закусывают пряниками и кладут на поднос монеты.
Бабка Хана (передает поднос). А теперь пойду увеселять святых покойников, жениха и невесту. Зовите музыкантов.
Все притихают. Среди общей тишины бабка Хана, подплясывая, направляется к могилке. Толпа обступает ее большим полукругом. Выходит музыкант и под сурдинку играет заунывную тихую мелодию. Под эту мелодию бабка Хана медленно пляшет вокруг могилки, обходя ее три раза. Толпа молча расходится. Бабка Хана возвращается к себе. Темнеет. Лавочник и запирают лавки. В синагоге и доме Сендера зажигаются огни. Выходят Сендер, Гость, Гитель и Бася, тревожно оглядываются.
Сендер (беспокойно). Где Лия? Где Лия? Почему она так поздно не возвращается с кладбища?
42 Гость. Не случилось ли чего с нею?
Гитель и Бася. Мы пойдем ей навстречу. (Идут.)
Из переулка поспешно выходят закутанные в черных платках Фрада и Лия.
Фрада. Скорее, доченька, скорее! Мы страшно запоздали. Ох, зачем я тебя слушалась! Я вся дрожу. Не случилось бы чего дурного, Боже упаси!
Сендер. Вот и она! (Подходит.) Отчего вы так запоздали?
Выходят несколько женщин.
Женщины. Ну, вот и невеста! Ведите ее освящать свечи. (Уводят Лию.)
Фрада (Гитель и Басе). Она упала в обморок. Еле привели ее в чувства. Я вся дрожу.
Бася. Она весь день ничего не ела.
Гитель. Вероятно, сильно плакала над могилой матери?
Фрада. Ой, лучше не спрашивай меня. (Уходит в дом.)
Выносят полукадку, в которой месят хлеб, ставят ее опрокинутою у крыльца, кладут подушку и покрывают простыней. Выводят Лию и сажают. Играет музыка. Из дома возле синагоги выходит группа празднично одетых евреев и евреек, среди них худенький юноша в длинном сюртуке и в меховой шапке. Идет робко, с опущенными глазами, держа перед собою покрывало. Подходит, накидывает Лие покрывало через голову на лицо. Отходит к своей группе, которая вместе с ним заходит в дом Сендера. Выступает Маршалок.
Маршалок (громко, плачущим напевом).
Невеста, невеста, невеста краса.
Сегодня день твоего великого суда.
Пред Богом на небе предстанут все твои дела,
И тайные и явные, и мысли и слова
От часа рождения до нынешнего дня…
И на всю твою жизнь, на долгие года
Решится сегодня твоя судьба-а-а!
Музыка.
И в этот час не должна ты, невеста, забывать,
Что Бог судил сиротством тебя наказать.
Что в сырой земле лежит твоя бедная мать,
Не может она из холодной могилочки встать,
Чтобы вместе с отцом тебя под руки взять
И, благословляя, к венцу провожать.
Музыка, женщины плачут.
Поэтому должна ты, невеста, плакать и рыдать
И строгим постом и молитвой себя очищать.
Чтобы перед судом Всемогущего Бога предстать
Невинной и чистою, как родила тебя мать.
И за это Всевышний тебе не откажет послать
Свою безграничную милость и свою благо-да-ать.
Музыка.
43 Голоса. Ведите невесту к венцу!!!
Возле синагоги ставят балдахин на четырех шестах, которые подростки придерживают. Из дома выходят Сендер и старуха-тетка и берут Лию под руку. Выходят сваты с женихом, родные, гости со свечами в руках. Образуется кортеж. Впереди выступают музыканты. Перед ними пляшут лицом к кортежу мужчина в вывернутом кожухе и женщина с большим плетеным калачом в руках. За музыкантами важно выступают раввин и кантор. За ними Меер несет на подносе графин вина и стакан. Дальше отец и мать ведут жениха. За ними Сендер и тетка ведут Лию, за ними Фрада, Гитель и Бася, далее идут по два, по три человека родные, гости. Направляются к синагоге полукругом через всю сцену. Выходит навстречу водонос с полными ведрами. Все кидают в ведра монеты. Под балдахином подходит раввин с кантором и служкой. Подводят жениха и ставят в середине. Вводят Лию и семь раз обводят ее вокруг жениха. Меер передает жениху кольцо. Сендер берет руку Лии, подымает ее. Жених подымает руку с кольцом, чтобы надеть Лии на указательный палец.
Лия (вырывает руку, отталкивает жениха. Кричит истерически). Не ты мой жених!!! (Падает на землю.)
Сильное смятение. Все кидаются к Лии, подымают ее, суетятся вокруг нее.
Сендер (потрясенный). Дочь моя, дочь моя!!! Что с тобой?
Лия (снова вырывается. Подбегает к могилке, простирает руки). Вечные жених и невеста, защитите меня! (Вскакивает. Совершенно иным, мужским голосом кричит.) Вы меня похоронили! А я вернулся к моей суженой — и не уйду от нее. Отступитесь от меня!
Раввин подходит к ней. Она ему кричит: «Хамелюк…»
Гости (отшатываются от нее в ужасе). В нее воплотилась чужая душа.
Раввин. В нее вошел Дибук!
Общее смятение.
Занавес.
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
В доме раби Шлоймеле Тартаковера. Большая комната, служащая домашней молельней. Слева дверь с улицы, за нею во всю левую стену стол, покрытый скатертью. Лежит горка ломтиков белого хлеба. С обеих сторон стола — скамьи. У почетного места — кресло. Посреди передней стены небольшой кивот и амвон. С обеих сторон — окна. Правая часть комнаты имеет более характер жилого помещения. Диван, несколько стульев, стол. С правой стороны — дверь во внутренние комнаты. У длинного стола, с краю стоят Михоэль и старый хасид. Сумерки. Из внутренних комнат слабо доносится молитвенное пение.
Старый хасид (пожимает плечами). Такое несчастье! Такое несчастье! И с кем это должно случиться — с Сендером!
Михоэль. Не узнать его стало! Не тот человек совсем! Страшно смотреть на него!
Старый хасид. Шутка сказать! Единственная дочь! Но как это случилось, каким образом?
Михоэль. Кто знает! Перед самым венцом…
Старый хасид. Может быть, оставили ее одну?
44 Михоэль. Что вы говорите! Что они, маленькие дети, не знают, что опасно оставлять невесту перед венчанием одну? Все были при этом, и родители, и жених. Уже вели ее к венцу, как вдруг она падает, начинает кататься по земле и кричать не своим голосом: ругает сватов, жениха, раввина…
Старый хасид. А! Волос дыбом становится!
Михоэль. Тотчас же поняли, что в нее воплотилась душа покойника, то есть [вошел дух,] Дибук. Кричала мужским голосом. Стали спрашивать Дибука, кто он? — не сказал. Только кричит, что он — жених дочери Сендера. [Но его сейчас же узнали: ешиботник, незадолго перед тем умерший.] Можете себе представить, что там творилось! Сендер не стал долго размышлять, взял лошадей и привез ее прямо сюда, к раби Шлоймеле. Приехал вчера вечером к самому заходу субботы. Не хотел заезжать на постоялый, чтобы не было лишнего шума в местечке, и заехал ко мне. И вот, имел я такую субботу, что во веки не забуду ее. Целые сутки «он», не переставая, кричал из нее.
Старый хасид. Что же кричит «он», что?
Михоэль. Что «он» кричит? Кричит: «Сжальтесь! Не ведите меня к цадику! Я боюсь его! Я знаю, что он очень силен и будет принуждать меня выйти. Но я не послушаюсь, не выйду!» Все в таком роде. А когда «он» отпускал ее, она говорила своим голосом, клала голову на колени старой няне и плакала. Сердце надрывалось…
Старый хасид. Равви, конечно, не видел ее еще?
Михоэль. Когда же? Не станет же он нарушать субботний покой такими делами.
Входят хасиды по одиночку и группами. Разговаривают друг с другом шепотом. Открывается дверь из внутренних покоев комнат. Входит раби Шлоймеле, глубокий старик, в белом жупане, в высокой меховой шапке.
Ша-а!
Все сразу умолкают.
Раби Шлоймеле задумчив. Идет медленно к столу. Садится устало в кресло. Михоэль становится у его правой руки. Хасиды занимают места. Старики усаживаются на скамьях, молодые стоят за их спиной. Михоэль раздает присутствующим по ломтику булки. Раби Шлоймеле подымает голову, тяжело вздыхает и начинает тихими дрожащим напевом: «Сие есть пир царя Давидова!» Все повторяют. Полушепотом читают молитву. Пауза. Начинают петь, сперва тихо, затем все громче песню без слов, очень грустную и торжественно-мистическую. Пауза. Раби Шлоймеле, подперев голову руками, сидит углубившись в мыслях. Напряженная тишина.
Раби Шлоймеле (подымает голову и начинает говорить торжественно, медленно). Рассказывают о святом Бал-Шеме, да защитит он нас. (Коротенькая пауза.) Однажды приехали в его город, Меджибож, фокусники из тех, которые ломаются на улицах, проделывают разные штуки. И протянули они веревку через реку, и один из них собирался идти по веревке. И побежал весь город к реке. И пошел Бал-Шем тоже к реке и стоял вместе со всеми. И тоже глядел, как фокусник ходил по веревке. И дивился народ, что святой Бал-Шем шел смотреть такие вещи. И обратились к нему приближенные и спросили, что сие означает? И ответил он: «Я пошел смотреть, как человек умудряется ходить над пропастью. И глядел я и думал: если бы этот человек столько работал над своей душою, 45 сколько он работал над своим телом, через какие страшные пропасти она могла бы переходить по тонкой нити жизни».
Шепот одобрения.
1-й хасид. А! а! а! Как высоко!
2-й хасид. Божественные слова!
Снова поют песнь без слов. Пауза.
Раби Шлоймеле (как раньше). Существует великий святой мир. В этом мире самое священное место — Страна Израиля. В Стране Израиля всего святее Иерусалим. В Иерусалиме святейшим местом был Храм, в Храме всего святее была Святая Святых. (Короткая пауза.) Существует в году 355 дней4*. Среди них наиболее святы праздники, среди праздников наиболее святы Субботы, среди Суббот всего святее Суббота Суббот — Йом-Кипур. (Короткая пауза.) Существует 70 племен. Среди них самое святое племя — еврейское. В еврейском племени самое святое колено — Левитово. В Левитовом колене святее других потомки Аарона, койганы. Среди койганов самым святым был первосвященник. (Короткая пауза.) Существует 70 наречий, среди них самое святое — язык еврейский. В еврейском языке всего святее — Библия. В Библии самое святое место — Десять заповедей. В Десяти заповедях самое святое слово — Имя Господне. (Короткая пауза.) И раз в году, в установленный час сходились вместе все четыре высшие святыни вселенной. Это было, когда в день Йом-Кипура первосвященник входил в Святая Святых и произносил тогда полностью Имя Господне. И этот святейший час был самым грозным и самым опасным как для первосвященника, так и для всего еврейского народа. Поэтому, раньше чем первосвященник проникал в Святая Святых, народ заклинал его Именем Обитающего Храм подумать, не имеет ли он греховных мыслей. И он простирал руки. И плакал, что его заподозрили. И народ плакал, что заподозрил его. Ибо если б в тот миг, когда он входил в Святая Святых, у него появилась греховная мысль — мир рухнул бы. (Пауза.) Каждое место, с которого человек поднял только взор к небу, — Святая Святых. Каждый миг жизни — Йом-Кипур, день суда. Каждый еврей — первосвященник. Каждое слово, произнесенное в святости, — Имя Господне. Поэтому падение еврейской души влечет за собой разрушение мира. (Пауза. С дрожью в голосе.) Еврейские души. Сквозь тяжелые муки страдания, через различные перевоплощения тянутся они, как дитя к сосцам матери, к Престолу Всевышнего. И когда они подходят совсем близко, случается иногда, что темная сила одерживает верх — и они падают. И чем выше было их воспарение, тем глубже их падение. И когда такая душа падает в пропасть — плачут все миры, все десять Сефирот… (Пауза. Точно очнувшись.) Дети, сегодня мы сократим наши Проводы Королевы — Субботы.
Все встают из-за стола.
Михоэль. Раби просит всех уйти.
Все медленно расходятся. Раби Шлоймеле остается у стола, погруженный в мыслях.
46 Михоэль (нерешительно). Раби…
Раби Шлоймеле глядит на него молча и скорбно.
Приехал Сендер Бриницкий…
Раби Шлоймеле (точно повторяя за ним). Приехал Сендер Бриницкий… Знаю…
Михоэль. У него случилось большое несчастье… В его дочери воплотился Дибук.
Раби Шлоймеле. Воплотился Дибук… Знаю…
Михоэль. Он привез ее к вам…
Раби Шлоймеле. Ко мне… ко мне… Как он мог привести ее ко мне, когда нет этого «мне», когда нет моего «я».
Михоэль. Раби, к вам идет целый свет…
Раби Шлоймеле. Слепой свет… Слепые овцы устремляются к слепому пастырю. Если бы они не были слепы, — они обращались бы не ко мне, а к Тому, Кто может сказать о Себе — Я; к единому, великому Я мира…
Михоэль. Раби! Вы его посланец.
Раби Шлоймеле (вздыхает). Это говорят люди, а во мне нет уверенности… Уже сорок лет, как состою цадиком — и до сих пор не знаю, поистине ли я посланец Бога. Бывают времена, когда ощущаю в себе великую мощь, чувствую близость к Богу и сознаю свою власть в высших мирах. Тогда не сомневаюсь, не спрашиваю… Но бывают времена, когда чувствую себя слабым и беспомощным, как покинутый ребенок… И тогда мне хочется самому бежать к кому-нибудь, молить о помощи…
Михоэль. Я помню, раби…
Раби Шлоймеле (испуганно). Что ты помнишь?
Михоэль. Однажды, в глухую ночь, вы пришли ко мне в дом, разбудили меня и со слезами стали просить, чтобы я читал с вами Псалмы…
Раби Шлоймеле. Да… Это было давно… Теперь бывает хуже… (Жалобно.) Чего хотят от меня? Я стар и немощен… Тело просит покоя… душа жаждет уединения. А ко мне тянутся со всех сторон нужды и муки всего мира. Предо мною обнажаются страшные язвы; от меня требуют исцеления, помощи, заступничества… Каждая записка, которую мне подают, вонзается в тело, как острая игла. (Всхлипывает.) Не могу больше…
Михоэль (испуганно). Раби! Раби!
Раби Шлоймеле. Не могу больше, не могу!
Михоэль. Раби! Вы не должны забывать, что за вами стоит целый ряд великих предков…
Пауза.
Раби Шлоймеле (приходит в себя. Сосредоточенно). Предки… Отец раби Ицеле, блаженной памяти, три раза в день восходивший на небо; дядя, великий раби Меер-Бер, воскресавший мертвых… дедушка, святой раби Велвеле, ученик и друг Бал-Шема… (Подымает голову.) Знаешь, Михоэль, дедушка, раби Велвеле, изгонял Дибука без Святых Имен и заклинаний, одним властным окриком, одним окриком. (Твердо.) В трудную минуту я всегда обращаюсь к нему, и он мне помогает. Он и теперь поддержит мою десницу… Позови Сендера!
Михоэль выходит и возвращается с Сендером.
47 Сендер (делает шаг вперед, простирает руки, с плачем). Раби! Помогите! Спасите мою дочь!..
Раби Шлоймеле. Расскажи, как случилось несчастье.
Сендер. Случилось это, когда я вел дочь к венцу…
Раби Шлоймеле (перебивает его). Я спрашиваю не об этом. Я хочу знать, как это могло случиться.
Сендер. Не знаю, раби…
Раби Шлоймеле. Червяк может проникнуть в плод только тогда, когда плод начинает портиться…
Сендер. Раби! Моя дочь — благочестивая дщерь Израиля. Она всегда ходила с опущенными глазами и ни в чем не ослушалась родителей.
Раби Шлоймеле. Дети бывают иногда наказаны за грехи отцов.
Сендер. Если бы я знал за собой грех вольный, я бы в нем раскаялся.
Раби Шлоймеле. Спрашивали Дибука, кто он и почему вошел в твою дочь?
Сендер. Спрашивали. Не говорит… Но по голосу в нем узнали ешиботника, учившегося в нашем местечке, [большого каббалиста], умершего неожиданно в синагоге…
Раби Шлоймеле. Ты его знал?
Сендер. Да… Он некоторое время получал у меня стол…
Раби Шлоймеле (пытливо). Ты ничем не обидел его? не провинился пред ним?
Сендер. Не знаю… Не помню… (В отчаянии.) Раби, я не больше, как смертный!
Пауза.
Раби Шлоймеле (решительно). Введи сюда свою дочь.
Сендер выходит. Раби Шлоймеле остается глубоко сосредоточенным. В дверях появляются Сендер и Фрада, ведущие за руки Лию. Она упирается у порога, не хочет войти.
Сендер (умоляющим голосом). Доченька, доченька! Сжалься! Сжалься над отцом, войди!
Лия (плачущим тоном). Отец! Я хочу войти, но не могу! «Он» не дает мне войти.
Сендер. Доченька, сделай над собой усилие.
Лия (голосом Дибука. Кричит). Я не хочу войти! Я не хочу к равви! Не хочу, чтобы он меня изгонял!
Раби Шлоймеле (тихо и повелительно). Отроковица, повелеваю тебе войти в комнату.
Лия послушно, с опущенной головой входит.
Садись!
Она послушно садится на стул.
Сендер и Михоэль, держите ее.
Берут ее за руки. Фрада стоит сбоку и гладит ее по спине.
Лия (Дибук) (рванувшись с места). Пустите меня, не хочу!
Раби Шлоймеле. Дибук! Тень человека, ушедшего из мира живых! Скажи нам, кто ты.
48 Лия (Дибук). Не скажу. Тартаковский цадик, ты сам знаешь, кто я. А другим я не хочу открывать своего имени.
Раби Шлоймеле. Почему ты вошел в эту отроковицу?
Лия (Дибук). Я ее суженый.
Раби Шлоймеле. По закону нашей Святой Торы, мертвый не должен находиться среди живых. Поэтому ты должен оставить тело отроковицы и уйти из мира живых.
Лия (Дибук). Я не выйду!
Раби Шлоймеле (повышая голос). Я тебе вторично повелеваю!
Лия (Дибук) (кричит). Тартаковский цадик! Я знаю, как ты велик и могуществен. [Я знаю, что ты можешь повелевать ангелами.] Но со мною ты ничего не поделаешь. (С отчаянием.) Горе мне! Горе мне! Я проиграл оба мира! И некуда мне идти! Из мира живых меня гонят, и земля меня не принимает. И со всех сторон окружает меня тьма дьяволов, щелкают зубами, ждут пока выйду, чтобы растерзать меня! Не выйду! Не выйду!
Раби Шлоймеле. Михоэль, позови десять евреев.
Михоэль выходит и возвращается с десятью человеками.
Святая община еврейская! Даете ли вы мне разрешение действовать вашим именем и вашей властью?
Все десять человек. Мы даем вам разрешение действовать нашим именем и нашей властью.
Раби Шлоймеле. Именем святой еврейской общины, именем Великого Судилища в Иерусалиме, именем всех праведников и великанов духа в Израиле я, Шлойма бен Годес, предупреждаю тебя и повелеваю тебе, Дибук, покинуть тело [духу, выйти из тела] отроковицы Лии бас Ханы без вреда для нее и чтобы, уходя, ты не причинил вреда ни тем, которые здесь, ни тем, которых здесь нет. Если не послушаешься моего повеления, я выступлю против тебя с заклятиями, отлучениями и проклятиями, со всей мощью десницы моей. Если же послушаешься, я употреблю все силы, чтобы исправить и спасти твою душу молитвами и милостыней. Вся община возьмет на себя, чтобы в течение года каждый день, кроме суббот и праздников, кто-нибудь постил для твоего спасения. Я буду читать по тебе поминальную молитву, дабы ты имел покой от дьяволов…
Лия (Дибук). Я не верю вашим обещаниям! Нет такой силы, которая могла бы меня спасти от дьявола и дать мне покой. Мне не страшны никакие заклятия, проклятия, отлучения! Мне некуда идти! (С рыданием.) Для меня закрыты все пути и тропы, для меня замкнуты все миры. Я не могу подняться ввысь, и нет такого дна, которого я мог бы достигнуть, падая в пропасть. Существует небо, земля и преисподняя, существует бесконечное число миров. И во всех мирах, во всей вселенной нашлось только одно убежище, где моя истерзанная душа нашла свой покой. И вы хотите лишить меня и этого последнего убежища. Сжальтесь, не гоните, не заклинайте меня!
Раби Шлоймеле. Мы преисполнены жалости к тебе и обещаем спасти тебя от злых сил и найти тебе место покоя в царстве небесном [мире духов. Но я в последний раз повелеваю тебе оставить тело отроковицы].
49 Лия (Дибук) (с ожесточением). Не выйду! Не выйду! Не выйду!
Раби Шлоймеле. Михоэль! Позови от моего имени раввина и двух духовных судей. Вели приготовить семь черных свечей, семь трубных рогов, отбери семь Свитков Торы. Мы прибегнем к последнему, самому грозному средству.
Михоэль уходит.
Пока выведите отроковицу и выйдите все отсюда.
Сендер. Равви… Равви… (Громко плачет.) Равви… за что я так наказан!
Раби Шлоймеле. Мой сын, принимай испытания с любовью и спокойствием. Господь праведен во всех Своих путях, но Он полон жалости и милосердия.
Лия (как бы проснувшись). Отец! Я боюсь… Я вся охвачена страхом… Что хотят сделать с ним?
Сендер. Ничего, ничего, дочь моя! Не бойся! Равви знает, что делает. Идем! (Уводит ее.)
Все уходят. Раби Шлоймеле сидит в глубокой задумчивости. Входят раби Шамшон, двое духовных судей и Михоэль.
Раби Шлоймеле (подымается им навстречу). Благословенны грядущие!
Раби Шамшон, судьи. Добрая неделя, равви!
Раби Шлоймеле. Я обеспокоил вас, просил прийти ко мне. Надо спасти дщерь Израиля, освободить от Дибука [изгнать из нее духа], который не хочет выйти по доброй воле. Приходится прибегнуть к грозным мерам [изгнать его посредством проклятий и отлучения]. Я обращаюсь к вам, раби, как к духовному повелителю общины, чтобы вы дали мне разрешение выступить против Дибука [духа] с отлучением и заклятиями.
Раби Шамшон (вздохнув). Отлучение страшно для живого, тем более для мертвого. Но если нет другого средства и такой божественный муж, как вы, находит нужным прибегать к этому, я даю свое согласие. Но раньше я должен открыть вам тайну, которая имеет отношение к этому делу.
Раби Шлоймеле. Говорите, равви.
Раби Шамшон. Помните, равви, когда-то приезжал сюда к вам молодой человек Нисон Ривкес, очень набожный и ученый?
Раби Шлоймеле. Помню его хорошо. Он умер молодым.
Раби Шамшон. Да. И вот, в эту ночь он явился ко мне трижды и сказал, что Дибук, вошедший в дочь Сендера, — душа [дух] его сына, недавно умершего. И со слезами молил, чтобы я вызвал Сендера на суд с ним, так как он считает его виновником смерти сына.
Раби Шлоймеле. В чем обвиняет он Сендера?
Раби Шамшон. Он не говорит. Обещает на суде все рассказать… но еще раньше я что-то слышал, что Сендер, бывший его близким другом, чем-то обидел его, не выполнив какого-то обещания…
Раби Шлоймеле. Если еврей требует еврея на суд, раввин не имеет права отказать ему. Тем более — покойнику. Но какова бы ни была вина Сендера, это к Дибуку не имеет отношения. Он должен сейчас же покинуть тело отроковицы. А завтра, если Господь позволит, мы разрешим ваш сон, и вы вызовете Сендера и покойника на суд.
50 Раби Шамшон. Хотя я духовный властелин общины и мы втроем духовные судьи, но мы просим вас, раби, вместе с нами разобрать это трудное дело и быть у нас верховным судьей.
Раби Шлоймеле. Уступаю вашей просьбе… А теперь, Михоэль, вели ввести отроковицу.
Сендер и Фрада вводят Лию и сажают на прежнее место.
Тень человека! Именем духовного властелина общины и суда праведного, сидящего здесь, я, Шлойме бен Годес, в последний раз предупреждаю тебя и повелеваю покинуть тело отроковицы Лии бас Ханы. Если ты и на этот раз не окажешь нам должного повиновения, мы выступим против тебя с самыми грозными заклятиями. Я подыму против тебя высших и низших. И тогда тебя ждет вечная гибель…
Лия (Дибук). Я не выйду!
Раби Шлоймеле. Пусть входят десять человек в белых кителях.
Входят.
Выньте Свитки.
Вынимают.
Зажгите черные свечи.
Зажигают.
Берите трубные рога!
Берут рога.
(Громко, торжественно.) Тень человека, ушедшего из мира живых, заклинаю тебя, чтобы ты в сей же миг покинул тело отроковицы Лии бас Ханы! (Выжидание. Решительно.) Трубите Текио!
Трубят.
Лия (Дибук) (бьется в ужасе). Отпустите меня, не тащите меня! Не хочу выйти! Не могу!
Раби Шлоймеле. Трубите Шворим!
Трубят.
Лия (Дибук) (изнемогая). Не могу, не могу…
Раби Шлоймеле. Трубите Теруо!
Трубят.
Лия (Дибук) (слабо). Я изнемог… Горе мне. Я должен выйти. (С мольбой.) Раби, сжалься, дай мне сроку хоть до завтра, чтобы вы молитвами успели очистить для меня путь от дьяволов.
Раби Шлоймеле (подумав). Даем тебе двенадцать часов сроку. И если ты завтра, по истечении этого времени, не исполнишь обещания, мы извлечем тебя насильно Святыми Именами и трубными звуками.
Лия (Дибук). Горе мне! Горе мне!
Раби Шлоймеле. Спрячьте Свитки. Тушите свечи.
Тушат.
51 (Сендеру.) Сей же час пошли самых быстрых лошадей за сватами и женихом, чтобы они приехали сюда не позже, как через двенадцать часов.
Сендер. Они, может быть, не захотят ехать?..
Раби Шлоймеле. Пусть им скажут, что я велел!
Лия (очнувшись. Своим голосом). Не хочу… не хочу… не хочу…
Занавес.
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Та же обстановка, что в третьем действии, только на месте длинного стола слева небольшой четырехугольный стол. За ним в кресле сидит раби Шлоймеле в молитвенном облачении (талесе) и филактериях. По обеим сторонам цадика сидят судьи. Перед ними стоит раби Шамшон. У дверей стоит Михоэль. Заканчивают обряд «пояснения сна».
Раби Шамшон. Добрый сон я видел, добрый сон я видел, добрый сон я видел!
Раби Шлоймеле и оба судьи (вместе). Добрый сон ты видел, добрый сон ты видел, добрый сон ты видел!
Раби Шлоймеле. Раввин! Мы пояснили ваш сон к добру. Теперь сядьте с нами как судья.
Усаживаются все четверо в ряд, оба судьи по краям.
Михоэль, подай мне посох.
Михоэль подает.
Михоэль! Возьми мой посох и ступай на кладбище и пойди по кладбищу к востоку. И когда дойдешь до середины, закрой глаза и с закрытыми глазами иди дальше и шарь посохом впереди себя. И на том месте, где посох задержится — остановись. И подойди к могиле, которая будет всего ближе к тебе, и ударь по ней посохом три раза и скажи такими словами: «Покойник праведный! Шлойме, сын великого Тартаковского цадика, раби Ицеле, послал меня просить тебя, чтобы ты, ведомыми тебе путями и способами, известил покойника Нисона бен Ривке, что суд праведный вызывает его на суд с Сендером бен Гени». Повторишь это три раза. Потом повернись лицом к западу и иди обратно. И не оборачивайся, не оглядывайся назад, какие крики, призывы и голоса ты бы ни слышал за собою. Иначе ты будешь в большой опасности. И ни на один миг не выпускай из рук моего посоха. Остерегайся и остерегайся! Ступай, и Господь тебя спасет, ибо посланцы по святому делу охраняются от бед.
Михоэль хочет взять посох.
Подожди, я сперва должен сделать отделяющий круг для покойника. (Подымается, подходит к левому углу и делает посохом слева направо большой круг и при этом что-то шепчет. Дает Михоэлю посох.)
Михоэль уходит.
Теперь пусть сделают ограду для покойника. Только следует остерегаться не ступить в круг, который я сделал.
52 Приносят простыню и привешивают ее за два края к потолку так, что спускаясь до пола, она закрывает весь левый угол.
Раби Шлоймеле. Позовите Сендера.
Входит Сендер.
Ты послал подводу за сватами и женихом?
Сендер. Послал.
Раби Шлоймеле. Их еще нет?
Сендер. Нет, но, должно быть, скоро прибудут. Я послал самых быстрых лошадей.
Раби Шлоймеле. Пошли гонца им навстречу, чтобы торопились.
Сендер. Пошлю.
Раби Шлоймеле (иным тоном). Раби Сендер, служка судейский известил тебя, что покойник Нисон бен Ривке вызывает тебя на суд?
Сендер. Да…
Раби Шлоймеле. Ты принимаешь наш суд?
Сендер (дрожащим голосом). Принимаю.
Пауза.
Раби Шлоймеле (судьям). Скоро среди нас появится бесплотный [беспокойный] дух из мира праведного и мы должны будем рассудить его тяжбу с человеком из мира призрачного. Такой суд свидетельствует, что, хотя Тора на земле, ее законы обязательны и для небес, и для бесплотных [беспокойных] духов. (Пауза.) Такой суд грозен и страшен — ибо за ним следят во всех высших Чертогах, и при малейшем отклонении от закона сами судьи могут быть вызваны к Верховному Судилищу. Мы должны быть стойки и непреклонны, ибо… ибо… (Обрывает речь, оглядывается.)
Все оглядываются. Наступает жуткая тишина. Раби Шлоймеле устремляет взор на полог. Все за ним.
1-й судья (тихим шепотом, со страхом). Кажется, он здесь…
2-й судья (тоже). Он, кажется, здесь…
Раби Шамшон. Он здесь…
Жуткая пауза.
Раби Шлоймеле. Покойник Нисон бен Ривке! Суд праведный повелевает тебе не выступать из круга, который для тебя обведен. (Пауза.) Покойник Нисон бен Ривке, суд праведный спрашивает тебя, что ты имеешь против Сендера бен Гени?
Слышны шепот, неясные слова. Все трепетно прислушиваются. Жуткая тишина.
1-й судья (шепотом). Он отвечает…
2-й судья (тоже). Он отвечает.
Раби Шамшон. Сендер бен Гени. Покойник Нисон бен Ривке рассказывает, что в молодости ты с ним учился в одном ешиботе и вы жили душа в душу. Когда вы оба женились, вы встретились на праздниках у старого Тартаковского цадика раби Ицеле и, чтобы сильнее закрепить свою дружбу [душу], дали друг другу 53 руку с клятвенным обещанием, что если у одного из вас родится сын, а у другого дочь — вы их будете считать женихом и невестой и потом ожените…
Сендер (дрожащим голосом). Это… было… Мы поклялись.
Раби Шамшон. Сендер бен Гени. Покойник Нисон бен Ривке говорит, что вскоре после этого его жена родила сына, а через год сам он умер. (Короткая пауза.) В мире праведном он узнал, что сын его наделен высокой душой и быстро подымается по ступеням совершенства. И радовалась, и веселилась душа его, и видел он, что, когда настало время жениться, сын его, сам не зная того, стал искать свою суженую. И ходил он из города в город, пока пришел в тот город, где жил Сендер. И вошел он в дом Сендера и сел у стола его. И устремилась душа юноши к нареченой его. Но Сендер был богат, а сын Нисона был нищ. И Сендер презрел его. И стал искать для дочери женихов с богатым приданым. И в душе сына Нисона зародилось отчаяние, и он стал искать новые пути. И душа Нисона печалилась и трепетала. И князь тьмы, увидав душевное смятение юноши, распростер перед ним силки и сети и изловил его. И сын Нисона ушел из мира живых раньше времени. И умер он страшной смертью, с хулою против Бога на устах. И душа его блуждала без пристанища, как отверженная, пока не превратилась в Дибука. (Пауза.) Нисон бен Ривке говорит, что он остался отрубленным от обоих миров, без потомства, без поминальщика. Свет его погас до скончания миров. И единственным виновником своего позора и вечной гибели своего рода он считает Сендера. И он молит суд праведный, чтобы Сендера судили по законам святой Торы за кровь его потомства до последнего поколения, которую Сендер пролил.
Слышны рыдания. Пауза.
Раби Шлоймеле (Сендеру). Что ты можешь ответить?
Сендер (тоном кающегося). Не могу раскрыть уст моих, и нет у меня слов, чтобы говорить. Я признаю свою великую вину и молю Нисона, чтобы он простил меня. Ибо не по жестокости сердечной и не по злой воле совершил я грех свой… После нашей встречи мы разъехались в разные стороны, в дальние края, и я ничего не слышал о моем друге, и не знал, где он, и не знал, что у него родился сын, и что сам он умер. И, видя, что он меня не разыскивает и не напоминает, я решил, что жена его не родила сына и наша клятва уничтожена.
Раби Шамшон. Почему ты не разыскивал Нисона?
Сендер. У меня была дочь — и я считал, что, если б у него был сын, он бы меня искал. Ибо сторона жениха должна делать первый шаг.
Раби Шлоймеле. Почему, когда сын Нисона пришел к тебе в дом и сел за твой стол, ты не спросил его, кто он и откуда?
Сендер. Не знаю, не помню… Но клянусь, что душа моя стремилась взять его в мужья для дочери… И когда мне предлагали самые выгодные партии — я нарочно ставил свои невыполнимые условия. Таким образом, три раза различные сваты уезжали ни с чем… Но родственники, друзья настаивали…
Пауза.
Раби Шамшон. Покойник Нисон бен Ривке говорит, что это неправда!.. Ты Уловил в сыне сходство с отцом и боялся спросить, кто был его отец. Ты гнался за червонцами, за сытым и долголетним столом для дочери — и по твоей жадности 54 дерево его жизни подрублено под корень и венец с головы его скатился в пропасть.
Сендер. Нисон, во имя нашей дружбы, прости меня!
Пауза. Жуткая тишина. Входит Михоэль и молча подает посох раби Шлоймеле.
Раби Шлоймеле (совещается с раввином и судьями. Берет посох). Мы, суд праведный, выслушали обе стороны и постановляем: так как неизвестно, были ли жены обоих тяжущихся беременны в тот час, когда было совершено клятвенное обещание, и так как по законам святой Торы всякая сделка считается недействительной, если предмет сделки еще не создан, то суд праведный не может признать, что выполнение клятвы было обязательно для Сендера. Но так как в небесах клятва была принята и в душу юноши было заложено чувство, что отроковица — его суженая, то Сендер должен искупить совершившееся несчастье. Поэтому мы повелеваем, чтобы он до конца жизни читал по Нисону и его сыну поминальную молитву, как по родным, и чтобы он роздал половину своего имения бедным за упокой души безвременно погибшего юноши. И суд праведный просит покойника Нисона бен Ривке простить Сендера полным прощением. И за это Господь прольет на него и сына его Свое великое милосердие. Аминь.
Судьи, раби Шамшон, Сендер. Аминь…
Раби Шлоймеле. Покойник праведный, ты слышал, что мы постановили? Принимаешь ли наше постановление?
Тишина. Еле слышны рыдания.
Покойник Нисон бен Ривке. Суд праведный закончен. Теперь ты должен вернуться туда, откуда пришел. В пути своем не задень ни одного живого существа. (Пауза.) Михоэль, подай воды.
Михоэль подносит кружку воды, таз, ставит на пол; все моют руки.
Снимите полог.
Снимают.
Михоэль, подай мне посох. (Проводит посохом круг по тому же месту, что раньше, но обратно, справа налево. Сендеру.) Сендер, ты слышал постановление суда праведного?
Сендер. Слышал.
Раби Шлоймеле. Ты его принимаешь?
Сендер. Принимаю.
Раби Шлоймеле. Сендер! Скоро истекает время, данное нами Дибуку. Как только он выйдет из тела дочери твоей, необходимо в тот же миг повести ее под венец. Что будет совершено, то будет совершено. Пусть к тому времени все будет приготовлено! Пусть дочь твою нарядят в подвенечное платье! Если жених еще не приехал, пошли нового гонца.
Сендер. Сделаю все, как велите.
Сендер выходит вместе с Михоэлем. Раби Шлоймеле снимает с себя облачение и филактерии и складывает.
Раби Шамшон (шепотом судьям). Вы заметили, что покойник не простил Сендера?
55 Судьи. Заметили.
Раби Шамшон. Вы заметили, что он не сказал, что подчиняется постановлению суда?
Судьи. Заметили.
Раби Шамшон. Вы заметили, что на слова цадика он не ответил «Аминь»?
Судьи. Заметили.
Раби Шамшон. Это очень дурное предзнаменование… Глядите, как раби Шлоймеле расстроен. У него руки дрожат.
Судьи. Да.
Раби Шамшон (шепотом). Мы свое дело сделали. Мы можем уйти…
Незаметно уходят.
Раби Шлоймеле (сильно поглощенный мыслями. Поднимает руку к небу). Создатель вселенной! Что должно свершиться — пусть свершится! Твоих постановлений я не хочу ломать. (Пауза.) Михоэль, вели ввести отроковицу.
Сендер и Фрада вводят Лию в подвенечном платье, сажают на диван.
Дибук [Дух]! Ты помнишь свое обещание?
Лия (Дибук) (бледным, замогильным голосом). По-мню.
Раби Шлоймеле. Ты его исполнишь?
Лия (Дибук) (также). Исполню…
Раби Шлоймеле (поднимает руки к небу. Молитвенно). Создатель! Господь прощения, жалости и милосердия. Мы прибегаем к Тебе с молитвой: воззри на муки и страдания отверженной души человеческой [отверженного духа] и поступи с нею милосерднее закона, не отринь от нее надежды на спасение, ибо пред Тобою открыто и Тебе ведомо, что согрешила она хулой против Твоего Святого Имени не по дерзости своей, а по неведению. Пусть пред Престолом Твоим предстанут ее добрые дела, заслуги ее предков и наши молитвы. И пусть все сие будет принято Тобою, как благоухающее воскурение. Господь Израиля! Отстрани в Своем великом милосердии от сей души человеческой [духа сего] всех дьяволов с их князем тьмы, очисть для него путь и дай ему в Твоих бесконечных мирах место покоя, тишины и отдохновения. Аминь!
Все. Аминь!
[Раби Шлоймеле. Дух! Повелеваю тебе выйти из отроковицы, вылететь через окно и в своем пути не задеть ни мужчину, ни женщину, ни живую тварь.]
Лия (Дибук) (с отчаянием). Скорее читайте поминальную молитву. Скорее. Час истекает!..
Раби Шлоймеле (читает). Да возвеличится, да освятится Его Великое Имя!
Лия (Дибук). Ай!
Разбивается стекло. Лия падает.
Раби Шлоймеле (поспешно). Ведите невесту к венцу!
Михоэль (вбегает). Только что вернулся гонец. Говорит, что у сватов сломалось колесо, и они идут пешком. Но их уже видно издали, они на пригорке. Скоро придут.
Раби Шлоймеле (очень расстроенный). Что должно совершиться — пусть совершится… С невестой останется старуха. А мы все пойдем встречать жениха.
Делает посохом круг вокруг Лии. Все выходят. Остаются Лия и Фрада. Долгая пауза.
56 Лия (открывает глаза). Кто здесь? Бабонька!.. Бабонька, мне тяжело!.. Помоги мне… убаюкай меня…
Фрада. Пусть тебе не будет тяжело, доченька моя. Тяжело пусть будет злому татарину, черному коту. А тебе на сердечке пусть будет легко-легко, как пушок, как снежиночка, как тихое дыханьице… Сладкие сны пусть тебе снятся, чистые думушки пусть реют вокруг тебя; святые ангелы пусть обвевают тебя своими крылышками.
Слышна музыка.
Лия (вздрагивает). Идут плясать вокруг святой могилки, увеселять мертвых жениха и невесту…
Фрада. Не дрожи, доченька, не бойся. Вокруг тебя стоит большая стража, сильная стража. Шестьдесят могучих богатырей стоят с обнаженными мечами, Святые патриархи охраняют тебя от дурной встречи. Святые праматери охраняют тебя от дурного глаза. Скоро поведут тебя, доченька, к венцу. Мать твоя, праведница, в золоте и серебре наряженная, из рая выходит, из рая выходит. Идут ей навстречу два ангела, два ангела — и за руки берут, и за руки берут. Один справа, другой слева. «Ханеле моя, Ханеле краса, что ты разрядилась так, в злате-серебре, в злате-серебре?» И отвечает им Ханеле: «Как не наряжаться мне — радость велика: доченьку родимую под венец ведут». И отвечает им Ханеле: «Как мне не кручиниться — велика печаль. Под венец родимую чужие поведут». Вот ведут красавицу Лееле к венцу. Тут же появляется сам пророк Илья. Поднимает высоко свой большой бокал. Мир благословляет он, праведных и злых… Голос его слышится… далеко вокруг… (Засыпает.)
Долгая пауза.
Лия (тяжело стонет. Открывает глаза). Кто здесь так тяжело стонет?
Хонон (появляется перед нею в саване). Я!
Лия (глядит на него). Кто ты? Я тебя не узнаю…
Хонон. Тебя отделили от меня непроницаемой оградой, заклятым кругом.
Лия. Твой голос мне так мил, как тихий плач скрипки в ночной тишине. Говори…
Хонон. Я весь истерзан…
Лия. Одежды твои белы и чисты.
Хонон. Земля меня не принимает.
Лия. Твое лицо и руки не покрыты ранами и язвами.
Хонон. Тело мое я убил раньше, чем дьяволы могли его коснуться. Но они терзают мою душу, обжигают ее своими взорами, обливают ядом, пронизывают безнадежным мраком.
Лия. Расскажи мне, кто ты.
Хонон. Я забыл. Я помню только тебя.
Лия. Но ведь ты был слит со мною.
Хонон. С тех пор, как во мне проснулась первая мысль, я ощутил в себе странную печаль и тоску. И в грезах беспокойного сна, и в грезах талмудического напева звучал для меня голос, звавший меня, как глас Господень отрока Самуила-пророка. И сердце мое, преисполненное трепетным восторгом, рвалось ввысь. И я убегал в лес, падал на землю, прижимался к ней и орошал слезами молитвы 57 и восторга. И в тихую полночь я вскакивал с моего ложа, кидался к кивоту, прижимал пылающую голову к Священным Свиткам, бил себя в грудь, плакал и каялся в грехах несодеянных. Я искал пути к Богу — и припал жадными устами к источнику Торы. Но я не нашел покоя — и ушел «справлять изгнание». И бродил я с места на место, пока не пришел в твой город, пока не вошел в дом отца твоего. И я увидал тебя.
Пауза.
Лия (с закрытыми глазами). Говори… Когда ты говоришь, я сквозь закрытые веки вижу яркое солнце. Когда ты умолкаешь, вокруг меня становится темно и страшно.
Хонон. Я тебя увидел — и вся душа моя потянулась к тебе с трепетом восторга и молитвы. И я понял, что это я тебя видел в своих грезах и что раньше, чем встретить тебя, все мои ощущения были уже проникнуты тобою. Тебя я чувствовал в лучах солнца, в пении птичек, в дуновении ветерка и в прозябании травки. И каждая мысль моя была молитвой тебе, каждое дыхание — славословием тебе, каждый взгляд очей моих — благодарственной жертвой тебе. И я понял, что знал тебя с первого часа моего рождения — ибо ты моя суженая от Бога.
Лия. Припоминаю: и я тосковала тихой и нежной тоской по ком-то… И моя душа тянулась жадно к какому-то яркому светочу… Припоминаю: и я проливала сладкие слезы и в грезах ночных нежно, как мать, кого-то ласкала… Это был ты?
Хонон. Я…
Лия. Припоминаю: у тебя были мягкие, точно заплаканные волосы. У тебя были длинные ресницы и грустные, тихие глаза… у тебя были нежные руки с тонкими, длинными пальцами. И голос твой был печальный и ласковый… Я дни и ночи думала только о тебе и не ощущала в этом греха — это ты, мой суженый от Бога… (Пауза.) Почему ты ушел от меня?
Хонон. Я ушел убивать плоть, чтобы очистить и возвысить душу, дабы она была достойна восприять тебя. Я видел, что силами земными я не могу обрести тебя — и пошел искать силы небесные, силы преисподние.
Лия. И ты ушел из мира живых. И солнце мое погасло… и душа моя завяла… И повели меня, невесту-вдову, с веселым пением к венцу с чужим. Затем ты вернулся… И пошла я с непокрытой головой к венцу с тобою. И в сердце моем зацвела мертвая жизнь и печальная радость.
Хонон. Теперь отняли у нас и эту печальную радость… Последнюю. (Плачет.)
Лия (нежно). Не плачь, не плачь… Вернись ко мне, мой жених, мой муж. Я буду тебя, мертвого, носить в своей груди. И в ночных снах мы будем убаюкивать наших нерожденных детей. (Плачет.) Я буду им шить рубашечки, буду им петь песенки:
Баю, деточки мои,
Не родившись, умерли.
Мать — могила для отца,
Овдовела без венца…
С улицы доносится музыка, обычный мотив, с каким ведут к венцу.
(Встрепенувшись.) Опять идут, чтобы вести меня к венцу с чужим… с чужим… Приди ко мне… Приди.
58 Хонон (рванувшись). Не могу переступить круг! Не могу!
Лия (подымается, протягивает к нему руки). Если ты не можешь прийти ко мне, я иду к тебе. Мой вечный жених… мой муж! (Кидается к нему. Падает мертвой.)
Хонон исчезает.
Голоса (за сценой). Дружки. Идите вести невесту к венцу.
Входит раби Шлоймеле с посохом. За ним мужчины, женщины.
Раби Шлоймеле (увидав мертвую Лию, останавливается, опускает голову). Опоздали… (Поднимает голову. Громко и торжественно.) Благословен Судия праведный! Борух Даян эмет!
Занавес.
ЭПИЛОГ
Та же декорация, что в Прологе. Старик и Дочь сидят в тех же позах. Дочь, подавшись вперед, глядит на Старика широко раскрытыми глазами, потрясенная только что выслушанным рассказом.
Старик (поднимает опущенную голову и медленно, торжественно произносит). Борух Даян эмет! Благословен Судия праведный.
Занавес медленно опускается.
Конец.
ГЛОССАРИЙ
Аарон (букв, «осиянный») — согласно Библии, брат и ближайший сподвижник Моисея. Принадлежал к колену Леви. Выступал «устами» («пророком») Моисея перед Израилем и фараоном, творил чудеса перед фараоном и вместе с Моисеем участвовал в ниспослании некоторых из десяти египетских казней.
Акива — видный палестинский учитель I – II вв.
Алмемор (также — бима; букв, «возвышенное место») — возвышение в синагоге, на котором стоит стол (или особого рода пюпитр) для чтения Торы. Отсюда обычно произносится проповедь раввина.
Аптрский раввин — Авраам Йошуа Хешель (1738 – 1825) — представитель известной раввинской семьи. Жил в Калбушере (Польша) и Опатосе (идиш: Апт). По невыясненным причинам был вынужден покинуть город, но обещал сделать название города своим именем. Уехал в Яссы, затем переселился в Меджибож (Подолия).
Ахойр, Ахер — мудрец, прослывший еретиком и отступником. Жил в эпоху таннаев второго и третьего поколения. Вошел в Пардес (Сад познания), причем проник гораздо далее, чем было положено, и стал разрушать «насаждения».
Баня погружения — древняя баня, которая в Каббале и особенно среди хасидов стала важной церемонией, имеющей особый смысл и считающаяся таинством.
Батлан (букв, «неработающий») — первоначально титул человека, который ради деятельности общины частично или полностью отказывался от работы или какого-либо 59 оплачиваемого занятия. В позднем идише термин «батлан» стал обозначать лентяя, человека, не желающего приложить усилия для обеспечения себе и своей семье условий существования.
Бен Азай, Бен Аззай — выдающийся законоучитель первой трети II в. Полное его имя — Симон бен Аззай, к которому иногда прибавляли титул рабби, однако Бен Аззай, несмотря на великую ученость, не мог пользоваться этим титулом, так как в продолжении всей жизни оставался на положении «ученика», «рассуждающего», имеющего право оспаривать мнение учителя. Легенда говорит о нем: «Он узрел тайны сада и умер».
Бен Зоймо, Бен Зома — законоучитель начала II в. Полное имя — Симон бен Зома. Подобно Бен Азаю, оставался на положении «ученика», имевшего право оспаривать мнение учителя. Он увидел, по преданию, тайны сада и был поражен после этого безумием.
Бешт — так сокращенно называли Баал Шем Това (Владеющий Благим Именем [Божьим]) (Исраэля бен Элиэзера; около 1700, Окуп? – 1760, Меджибож), основоположника и вдохновителя хасидизма в Восточной Европе, который, как писали тогда, «опустил небеса на землю». Получил известность как чудотворец и каббалист-целитель. Явил собой тип хасидского божественного простеца в коротком овчинном полушубке, какой носили крестьяне Прикарпатья, — он постоянно общается с простыми людьми и ценит их выше книжников, пляшет и пьет с ними в трактирах, шутит, юродствует.
Брама (польск.) — ворота городские, погостные.
Велвеле, ребе (полное имя Зеев Кицес; ? – 1789?) — сторонник аскетического хасидизма, сподвижник Бешта. Жил в Меджибоже.
Дибук (букв, «прилепление») — злой дух, который вселяется в человека, овладевает его душой, причиняет душевный недуг, говорит устами своей жертвы, но не сливается с ней, сохраняя самостоятельность.
Ешибот (также: иешива; букв, «сидение», «заседание») — высшее религиозное учебное заведение, предназначенное для изучения Устного Закона, главным образом Талмуда.
Запрос — мудрецами разработаны различные формы «запросов», начиная от словесной просьбы и заканчивая сложными ритуалами, основанными на знании системы связи и функционирования высших структур, а также «правил этикета» в общении с Богом.
Зуся Аннопольский, иногда Аннипольский (? – 1800) был особого типа проповедником. Практиковал мистическое скитальчество. В его лице вновь появился «юродивый», «дурачок Божий». Его фигуру можно интерпретировать как своеобразный восточноевропейский тип бадхана, шута, в основном встречавшегося на свадьбах, но в облике равви превратившегося в святого. В 1772 г. поселился в местечке Аннополь Киевской губернии. Жил в крайней бедности. Прославился притчами и афоризмами.
Илья, Илия — в ветхозаветных преданиях одаренный почти божественной властью чудотворец, пророк, вступающий в борьбу с жрецами и царями — покровителями культа Ваала. Библейский рассказ о вознесении Ильи на небо породил представления, что он не умер и должен вернуться на землю. Он выступает как предтеча и провозвестник мессии (машиаха), которого Бог посылает на землю перед Страшным су-Дом — он явится вместе с Моисеем, покажет народу семь чудес, приведет грешных 60 родителей к детям в рай, а в конце убьет Самаэля, часто отождествляемого с Сатаной.
Искра Божия — во время изначального творения, предшествовавшего сотворению нашего мира, божественная световая сущность взорвалась и ее «искры» ниспали в низшие миры, облачившись в «раковины» вещей и всех творений нашего мира.
Йом-Кипур (букв. «День прощения», также «Судный день») — в еврейской традиции самый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов. Отмечается в десятый день месяца тишрей (2-я половина сентября – 1-я половина октября).
Каббала (букв, «получение», «предание») — эзотерическое еврейское учение с выраженными элементами мистики и магии. Возникло во II в. и представляло смесь идей гностицизма, пифагоризма и неоплатонизма. Главное сочинение Каббалы «Зогар» («Сияние»), приписываемое Симону бар Йохаю, выпущено в свет в конце XIII в. Наряду с Каббалой как учением существует понятие практической Каббалы, своего рода магии, цель которой — воздействие на высшие миры с помощью особых молитв, словесных и буквенных формул и сосредоточенного созерцания тайного смысла имен Бога.
Камеи — амулеты, призванные защитить от беды. Надпись на камее должна быть сделана человеком высоких душевных качеств — цадиком или каббалистом.
Кивот (также: орн койдеш; ивр. арон кодеш) — святой ковчег или ковчег завета. Самая священная принадлежность всякой синагоги или молитвенного дома. Святость ковчега объясняется тем, что в нем хранятся свитки Торы. Обычно помещается у стены, обращенной к Эрец-Исраэль, в Израиле — в сторону Иерусалима, а в Иерусалиме — к Храмовой горе. В большинстве синагог ковчег находится на возвышении, с площадки которого благословляют молящихся, а раввин произносит проповедь. Чаще всего ковчег находится за завесой, в память о той, которая отделяла Святое святых от других частей скинии и Храма. Вышитые золотыми, серебряными и шелковыми нитями по бархату или шелку, такие завесы стали одной из наиболее украшенных частей синагогального ковчега.
Книга Ангела Розиэля (Разиеля) — средневековая мистическая книга, описывающая способы вызывания ангелов.
Койган (также: кохен — букв, «жрец»; мн. число «коханим») — представитель священнического рода Ааронидов (потомков Аарона), члены которого в древности совершали службу в скинии, а затем и в Храме. Их функция благословлять молящихся сохранилась и до наших дней.
Левиты — представители колена Леви, за исключением жрецов. Из них набирались служители скинии, а позднее Храма (певчие, музыканты, стража и т. д.).
Лейви-Ицкок Бердичевер (?, Замостье – 1809, Бердичев) — один из вождей волынских хасидов. С конца 80-х гг. окончательно поселился в Бердичеве. Вел образ жизни цадика и часто объезжал местечки и деревни своего района. Любил пожить весело и обладал живой, чрезвычайно общительной натурой. Приезжая в сопровождении многочисленной свиты, он останавливался в доме одного из своих сторонников. После торжественной молитвы начиналось пиршество, на котором хасиды много и долго веселились. Так же, как Бешт, считал, что служить Богу можно не только молитвой, но и обыденной беседой.
Лия — Не-Бог — каббалистическая расшифровка имени Лия, исходящая из того, что «ли» на иврите означает «не», а «я» — первая буква непроизносимого имени Бога Яхве.
61 Маршалок, маршалик (также: бадхан) — увеселитель гостей на семейных торжествах, главным образом на свадьбах. Талмуд упоминает о профессиональных шутах, обязанностью которых было веселить подверженных меланхолии людей, а также забавлять и смешить жениха и невесту. В средневековой раввинской литературе говорится о еврейских странствующих певцах, так называемых бадханим и лейцаним (шуты). По-видимому, они традиционно участвовали в свадьбах, ханукальных и пуримских праздниках и играли у евреев ту же роль, что и трубадуры и менестрели в средневековой Западной Европе. Постепенно бадханы создали своеобразную народную поэзию на иврите и идиш.
Миньян (букв, «счет», «подсчет», «число») — кворум в десять взрослых мужчин, необходимый для совершения публичного богослужения и ряда религиозных церемоний.
Небесная колесница, Колесница Бога — это видение пророка Иезекиля трактуется как таинство божественного откровения и является одним из фундаментальных принципов Каббалы.
Отлучение (херем) — самое тяжелое наказание, которое могла наложить община на того, кто противился ее власти, и тем призвать ослушника к порядку. Члены общины воздерживались от каких-либо социальных или деловых контактов с отлученным, он не мог также получать кошерные продукты, вступить в брак, быть похороненным согласно традиции.
Посох и пояс — символы власти цадика.
Постановления — имеются в виду практические законы, сформулированные в «Шулхан Арухе» Иосефа Каро (XVI в.) и комментариях к нему.
Проводы Субботы — трапеза по завершению субботы. Эта трапеза понимается как прощание с Царицей Субботой, служит как бы «сопровождением» Субботы при ее уходе. Также носит название «трапеза царя Давида». Согласно легенде, Бог сказал царю Давиду, что он умрет в субботу. Поэтому по завершении каждой субботы Давид устраивал трапезу в честь того, что его жизнь еще продолжается.
Раввин — звание, присваиваемое по получении высшего еврейского религиозного образования, дающего право возглавлять конгрегацию или общину, преподавать в иешиве и быть членом религиозного суда.
Ребе (идиш; от ивр. «рабби», используется также «раби») — титул, обычно применяемый к раввину, учителю хедера или хасидскому цадику; также почетное звание ученого.
Розиэль, Разиэль, Разиил (букв, «тайны Бога») — ангел, впервые упоминаемый в славянской версии Книги Эноха. Впоследствии ангел магии, научивший людей астрологии, гаданию, использованию амулетов. В практической Каббале является провозвестником Каббалы.
Ружинский цадик (прозвище Исраэля бен Шолем Шахна Фридмана; 1797, Погребище Киевской губ. — 1850, Садигор, ныне часть г. Черновцы) — основатель Ружинско-Садигорской хасидской династии. По ложному обвинению был арестован. С 1838 по 1848 г. находился в тюрьмах, откуда бежал. Вел блестящий образ жизни, выезжал в роскошной карете, запряженной четверкой лошадей, держал множество слуг.
Самуил — в ветхозаветных преданиях великий пророк, последний из «судей израилевых».
Святое святых — храмовое помещение, где хранился ковчег завета, т. е. ларь, в котором в свою очередь хранились скрижали завета.
62 Святой Ари — под таким именем известен раби Исаак бен Соломон Ашкинази Лурия (1536, Иерусалим — 1572, Сафед), отец новейшей Каббалы. По преданию, стал ясновидящим и вел беседы с пророком Ильей, который посвятил его в тайны мира. Изложения святым Ари каббалистической системы были собраны его учениками. Самое известное, значительное из них — «Древо жизни».
Святой язык — древний иврит, язык, на котором написана Тора и другие священные еврейские книги.
Священные (святые) имена — все элементы священного языка, которые понимаются как живые сверхъестественные существа.
Сефирот (также: сфирот; букв, «числа») — термин, принятый в каббалистической литературе для обозначения божественных сущностей. В Каббале распространено представление о десяти сфирот, образующих иерархическую структуру и динамически связанных между собой. Названия сфирот таковы: «венец» (Бога), «мудрость», «разум», «любовь» (или «милосердие»), «сила», «красота», «вечность», «величие», «основа», «царство». Каждая из сфирот имеет и иные символы, указывающие на ее свойства и назначение. Попытки раскрыть тайны сущностей сфирот занимают важное место в каббалистической литературе.
Ситро Ахро, Ситро ахара (арам.; букв, «другая сторона») — в Каббале — термин, применяемый для обозначения метафизических темных сил, действующих в мире и влияющих на него. Пространство, представляющее собой отрицательное отражение Божественного мира.
«Справлять изгнание» — восходящая к Талмуду Вавилонскому мысль о том, что изгнание искупает грех. Связана с основополагающими представлениями об искупительном процессе, завершающемся в эсхатологической перспективе. В хасидской практике человек, уходящий в изгнание (обычно на три года), искупает свои личные и общинные прегрешения, тем самым приближаясь к Всевышнему и приближая приход мессии.
Суббота — еженедельный день отдыха у евреев, день, отмеченный святостью; начинается в пятницу вечером и встречается специальной трапезой и песнопениями. В этот день запрещена всякая работа, за исключением особых, оговоренных Талмудом случаев.
Талес (идиш) или таллит (ивр.) — еврейское молитвенное облачение, особым образом изготовленное прямоугольное покрывало из шерсти (или шелка) с черными или голубыми полосами вдоль коротких сторон и с кистями по углам.
Талмуд (букв, «учение») — собрание догматических религиозно-этических и правовых положений иудаизма, сложившихся с IV в. до н. э. по V в. н. э., ставшее основой жизни верующих евреев.
Талненский цадик, раби Давид (Довидл (идиш); 1808 – 1882) принадлежал хасидской династии, известной и как Тверские, и как Чернобыльские цадики. Поселился в местечке Тальное (Талне (идиш); Уманский уезд Киевской губ.), где жил в роскоши и содержал пышный двор, восседал на серебряном троне, на котором золотом было написано изречение из Талмуда: «Давид, царь Израилев, жив вечно». За такие проявления «царственности» русские власти неоднократно его арестовывали.
Текио… Шворим… Теруо… — комбинация коротких и протяжных звуков шофара, обязательный атрибут общинного покаяния и индивидуального раскаяния.
Тора (букв, «учение», «закон») — в еврейской традиции собирательное название свода законов, данных Богом евреям через Моисея; в узком смысле — Пятикнижие и его рукописный список (свиток Торы).
63 Третий чертог — Чертог красоты. Красота, точнее «великолепие, основанное на гармонии» (ивр. тифарет), идентифицируется в еврейской мистике с числом 3, поскольку восходит к проявлению свойств третьей из семи сфирот, составляющих структуру мира; три находятся во взаимосвязи с интеллектуальным, семь — с эмоциональным строем.
Тридцать шесть праведников — евреи, составляющие нравственную основу мира; согласно Талмуду, столько истинных праведников существует в каждом поколении; в большинстве своем они бедные ремесленники, водоносы и дровосеки, не выделяющиеся особыми познаниями в Торе, но творящие добрые дела и всегда готовые прийти на помощь бедным и угнетенным.
Филактерии (также: теофилин) — кожаные коробочки с отрывками из книг Исход и Второзаконие, которые накладываются совершеннолетними евреями на левую руку и на лоб во время утренней молитвы в будни.
Хамелюк, он же Кармалюк (Кармелюк) Устим Якимович (1787 – 1835) — вождь крестьянских бунтов в Подольской губернии на Правобережной Украине, нередко принимавших антисемитский характер. Украинский народ сложил о нем много песен, легенд и рассказов; его образ запечатлен в украинской литературе и живописи. В восточноевропейском еврейском сознании — безжалостный разбойник и злодей.
Хасидизм — религиозно-мистическое народное движение, основанное Исраэлем бен Элиэзером Баал Шем Товом во 2-й четверти XVIII в. среди еврейского населения Волыни, Подолии и Галиции. Начавшийся как оппозиционное движение против официального иудаизма, в частности раввината, хасидизм постепенно сблизился с ним. Молитва была исполнена мистической медитации, сопровождалась особыми телодвижениями, ликованием, радостными песнями и пляской. Хасиды обычно проводили много времени за тремя традиционными субботними трапезами и нередко поддерживали свое мистическое воодушевление крепкими напитками.
Храм — центр национальной и религиозной жизни народа, символ присутствия Бога среди евреев. Первый храм был построен царем Соломоном (965 – 930 до н. э.) на Восточном холме Иерусалима, там, где ныне стоит мечеть Омара. В 586 г. до н. э. разрушен вавилонским царем Навуходоносором II. Работы по восстановлению Иерусалимского храма завершились в 516 г. до н. э. Разрушение Иерусалима и Второго храма римлянами (70 г. н. э.) принесли тяжкие бедствия еврейскому народу. Согласно Иосифу Флавию, около миллиона евреев погибли только при защите Иерусалима, многих убили в других местах и десятки тысяч евреев были проданы в рабство. Разрушение Первого храма и последовавшее за ним Вавилонское пленение знаменуют начало еврейской диаспоры.
Цадик (букв, «праведник») — человек, отличающийся особенно сильными верой и набожностью, духовный вождь хасидской общины.
Шмельке Никельсбургский, также Никольсбургский (Шмуэль Горовиц; 1726 – 1778) — хасидский вождь. Создал хасидскую общину в Рычивуле (ныне Познанское воеводство, Польша), потом перебрался в Сеняву (ныне Жешувское воеводство, Польша), а оттуда в Никольсбург (Моравия, ныне г. Микулов, Чехия), где был председателем религиозного суда.
Шмуэль Каминкер (? – 1831) — один из последователей Бешта.
Шофар — рог, обычно бараний. В глубокой древности служил для созыва народа и для устрашения врага, позднее — для придания дополнительной торжественности особым событиям и богослужениям в праздники.
64 «ИГРА В ПЛАХУ».
Ранняя пьеса Юрия Олеши
Публикация и вступительный текст
В. В. Гудковой
Весной 1920 г. в Одессе молодой поэт Юрий Олеша сочиняет одноактную пьесу «Игра в плаху» и тогда же ее ставит Театр революционной сатиры (Теревсат)25. К сожалению, документальных материалов о постановке пока разыскать не удалось. Год спустя, 18 апреля 1921 г., автор читает «Игру в плаху» на очередном «Устном сборнике» одесского отделения Южного товарищества писателей26. А в середине июля репертуарная комиссия Всеукраинского театрального комитета одобряет сочинение Олеши, квалифицируя его как «опыт пьесы героического репертуара для масс переходного периода»27. Спустя еще три месяца, в октябре 1921 г., художественный сектор Главполитпросвета Украины утверждает праздничный репертуар харьковских театров. Среди авторов, рекомендованных для постановки, Маяковский, Верхарн и Олеша28. И примерно в те же недели конца октября — начала ноября на улицах Харькова появляются афиши нового «Молодого театра», извещающие о первых премьерах, в том числе анонсирующие «Игру в плаху».
«В Харькове открывается “Молодой театр”, — сообщает в рубрике “Украина” журнал “Экран” (Вестник театра — искусства — кино — спорта). — В ближайший репертуар “Молодого театра” включены “Комедия воскресений” Тирсо де Молина, “Театр чудес” Шекспира5*, “Игра в плаху” Юрия Олеши, “Красный кабачок” Ю. Беляева <…> “Роза и Крест” Ал. Блока, “Чудо св. Антония” Метерлинка»29.
Как мы видим, планируется обширный репертуар, намечены серьезные планы. Во главе театра становится режиссер Р. А. Унгерн30.
Местная газета уточняет направление нового дела: «“Молодой театр” объединяет вокруг себя группу молодых идейных работников театра и имеет целью создание яркого, согретого творческим огнем, созвучного стремлениям масс поистине театрального зрелища. <…> “Молодой театр” включает в свой репертуар все виды сценического действия, от бесшабашной буффонады до величавой трагедии. Все свои очередные постановки “Молодой театр” будет показывать во всех рабочих районах г. Харькова. В ближнем репертуаре Сервантес “Театр чудес”, Ю. Олеша “Игра в плаху”, А. Блок “Роза и Крест”»31.
Но уже через несколько номеров «Экран» (в рубрике «Провинция») уведомляет о провале начинания: «<…> функционирующий в помещении театра б. “Модерн” один-два раза в неделю “Молодой театр”, составленный из местных молодых сил, руководимых режиссером Р. А. Унгерном, за месяц своего существования дал лишь одну постановку (“Игра в плаху” Ю. Олеши и “Судьи” Выспяньского) и не привлек внимания публики. Теперь постановлено этот театр реформировать путем слияния его с труппой самодеятельных артистических сил под названием “Павильон муз”, возглавляемой актером Росцием32, музыкантом И. Дунаевским и художником Г. Цапок33. В измененный репертуар “Молодого театра” включаются постановки “Павильона”: “Много шума из ничего” В. Шекспира, “Балаганчик” А. Блока и “Чудо св. Антония” М. Метерлинка. При театре предполагается также издавать журнал, посвященный вопросам искусства»34.
65 Итак, первой пьесой Олеши, поставленной профессиональным режиссером, стала трагикомедия «Игра в плаху». Премьера в постановке Р. Унгерна прошла в «Молодом театре» 7 ноября 1921 г.35.
Через несколько недель пьеса была приобретена Главполитпросветом, а весной 1922 г. она напечатана в харьковском журнале «Грядущий мир». Сообщение о рождении нового издания отыскалось на страницах «Художественной мысли»: «В начале мая выйдет лит[ературно]-худ[ожественный], полит[ический] и критический марксистский журнал “Грядущий мир” в объеме более 20 печатных листов. В № 1 помещено <…> Катаев — “Самострел”, Олеша — “Игра в плаху” (пьеса в 1 д.), стихи В. Нарбута, О. Мандельштама <…>»36 Но подобное издание требовало и художественных сил, и материальных вложений. Пишущих же людей обстоятельства времени относили все дальше на север. Не лучше, по-видимому, обстояло дело и с финансами. Поэтому первый номер «Грядущего мира» оказался единственным.
Тем не менее этому раннему опыту будущего драматурга повезло больше, чем нескольким предыдущим его драматическим сочинениям: пьеса увидела свет рампы и была напечатана в «толстом» журнале.
Написанная, похоже, с оглядкой на драму Блока 1906 г. «Король на площади» (в ней просматривается множество параллелей, ощутима даже известная общность реалий с этой блоковской вещью), «Игра в плаху» лишена устойчивых мотивов символистских драм, их ирреальности, надмирности. В драме Блока величавый старец Король в финале оказывается каменным истуканом, призванным поддерживать гармоническое и правильное мироустройство. Блоковский Шут выступает как провокатор. Лишь красавица Дочь Зодчего стремится восстановить исчезнувшее равновесие, упорядоченность мира. Финал «Короля на площади» нескрываемо пессимистичен: затея оканчивается крахом, каменный истукан разбит, обман Зодчего раскрыт, что произойдет дальше с потрясенным и разочарованным народом, не ясно.
Напротив, в пьесе Олеши звучит мажорная сказочность народного площадного действа с комедиантами, здесь ощутима поэтика будущих «Трех толстяков», обещана победа безусловного добра над столь же безусловным злом. В ярмарочном балаганном представлении не оставлено места рефлексии и сомнению, «гумилятина» и «блоковщина» начинающего поэта преодолены революционным оптимизмом сотрудника «Окон ЮгРОСТа». Здесь нет места характерам и «психологии»: пьесу разыгрывают преображенные старинные маски. Актер Ганимед, представляющий казненного накануне военачальника Тита, это, бесспорно, Арлекин. Но кто же Пьеро? Очевидно, Король, доверчиво увлекшийся игрой. Но ведь Пьеро традиционно вызывает сочувствие у зрителей… Иными словами, вещь, которая стремится выдать себя за привычный агитационный лубок, не так проста, как кажется при первом ее прочтении.
По убедительному предположению И. Н. Арзамасцевой37, название пьесы может быть связано с известными строчками Брюсова:
«Но славлю и день ослепительный,
(В тысячах дней неизбежный),
Когда среди крови, пожара и дыма,
Неумолимо
Толпа возвышает свой голос мятежный,
Властительный,
В безумии пьяных веселий
Все прошлое топчет во прахе,
Играет со смехом в кровавые плахи»38.
66 Заголовок «Игра в плаху» явственно коррелирует с классическим средневековым жанром «Игра о…». Далее обращает на себя внимание авторское предупреждение о жанре: не «комедия», а «трагикомедия». Наконец, неоднозначен и сюжет вещи, как неоднозначно читаются и образы героев. Коварный Ганимед не столько возглавляет народ, сколько представительствует от его имени. Другими словами, он скорее двойник (преемник?) Короля, нежели его антагонист. Все это свидетельствует о том, что «агитационная» пьеса революционного времени имеет глубокие корни.
Мастерски задумана фабула: приглашенные ко двору короля-тирана актеры вовлекают его в действие спектакля. Объясняя необычность представления, формулируют настоящий манифест авангардистского театра:
«Ведь мы особенно всегда ведем игру:
Без грима, без огней, и нам не нужен зритель.
<…>
Без заданных ролей — задание любое.
Дается тема нам, и мы плетем сюжет.
Мы втягиваем всех в движенье нашей пьесы,
Случайных зрителей — кто хочет или нет —
И мы средь публики, без рампы, без завесы…
У нас играют все, для всех найдется роль…».
Площадь города, вознесенная над морем, превращается в сцену театра, приподнятую над уличным «партером», где размещен народ. Но сама структура выстраиваемого зрелища свидетельствует о пассивности человеческой массы, наблюдающей, а не участвующей в действии.
Финал «Игры в плаху», будто бы импровизационно разыгрываемой пьесы, оказывается подготовленным и срежиссированным Ганимедом. В олешинской «мышеловке» актеры заманивают Короля в ловушку: ему предлагают сыграть роль короля, захваченного в плен восставшим народом. Затем ловушка захлопывается, и его казнят. Несмотря на то, что Король повинен в смерти сотен людей и народного героя Тита, то есть вроде бы торжествует справедливость, перед нами кристально чистый пример того, как благородной целью оправдывают неправедные средства. Король, конечно, злодей, но гибнет без суда. На плахе льется не клюквенная, а настоящая живая кровь. И, возможно, самое главное: актер Ганимед не играет палача, а становится им. И оттого вряд ли плаха будет последней, как это обещают заговорщики-актеры.
Герои и предметы меняют суть: актер превращается в палача, барьер набережной — в эшафот. Лишь Король, играющий короля, да народ, перемежающий крики в защиту Короля с возгласами, восхваляющими казненного Тита, остаются теми же, что и были. Странна и тревожна заключительная сцена пьесы: людей не видно, а с барьера звучат призывы Ганимеда, обращенные к толпе:
«Входите во дворец. Спешите. Бейте стражу.
Казнен король. Казнен! Да здравствует народ…»
67 Чуть ранее тот же Ганимед призывал: «Кричите, издевайтесь!» «Бить стражу» и издеваться над поверженным врагом — такими видит новый властитель страны первые и естественные проявления торжества победы. Празднество же «освобожденного народа» не описано вовсе, хотя бы простейшей и вполне формальной ремаркой вроде «народ ликует». И написанная, казалось бы, с «верных» пролетарских позиций, пьеса оставляет впечатление не столько утверждения, сколько заданного вслух вопроса.
В олешинской трагикомедии явственно различимы элементы различных поэтик. Изысканно-«северянинское» имя второстепенной героини (Лильяна) и сам перечень персонажей: король, шут, палач, придворные — бесспорные рудименты юношеских подражательных красивостей. С другой стороны, центральное событие драмы — казнь Короля — Олеша помещает на подмостки импровизированного театра, уходя тем самым от реалистической «народной драмы». Кроме того, в «Игре в плаху» появляются штрихи будущего зрелого олешинского почерка, не укладывающиеся в рамки условно-лубочной фабулы. Легко узнаваемы в пьесе и отблески образа любимой Одессы, с ее распахивающимся глазу пространством синего моря и голубого неба, кораблями, запахами порта и «нищим, поедающим дынные корки», вовсе не обязательным персонажем представления. Упомянутый мельком, в авторской ремарке, которая открывает пьесу, он запоминается едва ли не отчетливее центральных ее героев.
«Игра в плаху» стала переломной для Олеши вещью. От триолетов и «поэзо-концертов» вчерашний гимназист, смотрящий снизу вверх на кумиров поэтической юности — Гумилева, Бальмонта, Северянина, Блока, — от легкомысленных миниатюр вроде «Сна кокетки» либо «Двора короля поэтов» идет к первой робкой попытке размышлений о современной и реальной проблематике. Парадоксальным образом именно интонация неуверенности, вопроса, сомнения становится самым многообещающим элементом этого раннего драматического сочинения Олеши.
Спустя три с лишним десятилетия, в конце 1950-х, старый, уже использованный сюжет еще раз всплывет в олешинских набросках и планах: «Повесть о диктаторе Карле Камероне, о казни инженера Твиста и о том, как заговорщики под видом игры отрубили диктатору голову» («Голова Карла Камерона»)39.
Через 13 лет после первой публикации «Игра в плаху» еще раз появилась в печати. В сокращенном варианте ее, с рисунками художника М. Митурича, опубликовал журнал «Тридцать дней» (1934. № 5. С. 35 – 48). По всей вероятности, с Олешей «расплачивались» за речь, произнесенную им на съезде писателей. К тому же литературной общественности, резко и качественно обновившейся за десятилетие с начала 20-х до начала 30-х, невредно было и напомнить, кто же таков писатель Юрий Олеша.
Из-за несогласованности исследовательских усилий, разлома общего информационного пространства, готовя пьесу к публикации по архивным источникам, я не знала о ее появлении в «Книжном обозрении» (1987. № 1. 4 января. С. 1 – 6)40. Автор краткого предисловия и публикатор В. Греков, минуя анализ неизвестного читателям текста Олеши, делал акцент на лояльности писателя советской власти: «Правильную оценку произведению [речь идет о “Трех толстяках”. — В. Г.] дал А. В. Луначарский, увидев именно в такой форме “апологетику всем сердцем приемлющей революцию артистической интеллигенции”». И на исходе 1980-х казалось, что репутация Олеши нуждается в защите. Сверка текстов показала, что в публикации В. Грекова помимо немалого количества стилистических расхождений сделаны и обширные произвольные (по всей видимости, связанные с объемом «Библиотечки» 68 «Книжного обозрения») купюры, к тому же никак не обозначенные публикатором, то есть был предложен дефектный вариант пьесы. Таким образом, задача возвращения читателю одного из первых драматических сочинений Олеши оставалась нерешенной.
«Игра в плаху» публикуется по машинописному экземпляру пьесы, хранящемуся в личном фонде писателя в РГАЛИ (Ф. 358. Оп. 1. Ед. хр. 10). Этот текст Олеша предлагал (под малоизвестным — в сравнении с будущим гудковским «Зубилом» — псевдонимом «Касьян Агапов») Госиздату летом 1923 г. Дело тогда ничем не кончилось, и машинопись была передана Олешей А. Крученых, хранителю его литературного архива.
Для настоящего издания пьеса сверена с первопубликацией в «Грядущем мире» и с сокращенной авторской републикацией в журнале «Тридцать дней». Публикация осуществлена с минимальным вмешательством в текст: в результате сопоставления трех упомянутых его вариантов, которые подготавливались для печати самим Олешей, восстановлены пропущенные фрагменты — реплики персонажей и ремарки; уточнена пунктуация.
Юрий Олеша
ИГРА В ПЛАХУ
Трагикомедия
Действующие лица
(в порядке появления):
Дама.
Кавалер.
Шут.
Тибурций — придворный.
Ганимед — главный актер.
Бартоломей — актер.
Эндрю — актер.
Король.
1-й сановник.
2-й сановник.
Министр двора.
Палач.
Эпоха здесь вымышленная, и будет ошибкой одевать актеров согласно романтическим наименованиям их. О внешнем виде характерных персонажей автор дает следующие указания.
Король — лысеющий, полный, в цветистом халате и туфлях. Ганимед — главный актер — в костюме Арлекина. Палач — в сюртуке, цилиндре и перчатках.
Общий колорит таков, как если бы событие пьесы развертывалось в большой столице страны, где монархия доживает последние дни, где наряду с великолепием — нищета, где этой нищеты боятся, как призраков, только ночью, где извращенность об руку с деспотизмом достигли гибельной высоты Ассирии и Карфагена.
69 Приступая к постановке этой пьесы, режиссер должен вспомнить Карфаген перед падением, утопические социальные города будущего, величественные, сияющие белизной углы, фронтоны грандиозных зданий, порты южных морей с разноцветными людьми, плодами, бочонками, парусами над радужной водой и, думая о той площади, где шумит действующая в пьесе толпа, вообразить древний рынок с воинственной аркой, у которой лежит в пыли нищий и поедает дынные корки.
Сцена представляет плоскую кровлю одного из флигелей королевского дворца.
Вдоль заднего плана — каменный барьер с цоколями и фигурными возвышениями. На первом плане, над рампой, слева и справа по две простые колонны.
Задний план — синева неба. Внизу за барьером, не видные зрителю, — площадь, набережная, вдали море и торговые корабли.
Лето. Яркий солнечный день к полудню.
ЯВЛЕНИЕ 1
Дама и Кавалер проходят вдоль барьера.
Дама.
Мы видели вчера: туда бежал народ,
С восхода торопясь, забывши о ночлеге,
Чтоб лучше рассмотреть, как повезут в телеге
Военачальника на смерть, на эшафот…
Там плаха — видите? И там его казнили —
Главой отрубленной размахивал палач…
Смотреть — глаза болят от ветра, солнца, пыли —
Ужасный день:
жара, проклятья, женский плач.
Кавалер.
О, бедная моя!
Дама.
Он казни был достоин!
Восстать — подумайте, противу короля!
Начальник войск страны, когда-то верный воин,
С прославленных знамен срывает вензеля
Его величества!
Кавалер.
Вы сердитесь, Лильяна.
Как счастлив наш король, коль защищает рьяно
Династию его и честь его знамен
Такая женщина! Мой друг, я в вас влюблен!
Уходят.
ЯВЛЕНИЕ 2
Шут
(перебегая через сцену).
Хо! Будет весело! Хо, будет очень славно!
Король, готовится искусная игра!
(Исчезает.)
70 ЯВЛЕНИЕ 3
Тибурций
(озабоченно).
Куда он убежал? Он служит неисправно,
Ведь я отдал приказ собраться всем с утра.
Мы нынче ждем у нас прославленных актеров,
Актеров с острова. Король наш — театрал,
И вот, наслушавшись немало разговоров
О славной их игре, — он их к себе призвал.
Мы ждем их от утра, от короля секретно,
Они прибудут к нам, и королю сюрприз.
Но что же не идут? Не поглядеть ли вниз?
(Смотрит через барьер.)
Торговки, нищие — актеров не заметно.
ЯВЛЕНИЕ 4
Входят Ганимед, Эндрю, Бартоломей.
Тибурций.
А. Вот они пришли. Привет вам, господа.
Ганимед
(кланяясь).
Благодарим. Мы в срок?
Тибурций.
О, даже раньше срока.
Ганимед.
Боялись опоздать.
Бартоломей.
Нам ко двору далеко.
Ганимед.
Заставы на пути.
Эндрю.
Пройти не без труда.
Тибурций.
А вы мне нравитесь. У вас открыты лица
И ясные глаза.
Ганимед.
Мы любим веселиться.
Тибурций.
Вот это хорошо — у нас скучают тут.
Как вас зовут?
Эндрю.
Эндрю.
Бартоломей.
Бартоломей.
Ганимед.
И Ганимед.
Тибурций.
Прекрасно.
Его величество, я верю, будет рад.
Ганимед
(который, усевшись на барьер и поглядев вниз, испугался).
Ах! Боже мой! Ай-ай!
Тибурций.
Что с вами?
71 Ганимед.
Ах, ужасно!
Как испугался я, случайно бросив взгляд
На площадь, — все туда… ффу. Я дрожу от страха.
Тибурций.
Что с вами, милый друг?
Ганимед.
Мне показалось… ах, как будто там вот плаха.
Тибурций.
Какие глупости, к чему такой испуг.
Да, плаха, ну так что ж? В столице беспорядки,
И мы решили быть решительны и кратки:
Без милости казнить.
Ганимед.
Казнить?
Бартоломей.
Казнить?
Тибурций.
Ну да, всех недовольных.
Ганимед.
Чем?
Тибурций.
Чем? Королевской властью.
Ганимед.
Такие разве есть?
Тибурций.
И много их, к несчастью.
О, как наивны вы.
Ганимед.
Мы в стороне всегда.
Тибурций.
На этой плахе там вчера по приговору
Верховного суда был предан смерти Тит.
Актеры
(в один голос)
Военачальник Тит!..
Тибурций.
Разбойнику и вору
Народ плевал в лицо — великолепный вид.
Ганимед.
Военачальник Тит казнен на этой плахе.
Бартоломей.
Военачальник Тит…
Эндрю.
Военачальник Тит.
Тибурций.
Я видел голову и кровь в пыли и прахе.
Мятеж подавлен был и на корню убит.
Ганимед.
О, господи…
Эндрю.
Мятеж?
Тибурций.
Был заговор в таверне
Средь оружейников. Мы думали — пустяк,
А оказалось что? Развили красный флаг
И поднялись на нас, за власть рабов и черни,
Три тысячи солдат — шахтеры, моряки.
На знамени девиз: «И рудокопу солнце».
Король встревожился, но помогли червонцы
72 И
преданные, верные стрелки.
Подумайте, ха-ха. Девиз: «Вся власть рабочим».
Ганимед.
Безосновательно.
Эндрю.
Ужасно.
Бартоломей.
И смешно.
Тибурций.
Над этим при дворе мы до сих пор хохочем,
Когда здоров король и славное вино.
Военачальник Тит нас посмешил отлично.
Ведь он хотел — ха-ха! — дворцовые луга
Дать детям бедняков.
Ганимед.
Ужасно.
Бартоломей.
Неприлично!
Тибурций.
Все ткани, золото, рубины, жемчуга
И все сокровища короны нашей древней
Раздать по мастерским, в приюты и деревни,
Создать республику, освободить народ.
Ну можно ли еще придумать безобразней?
Зато на площади — глядите: эшафот —
Вчера случилась казнь, и завтра будут казни.
Ганимед.
А для чего они?
Тибурций.
Чтобы пример подать…
Зараза расползлась — мы член больной отрубим,
Немного — сто голов. Ведь мы народ свой любим,
И быть жестокими нам, право, не подстать.
Ганимед.
А обойтись нельзя?
Тибурций.
Нет, надобно бороться…
Народ волнуется, и в парках городских
Швыряют бомбы.
Актеры.
Ах!
Тибурций.
Бросают яд в колодцы.
Всю ночь собрания в порту и в мастерских.
Ганимед.
Ах, боже мой.
Тибурций
(презрительно).
Пустяк! Не знаем мы боязни.
Мы будем их казнить, уничтожать, как моль…
73 Ганимед.
А кто ж приговорен сегодня к новой казни?
ЯВЛЕНИЕ 5
Шут
(перебегая через сцену).
Его величество король…
ЯВЛЕНИЕ 6
Те же, без шута, король и два сановника.
Король
(входя).
Ах, только не сюда.
(Указывает рукой на барьер.)
Там площадь, люди, взоры.
Актеры падают ниц.
Тибурций.
Прошу вас, государь.
Король.
Что хочешь? Поскорей.
Тибурций.
Когда угодно вам, здесь с острова актеры.
Их трое…
Актеры поднимаются.
Ганимед.
Ганимед.
Эндрю.
Эндрю.
Бартоломей.
Бартоломей.
Король
(весело).
А. Здравствуйте, друзья. Что ж, очень интересно…
Игре подобна власть: король играть привык.
О, я люблю театр, и это всем известно.
Я сам слегка актер.
1-й сановник
(поднимая палец).
Как скромен.
2-й сановник
(та же игра).
Как велик.
Король.
Вы, значит, с острова? О, мы о вас слыхали.
Ганимед
(извиваясь).
Король, мы счастливы, и ваша похвала
Для нас особенно мила:
Ведь вы большой артист, не лучше всех едва ли.
74 Тибурций.
О, наш король артист.
1-й сановник.
Превыше всех похвал.
Король
(резонерствуя).
Игра нам отдыхом, а труд для нас — игрою.
Не правда ли, друзья?
1-й сановник.
Как точно он сказал!
Король
(впадая в сценический тон).
И в жизни, может быть, искусней мы порою,
Чем в лицедействии, — не правда ли, друзья?
Кто был актер в душе, тот в короли нарочно:
Когда бы не игра, то дурно б правил я.
Не правда ли, друзья?
1-й сановник.
Как истинно!
2-й сановник.
Как точно.
Король.
Итак, когда ж спектакль? Сегодня ввечеру.
Тибурций, слышите? Оповестить двору.
Побольше пригласить веселого народа.
Украсить пышно зал, как некогда, как встарь.
Ганимед.
Одну минуточку. Простите, государь.
К чему нам зрители? У нас не та метода.
Ведь мы особенно всегда ведем игру:
Без грима, без огней, и нам не нужен зритель.
Да, кроме этого, пришли мы ко двору
Играть лишь только вам — ведь вы один ценитель.
Король.
Прошу вас повторить… Без грима. Без огней?..
Не точно понял я.
Ганимед.
Мы так играем трое:
Я, Ганимед.
Эндрю.
Эндрю.
Бартоломей.
Бартоломей.
Ганимед.
Без заданных ролей — задание любое.
Дается тема нам, и мы плетем сюжет.
Мы втягиваем всех в движенье нашей пьесы,
Случайных зрителей — кто хочет или нет —
75 И мы
средь публики, без рампы, без завесы…
У нас играют все, для всех найдется роль,
Воображайте лишь — не надевая маски.
И право, все равно, где клоун, где король:
Игра сама придет к эффектнейшей развязке.
Король
(заинтересовавшись).
Весьма доволен я. Вы, господин актер,
Мне очень нравитесь.
Ганимед
(сугубо почтительно).
О, что вы, разве стоит.
Играть пред вами — о, мечтал я с давних пор.
Но лишь один пустяк меня чуть беспокоит.
Король.
Прошу вас говорить.
Ганимед.
Игре препятствий нет.
Не правда ли?
Король.
О, да.
Ганимед.
Мое предупрежденье,
Что может быть в игре нарушен этикет.
Допустим, жест какой, улыбка, выраженье…
Король.
Конечно же.
Ганимед.
Ну вот, теперь свободен я.
А то мне думалось: не так взмахну рукой,
Не этак выражусь — и завтра же меня,
Как Тита, разлучат с несчастной головой…
Король
(поморщившись недовольно).
А…
Тибурций
(отшатываясь).
Что он!
Сановники
(закрывая лицо руками).
Ффу!..
Тибурций
(строго).
Вы, господин актер,
Позволили себе…
Ганимед
(весело и звонко).
Но мне король позволил.
76 Уже играю
я. Забыт король и двор,
Все перепуталось, у всех другие роли.
Тибурций.
Однако!
1-й сановник.
Дда…
2-й сановник.
Угмм…
Король.
Что испугало их?
Чего боитесь вы? Что здесь назвали Тита?
Я не боюсь имен, тем боле — неживых.
Прошу вас, господа, игра идет открыто.
Ну, господин актер, теперь я понял вас,
Идея чудная — начнемте же сейчас.
Но почему молчат другие два актера?
Ганимед.
О, добрый государь. Пусть срок для них придет.
Они пока молчат, как и молчит народ,
Который все-таки заговорит, и скоро.
В группе сановников и Тибурция переполох.
Тибурций.
Однако…
1-й сановник.
Черт возьми!..
2-й сановник.
Развязность выше мер.
Тибурций.
Ну, господин актер!
1-й сановник.
Уже второй пример.
Король.
Оставьте, господа. Ну, право, очень странно.
Чего боитесь вы? «Народ заговорит».
Не бойтесь: он молчит.
Отдаленный крик с площади: «Долой, долой тирана!»
Король
(испуганно).
Кто это закричал?
(Придя в себя, начальственно.)
Узнайте, кто кричит.
Тибурций
(перепуганно).
Кричали с площади.
Сенаторы жмутся к колоннам. Бартоломей, приникнув к барьеру, смотрит вниз на рынок.
77 Бартоломей.
Отсюда виден рынок.
Там бочки, и плоды, и листья из корзинок.
И множество людей идут вперед, назад…
Толпятся, смотрят вверх и кулаком грозят…
(Кричит вниз.)
Глупцы!
Они меня за короля приняли.
Тибурций.
Опять.
Бартоломей.
Игра…
Эндрю.
Игра…
Бартоломей.
Они и закричали.
Но скачут всадники: четыре, пять, шесть, семь.
Их шляпы с перьями, лицо чернее сажи.
Толпа — в проулочки, рассеялась совсем.
Король
(внимательно слушает актера).
Ага, мятежники. Моей боятся стражи…
Но будем продолжать. Прошу вас, господа,
Не беспокоиться: ансамбль пусть будет строен.
Что в этом страшного? Кричат — и не беда:
Спокойней будьте все, когда король спокоен.
Ведь плаха там стоит.
Ганимед.
А в плахе весь секрет.
Тибурций.
О, плаха — главное.
Король.
И раз она на месте —
Для страха и тревог у нас причины нет.
Прошу вас всех сюда — мы поиграем вместе.
Итак… начнемте же. Я жду и весь горю.
Ганимед
(восхищенно).
О, вы большой артист.
Эндрю
и Бартоломей.
Артист.
Король
(как бенефициант).
Благодарю.
78 Ганимед (льстиво,
вкрадчиво).
Но я хочу узнать, что любите вы боле.
Какой репертуар для ваших нужен сил?
Король.
Как? Не слыхали вы? Трагические роли.
И мой репертуар:
Шекспир, Софокл, Эсхил.
Ганимед.
Прекрасно. Что же взять из жизни повседневной —
Из жизни нынешней, такое, что лежит
Всех боле к сердцу вам по страсти сильной, гневной?
Ага. Придумал я. Военачальник Тит.
Король,
Тибурций и сановники (в один голос).
Военачальник Тит!
Ганимед.
Прекрасно.
Эндрю
и Бартоломей.
Браво, браво!
Ганимед.
Ваше величество, ведь лучше роли нет.
Ну что вы скажете, великолепно, право!
Подумайте, какой трагический сюжет.
Мятеж, восстание, трибуна, диктатура,
Освобождаемый народ…
1-й сановник.
Хмм, преступление.
2-й сановник.
Хмм, просто авантюра!
Ганимед.
Воззвания, борьба и эшафот.
Король.
Дда, занимательно.
Ганимед.
Все тонко перевито.
Бартоломей.
Сценичность какова.
Эндрю.
Брут.
Ганимед.
Прометей.
Бартоломей.
Эдип.
Ганимед.
И жалко. Эта роль попала в руки Тита,
Ведь у него в руках весь матерьял погиб.
Король.
Да, роль испортил он. Куда сыграть солдату,
Солдату грубому такую роль! Увы,
Не справился он с ней, но и понес расплату
За скверную игру, лишившись головы.
Ганимед.
Вы полагаете, — ведь вы такой ценитель, —
Он скверно роль провел?
Король.
О, да. Печальный вид:
79 Он
победить хотел — но не был победитель.
Крик с площади: «Да здравствует военачальник Тит!»
Тибурций.
Опять они кричат.
Ганимед.
И там игра ведется.
1-й сановник.
Игра с огнем!
Ганимед.
Пускай. «Играет целый мир».
Вы помните, король, — так говорил Шекспир.
Да, роль мятежника легко не удается.
Тит провалил ее, и был наградой свист, свист топора.
Тибурций.
Ха-ха!
Ганимед.
А вы сумели б, право, сыграть ее.
Король
(кокетничая).
Да что.
Ганимед.
Ведь вы большой артист.
Тибурций.
Король — большой артист.
Эндрю.
О, браво, браво, браво.
Ганимед.
Попробуйте сыграть.
1-й сановник.
Он, видно, не в уме.
Король.
Ну что ж, попробую…
Бартоломей
(подбегая близко к барьеру, кричит по направлению к площади).
Начало представленья!
ЯВЛЕНИЕ 7
Те же и Министр двора.
Король
(недовольно).
Что нужно?
Министр.
Государь, народ идет к тюрьме,
И ваша гвардия потерпит пораженье.
Народ на площади — опасность для двора.
Король.
Я не боюсь, мой друг. Все это сплетни, бредни.
Вы нам мешаете — здесь началась игра.
Ганимед.
Играем первый акт.
Бартоломей.
И первый, и последний.
Министр.
Но, государь, — народ, но в зале весь совет!
Король
(брюзжа).
Дела, народ, совет… От дел вы стали лысы.
80 А
я — я не король: я принц, артист, поэт!
Вы посторонний здесь — уйдите за кулисы.
Министр уходит.
ЯВЛЕНИЕ 8
Король.
Итак, я приступаю.
Ганимед.
Простите.
Король.
Поскорей.
Ганимед.
Я передумал.
Король.
Что?
Ганимед.
Вам роль нужна трудней.
Что Тит для вас? Пустяк.
Обычный слепок Брута.
Другие мелочи — играть не все равно ль?
А я вам предложу игру иного рода:
Сыграйте короля. Сыграйте вашу роль —
Роль короля, что в плен попался вдруг народу.
Бартоломей.
Великолепно!
Эндрю.
Ах!
Тибурций.
О, что он говорит!
1-й сановник.
Он преступил закон.
2-й сановник.
Он обезглавлен будет.
Ганимед.
Допустим, победил военачальник Тит,
И вы попались в плен — теперь народ вас судит.
Король.
Ага. Я понял вас.
Вот эта роль по мне.
Ганимед
(громко).
Так началась игра. Я разыграю Тита.
Он бежит через сцену, прыгает на барьер и кричит оттуда. Сановники и Тибурций в страхе отступают к колоннам. С этого момента шум толпы на площади внизу, у дворца, стихает.
Ура! Низвержен трон! Столица вся в огне.
С преступной головы корона ловко сбита.
(Аффектированно играет.)
Тащите же его за волоса сюда.
(Деловито.)
Играйте же, король.
81 Король (не
освоившись с положением)
Ну что же, я играю.
Ганимед.
Народ, ты правишь сам теперь от края к краю,
Ты избран судией для страшного суда.
Тащите короля!
Эндрю и Бартоломей хватают короля и хотят его бросить к ногам Ганимеда Король, играя, упирается.
Король.
Рабы, не прикасайтесь!
Ганимед.
Я увидать хочу, как ужас по лицу
Как язва поползет… Идите ко дворцу.
Король у нас в плену Кричите, издевайтесь.
1-й сановник.
Куда бы спрятаться, а то потащат нас.
Король
(входя в роль).
Народ — восставший раб! Или бессильна плетка,
Чтоб отхлестать тебя? Ты грязный вьючный мул.
Тащи свое ярмо безропотно и кротко.
Ганимед.
Ты ослеплен, ты пьян! Ты бредишь, ты уснул!
Смотри: поднялся мир. Смотри: из черной шахты
Поднялся рудокоп, идут со всех сторон
Заводы, фабрики… Построил сотни плах ты,
Ты сто голов отсек — их стало миллион.
Долой тирана.
Бартоломей.
Смерть!
Эндрю.
Смерть королю!
Ганимед.
Победа.
На трудовых плечах сидел ты сотни лет,
Но время пробило — теперь держи ответ
За память пращура, за грех отца и деда.
Король
(жалобно).
О, бедный мой народ! Ты добр, наивен, чист.
Власть королевская — твой мир, порядок, слава,
Но ты обманут был.
Ганимед.
Король — большой артист.
Эндрю.
Прекрасная игра.
Бартоломей.
О, браво, браво, браво!
82 Король.
Не правда ль, хорошо?
Ганимед.
Превыше всех похвал.
Бартоломей.
Какой прекрасный тон.
Ганимед.
Но дальше продолжаем.
(Переходя снова на героический тон.)
Кузнец, шахтер, батрак отныне правят краем,
Все отдадут поля тому, кто их пахал,
Сады для отдыха тому, кто полуголый,
В поту, дыму, в огне работал день и ночь.
А богачей — в подвал, от света, солнца прочь
И белые дворцы мы перестроим в школы.
Король
(гордо).
Кто это говорит: ты, живший словно крот,
Ты будешь управлять, ты, солнца не видавший
Власть богом мне дана, и он, ее мне давший,
Со смертию моей лишь он ее возьмет.
Ганимед.
Стань на колени Ну!
1-й сановник
(у колонны)
О, господи, что будет!
2-й сановник.
Король увлекся.
Шум все громче.
1-й сановник.
Внизу шумит народ.
Тибурций.
Дда…
Ганимед.
Я — смерть Я — твой народ. В моем лице он судит
Тебя и власть твою. Я суд и эшафот.
Бартоломей
(на барьере кричит вниз).
Король перед судом!
Крик с площади: «Да здравствует король!»
Тибурций.
Вы слышите?!
Король.
Кричат.
Ганимед.
Ведь это постановка,
И там актеры все: я все обставил ловко.
Играем мы — и там, внизу, идет игра,
Но скоро занавес, и нам кончать пора.
83 Мы знаем
приговор. Возмездие.
Расплата.
Народный суд суров. Я говорю тебе:
За сотни тяжких лет, за смерть сестры и брата
От яда фабрики, в дыму, в земле, в борьбе
Ты отвечаешь.
Бартоломей
и Эндрю.
Смерть.
Ганимед.
И бледные ткачи,
Что выткали тебе иссохшими руками
Литую мантию, атласные плащи
Красавицам твоим — сегодня судят с нами.
Вот видишь их, идут: и черный рудокоп,
Ослепший под землей, чтоб твой украсить лоб
Рубином редкостным, и негр, что стал собакой
Под палкой сторожа, чтоб вырастить плоды
Для брюха твоего… И знай, что их труды
Уравновесятся твоею головою.
Тибурций
(уже готовый к бегству).
Однако.
Ганимед.
Так слушай же, молчи. Здесь наше торжество.
Народ свободным стал: трудиться, жить и править,
Судить и миловать. И слушай суд его —
Тирану плаха.
Бартоломей.
Смерть.
Эндрю.
Тирана обезглавить!
Король.
Что? Короля убить, преступные вожди?!
Ганимед.
Тащите же его. Ты побледнел от страха.
Ты видишь призраки. Ты мечешься.
Гляди:
Здесь суд свершится твой, здесь эшафот и плаха.
(Указывает на высокий цоколь барьера.)
Король.
Что ж, я иду на смерть. Не опущу лица,
Как против варваров шли предки в дни былые,
84 Я гибну с
высоты, как Рим, как Византия —
В сияньи своего конца.
Ганимед
(деловым тоном).
Одну минуточку. Для истинности вящей
Необходим палач. Палач — и настоящий.
Король.
Вы правы.
(Хлопает в ладоши.)
Эй, позвать немедля палача!
Ганимед.
Сейчас придет палач. Последний раз секира
На эту голову опустится сплеча,
И плаху мы сожжем: мы алчем только мира,
Мы крови не хотим, нам нужен смех, не плач.
С последней головой корона будет сбита.
ЯВЛЕНИЕ 9
Палач входит в черном наглухо закрытом сюртуке, перчатках, цилиндре, Стоит выжидательно.
Тибурций
(бросается в ужасе за колонны при виде палача).
Ай-ай!
Сановники
(бросаются за ним).
Бежим, бежим!
Исчезают.
ЯВЛЕНИЕ 10
Те же, без Тибурция и сановников.
Король
(медленно).
Так это вот палач.
Эффектен… Это вы вчера казнили Тита?
Палач.
Исполнил ваш приказ.
Король.
А это трудно вам
Вот… головы рубить?
Палач.
Что ж, с вами пополам:
Я топором рублю, а вы — вы приговором.
Король.
А много ли голов срубили вы за год?
85 Палач.
Пятьсот — мятежникам, а там убийцам, ворам.
Всего голов семьсот.
Король.
Так, значит, я семьсот
Приговорил их к смерти?
Палач.
О нет. Поболее. Сверх тысячи, поверьте:
Тем скрыться удалось, пока пришла пора,
Да по пути на казнь толпа убила с двести,
А часть их умерла на самом лобном месте
От страха и тоски, не ждавши топора.
Король.
Однако мрачный счет.
Ганимед.
Но дальше продолжаем,
Не отвлекайтесь же. Короче разговор.
Король.
Да, да…
Ганимед
(к палачу).
Все шутки мы играем.
(Торжественно, играя.)
Палач, готов ли ваш карающий топор?
Сегодня сам народ зовет вас к эшафоту.
Вот видите, король. Он на смерть осужден,
Вам нужно совершить почетную работу…
Пришел последний час… Народ, ты отомщен.
Король.
О, бедный мой народ! Ты ослеплен навеки —
В застенок пойман я. Кто мне закроет веки?
Я жертва, мученик.
Ганимед.
Последний час настал.
Клади же голову!
(К палачу.)
А вас прошу к работе.
Нет, нет. Прошу назад. Ведь вы профессьонал.
Вдруг увлечетесь вы, и вдруг вы отсечете
Святую голову на трапезу для птиц?
Отдайте мне топор.
(Выхватывает секиру из рук палача.)
Ведь мы играем в плаху.
86 Мы
притворяемся, но держимся границ,
Я буду палачом, остановясь с размаху
В решительный момент.
Вершится страшный суд.
Меня народ избрал быть палачом тирана.
Что снилось искони, то совершится тут,
Над этой площадью и над толпою рьяной,
Что ждет главу твою.
Король
(который положил голову на цоколь барьера, спиною к зрителям, поворачивает
лицо).
О, господин актер!
Испытываю я мучительные чувства
Того, кто над собой уж увидал топор, —
Всю смертную тоску, — вот чудеса искусства.
Ганимед
(вскочив с топором на барьер, над головою короля).
Эй, замолчи, тиран!
Король.
Я за народ умру.
Ганимед.
Ложись ровней — вот так.
(Заносит топор над головою короля.)
Бартоломей
(кричит с барьера толпе).
Король на эшафоте!..
Король
(естественным тоном).
А может быть, пора нам прекратить игру?
Не то, мой дорогой, вы далеко зайдете.
Ганимед.
Молчи, тиран!
Отрубает голову королю. Тело его, лежащее спиной к публике, в цветном халате, вздрагивает. Отсеченной головы не видно, но падение ее на площадь знаменуется криком толпы.
Бартоломей.
Вот так.
Палач.
Убит король, король!..
(Исчезает за колоннами.)
ЯВЛЕНИЕ 11
Те же, без Палача.
Эндрю.
Отлично сделано. Ты вел прекрасно роль.
Глупец — попался он в твою простую пряжу…
Все трое, держась за руки, стоят на барьере, полуоборотясь к зрителю, на фоне синеющего неба. Внизу ревет толпа.
87 Ганимед (кричит
толпе).
Упала голова, как перезрелый плод.
Наденьте на копье, повесьте у ворот.
Входите во дворец. Спешите. Бейте стражу.
Казнен король. Казнен! Да здравствует народ…
Занавес.
Н. Н. Евреинов
ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКОПОМ
Публикация и вступительный текст
В. В. Иванова
Работу над пьесой «Любовь под микроскопом» Николай Евреинов завершал в конце июля 1931 г., о чем сообщал Ю. Л. Ракитину: «<…>написал только что (еще не переписано) новую пьесу “Бог под микроскопом” комедию в 3-х действиях и 6-ти картинах. Очень занятная вещь. Если бы Вы заинтересовались, прислал бы Вам ее на предмет художественной постановки Вами перевода на сербский язык и распространения»41.
Жизнь давно научила Евреинова, что ориентация на русскую публику и русский театр для профессионального драматурга в эмиграции, существующего на «тантьемы» (поспектакльную плату), бесперспективна. Потому он сразу ставит перед Ракитиным вопрос о переводе на сербский. В новой пьесе Евреинов играл эпатажными ходами, но и благоразумно остерегался заходить слишком далеко. Эпатаж должен быть кассовым, привлекать зрителей, а не отталкивать. Наибольшие опасения вызывало название пьесы. Само словосочетание «Бог под микроскопом» могло оказаться неприемлемым в странах с традиционно сильными институтами церковной власти, и драматург искал подходящую замену. В письме Ракитину от 9 сентября 1931 г. он перебирал названия: «Пьесу “Бог под микроскопом” (“По ту сторону любви”, она же “Операция профессора Фора”) пришлю вскоре <…>»
Некоторые решения приходили к Евреинову в процессе перепечатки. Так, в машинописном тексте название выглядит как «Бог под микроскопом», а затем уже рукой слово «Бог» исправлено на «Любовь». Вплоть до последней картины священнослужитель обозначен автором как «кюре», но в середине шестой картины в машинописи вместо него вводится «аббат», а затем автор возвращается к четвертой картине и части шестой, где вычеркивает слово «кюре» и вписывает вместо него «аббат». Беспокоился автор и по поводу сцены аборта: «<…> если, по-Вашему, сцена с абортом рискованна, — у меня имеется вариант; и вообще публика любой страны может иметь свои вкусы, которые не предвидеть издали, но легко учесть на месте! А я рассчитываю, что Вы должным образом сценически проредактируете пьесу»42.
Среди многочисленных представителей интересов Евреинова в разных странах на появление пьесы живо откликнулся лишь польский переводчик Евгений Сверчевский: 88 «Сердечно благодарю Вас за слова ободрения, что я взялся за перевод “Бога под микроскопом”. Пьеса мне очень нравится, и я думаю, что она должна в Польше пользоваться большим успехом»43. О результатах своих хлопот по продвижению пьесы Сверчевский сообщает 10 апреля 1932 г.: «Я пишу Вам только теперь, так как ждал первой репетиции: она именно вчера состоялась (д. IV). Ставить как режиссер будет Вашу пьесу директор Национального и Нового театров, знаменитый польский артист и режиссер Людвиг Сольский44. Ввиду того, что это 80-летний старичок, хотя феноменальной и громадной энергии (в настоящий момент он ставит пьесу Муссолини “100 дней” и играет “Дон Карлоса” Шиллера (уже 50 раз подряд), которого тоже ставил как режиссер) — я, как Ваш не только переводчик, но и представитель и заместитель Ваших художественных прав, уведомил Сольского, что буду присутствовать на репетициях и в случае сомнений буду давать указания от имени автора, будучи с Вами в постоянном письменном контакте. Сольский принял это к сведению, а актеры очень обрадовались.
Главную роль проф. Фора играть будет одна из знаменитостей польской сцены: Брыдзинский45 артист очень тонкий, играющий заглавные роли в современном репертуаре: в Пиранделло, Шоу, Андрееве (“Тот, кто получает пощечины”), “Гамлете” и т. д.
Управление театров обратилось ко мне с просьбой, чтобы Ганну и Станислава сделать русскими: они будут называться Анна и Димитр Майтно, кроме того, чтобы кюре был православным священником, ибо фигуру католического ксендза, состоящего в довольно двусмысленных отношениях с г-жой Норман, приняли бы здешние “сферы” как… провокацию католической церкви и костела, которые пользуются в Польше громадным влиянием. Так [как] Вы уполномочили меня для всяких “adaptations”, которые найду нужным и необходимым, зная вкусы польской публики, — я согласился, как и на заглавие пьесы “Любовь под микроскопом”»46. Через два дня после премьеры уполномоченный толкователь «тайн» пьесы подводил итоги проделанной работы: «Слава Богу! После продолжительных репетиций (с 6 апреля по 21 мая, то есть приблизительно после 40 репетиций) “Любовь под микроскопом” была торжественно поставлена в 1-й раз 21 мая, — пишу только сегодня, так как ожидал появление большинства рецензий в ежедневной прессе. На два дня перед премьерой театр был закрыт, чего никогда не бывает, исключительно по поводу вечерних генеральных репетиций, которые кончались в 4, а даже (последняя) в 6 часов утра! Почти на всех репетициях я бывал ежедневно 2 – 3 часа, так как я пришел к заключению, что должен контролировать работу наилучшего польского режиссера Людвига Сольского <…>. Так как я хотел, чтобы пьеса была поставлена в “Вашем духе”, я 2 раза требовал перенесения репетиции со сцены снова к аналитической работе за столом: эти анализы выяснили все сомнения, и Ваши пояснительные письма окончательно раскрыли все “тайны” пьесы.
В окончательном результате я нашел, что пьеса готова к постановке и — 21-го в субботу состоялась премьера. В последний момент на последней генеральной репетиции сделали гримировку священнику — как православному, а одели его так же, — но я запротестовал очень энергично, цитировал Ваши аргументы из письма и поставил вопрос даже резко: что я готов даже нотариально запретить ставить пьесу, если это будет православный священник: это было в 2 часа ночи, нервы разрушились, но все уладилось и компромисс победил: священника одели в платье пастора довольно неопределенного вероисповедания…
<…> Пьеса шла великолепно: с нервом, в очень хорошем темпе и произвела большое впечатление, особенно — разумеется — ее V картина. Поставлена она очень 89 хорошо, декоративно великолепно (наилучший польский декоратор проф. Академии Художеств Фрич47).
Брыдзинский с большой драматической силой, но и с оттенком иронии и гротеска играл проф. Фора; г-жа Громницкая48 была сексуально соблазнительна, несмотря на напускную мужественность. Очень хорошо, с большой драматической экспрессией играла танцовщицу г-жа Лубенскаян, все другие роли сыграны великолепно, немного шаблонно играл г. Соха49 скульптора Димитра. Общие сцены смонтированы замечательно Сольским.
Из рецензий, которые — согласно Вашему желанию — я при сем прилагаю, подчеркивают все единодушно работу maestro сцены, Евреинова, хотя философская и идеологическая концепция пьесы вызывает сомнения, будто бы она немного отжила. Во всяком случае, все уверены — и критики, и люди театра, и я лично, — что пьеса будет пользоваться большим успехом, судя по горячим аплодисментам на премьере»50.
Правда, существовала и другая точка зрения на постановку Людвига Сольского. Станислава Высоцкая, известная актриса и режиссер, сама ставившая пьесы Евреинова и игравшая в них, задумав свою постановку «Любви под микроскопом», писала: «В Варшаве этот спектакль был ужасен — Сольский сделал из пьесы драму, а из ксендза хотел сначала сделать попа — а потом пастора»51.
Замыслу Юрия Ракитина, продвигавшего «Любовь под микроскопом» на сцене белградского Национального театра, не суждено было сбыться. Вероятно, оставался еще памятен ракитинский спектакль «Самое Главное» (1923), оказавшийся слишком экстравагантным для сербской сцены. Тем не менее режиссер с группой русских любителей сыграл евреиновскую новинку, премьера которой состоялась 17 декабря 1933 г. в Белграде: «Пишу Вам с легкой совестью выполненного большого долга. Я поставил Вашу пьесу “Любовь под микроскопом” с большим художественным успехом. Отнесся я к Вашему произведению с огромной любовью и уважением. Редко какая пьеса мне так нравится, как Ваша “Любовь”, несмотря на то, что она чисто французская и русского в ней только Ваша сексуальность (евреиновская). <…> Пьеса глубоко возвышенная, моральная и религиозная. Торжество духа над плотью. Бог есть любовь — что может быть прекраснее и вечнее этого, и как оригинально эта старая истина истолкована Вами. <…> Горжусь, что я Ваш современник, коллега и друг. Горжусь, что мне выпала честь показать эту пьесу перед русской публикой и на русском языке»52.
Парижская пьеса Николая Евреинова (1931) парадоксально вписывается в московский контекст. Ее можно рассматривать как ироническую реплику на те варианты темы, что были разыграны в феерической комедии В. В. Маяковского «Клоп» (1928) и лирической комедии «Заговор чувств» Ю. К. Олеши (1928), созданной на основе его романа «Зависть» (1927). Если в советских пьесах утопия рационализации человека, последовательное сведение великих чувств к физиологическим потребностям могла вызвать только бессильный и смешной бунт «старых чувств», «пережитков», то в пьесе Евреинова комична оказывается сама утопия и ее апологет профессор Фор. Надо сказать, что в этом отношении пьеса имеет не только историко-филологический смысл.
Пьеса публикуется по режиссерскому экземпляру Ю. Л. Ракитина, хранящемуся в Театральном музее края Воеводина (Нови Сад) с любезного разрешений г-на Кристофера Коллинза (США), которому принадлежат авторские права на неопубликованные произведения Н. Н. Евреинова.
90 Н. Н. Евреинов
ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКОПОМ
Комедия в 3-х действиях и 6-ти картинах
Действующие лица:
Профессор Роберт Фор — директор хирургической клиники.
Г-жа Норман.
Ольга Норман — ее племянница.
Сюзанна Плакэт |
Жак Смит | ассистенты.
Альфред Барбье |
Станислав Малыш — художник-скульптор.
Ганна — его сестра, танцовщица.
Аббат.
Жоржета — проститутка.
Валико Беридзе — кавказец.
Мадлен — служанка.
ПЕРВАЯ КАРТИНА
Кабинет профессора Фора, обставленный согласно последним требованиям современности. У авансцены, направо, кушетка и кресла, налево — письменный стол с телефоном, кнопкой электрического звонка, «врачебным дневником» и пр. В глубине две двери: направо — в лабораторию и налево, в срезанном углу комнаты, — в переднюю. Средняя дверь, широкая, с матовыми стеклами, ведет в небольшую операционную залу амбулаторного характера, где виден хирургический стол, стеклянный шкаф с «инструментарием» и пр.
При поднятии занавеса видно в полураскрытую среднюю дверь, как в операционной Ольга Норман и Жак Смит заканчивают бинтование головы пожилого пациента, видимо, из рабочих. Около них профессор Фор деловито вытирает руки полотенцем, в то время как Сюзанна Плакэт спрашивает у него что-то вполголоса.
Весь перечисленный персонал в элегантных халатах и колпаках.
Сюзанна, получив, видимо, инструкцию, выходит из операционной, закрывает за собой дверь, быстро подходит к письменному столу, делает на нем отметку во «врачебном дневнике» и нажимает кнопку звонка.
Мадлен (старая служанка с апатичным лицом и не слишком поворотливая, появляется на звонок из двери слева и, прикрыв ее за собой, устало спрашивает). Впускать следующего?
Сюзанна (молоденькая, маленькая, шустрая, с тонкими язвительными губами). Да. Много их там еще?
Мадлен. Есть еще кое-кто. Опять прием затянется?
Сюзанна (разводя руками). Что ж делать, коль профессор Фор не знает усталости.
Слева, из-за спины Мадлен, входит Альфред Барбье, неказистый малый со старообразным, истасканным лицом неудавшегося Мефистофеля, одетый в поношенную пиджачную пару, с портфелем под мышкой.
А… коллега Альфред!
Рукопожатие.
Пришли нам на смену?
Мадлен, прикрыв дверь за Альфредом, остается стоять в выжидательной позе.
91 Альфред. Ничего подобного! — сегодня не моя очередь. Я забежал по поводу корректуры: профессор просил до сдачи его статьи в печать проверить одну формулу в лаборатории. Что у вас такой утомленный вид?
Сюзанна. Ну, знаете ли, когда приходится разрываться на части — и здесь, и в клинике, то…
Альфред (перебивая). Да-с, с отъездом коллеги Берже не скоро все станет на рельсы.
Сюзанна. А тут еще сестре милосердия понадобилось к дантисту, — надо ее заменять.
Альфред. Незавидно! (Взяв ее под локоток.) Послушайте, — там мои «протеже» дожидаются… Знаете, эта танцовщица, что я сюда направил, в которую стреляли из ревности. Она в приемной изнывает с братом! — примите вне очереди!
Сюзанна. Вы же знаете, что профессор этого не выносит.
Альфред. Ну, как хотите! только она опять там до истерики досидится.
Сюзанна (вздыхает, колеблясь). Господи Боже мой!.. Как ее звать-то?
Альфред (громко, чтоб и служанка слышала). Ганна Малько… Ее брат известный художник.
Сюзанна (повернувшись к Мадлен). Просите!
Мадлен. Слушаюсь. (Уходит.)
Альфред. Ну, я пойду, а то опоздаю. (Направляется направо, в лабораторию. Обернувшись, вдруг.) Ольга Норман здесь? (Кивает в сторону операционной.)
Сюзанна. Да.
Альфред. Ну, как ей здесь работается? Пришлась «ко двору»? (Подмигивает.) Сам одобряет?
Сюзанна (пожимает плечами). Как будто… Что это она вас так интересует?
Альфред. Занятный тип.
Сюзанна. А что в ней особенного?
Альфред. Вы не мужчина, — вам не понять. (Уходит направо.)
Слева появляется Мадлен и, широко раскрыв дверь, пропускает в кабинет Ганну Малько, опирающуюся одной рукой на руку Станислава Малько, ее брата, а другой — на костыль.
Сюзанна (кивая головой вошедшим). Присядьте сюда покамест. (Показывает на кушетку.)
Мадлен уходит.
Профессор сейчас к вашим услугам. (Справляясь во «врачебном дневнике».) Огнестрельная рана? не правда ли? У вас что на сегодня назначено? Перевязка?
Ганна (красивая белокурая девушка со славянским обликом лица. Очень экспансивна, нервна, обаятельно-женственна, похожая в своей манере держать себя на взрослого капризного ребенка). Да… (Усаживаясь с братом на кушетку.) И швы хотели снять сегодня…
Сюзанна. Отлично. Это вам и здесь можно сделать… чтоб не задерживать, пока там приберут. (Показывает на операционную.) Подождите немного… и снимите, что сверх повязки. (Уходит в операционную, прикрыв за собой дверь).
Ганна при помощи брата обнажает больную ногу в месте раненья — чуть повыше колена.
Станислав (рослый, родственно-похожий на свою младшую сестру, но куда степеннее в манере держать себя, с русой бородкой и копной вьющихся волос, щегольски, но с известной художественной 92 небрежностью одетый, говорит с Ганной вполголоса, тоном, каким говорят с больными детьми). Ну и очередь у этого эскулапа! — заболеть можно от одного ожидания!
Ганна. Это у всех знаменитостей! — ничего не поделаешь!
Станислав. Ну, какая он «знаменитость»! — пока несчастье не заставит, о такой «знаменитости» и не слышно.
Ганна. Он даже ученый, сказывают… читает лекции, пишет в журналах…
Станислав. Кто? этот профессор Фор? (Кивает в сторону операционной.)
Ганна. Да, мне фельдшерица говорила.
Станислав. Ну, для фельдшерицы он, конечно, «ученый».
Ганна. Он тебе не по душе?
Станислав. Гм… он из другого мира. А тебе?
Ганна. Правда, он такой «чужой», когда с ним говоришь! — обращается не как с артисткой, а как с большим щенком… но… с большим участием, надо отдать справедливость.
Станислав. «Участие» — это их профессия.
Ганна. Это Альфред надоумил тебя к нему… когда меня ранили?
Станислав. Да, а потом я знаю еще другую его ассистентку… забыла?
Ганна. Ах да, — эта Ольга… как ее? Ольга Норман?
Станислав. Нуда… я иногда провожал ее сюда… она так превозносила своего нового патрона… я и вспомнил его адрес, когда тот болван чуть не убил тебя.
Ганна неожиданно всхлипывает.
Что с тобой? Опять? Ну, чего ты!
Ганна (плача). Неужели его засудят! Ведь он из любви, из любви ко мне выстрелил! Он не мог перенести, что я готова изменить ему… Что вы хотите от кавказца?! — они не понимают шуток и при этом еще бешеный нрав… Я сама виновата. (Слезливо сморкается.)
Станислав. Успокойся — оправдают, наверно. Теперь всех оправдывают. Он же был невменяемым тогда… Когда я вырвал у него револьвер, у него даже пена вскипела на губах.
Ганна (полусмеясь, полуплача). Господи, как в сказке!.. Пена на губах!.. Где еще видана такая ревность!.. такая безмерная любовь! (Вытирает глаза и сморкается.)
Дверь из операционной открывается настежь. Сюзанна провожает пациента с забинтованной головой налево, в переднюю, где задерживается, шепчась о чем-то с Мадлен. Следом за Сюзанной выходит из операционной Ольга Норман. Это миловидная девушка с темными, почти по-мужски подстриженными волосами, красивым «энергичным» ртом, с сосредоточенным выражением холодно блестящих глаз, преисполненная деловитости и услужливости, соединенной с чувством собственного достоинства.
Ольга Норман (здороваясь со Станиславом и Ганной). Здравствуйте… Ну, как дела?.. выздоравливаем?.. а не жжет уж больше?.. заживает?.. А нервы как?
Ганна вновь всхлипывает.
Ну, ну, не плачьте. — Профессор этого не любит… Берите пример с брата — видите, какой он спокойный. (Разбинтовывает ногу Ганны.) Опасность миновала, а могло ведь и печально кончиться — пуля пролетела у самой кости… Как он вообще других не ранил в этом… где вы танцевали!
93 Станислав. «Славянском кабачке».
Ольга. Ведь был кругом народ! — удивительно!
Ганна чуть стонет вздрогнув. Ольга ее успокаивает.
Сейчас мы снимем швы — и наступит облегчение… (Станиславу.) А вам бы лучше обождать в приемной: профессор Фор не допускает посторонних даже при перевязках.
Сюзанна возвращается из передней в операционную, где занимается приготовлением стола и всего необходимого для очередной операции.
Станислав (Ольге). Я хотел только еще раз поблагодарить вашего профессора за «участие» и… и расплатиться за труд.
Ольга (очень любезно выпроваживая его в переднюю). Я ему передам…
Станислав (улыбаясь). Какая вы официальная здесь… не то, что Альфред.
Ольга (со смешком). Служба требует.
Станислав. Узнать нельзя вас в этом халате и… (Не договаривает, делая неопределенный жест.)
Ольга. Ну, уж и «узнать нельзя»!
Смеются. Он ей говорит что-то на ухо и уходит налево.
(Ему вслед.) Я вас позову, когда кончится.
Возвращается к Ганне как раз в то время, когда к ней подходит профессор Фор в сопровождении Жака Смита, у которого в руках бинты, вата, инструменты и пр.
Профессор Фор (лет сорока с лишком, с бритым, аскетическим лицом, в роговых очках, в общем весьма благообразный, сразу же импонирующий своим «ученым видом»; говорит деликатным, но крайне авторитетным тоном, без лишних жестов. Подходя к Ганне). Ну что?.. Как себя чувствуете? (Осматривает рану.) Рубцуется как нельзя лучше. (Оборачивается к Смиту и Ольге.) Можно снять швы. Приступите!
Смит, рыжеватый юноша с загадочным лицом, выполняет, при помощи Ольги, требуемое профессором.
Ганна. Профессор, а когда заживет, я смогу опять танцевать?
Профессор Фор (недоуменно). Танцевать? (Смиту.) Осторожнее, не срежьте всего узелка. (Ей.) Вы так любите танцы?
Ганна (экзальтированно). Я?.. и вы спрашиваете?
Ольга (услужливо, обернувшись к профессору Фору). Она же профессиональная танцовщица, профессор!.. Вся история с ней как раз и разыгралась в кабаре, где она выступала.
Ганна (с легким пафосом истерички). Люблю ли я танцы!.. Танец — это сама жизнь!.. это высшее выражение того, что мы собой представляем! Что значила бы я без своего искусства? Разве не пляской пленила я своего Валико? — если бы я не выразила в ней всю свою страсть, Валико, быть может, и не узнал бы меня. Но он понял сразу все, все, в чем я призналась ему в пляске и…
Профессор Фор (договаривая). …выстрелил в вас.
Ганна (вспыхнув). Потому что обезумел от любви.
Смит заканчивает снятие швов.
94 Профессор Фор (стаскивает спущенный совсем чулок с нее и осматривает ногу). Натруженности нет? Закупорка не угрожает?
Ольга (неуверенно). Небольшое расширение вен как будто…
Профессор Фор. Это нормально при данном ранении… Смажьте йодом погуще и наложите облегченную повязку.
Ганна (сморкаясь). А шрам будет виден?
Профессор Фор. Ну кто же его в таком месте увидит!
Ганна. Как кто? — все!
Ольга (профессору Фору). Она танцует с обнаженными ногами.
Профессор Фор. Ах вот как? (Улыбаясь.) Что ж, это труднее или легче?
Сюзанна, прислушавшаяся к разговору, заканчивает к этому времени работу в операционной и подходит к группе, образовавшейся около Ганны.
Ганна (отвечая нехотя, снисходительно на вопрос профессора Фора). Выразительнее… Ноги могут все передать, все эмоции, весь порыв нашей страсти. Там, где не хватает слов, люди пляшут.
Профессор Фор. Гм… не могу сказать про себя то же самое.
Одобрительные смешки среди ассистентов.
Ганна (с легким презрением). Вы из другого мира! оттого и смеетесь!
Профессор Фор (ассистентам.) И напрасно смеетесь. «Non est ridere sed intelligere»6*. Ведь это прямо поразительно, какое только фантастичное содержание не вкладывают люди в самые обыкновенные вещи!.. Для нас, например, эта нога… (берет ее за щиколотку и слегка поднимает, демонстрируя, как на лекции) группа мышц, связанная сухожилиями и нервами! А для других, — вы слыхали, — чуть ни Цицерон по красноречию!.. Ноги тех, кого церковь называет святыми, представляются верующим «благоуханными лилиями». Я сам слыхал это от одной истерички. А эротоманы наделяют женские ноги такими чарами порой, что идут ради них даже на преступление… Не странно ли — вы не задумывались? — такое настойчивое извращение понятий в глазах анатома, отдающего себе ясный [отчет] в том, что он видит или щупает! (Опускает ногу и вытирает руки платком.)
Ганна (задорно, после паузы). Вы, значит, отвергаете поэтов?
Профессор Фор. Гм… смотря каких поэтов!
Ольга идет в переднюю, вынув на ходу записную книжку, заглядывает в переднюю, справляется о чем-то у Мадлен и делает отметку в книжке.
Ганна (капризно). Когда поэты воспевают ноги танцовщиц, они имеют в виду вовсе не какие-то «мышцы на костях», а нечто совсем другое.
Профессор Фор. Вот именно «совсем другое»! я об этом и говорю.
Сюзанна (ей, не без ехидства). Что же именно они имеют в виду?
Ганна (с усмешкой). Гм… то, что не-поэтам, как вы, господа, совсем, по-видимому, недоступно и никак не объяснишь.
Все снисходительно смеются.
Ольга (подходя к Сюзанне, кивает головой в сторону операционной). Что? готово?
Сюзанна. Да. (Профессору.) Можно ввести следующего?
95 Профессор Фор. Прошу.
Сюзанна уходит налево.
(К Ольге, бросив взгляд на ее записную книжку.) Что это за «случай»?
Ольга. Карбункул на ягодице.
Профессор Фор. Гм… Смерьте температуру, приготовьте больного и дайте аппарат Bierd’а.
Ольга. Слушаю. (Повертывается, направляясь к двери. Профессор ее задерживает.)
Профессор Фор. Э-э… вас не слишком утомляет замещать коллегу Бержэ, пока она в отъезде?
Слева входит в сопровождении Сюзанны и Мадлен пациент типично буржуазного вида, который, поклонившись профессору, проходит в операционную7*. Наложение повязки на ногу Ганны подходит в это время к концу.
Ольга. О, не беспокойтесь, профессор. Я очень рада лишней практике. (Уходит в операционную.)
Сюзанна. В чем трудно ее заместить, я думаю, так это в должности личного секретаря. Профессор так привык к г-же Бержэ!
Профессор Фор (Ганне, которая снова начинает плакать). Ну, чего вы хнычете? Другая радовалась бы, что избегла смерти.
Ганна (перебивая, с плачем). К чему мне жизнь, раз его разлучили со мной! (С неожиданным подъемом.) Профессор! милый! хороший! У вас такое имя, связи, знакомства! — спасите его, умоляю! вырвите его из рук правосудия, которое слепо в подобных случаях!
Профессор Фор. Слепо? Почему вы так думаете?
Ганна. Потому что судьи знают все законы, кроме законов любви.
Профессор Фор. Я вас не понимаю, милая! — как вы можете просить за негодяя, который чуть не укокошил вас?!.
Ассистенты закалывают повязку и помогают Ганне обуть ногу.
Сюзанна (профессору, с иронией). Этого требовал «закон любви», должно быть!
Ганна (горячо). Он не виноват. Я в тот вечер нарочно злила его, как дура, кокетничая с одним идиотом… вела себя, как последняя тварь, и он был вправе со мной расправиться… Да!.. да!.. потому что он любил меня по-настоящему. Я поняла это только теперь, когда он в меня выстрелил.
Профессор Фор. Хорошенькие ж доказательства любви вам требуются! — нечего сказать!
Ганна. Да знаете ли вы, что я была готова на самоубийство от сомнений в любви его!.. А вот он выстрелил в меня и этим воскресил. Что? смешно? дико? невероятно? А между тем это правда! Но вам, я вижу, не понять этой правды со всей вашей латынью! — вы из другого мира!
Профессор Фор (к другим, с комичным вздохом). Ну что же, приходится нас пожалеть! вот и все!
Мадлен вводит больного рабочего с забинтованной головой.
96 Ганна (встает, поддерживаемая Смитом, в то время как Сюзанна идет налево и знаком вызывает из приемной Станислава). Что вас жалеть! — вы на свободе, бесстрастные, уравновешенные, ни в чем не сомневающиеся! в то время как другой, из-за ревнивых сомнений и любовной досады, что я ему причинила, сидит в тюрьме и томится!
Входят Станислав и Сюзанна.
Профессор Фор (шутливо). Скажите прямо, что нам нечего и мечтать рядом с этим убийцей завоевать вашу симпатию. Верно? (Здоровается со Станиславом.)
Ганна (с нарастающим азартом). Он не хуже вас! нисколько! Вам нечего уж так гордиться в сравнении с ним своей культурностью и образованностью!.. (Почти издеваясь.) Конечно, такие, как вы, неспособны на убийство! — разве что во время операции, хладнокровно, по-ученому, с соблюдением всех правил хирургии и гражданских законов!
Станислав (бросается вперед). Ганна, замолчи! Не обращайте на нее внимания, профессор! — у нее вдребезги разбиты нервы.
Профессор Фор. О, не беспокойтесь. Мы привыкли к подобным эксцессам и вполне их понимаем! — стать мишенью «вольного стрелка», как это с ней случилось, всегда недешево обходится нервной системе.
Ганна (овладев собой). Простите меня, профессор. Я не хотела вас обидеть… я хотела только сказать… его надо освободить из тюрьмы!.. это я всему виной!.. Помогите справедливости!.. я умру без него! умру!.. (Плачет.)
Справа входит Альфред с кипой корректурных бланков под мышкой.
Профессор Фор (протягивая руку Альфреду). Здравствуйте, коллега!.. вы еще здесь? ну что? проверили?
Альфред. Все в порядке. Бегу сдать в типографию. Ну, профессор, и статью ж вы написали! (Восторженно.) Я ничего более позитивного не читал в своей жизни! — шедевр!
Профессор Фор (улыбаясь, польщенный). Да что вы! (Смотря на часы.) Боюсь, что опоздаете в типографию: — сейчас двенадцать. Оставайтесь-ка лучше позавтракать! Я вам, кстати, прочту из моей новой статьи. Хотите? Я ведь очень ценю ваше мнение! серьезно! у вас такой трезвый, критический ум.
Альфред. Польщен! Но, право…
Профессор Фор (хлопая его по плечу). Не возражайте! обождите меня немного! Я скоро кончу прием.
Станислав (подходит к профессору и кланяется). До свиданья, профессор! (Отводя его в сторону.) Я хотел еще раз поблагодарить вас за сестру и… оплатить ваш труд и хлопоты. (Опускает руку в карман, чтоб извлечь бумажник.)
Профессор Фор. Пустяки! (Останавливает его жест.) Бросьте! это было в порядке «скорой помощи». И к тому же Альфред — ваш приятель… я всегда рад оказать услугу моим ассистентам.
Станислав. Но… вы ставите меня в затруднительное положение.
Профессор Фор. Чепуха! не стоит говорить об этом.
Станислав. Я, право… В таком случае, разрешите мне поднести вам на память хоть какой-нибудь из моих этюдов!
Профессор Фор (в легком смущении). Я не коллекционер.
97 Станислав. Нет, но все же… если бы вы оказали честь посещеньем моей студии, вы, быть может, выбрали бы что-нибудь по вкусу.
Профессор Фор. Польщен приглашением, но у меня так мало времени днем…
Станислав. Можно вечером!
Профессор Фор (в крайнем затруднении). Гм… ваше творчество меня интересует, конечно… я читал о вас где-то, но…
Станислав (поворачиваясь к другим). Я был бы также счастлив предложить у себя бокал вина и всем вашим коллегам, проявившим такое участие к моей бедной Ганне. (Альфреду.) Дружище Альфред, поддержите мое предложение.
Ганна (восторженно хлопая в ладоши). Да!.. да!.. и надо отпраздновать мое выздоровление в тесной компании.
Профессор Фор (поправляя с подчеркиванием). И ваше спасение. Но в этом вы обязаны своему брату! мы тут ни при чем.
Ганна. И вам!.. и вашей науке!
Профессор Фор (смеется, за ним все остальные). Ах, значит, и мы все-таки на что-нибудь годимся?.. Рад слышать от вас такое признание!
Ганна (смеясь). А если так и если не хотите обидеть бедных артистов, соберитесь вечерком все к брату, и мы повеселимся!.. я сыграю вам на рояле, брат — на граммофоне… Мне так хочется увидеть вас в другой обстановке.
Профессор Фор. Узнать, что мы за люди?
Ганна (шутливо). Вот именно!
Профессор Фор (переглянувшись с коллегами). Ну что ж… приглашение столь неожиданно, что, будучи застигнуты врасплох, мы… не находим слов для отказа.
Станислав (протягивая руку профессору). Когда позволите вас ждать?
Профессор Фор. Мы сговоримся по телефону. (Показывая на Ганну.) Дайте ей сперва поправиться немножко.
Станислав. Слушаю. Но все же разрешите, господа, ждать вас в самом ближайшем будущем! (Рукопожатия со всеми.)
Станислав берет под руку сестру, она свой костыль, и оба направляются к выходу.
Профессор Фор (ей вслед, провожая обоих до двери). Никуда не выходите, пока не заживет! И вообще ведите себя осторожнее, чтобы как-нибудь… того…
Ганна (договаривает, смеясь). …опять не подстрелили?
Профессор Фор. Вот, вот! — вы угадали!
Все смеются.
Альфред (когда те ушли). Занятные типы, не правда ли?
Профессор Фор (слегка пожимая плечами). Артисты… особое мировоззрение! — эмотивность, порывы, неуравновешенность. (Снимает очки и протирает их.)
Сюзанна. Она все время как на сцене!
Профессор Фор. Истеричка! — все истерички позируют. А вы обратили внимание, как во время таких припадков сразу обнажается сущность человека?
Альфред. Настоящая дикарка!
Профессор Фор. Да, но… с наслоением некоторых черт средневековья: оправдывает убийство, но вместе с тем сантиментальна! хочет сама пострадать ради ближнего, являя рабские инстинкты, но вместе с тем бунтарка, не признает властей, 98 хорохорится. (Надевает очки и продолжает профессорским тоном.) Поистине, в наше время можно с такой же легкостью путешествовать из страны в страну, как из одного века в другой. Нас окружают часто люди, одетые по-современному, но на поверку ничего общего не имеющие с современностью. При случайных встречах я всегда задаюсь вопросом, какого данный человек духовного склада: XX века, XIX или, как, например, духовенство — XVIII, а то и более ранних веков. Чего же больше! — возьмите население этого дома, где мы находимся: как нарочно, что ни этаж, то другое мировоззрение, другой век, можно сказать! В третьем этаже, где я живу (улыбается), вы встречаете, смею думать, типичного представителя XX века.
Альфред (любезно вставляя). Даже XXI!
Профессор Фор. Мерси. Во втором этаже, где меблированные комнаты, царит, я знаю, типично буржуазный, XIX век, а в первом проживает аббат, опоздавший родиться, по крайней мере, на два века.
Альфред (задумчиво, качая головой). Так что, спускаясь от себя по лестнице, вы как бы спускаетесь вглубь веков?
Все смеются.
Сюзанна. А кто в четвертом, наверху?
Профессор Фор. Пока никого.
Ольга (выходит из операционной, возбужденно-радостная, можно даже сказать одухотворенная). Больной готов к операции.
Профессор Фор (к другим). Идемте, коллеги! (Ольге.) Интересный экземпляр?
Ольга (почти восторженно). Изумительный: ну вылитая форма осинового гнезда! просто загляденье!
Профессор Фор. Температура?
Ольга. 37,6.
Смит проходит в операционную. Профессор кладет руку на плечо Альфреда, как бы давая понять, что «дудки — он его не выпустит».
Сюзанна (Ольге). Сильно страдал, пока ты его обмывала?
Ольга. Правду сказать — не заметила! — до того увлеклась работой, что… (Спохватившись.) Да! чтоб не забыть! (Подбегает к столу и что-то быстро записывает во «врачебном дневнике».)
Сюзанна уходит вслед за Смитом в операционную.
Профессор Фор (Альфреду). Через полчаса к вашим услугам. Позаймитесь пока в лаборатории! — дело всегда найдется.
Спроваживает дружески Альфреда и подходит к Ольге, занятой у стола.
Вы меня так выручаете, что… хочу еще вам поручить работу.
Ольга. Пожалуйста! Какую?
Профессор Фор. Секретарскую.
Ольга. Госпожи Бержэ?
Профессор Фор. Да.
Ольга. С наслаждением!
99 Профессор Фор. Надеюсь, гонорар ее вас удовлетворит! — вы как-то обмолвились, что принуждены еще помогать вашей тетке…
Ольга. О, я уже вышла из «финансового затруднения».
Профессор Фор. Да? каким образом?
Ольга (весело). Позирую одному скульптору.
Профессор Фор. Вот как!.. Уж не этому ли, как его… что приходил сегодня с этой истеричкой-танцовщицей?
Ольга. Вы угадали.
Профессор Фор (не зная, что сказать). Гм… он, кажется, славный малый.
Ольга. О, очень талантливый! Вот вы увидите его произведенья.
Профессор Фор. В самом деле? А где же вы с ним познакомились?
Ольга. Случайно… у общих знакомых.
Профессор Фор (после паузы). Голой позируете?
Ольга. Конечно!
Профессор Фор. Гм… Смотрите не простудитесь! я… не люблю, когда манкируют на службе.
Проходит в операционную. Ольга следом за ним.
Занавес.
ВТОРАЯ КАРТИНА
До поднятия занавеса, — выполняя переход от первой картины ко второй, — звучит сладостно-чувственный напев «Love again», исполняемый на граммофоне с усилителем.
Студия художника-скульптора. Дверь направо — на переднем плане, и налево — на заднем. Посредине огромное венецианское окно, занимающее почти всю стену, за стеклами которого, внизу, горят огни вечернего Парижа. На втором плане сцены видны две изваянные фигуры девушки, — в которых нетрудно узнать Ольгу Норман, — освещенные верхним и боковым электрическим светом. Столы, стулья, табуреты, мольберт, постаменты и кронштейны с кусками скульптуры, несколько гипсовых масок на стенах, картины, манекен на шарнирах и прочие атрибуты художественной мастерской.
Ольга только что кончила позировать и одевается перед стенным зеркалом, в то время как Станислав Малько закутывает одну из статуй Ольги в покрывало и закалывает ее булавками.
Граммофон новейшей конструкции, стоящий недалеко от левой двери, продолжает, только еще громче, волнующую «Love again».
Ольга. У вас здесь довольно-таки холодно сегодня… (Делает гимнастические движения.)
Станислав. Зато музыка какая знойная! так жаром и пышет от этой страстной темы. Не согревает разве?
Ольга. Я предпочла бы хорошую фуфайку.
Станислав (возвращаясь к неприкрытому изваянью Ольги, поправляет стеком некоторые детали). Острите, как всегда?
Ольга. Нет, — я боюсь простудиться. Что это за мелодия, кстати?
Станислав. Это мелодия «роковая»: Ганна влюбилась под нее в своего Валико, а я, слушая ее, однажды размечтался о вас и с тех пор, как начну о вас думать, — хочу слышать эту мелодию, а как заслышу ее…
Ольга (договаривая). …так начнете думать обо мне. (С усмешкой.) Верно?
100 Станислав. Вам смешно это?
Ольга. Нисколько, так как это психологический «закон ассоциаций».
Станислав (с грустной иронией). «Закон ассоциаций»!.. вы все так просто разрешаете! Неужели вам эта мелодия ничего не говорит? Неужели вообще для вас так мало значит музыка?
Ольга. Кто вам это сказал? Музыкой даже лечат теперь при некоторых психических заболеваниях. Как же она может мало значить для врача!
Станислав. Да, но вас-то лично она волнует? возбуждает? нравится вам?
Ольга. Если это приятное раздражение слуха, — разумеется. Я такой же человек, как и все.
Станислав (бросив работу). Вовсе нет! То есть вы, конечно, «как все», но задались целью быть «далеко не как все».
Ольга. Я?!
Станислав. Ах, для вас это новость?.. Но берегитесь, дорогая! никто не может безнаказанно насиловать природу.
Ольга. Я и не собираюсь. Наоборот: — хочу всячески считаться с природой, но в ее реальном виде, а не…
Станислав. …в идеальном?
Ольга (поправляя). …идеалистическом! это не одно и то же. То есть я не хочу смотреть на природу под каким-то искусственным колпаком, засиженным мухами. Брр… (Вздрагивает.)
Станислав (с горькой иронией). Вам это так претит?
Ольга. Нет, мне просто холодно. (Прохаживается, чтобы согреться.)
Станислав (остановив граммофон). Хотите коньяку?
Ольга. Это паллиатив. Вы бы лучше переменили студию. Над квартирой профессора Фора как раз пустует одна мастерская, — там так тепло во всех этажах.
Станислав (смотря на часы). Надо об этом подумать. А что ж ваш профессор Фор и вся «ученая братия»? не надуют? я жду их.
Ольга (пожимая плечами). Раз люди обещали…
Станислав. Тогда я приготовлю выпивку! уж время. (Направляется налево, к двери.)
Ольга. А ваша сестра?
Станислав. Ганна уж здесь: давно приехала. (Показывает налево, на смежную комнату.) Мастерит там сандвичи и пирожные. Я дам знать ей, что сеанс окончен. (Убегает налево.)
Лишь только он скрылся, Ольга быстро подходит к закутанной статуе, откалывает покрывало и с любопытством заглядывает под него. Не проходит и полминуты, как Станислав возвращается с большим подносом, уставленным винами, ликерами, рюмками и бокалами. Застигнув Ольгу как бы с поличным, он вскрикивает и застывает на месте.
Ольга!.. что вы делаете? кто вам позволил? (Ставит поднос на стол и подбегает к полураскрытой статуе.) Оставьте сейчас же! отойдите!
Ольга. Я хотела только… взглянуть на себя! — ведь это тоже я? но…
Станислав (запахивая покрывалом статую). Вот! доверяйся вам после этого!
Ольга. Вы мне не доверяете и я плачу вам тем же! — мало ли какую карикатуру вы там лепите с меня. Отчего вы скрываете ее так упорно?.. Если она простое 101 повторенье этой (показывая на раскрытую статую), то к чему делать тайну!.. если же нет, то… (Наливает себе коньяку и пьет.)
Станислав (перебивая). И до всего-то вам надо докопаться, все исследовать, узнать, проверить… Бросьте хоть на миг ваши лабораторные привычки! — забудьте свою клинику и вообще свою ученость, ну хотя бы тогда, когда за вами ухаживают.
Ольга. Что вы хотите этим сказать? — чтобы я стала на уровень мещанки, принимающей за чистую монету всякий вздор, что ей нашептывает возбужденный самец? Вы этого хотите?.. Но если я знаю, — как физиолог знаю, — что все это лишь уловка, к которой прибегает природа, чтобы понудить самку к деторожденью, зачем же мне поддаваться обману!
Станислав (со вздохом). Мда… знаете ли, как бы я ни любил вас, а никогда не смог бы стать ни вашим мужем, ни любовником. Жить с женщиной, которая все время за тобой наблюдает, изучает тебя словно лягушку, расчленяет каждый порыв, рационализирует, контролирует себя, другого и обоих вместе в самые бесконтрольные минуты! — с ума можно сойти от такой пытки.
Ольга (смеясь). Вас никто к подобной пытке и не приглашает.
Станислав. Увы!
Ольга. Увы?
Ганна (входит, опираясь на палочку, в кокетливом «восточном хитоне». У нее веселый вид слегка охмелевшего человека). А-а! здравствуйте, доктор! А где же другие? (Брату.) Кончила сандвичи! — неси сюда! И фрукты тоже! (Присаживается на стол.)
Ольга. Как ваша нога?
Ганна. Совсем заживает.
Станислав (ей). Я перенесу туда граммофон!.. может, захотят танцевать потом! а?
Ганна. Ладно.
Станислав уходит налево, унося граммофон.
Но шрам, конечно, останется… и заметный.
Ольга. Он сгладится со временем.
Ганна. Не утешайте — пусть! мне дорога эта память о его любовном порыве. (Смеясь.) Ведь это же не каждый день в вас палят из револьвера от избытка любви, не правда ли?
Ольга. К счастью!
Ганна (поднимает край хитона и показывает Ольге ярко-розовый шрам на ноге). О, как он будет целовать этот шрам, мой Валико, когда его увидит! Вы знаете, адвокат сказал, что есть полная надежда на его оправдание. Надо только, чтоб эксперты признали, что он был невменяем тогда. Я получила от него письмо…
Ольга. От адвоката?
Ганна (с чувством). От Валико из тюрьмы! (Наливает себе вина и жадно пьет.) О, как он раскаивается теперь! как любит! как страдает!.. Вы знаете, у него маленькие усики, вот такие, совсем крохотные. И детские глаза. Совсем детские. А когда он в черкеске танцует, сморщив брови, и кинжалом так делает… (Показывает угрожающий жест.) О! вы бы все отдали, чтоб он улыбнулся вам. Это настоящий горец! дикий, как весь его Кавказ… (Вдруг заглянув в глаза Ольги.) Отчего вы такая грустная?
102 Ольга. Я?.. что вы…
Ганна. Да, да! У вас грустные глаза и, наверное, пусто на сердце. Я всех вижу насквозь… Выпьемте! (Наливает два бокала и чокается.) За перемену к лучшему!
Пьют.
Станислав (вошедший при последних словах с блюдом сандвичей и корзиной фруктов). Ганна, не пей так много! (Ольге, ставя на столе принесенное им.) Запретите ей, доктор! она прямо сопьется.
Ганна (передразнивая). Не пей, не пей… Что ты хочешь, чтобы я подохла с тоски?.. Освободи моего Валико, тогда перестану. А пока… (Ольге.) Когда я выпью, я вижу его, словно он тут… так ясно, ясно, совсем отчетливо… Маленькие, крошечные усики и детские глаза, ну совсем детские. (Всхлипывает.)
Станислав (ей). Пойди переоденься! Нечего нюни разводить! Ты ведь привезла с собой платье? не ленись же! скорее!
Ганна (сморкаясь, слезливо). Не кричи. (Ольге, слезая со стола.) Я привезла платье, в котором он влюбился в меня. Вот вы увидите! — ничего особенного, но… но он влюбился, увидев меня в этом платье…
Станислав. Иди, иди! Сейчас гости придут, а ты…
Ганна. Иду. (Ольге.) Вот вы увидите. (Уходит налево.)
Ольга (искренне). Она очаровательна. Почему вы предпочли с меня лепить, а не с нее?
Станислав. С родной сестры?!. Вы прямо циник.
Ольга. Почему?
Станислав. Как «почему»?.. смотреть часами на наготу своей сестры…
Ольга. А что же тут ужасного? Меня можно видеть голой, а сестру возбраняется. Где это сказано? В завещании вашей бабушки?
Станислав. Гм… Есть древние веленья, Ольга, с которыми нельзя не считаться.
Ольга. И это говорит художник, которого считают революционером в искусстве?
Станислав. Можно быть революционером и все же не мириться с бомбардировкой Реймского собора. А многое из наших древних чувств по своей ценности и красоте не меньше значат, чем Реймский собор.
Ольга. У вас страсть к софизмам.
Станислав. А у вас — к цинизму.
Ольга. Клевета!
Станислав. Нисколько!
Ольга. В чем же у меня цинизм, по-вашему?
Станислав. Во всем.
Ольга. Ну, например?
Станислав. Вы помните ваше определенье поцелуя?
Ольга. Ну?..
Станислав. Это незабываемо… Поцелуй, сказали вы, не что иное, как взаимное раздраженье эрогенной зоны, находящейся в полости рта.
Ольга. Ну что ж, это верно!
Станислав. И только?..
Слева, из соседней комнаты, вновь раздается «Love again» на граммофоне.
103 Ольга (после короткой паузы). А вы бы как определили?
Станислав. Я не сумею это выразить словами, но… (Неожиданно обнимает ее и запечатлевает на ее губах длительный поцелуй.)
Ольга (освободившись от его объятий, с напускной иронией). Что за темперамент!.. вы меня даже испугали!
Станислав (учащенно дыша). И это все, что вы можете возразить?
Ольга. Гм… вы чудак! И потом, вообще так не спорят… (Вытирает платком губы и помадит их.) Если у меня рука, скажем, чешется и я, расчесывая ее, получу удовольствие, — неужели я должна еще что-то видеть за этим, кроме простой физиологии?
Справа раздается звонок. «Love again» на граммофоне умолкает.
Станислав (оправляя быстро галстух и волосы). Мда… вас трудно полюбить с такими-то взглядами. (Устремляется в переднюю, направо.)
Ольга (задерживая его, со жгучим интересом). Но все же возможно?.. а?.. возможно?..
Станислав (после короткой паузы, пересиливая себя). Вы сами это знаете. (Вырывается и убегает в переднюю.)
Ольга достает пудреницу и, торопясь, пудрится. Из передней раздаются голоса Альфреда Барбье и Станислава.
Альфред (входя). А я думал, что опоздал… (Здороваясь с Ольгой.) Здравствуйте, дорогая! Как дела? Слыхали новость? Сюзанна получила предложение!..
Ольга. В новую клинику?
Альфред. Нет! — предложение руки и сердца.
Ольга. Да?.. от Жака Смита, конечно?
Альфред. Ну разумеется! Только пока это — «секрет на весь свет». (Завидев скульптуру, изображающую Ольгу.) А-а… вот и ваш двойник!.. (Подходит к скульптуре и осматривает ее.) Здорово подвинулось… Почти закончено? А? (Пауза созерцания.) Отлично… Теперь гораздо лучше, когда вы опустили плечи. Я вижу, мое указанье пошло впрок! верно?.. И у коленных чашек теперь лучше рельеф.
Станислав. А грудь?.. вы находили в отношении подмышек…
Альфред. Теперь хорошо. (Обходя вокруг статуи.) Молодчина! Вы прямо заново рождаете Ольгу. И это выражение лица!
Станислав (со вздохом). О, если б я мог это сделать!
Альфред. Что?
Станислав. «Заново родить» ее, как вы выражаетесь.
Альфред (поглядывая на Ольгу прищуренными глазами). Вы бы здорово ее переделали? а? сознайтесь!
Станислав. Не в смысле внешнем, конечно.
Альфред. Я понимаю.
Станислав. А в смысле… как бы это выразиться… тепла, которое животворит все линии.
Альфред. Ну что ж! вам остается только провести центральное отопление. (Хохочет.)
Ольга. Где?
104 Станислав (выразительно). В «статуе», от которой веет холодом.
Альфред. Ловко сказано.
Ольга. Я на свой счет не принимаю.
Альфред. Напрасно! (Любуясь спиной статуи.) Шикарное телосложение, черт побери!.. никогда не думал, Ольга, что у вас такой симпатичный зад.
Ольга. Бросьте, Альфред, ваши шуточки! — у Станислава мания во всем замечать пошлость.
Альфред. Я нисколько не шучу. (Станиславу.) А когда выставка?
Станислав. Через полторы недели.
Ганна (входит в эксцентричном платье, с огромным декольте, сильно накрашенная, в диковинном ожерелье и броских браслетах). Здравствуйте!.. (Здоровается с Альфредом.) Как я вам нравлюсь в этом наряде?
Звонок в передней. Станислав убегает открывать дверь.
Альфред. Обворожительны! (Целует ее руку.)
Ганна. Это его вкус.
Альфред. Вашего брата?
Ганна. Моего Валико! Валико Беридзе!
Альфред. А как ваша ножка?
Ганна. Почему меня спрашивают о ноге, когда я ранена в сердце?
Альфред. В сердце? Ах да! и все же на ножку можно взглянуть? уже зажило?
Ганна. Нельзя! В этом платье это… неприлично…
Альфред. Доктора не мужчины! — им все разрешается.
Ганна. Да-а! держи карман шире!
Входят Сюзанна Плакэт и Жак Смит, за ними Станислав. Общие приветствия и рукопожатия.
Здравствуйте, господа! Очень рада вас видеть в другой обстановке… Здоровье мое превосходной остается выпить разве что за ваше!.. Станислав, налей всем!..
Станислав исполняет ее просьбу.
Сюзанна (весело). Как? сразу же? дайте осмотреться.
Ганна. Успеете! а вино не терпит проволочки. (Поднимая свой бокал.) Ваше здоровье!
Все пьют.
До конца! — так полагается.
Сюзанна (пьет). Ух, как крепко! Это что? мадера? (К Смиту, который отошел с бокалом к статуе и любуется ею, склонив голову набок.) Жак!.. куда вы?.. Ишь, как нагота его притягивает! А еще врач!.. мало ему еще в клинике телес обнаженных! (Подходя к статуе) Ба!.. Да это наша Ольга!.. То-то он так загляделся.
Станислав (к ней). Ваше мнение?
Сюзанна. Я в искусстве не того-с. По-моему, прекрасно! — сразу можно узнать, хоть никогда не думала, что Ольга так чудесно сложена.
Ольга (смеясь). Почему «не думали»?
Сюзанна (спохватившись). Я не то хотела сказать. Не придирайся!
Общий смех.
105 Альфред (Ольге). Да, дорогая, вы много теряете в платье.
Ганна (угощая вином и фруктами). Все теряют. Одна я лишь выиграла в этом платье.
Альфред (чокаясь с ней). Оно так вам идет!
Ганна. Валико это тоже находит. (Пьет.)
Сюзанна (все еще осматривая статую). Какие чресла широкие! тебе бы, Ольга, рожать да рожать!
Станислав (Сюзанне). Никаких погрешностей не находите? (Вынимает записную книжку.)
Сюзанна. Гм… пожалуй, ключицы слишком спрятаны… Ольга ведь не настолько полна, чтобы…
Станислав (записывая). Я понимаю — мало рельефа, надо выдвинуть…
Сюзанна. Подчеркнуть… А вы, я вижу, не капризный? — считаетесь со всеми замечаниями?
Станислав. Обязательно! раз они искренни.
Альфред. «Глас народа — глас Божий».
Ольга (про Станислава). Он без конца поправляет. Даже у консьержки здешней спрашивал мнение! а она толста, как боров.
Альфред. И что же она сказала?
Ольга. Ну конечно — что ляжки худощавы и грудей «кот наплакал».
Смех.
Станислав (Смиту). А вы что скажете?
Сюзанна (заслоняя Смита). Мы что? — а вот как профессор Фор взглянул бы на эту анатомию! от него ничто не скроется.
Ганна. Что же он так запаздывает?
Смит пожимает плечами, набирает воздуху и, показывая на живот статуи, разевает рот.
Сюзанна (не давая ему сказать). Я знаю, что ты скажешь: пупок слишком высок? Ты прав — надо ниже!
Станислав (Смиту). Вы думаете?
Смит словно хочет ответить «пожалуй», но ограничивается молчанием.
Ольга. Он не любит праздной болтовни, предоставляя это удовольствие Сюзанне. К тому же он католик и боится выдать себя, как это раз уже случилось.
Станислав (Смиту). Вы верующий?
Сюзанна. Ну так что ж из этого? а Дарвин? а Паскаль? а Мендель? а Павлов? Мало ли какие случаи бывают!
Ольга (ей в тон). … «и жук пищит и корова летает», говорят школьники.
В это время Альфред передразнивает Смита, собирающегося что-то сказать, склонив голову на бок, но вместо ответа на вопрос Станислава пожимающего в нерешительности плечами и разводящего руками. Все смеются пародии, Сюзанна больше всех.
Сюзанна. Ах, господа, если бы вы видели, как Альфред изображает нашего профессора Фора, вы бы просто обалдели со смеху! (Альфреду, мимически стушевывающемуся при обращении Сюзанны.) Альфред, милый, ну изобразите, пожалуйста! (К другим.) Мы вчера с Жаком чуть с ума не сошли: ну вылитый профессор Фор!
106 Станислав и Ганна. Просим! просим! (Станислав наливает всем вина и угощает.)
Ольга. Господа, неудобно — все-таки это наш патрон! Ну, что подумает о нас хозяин дома?!
Сюзанна. Почему «неудобно»? это же дружеская пародия! Валяйте, Альфред! не стесняйтесь.
Ганна. Начинайте, мы не осудим!
Альфред (берет у Смита его роговые очки, похожие на очки профессора Фора, и надевает их). Разрешите «вольную импровизацию»?
Все (кроме Ольги). Что хотите! Просим!
Альфред (занимает место в центре полукруга, образуемого сидящими слушателями, поправляет очки характерным жестом профессора Фора и откашливается). О чем вы тут беседовали, господа? наверное, о политике или о женщинах? У умственно отсталых людей нет лучшей темы, чтобы показать на ней свое убожество. Спорят, горячатся, потеют, а в результате — шиш с маслом. Между тем с научной точки зрения все решается чрезвычайно просто и скоро. (Протирает очки, имитируя профессора Фора.) Когда политики кричат мне с азартом: «коммунисты, анархисты, социалисты!..», я им спокойно отвечаю: «катарральные субъекты, дегенераты, неврастеники» (Надевает очки.) Вылечите их как следует, оперируйте, если нужно, изолируйте заразных и никаких революций не будет! Понятно?.. И то же самое можно сказать о женщинах. Никаких женщин не существует с анатомической точки зрения. Существуют лишь мужчины, но с другими половыми признаками. Вы скажете: это анекдот? Да?.. Ну что ж, и к анекдотам надо относиться научно. Недавно я слышал чрезвычайно остроумный анекдот. Все смеялись до упаду. Один я молчал, желая сперва взвесить, действительно ли смешон анекдот с точки зрения логики, быта и игры слов. И только когда я в этом убедился, я позволил себе рассмеяться, — правда, с огромным опозданием, но зато с полным правом.
Смешки, сопровождавшие эту пародия, переходят в дружный хохот, под который все аплодируют Альфреду. Он шутовски раскланивается и возвращает очки Смиту.
Ольга (совладав со своим смехом). Ну как не стыдно издеваться так над бедным профессором!
Слышен энергичный двойной звонок.
Это он!
Все стихают.
Станислав (бежит в переднюю, бросая Ольгу). Вы так изучили его манеру звонить?
Все в ожидании профессора немного «подтягиваются». Ольга и Ганна наполняют бокалы вином, один из них Ганна ставит на подносик и берет последний в руки, приготовляясь к встрече «почетного гостя». Все встают и полушутя выстраиваются в одну линию. Из передней невнятно слышен обмен приветствиями профессора со Станиславом. Профессор входит, сопровождаемый Станиславом, при всеобщем молчании.
Профессор Фор (здороваясь с Ганной и остальными). Здравствуйте!.. добрый вечер!.. Опоздал из-за обеда… по случаю съезда гистологов. (К Ганне.) Ну как?.. танцуем уже?
107 Ганна. Не раньше, чем освободят Валико. (Подносит бокал вина.) Прошу вас!
Профессор Фор (улыбаясь). Как? с места в карьер?!. Я вижу, здесь не теряют даром времени. (Поднимает бокал. Ганне.) Ваше здоровье! его вам не хватает ни в телесном, ни в душевном отношениях. (Пьет.)
Станислав. За здоровье профессора Фора!
Все. Урра!.. (Пьют.)
Профессор Фор. Благодарю вас! — это очень кстати выпить за мое здоровье, так как обед гистологов прошел под лозунгом полного самоотравленья алкоголем.
Общий смех.
(Озираясь кругом, спрашивает Станислава.) Это все ваши произведения?
Станислав. Гм… большей частью.
Профессор Фор (подойдя к статуе Ольги). А-а!.. знакомое лицо!.. очень знакомое… не тело, а лицо… я уточняю.
Станислав. Ваше мнение?
Профессор Фор (осматривая скульптуру). Видите ли, я подхожу к искусству с научной точки зрения… (Снимает очки, протирает их и говорит лекционным тоном, весьма похожим на пародию Альфреда, что возбуждает мало-помалу сдержанные смешки окружающих.) Произведение искусства изображает или внешний мир, окружающий художника, или его внутренний мир… Поскольку эта скульптура изображает в целом госпожу Ольгу Норман, я, признаться, не могу судить объективно, так как, к сожалению, не видел модель обнаженной…
Ганна (придирчиво-насмешливо). «К сожалению»?
Профессор Фор. То есть, я хочу сказать, что до сих пор я не имел случая…
Ганна (так же). Ах, только «до сих пор»?.. пока?..
Все смеются.
Профессор Фор (ей, с натянутой улыбкой). Вы придираетесь. Я хотел попросту сказать, что так как я не имел удовольствия видеть госпожу Норман голой, то…
Ганна. Ах, все же «удовольствия»?
Взрыв общего смеха.
Станислав (Ганне). Да дай же сказать! и не пей так много! Профессор, запретите ей!
Профессор Фор. Словом, мне трудно судить об изображении того, чего я не видел в натуре. Что же касается внутреннего мира художника, отразившегося в Данном произведении, то… это дело интимное, и я избавлю автора от анализа его чувств, выдающих свои «тайны» в некоторых линиях этой статуи.
Станислав. Но почему же? пожалуйста! не стесняйтесь!
Альфред и Сюзанна. Это так интересно… просим!
Профессор Фор. Нет, нет, это слишком деликатный вопрос… С анатомической же точки зрения — это все приблизительно верно, кроме os cocigeum8*, которая чересчур выдается. (Показывает на крестец у статуи, делая жест вниз.)
Станислав старательно записывает поправку профессора.
108 Ганна. Вот что значит ученость! а я и не подозревала, что у нас еще какая-то os cocigeum имеется. И подумать только, что я могла умереть, не имея об этом… ни малейшего понятия.
Снисходительный смех среди присутствующих.
Профессор Фор (повернувшись к фантастическому пейзажу, висящему на стене). А это что за картина?
Станислав. Это — попытка написать… музыкальный пейзаж, под впечатлением одного ноктюрна, который разучивала Ганна…
Сюзанна (Ганне). Ах да, ведь вы играете?.. Вы обещали поиграть нам! помните?
Альфред (озираясь). Но где же рояль?
Ольга. В той комнате.
Станислав (Ганне). Пойди! — это идея! (Другим.) Она играет с большим чувством.
Ганна встает.
А я здесь займу профессора картинками, что отобрал ему на выбор. (Достает с этажерки папку с этюдами.)
Профессор Фор. О, вы слишком любезны.
Ганна (уходя налево в сопровождении Сюзанны, Ольги и Смита, оборачивается в сторону профессора Фора). А вы как насчет музыки? переносите ее? а то, может быть…
Профессор Фор (улыбаясь). Переношу, и очень стойко, — не беспокойтесь!
Ганна (просто, по-детски). Только я все грустное буду играть.
Альфред. Почему?
Ганна (печально). Валико в тюрьме… вы забыли.
Уходит с другими налево. На сцене остаются лишь профессор Фор, Альфред Барбье и Станислав Малько. Последний раскрывает на столе принесенную папку с этюдами и показывает их профессору Фору.
Профессор Фор (вслед ушедшей Ганне). Ей надо серьезно подлечить свои нервы.
Станислав. Уж я ей сколько раз твердил! Не знаю, что и делать, до того ее жалко.
Профессор Фор. Надо добиться, во-первых, чтобы она вполне осознала источник своих страданий, — осознала бы призрачность того, что называется «любовью».
Станислав. Я вас не совсем понимаю.
Профессор Фор. Я хочу сказать: мало знать в теории, что любовь — лишь надстройка нашего воображения на сексуальной базе, нужно еще, чтобы эта истина вошла в плоть и кровь человека.
Станислав. То есть какая «истина», простите?
Профессор Фор. А вот та, что любовь — предрассудок, истощающий нашу психику.
Станислав. Предрассудок, вы думаете?
Профессор Фор. А то что же!.. Разложите любовь на составные части и увидите, что это только смесь полового влеченья с инстинктом размножения и того чувства самосохранения, которое называется «симпатией».
Станислав. И все?
Профессор Фор. Все!
109 Станислав. Но откуда же берутся такие «предрассудки»?
Профессор Фор. Как откуда!.. Говоря фигурально, предрассудок — это то, что нарастает у человечества, как мозоль, в ходе исторического развития, которая болит, когда на нее наступают, и от которой надо отделаться.
Слева негромко раздается музыка рояля, полная грустной мечтательности и нервных всхлипов. Профессор Фор и Альфред Барбье прислушиваются к музыке и в то же время рассматривают содержимое папки, поданной им Станиславом. Один из этюдов надолго останавливает их внимание.
Станислав (пройдясь по комнате). А вот у меня был приятель с застарелой мозолью. На войне ему ампутировали ногу. Так вообразите: как только дождливая погода — болит мозоль на отрезанной ноге, да и только! Что вы на это скажете?
Профессор Фор (нехотя поучая). Источник боли не на периферии тела, а в мозгу, — в голове. (Показывает на голову.)
Станислав. Так что лучше всего голову отрубить в таком случае?
Натянуто смеются.
Профессор Фор (показывая на этюд, привлекший его внимание). Что это изображает, простите?
Альфред (рассматривая этюд). Ученый муж над микроскопом… Вдали туманный образ какого-то духа…
Профессор Фор. Что он рассматривает под микроскопом?
Альфред. Гм… Какой-то узор на плаще этого духа… (Станиславу.) Верно?
Станислав. Это этюд к картине «Бог под микроскопом».
Профессор Фор. Гм… богатая фантазия!
Альфред (Станиславу). Символ?
Станислав. Если хотите — символ тщетных стараний. Мы как-то беседовали с Ольгой Норман о… любви.
Профессор Фор (живо). О любви? Вот как? Это любопытно! И что ж она сказала?
Станислав. То же, что и вы: что это, мол, пережиток, предрассудок, иллюзия…
Профессор Фор (довольный). Ну еще бы! Другого мнения я и не ожидал от нее. И что же?
Станислав. Ну вот мы и поспорили…
Профессор Фор. Я понимаю: этот этюд наведен дискуссией о любви?
К этому моменту игра Ганны на рояле смолкает.
Станислав. Говорят — «Бог — это любовь». И правильно! — как Бога, так и любовь или чувствуешь, видишь духовным оком, и тогда микроскоп излишен! или же нет, и тогда никакой микроскоп их не откроет.
Профессор Фор. Я не понимаю… какая тут связь?
Станислав. А та, что в обоих случаях все зависит от угла зрения и особого чувства. Без должного подхода ни Бога, ни любви не узнаешь. (Подойдя к изваянью Ольги.) Вон муха, скажем, ползает по этой скульптуре. Уж кажется, чего лучше: по 40 000 призм в каждом мушином глазу. А разве ей вдомек, кто под этой формой скрывается. — Мухе ничего не заметно, кроме неровностей глины.
В соседней комнате взрыв смеха.
110 Профессор Фор (снисходительно смеясь вместе с Альфредом). Оригинальный взгляд!
Ганна (показавшись в дверях, повеселевшая). Станислав, пойди сюда!
Станислав. Сейчас. (Профессору.) Вот выберите, прошу, что вам нравится.
Профессор Фор. Благодарю вас!
Альфред (Станиславу). Так что мухи напрасно прикасаются к произведениям искусства? Это ваша мысль?
Станислав (смеясь). Совершенно напрасно! — они могут лишь загадить то, что вам дорого. (Уходит налево, вслед за Ганной.)
Профессор Фор (дав волю накопившемуся чувству, обращается к Альфреду, наливающему обоим вина). А?! какова самоуверенность!.. (Кивая головой в сторону ушедшего Станислава.) И воображает, что прав!.. поучает нас с вами, иронизирует: «Бог под микроскопом»! «Ха-ха-ха» — как смешно! Непременно возьму у него эту картинку!.. хотя бы для профессора Кальвет! — у него отличная коллекция рисунков сумасшедших. (Пьет.)
Альфред (тоном, напоминающим его недавнюю пародию на профессора Фора). Что вы хотите! — артисты! — особое мировоззрение! эмотивность, порывы, неуравновешенность! Спорят, горячатся, потеют, а в результате…
Профессор Фор (договаривая). …шиш с маслом!
Альфред. Вот именно. (Пьет и вновь наливает обоим.)
Профессор Фор (поворачивая так и этак картон, о котором шла речь). «Бог под микроскопом»… Он думает, что это очень остроумно!
Альфред. Наверное — ведь художники воображают, что только им открыт мир, а нам, грешным, ничего без микроскопа не видно.
Профессор Фор (с иронией). «Им открыт мир» — этим слепым кротам, которые ничего, кроме игры красок и светотени, не видят.
Раздается музыка граммофона — какой-то разудалый негритянский джаз. Альфред снова наливает обоим вина.
(Останавливает его.) Нет, нет! — я уж и так пьян… да еще эта музыка! Не одурманивайте меня больше! Вредно.
Альфред. Это вино некрепкое.
Профессор Фор. Дело не только в нем… А в этом доме вообще задались целью одурманивать людей чем попало! — и вином, и музыкой, и мистикой, и пластикой и уж не знаю чем! Не хватает только «жриц любви» в довершении дурмана.
Слева появляется Ганна.
Ну, так и есть — теперь «полный комплект».
Альфред (ей, галантно). А мы только что о вас говорили.
Ганна (подходя к ним). Идите танцевать!.. Профессор, вы танцуете?
Профессор Фор. Нет! Я предпочитаю другую гимнастику и… по утрам преимущественно.
Сюзанна (вбегая). Альфред! идите танцевать…
В дверях появляется, обнявшись, пара: Станислав и Ольга.
Станислав (кричит задорно). Присоединяйтесь, господа.
Скрываются танцуя. Сюзанна уводит Альфреда налево.
111 Ганна (подсаживается к столу, за которым профессор Фор и, налив вина обоим, жадно пьет). Слушайте! — я от вас не отстану, пока вы мне не обещаете… (Вынимает из-за корсажа записку.) Вот слушайте, что сказал адвокат. (Читает.) Гм… «все зависит от экспертизы»… Да, вот… «экспертами назначены: д-р Брюн, Рене де Шартр и профессор Кальвет»…
Профессор Фор (пьет). Кальвет… Мы только что о нем говорили.
Ганна. Да.
Смиту, который показался в дверях, с намерением присоединиться к их обществу.
Закройте, пожалуйста, дверь, — у нас тут секреты.
Смит уходит, закрывая за собой дверь, отчего музыка в соседней комнате значительно заглушается.
Вы должны объяснить им, что мой Валико действовал в полном безумии и что это я довела его до исступления.
Профессор Фор (с жестом, словно он отстраняет от себя неприемлемое предложение). Никогда я не позволю себе воздействовать на совесть эксперта. И вообще вы обратились не по адресу: — я сторонник изоляции преступного элемента.
Ганна (горячась). Но мой Валико не преступник.
Профессор Фор. Вот суд и разберет это при помощи экспертов.
Ганна (со слезами). И вас не трогает моя любовь к нему… нет?
Профессор Фор. Только не плачьте, пожалуйста, — я этого не выношу.
Ганна. Если бы вы знали, что такое любовь, вы бы никогда…
Профессор Фор (перебивая). Поверьте, что в этом вопросе я скорее могу просветить вас, нежели вы меня.
Ганна. Что же она такое?
Профессор Фор. Любовь? (Осушает залпом бокал.) Одна из половых иллюзий.
Ганна (подсаживаясь к нему вплотную). Но неужели вы сами никогда в жизни…
Профессор Фор (перебивая). О, не принимайте меня за аскета! — я не насилую природы! нет, нет! Но я привык разумно вести свое сексуальное хозяйство; без выстрелов, знаете ли, без скандалов, без излишней сентиментальности — безопасно для себя и для общества.
Ганна (иронично соглашаясь). Научно, одним словом.
Профессор Фор. Вот именно… Чистоплотность ума — прежде всего… Надо сознательно относиться к обману наших чувств… Мне кажется, к примеру, что эта комната качается… Приписать это землетрясению? Нет, просто я выпил лишнее… У вас красивые глаза… Но пред моим сознанием не только часть глазного яблока, видимая между век, а все оно, словно крутое яйцо с красными жилками и студенистыми нервами…
Ганна. Какая гадость!
Профессор Фор. Да, да! Я представляю вас себе, ну, как освежеванной…
Ганна. Зачем?
Профессор Фор. Привычка анатома. Вот я беру вашу руку за кисть. Другой невесть что почувствует. А я — только ваш пульс, связки, мускулы и восемь косточек запястья: os triquetrum, hamatum, scaphoideum, pisiforme9*.
112 Ганна (перебивая). Какой ужас! (Смотрит на него с нескрываемым изумлением.)
Профессор Фор (увлекаясь). Или, например, я беру вас за талию… (Обхватывает ее стан.) Ваше тело излучает приятный аромат… хотя это скорее от волос. (Принюхивается.) Но я же знаю, что под моей рукой не «эфемерный стан», воспетый поэтами, а нечто очень матерьяльное, начиная с ребер, печени… (Пощупывает.) Она у вас как будто увеличена… и кончая…
Ганна (вырвавшись из его объятий). Да! это потому, что я не Ольга… Иначе вы бы говорили не о потрохах, а о том, что поважнее этого.
Профессор Фор. Ольга… Какая Ольга?..
Ганна. Ольга Норман.
Профессор Фор. А при чем тут она?
Ганна. А при том, что вы в нее влюблены.
Профессор Фор (после короткой паузы изумления). Я?.. влюблен? в Ольгу Норман? вы бредите! (Хохочет.)
Ганна. Да! — влюблены! я это сразу заметила по одному вашему взгляду.
Берется за бокал вина. Он, оборвав свой смех, останавливает ее руку, она смотрит на него вопросительно.
Профессор Фор (после паузы, с наигранным самообладанием). Слушайте… У вас расстроенное воображение… больные нервы… Не пейте больше! Слышите?.. Это вредно! (Берясь за свой бокал, говорит почти машинально.) Ваше здоровье. (Медленно, словно в раздумье, выпивает не отрываясь свой бокал до дна.)
Занавес.
ТРЕТЬЯ КАРТИНА
Снова у профессора Фора, — в его кабинете. День клонится к сумеркам. Дверь в операционную закрыта. На столе микроскоп с рабочей лампой, кипа книг и корректурных гранок. Ольга Норман и профессор Фор сидят за сверкой корректур: перед ней гранки, перед ним рукопись.
Ольга (быстро читает). «… Там, где нервная система построена так — запятая — что организм может отображать какую-либо связь явлений — запятая — то есть создавать ряд представлений о явлениях — запятая…».
Профессор Фор. Не «ряд», а «цепь»!
Ольга (поправляя пером). «Цепь»… «Там могут быть отображены и постоянные — запятая — то есть логичные связи явлений — точка с запятой».
Профессор Фор. Точка, — так будет яснее.
Ольга (поправляя). Точка… «Логичность связи мышления порождается логичностью связи предмета мышления». Точка. Тире.
Профессор Фор. Не надо тире!
Ольга (зачеркивает). «Эта связь, при травме черепа с поражением кортикальных центров — запятая — разрушается — запятая — ведя к диссоциации зрительных ощущений с тем — запятая — что они собой знаменуют…».
Профессор Фор (прерывая). А в «Анналы» вы отослали отчет?
Ольга. Еще вчера. Там не было правки.
113 Профессор Фор. Хорошо. Эта корректура тоже спешная.
Ольга. Я знаю.
Профессор Фор. Продолжайте!
Ольга (читает). «Известно — запятая — что для образования логичных связей мышления… не нужно другого психофизиологического аппарата, кроме…».
Слева входит Мадлен и останавливается в дверях.
Профессор Фор (к Мадлен). В чем дело?
Мадлен. Там пришла эта самая… ваша завсегдашняя… (Мнется.)
Профессор Фор. Сейчас не время приема!
Мадлен. …которая по пятницам к вам ходит.
Профессор Фор (слегка смутившись). Ах да!.. сегодня пятница.
Мадлен (Ольге). И потом к вам, барышня, тетя на минуточку… ключи какие-то затерялись…
Ольга (вставая). Тетя?
Профессор Фор (к Мадлен, суетливо). Так попросите ее сюда!..
Ольга. Я сама выйду к ней! — разрешите?
Профессор Фор. Да нет же! пусть войдет! чего ей там сидеть с больными. (К Мадлен.) Просите!
Мадлен уходит.
Ольга. Мы вчера перебрались сюда с тетей…
Профессор Фор. Куда?
Ольга. Вниз, — под вами.
Профессор Фор. В меблированные комнаты?
Г-жа Норман (симпатичная, робкая старушка, входит, приглашаемая к тому Мадлен). Простите, ради Бога… я на минуточку… Ольга, милая! Куда ты дела ключи от сундука… (Профессору Фору.) Ее книжки только что прибыли, а как же я распакую, если…
Ольга (сконфуженно, профессору Фору). Позвольте вас познакомить! Моя тетя… Профессор Роберт Фор.
Г-жа Норман (пожимая руку профессору Фору). Очень, очень приятно! А мы теперь ваши соседи… Ольга так хотела быть поближе к вам, то есть к месту службы… а у меня тут как раз в первом этаже аббат знакомый обитает.
Профессор Фор. Очень рад вас приветствовать! (Ольге.) Пожалуйста, не стесняйтесь… если нужно ваше присутствие…
Г-жа Норман. Простите за беспокойство, но я, право, не хотела…
Ольга (ей). Ключи в сумочке.
Г-жа Норман. Нет их там…
Ольга. Ну, как нет?
Г-жа Норман. И куда поставить книжки?
Ольга. Разрешите, профессор, я спущусь на минуту!
Профессор Фор. Сделайте одолжение! — я всегда вхожу в положение.
Звонок телефона.
Г-жа Норман. До свидания! (Рукопожатие.) Столько хлопот! Уж вы простите, пожалуйста!
114 Ольга (ему). Я сейчас вернусь!
Повторный звонок телефона.
Профессор Фор. Не стесняйтесь, прошу вас!
Обе Норман уходят.
(Берет трубку телефона.) Алло… Да, это я… Снова лихорадит?.. это не опасно.
Мадлен снова появляется в дверях в выжидательной позе.
Не могу, — занят. Обратитесь к моему ассистенту! (Делает знак Мадлен, после которого она вводит Жоржету.) «Литтр 165-18»… Да, да — Альфред Барбье… Всего хорошего! (Вешает трубку.)
Жоржета (смазливая, молоденькая проститутка из простонародья, одета с нарочитой простотой, немножко «под подростка», говорит с вульгарностью, присущей ее профессии. Входит с заранее протянутой рукой для рукопожатия и еще в дверях приветствует профессора Фора). Здравствуй, миленький!.. как поживаешь?.. как дела? а скажи-ка, много ли накромсал человечьего мяса за эту неделю? занят по горло, конечно? и, как всегда, торопишься? знаю, знаю! не задержу, голубчик! (Снимает манто и быстро раздевается далее в явном намерении совсем разоблачиться.)
Профессор Фор (в легком затруднении). А я сегодня как раз не тороплюсь… то есть я хочу сказать — мне вообще сегодня некогда! я забыл предупредить.
Жоржета (приостановившись). То есть как это «некогда»? сегодня ж пятница! или ты решил переменить день?
Профессор Фор. Я вас уведомлю, когда…
Жоржета. Вот те раз!.. Что ж, ты не «проголодался» разве за неделю? в чем дело? болен?
Профессор Фор. Будьте любезны одеться! — могут войти: дверь не заперта.
Жоржета. Что ж с того! — у докторов все раздеваются. На то они доктора.
Профессор Фор (любезно, настойчиво). Оденьтесь, пожалуйста, потому что… это напрасно: я сегодня занят.
Жоржета (нехотя одеваясь). Я ж потеряла время!
Профессор Фор. Я заплачу вам. (Роется в бумажнике, откуда вынимает две пачки банкнот — поменьше и побольше.)
Жоржета. Другую нашел, что ли? Так бы и говорил!
Профессор Фор. Повторяю: я вас вызову, если нужно будет. (Передает ей пачку банкнот, что поменьше, оставив другую на столе.)
Жоржета (пересчитывая с разочарованным видом). А может, и… не «нужно будет»? Говори уж сразу! Надоела? Да? Больше года еженедельно ходила, и вдруг… Вон какая хорошенькая вышла отсюда, когда я входила. (Оглядываясь кругом.) И где твоя прежняя секретарша-рожа? а? сплавил? заменил? (Вздыхая.) Всем приходит черед… (Надевая манто.) Ну, прощай… ничего не поделаешь, а только жалко как-то… привыкла я к этим самым «журфиксам», да и к тебе приноровилась… (Протягивает ему руку.) Скучать буду по пятницам.
Профессор Фор. Скучать?
Жоржета. А что же ты думаешь: и к собаке привыкаешь, а не то что к человеку. Ну, этого не объяснишь так, коли сам не понимаешь.
Профессор Фор (с кривой улыбкой). Но… разве я вам так уж… нравился?
115 Жоржета. «Так уж» не скажу, а что ты мужчина в соку и клиент аккуратный, об этом спорить не приходится.
Профессор Фор (заинтересованный). Ну, а… Присядьте на минуту!
Она садится.
А вообще, так сказать, могу в некотором смысле действительно нравиться?
Жоржета. Взаправду? ты хочешь сказать?
Профессор Фор. Вот именно! и не только таким, как вы, а… вообще женщинам, ну, скажем, — девушкам из приличной семьи?
Жоржета. Наивным дурочкам?
Профессор Фор. Ну, не только дурочкам, а… Ваш взгляд профессионалки для меня необязателен, — вы сами понимаете, — но все же довольно интересен с психологической точки зрения.
Жоржета (подумав). Видишь ли, чтоб взаправду нравиться женщине, надо с ней о пустяках болтать и вообще кавалером быть, а ты…
Профессор Фор. А я?
Жоржета. Гм… Ты не обидься, пожалуйста, но… что-то ты не больно на кавалера похож.
Профессор Фор. Да?.. ты находишь?
Жоржета. Нет в тебе этого самого… кавалерственного.
Профессор Фор. А на кого же я похож?
Жоржета. А на самого себя! Доктор? — ну, доктор и есть! и очки докторские, и опять же сурьезность.
Профессор Фор (натянуто улыбаясь). Так что же мне плясать, что ли, и песни горланить, чтобы женщинам нравиться?
Жоржета. Зачем? — не в этом дело.
Профессор Фор (слегка нервничая). Так в чем же? в чем?
Жоржета. Ну, этого не объяснишь так, коли сам не понимаешь.
Профессор Фор. Я понимаю, но мне хотелось бы знать ваше мнение, вашу, так сказать, формулировку.
Жоржета. Насчет «формулировки», мне это трудно, а вот насчет «мнения», так это дело вкуса. По-моему, женщине надо, чтоб от мужчины грубость перла, табачищем воняло, вином бы разило и вообще охальностью угрожало. А от тебя…
Профессор Фор. А от меня что? Это интересно!
Жоржета. А от тебя, разве что… мылом попахивает… Этого мало!
Профессор Фор. Гм… Оригинальный взгляд!
Звонок в передней. Профессор Фор настораживается, смотрит на часы и встает. Слышно, как в парадной хлопает дверь.
… Очень оригинальный! Так что ж мне делать, чтоб понравиться?
Сверху раздается «Love again», исполняемый на граммофоне с громкоговорителем.
Жоржета (встав вслед за профессором и натягивая перчатки). А я почем знаю? Видно, ты уродился таким!
Профессор Фор. Каким? (Прислушивается к «Love again», подняв голову.)
Жоржета (почти смеясь). А вот — в очках и с мыльным душком.
116 Мадлен (приоткрыв дверь). Барышня вернулась! Можно войти?
Профессор Фор (суетливо). Да, да! пожалуйста!
Мадлен скрывается.
(Жоржете, протягивая руку.) Не сердитесь, но…
Жоржета (снисходительно улыбаясь). Ухожу! — не волнуйся!
Рукопожатие. Она улыбается улыбкой всепонимающего божества и, задумчиво мурлыча «Love again», покидает комнату. Недалеко от двери Жоржета наталкивается на входящую Ольгу Норман. Обе девушки с секунду оглядывают друг друга, после чего Жоржета скрывается, а Ольга подходит к столу.
Профессор Фор (участливо). Ну как? все устроилось?
Ольга (усаживаясь за работу в намерении продолжать корректурную считку). Да, конечно! — тетя из всего делает «историю»…
Пауза. «Love again» наверху смолкает.
Профессор Фор. Вы довольны вашими комнатами?
Ольга. Вполне. А тетя — особенно! она так любит буржуазную атмосферу, а в этих меблированных комнатах…
Профессор Фор (с легким сарказмом). О, ей там будет вольно дышаться. (Берет пачку банкнот, оставшуюся на столе, и передает ее Ольге.) У вас, верно, с переездом были лишние расходы?
Ольга. О, пустяки!..
Профессор Фор. …так вот вперед ваше жалованье!
Ольга (беря деньги). Спасибо! но, право…
Профессор Фор. Через неделю как раз срок: исполнится два месяца, что вы секретарствуете.
Ольга (с улыбкой). Три.
Профессор Фор. Да неужели? — вот время летит! (К Мадлен, появившейся в дверях.) В чем дело?
Мадлен (нудным голосом). Так что электротехник кончил в коридоре починку.
Профессор Фор. Наконец-то!
Мадлен. Можно ему теперь вашу лампу к микроскопу поправить? (Показывает на стол.)
Профессор Фор. Сейчас не время! Скажите — я занят. Завтра утром, когда я в клинике!
Мадлен. Слушаюсь. (Поворачивается уходить.)
Профессор Фор. А куда вы поставили цветы, что я купил сегодня?
Мадлен. Как куда? — в воду!
Профессор Фор. Я спрашиваю, где они? — принесите сюда!
Мадлен. Слушаю-сь. (Уходит.)
Звонок телефона.
Ольга (по телефону). Алло! кто говорит? (Пауза. Закрыв приемник рукой.) Профессор Кальвет!
Профессор Фор утвердительно кивает головой.
Сейчас! — я передаю трубку.
117 Профессор Фор (по телефону). Здравствуйте, дорогой коллега!.. Что?.. Нет, к сожалению, на собрание не попаду: занят. О чем вы хотели спросить?.. Ах да, как же, я лечил ее… Нет, ничего подобного! — она скорее симпатичная… Я знаю, что вы назначены экспертом. Довела до невменяемости? Вам виднее, конечно, но, по-моему, это хулиганская несдержанность. Мало ли что «кавказский темперамент»!
Мадлен в это время приносит вазу с ирисами редко встречаемой разновидности, ставит на стол и удаляется.
Да, об этом писали газеты, но… Ну какой же она «изверг»! вы бы видели, как она плачет — совсем ребенок… Безусловно… И на такое существо поднять руку!.. Скоро будет страшно выходить на улицу… (Смеется.) Я тоже завел себе револьвер… теперь столько сумасшедших среди пациентов. Конечно — последствие войны… (Смеется.) А у меня рисуночек для вас припасен… в вашу коллекцию… Сюжет? — «Бог под микроскопом». (Хохочет.) Вот, вот! Непременно передам при случае… До скорого! (Вешает трубку.)
Ольга (почти восторженно, прикасаясь к ирисам). Что за цветы! Какая красота!
Профессор Фор. Вам нравятся? Они очень занятны с ботанической точки зрения. Я никогда не встречал у ирисов подобных разветвлений. (Показывает.)
Ольга. А окраска какая дивная!
Профессор Фор. Субтропикальная. Я купил их из научного интереса.
Ольга. Замечательные экземпляры! (Нюхает цветы и обращается к корректурным листам.) Продолжать?
Профессор Фор. Прошу!
Ольга откашливается.
Впрочем, сначала я хотела обсудить с вами один вопрос… немного щекотливого характера, правда, но…
Ольга. Я вся — внимание!
Профессор Фор (сняв очки). Видите ли, мне нужна от вас одна услуга несколько деликатного и, я сказал бы, даже исключительного характера.
Ольга. Пожалуйста! располагайте мною как знаете!
Профессор Фор. Помимо прочего, здесь требуется соблюдение некой тайны, так сказать, врачебной тайны… А так как в ваши обязанности секретаря и так входит соблюдение секретов, то получается в некотором роде сугубая тайна.
Ольга. Можете на меня положиться!
Профессор Фор. О, я достаточно узнал вас за это время, чтобы вполне вам Довериться. (К Мадлен, появившейся в дверях.) Что еще?
Мадлен (тем же унылым тоном). Электротехник говорит, что завтра утром он прийти не может, потому что у них в мастерской…
Профессор Фор (перебивая). Ну, пусть приходит послезавтра! — мне микроскоп не к спеху.
Мадлен. Слушаюсь. (Уходит.)
Профессор Фор (Ольге). Само собой разумеется, что эта ваша специальная услуга будет и специально оплачена.
Ольга (сконфуженная и обрадованная в то же время). Я и так довольна своим жалованьем.
118 Профессор Фор. Не протестуйте! ведь вы не знаете, какой услуги я от вас потребую. (Испытующе смотрит на Ольгу.) Что? Испугались?
Ольга. Заранее уверена, что ничего бесчестного вы от меня не потребуете, значит…
Профессор Фор. «Бесчестного» — нет, разумеется, но… здесь нужна известная решимость и, так сказать, самоотверженность…
Ольга. Я преисполнена таким благоговением перед мучениками науки, что если бы мне удалось, хоть в чем-нибудь, сравняться с ними, я была бы просто счастлива.
Профессор Фор. В таком случае разрешите мне задать вам несколько вопросов! (К Мадлен, появившейся в дверях.) Ну, что еще?
Мадлен. Электротехник говорит, что послезавтра он только после обеда освободится, потому как у них в мастерской…
Профессор Фор. Ладно! согласен! Хотя скажите, что мне это время не слишком удобно.
Мадлен. Слушаюсь. (Уходит.)
Профессор Фор (Ольге). Итак, первый вопрос! — Убеждены ли вы вполне, что я человек, чуждый каких бы то ни было сентиментальностей?
Ольга. Ну разумеется! (Улыбаясь.) О вас даже создалась легенда, как об «идеально бесчувственном человеке».
Профессор Фор (смеется). Вот как? и вы верите этой легенде?
Ольга. Гм… конечно, все легенды преувеличивают…
Профессор Фор (поддакивая). На то они и легенды…
Ольга. Ясно!
Профессор Фор. Но я далек от… «чудовища», надеюсь?
Ольга. О, кто об этом говорит!
Профессор Фор (с полупоклоном, смеясь). Ну, хотя на этом спасибо! Второй вопрос: известно ль вам, что с развитием прогресса, особенно за последние сто пятьдесят лет всевозможных открытий, интеллект человека значительно обогнал его чувство? Наше чувство явно отстает от разума и отстает до смешного! Своим разумом человек живет, скажем, в XX веке, а чувством влачится чуть не в средневековье. Вы думали когда-нибудь об этом?
Ольга. Вы же излагаете эту мысль в предпоследнем номере «Медицинского вестника»!
Профессор Фор. Верно, — я и забыл! И что же вы скажете по этому поводу?
Ольга. Абсолютно разделяю ваш взгляд. Психический анахронизм, — как вы назвали этот разлад между разумом и чувством, — без сомнения, одна из причин наших нервных недомоганий.
Профессор Фор (с увлечением). И даже, может быть, одна из главных причин. Дикарь здоров в сравнении с нами, так как не знает этого разлада! но мы… возьмем меня, например! — как я могу быть здоров, когда разум мне внушает, что любовь, например, это самообман на сексуальной подкладке, а чувство стремится к этому самообману как к конечному счастью! (К Мадлен, вновь появившейся в дверях.) Опять вы? Ну что вам еще нужно?
Мадлен. Так что электротехник говорит, что ежели вам неудобно послезавтра, то он, пожалуй, и завтра может прийти в это время, а только…
119 Профессор Фор (рассердись, ударяет кулаком по столу). А ну вас к черту с вашим электротехником!.. Десятый раз врываетесь сюда из-за какой-то ерунды. Вы же видите, что люди заняты!.. Где у вас такт? Что мне только и дела, что думать о вашем электротехнике!
Мадлен (опешив). Так вы же сами торопили насчет микроскопа… чтобы, значит, лампу…
Профессор Фор (почти кричит). Всему свое время! Нельзя мешать людям работать! Уходите сейчас же и не смейте меня беспокоить!
Мадлен. Хорошо, а только электротехник говорит…
Профессор Фор. К черту электротехника! Я сам условлюсь с ним по телефону.
Мадлен (обиженным тоном). Ну так бы и сказали раньше. (Уходит.)
Профессор Фор (запирает за ней дверь и взволнованно прохаживается по комнате). Видали вы такую дуру? А? Сумела-таки досадить, черт ее побери! Терпеть не могу выходить из равновесия! а эта дурища способна низвести меня до какого-то дикаря, деспота, пробудить во мне просто зверя!
Ольга. Успокойтесь! — стоит ли волноваться из-за этого!
Профессор Фор. Вот именно не стоит! (Отдышавшись на паузе.) Можно выходить из равновесия, когда взамен получаешь что-либо приятное, какую-нибудь светлую эмоцию, радостный экстаз, умиление! А так из-за ничего кому охота даром тратить энергию! (Садится, вытирает лоб платком и старается улыбнуться.) Что?.. не ожидали у меня такого темперамента? Вы меня ведь первый раз видите в таком состоянии! Правда?.. А вы уж полагали, наверно, что и вовсе «бесчувственный чурбан»? Да? Сознайтесь!
Ольга (в затруднении). Нет, но… вы такой исключительный человек, что…
Профессор Фор. …что не способен ни на какое проявление чувств? А вот и ошибаетесь! Я был однажды влюблен, да еще как! как безумец! как совершенный идиот! утопиться хотел от любви!
Ольга. Вы?!.
Профессор Фор. Да, я! в нашем деревенском пруду — у нас в имении! Мне было тогда восемнадцать лет, а ей шестнадцать! — дочь нашей прачки, очаровательное существо! вылитая простушка из пасторали!
Ольга. И что же?
Профессор Фор (смеясь). Как видите — не утопился! Я был в юности рационалистом. Строгий анализ легко изобличил отсталое чувство, и оно уступило разуму «поле сражения».
Ольга (полулукаво). Навсегда?
Профессор Фор. Это зависит от разума.
Ольга. А если чувство умерло, закоченело в тисках разума?
Профессор Фор. Это только так говорится! а пригрей его только — и вы увидите, какая в нем живучесть!
Ольга. Вы так уверены?
Профессор Фор. Я это чувствую.
Ольга. Что вы чувствуете?
Профессор Фор. Чувствую, что в нас живет совсем особое существо, отличное от нас, архаичное, несуразное, со своими собственными требованиями, — истинный носитель наших отсталых чувств!
120 Ольга (посмотрев на часы). Простите, сейчас без пяти семь?
Профессор Фор (смотря на часы). Без семи семь… (Откашливается.) И вот мне пришло в голову сделать при вашей помощи одну операцию…
Ольга. Ах, для меня такое счастье быть вашей ассистенткой.
Профессор Фор. …операцию, так сказать, психологического свойства… бескровную на этот раз.
Ольга (удивленно). Бескровную?
Профессор Фор. Надо надеяться!.. — операцию по извлечению этого архаичного существа из его недр! вы понимаете?
Ольга. Это что же… акушерская операция?
Профессор Фор. Вроде! но гораздо деликатнее: здесь мало извлечь это несуразное существо на «свет Божий», — надо еще найти возможность удовлетворить его требования.
Ольга. А как же этого достигнуть?
Профессор Фор. Созданием для него искусственной среды.
Ольга (недоуменно). Какой же именно?
Профессор Фор. В которой можно было бы хотя бы иллюзорно дать удовлетворение его отсталым чувствам!
Ольга. Я не совсем понимаю…
Профессор Фор. Видите ли, для первого раза я, ради эксперимента, решил сам себя оперировать…
Ольга. То есть?
Профессор Фор. То есть извлечь на волю живущего во мне носителя отсталых чувств и дать ему искусственные средства к жизни.
Ольга (после паузы). Зачем вам это нужно, профессор?
Профессор Фор. Для здоровья.
Ольга. Ах да!
Профессор Фор. Я таким образом предупрежу болезненный разлад между разумом моим и чувством.
Ольга (не уверенная, шутит он или нет). И я должна вам в этом помочь? но чем?
Профессор Фор. Как чем? — а кто же воплотит идеал, которым мог бы жить этот отсталый субъект, которого мы извлечем наружу? кто удовлетворит его атавистические чувства? чувство любви, например?
Ольга. Любви?!. (Разражается веселым смехом.) Это шутка?.. а я думала… (Заметив вдруг перед собой серьезное и даже словно огорченное лицо профессора Фора, сконфуженно замолкает.)
Профессор Фор (вразумительно). Это не шутка… Шутить в серьезных вопросах… на это может быть способно мое архаичное «я», но не профессор Роберт Фор, который стоит перед вами в сознании строгой научности сделанного вам предложения.
Ольга. Простите, я не хотела вас обидеть, но…
Профессор Фор (снисходительно). Я знаю: «от великого до смешного — один шаг»…
Ольга. …но мне пришло в голову, что вам, быть может, вульгарно выражаясь, просто нужна… женщина.
121 Профессор Фор (отмахиваясь рукой). О! этого добра сколько угодно!.. Но грубая женщина не поймет моего атавистического идеала, а светская — вообразит, того гляди, что это я сам в нее влюблен, а не то отсталое существо, которому я хочу даровать жизнь и свободу.
Ольга. Я… понимаю теперь! но все же… я не усваиваю своей роли в этой, как вы выражаетесь, операции.
Профессор Фор. Роль очень простая!
Ольга. Роль вашего «идеала».
Профессор Фор. Не моего лично, а, вернее, моего предка, таящегося во мне! — роль, скажем, той простушки с отзывчивым сердцем, чей образ владеет моим атавистическим воображением!
Ольга (с улыбкой). Да, но я не артистка!
Профессор Фор. И не нужно! — здесь важна психологическая чуткость, а не актерство! нужна образованная женщина, могущая понять меня, а не какая-нибудь глупая актриска, которой я мог бы показаться… просто смешным.
Ольга (извиняясь). О, я ведь засмеялась от того, что…
Профессор Фор (перебивая). Не будем говорить об этом!
Ольга. Я не хотела вас обидеть! Напротив — я очень польщена вашим доверием, но все же не понимаю… выходит на поверку, что я должна быть чем-то вроде вашей партнерши в какой-то любовной интриге, правда, не с вами лично, а с вашим отдаленным предком, как вы его назвали, но все же… это не такая уж разница!
Профессор Фор (горячо). Колоссальная! (Убедительным тоном, почти что обывательским.) Слушайте! ведь мы же с вами не дураки! — мы отлично знаем, что никакой такой «любви» не существует! что это пережиток старины, который для нас лично не имеет никакого значения! который абсолютно не властен над нами и ничем не угрожает! что это такой же предрассудок, как «душа», «Бог», «загробное существование»!.. Но в нас еще не изжита потребность в удовлетворении этих предрассудков! Мы не боимся войти в темную комнату, но нам… немного неприятно, как бы жутко. Мы отвергаем любовь как романтическую чепуху, но нас влечет порою к этой чепухе, словно в ней скрыт какой-то смысл нашей жизни. Вот вы, например, воспитанная барышня, которая требует от мужчины вежливого обращения! а между тем в глубине души вы хотите, быть может, чтоб от мужчины веяло грубостью, табачищем воняло, вином бы разило и вообще охальностью угрожало!
Ольга (с искренним протестом). Ничего подобного! Терпеть не могу хамов! уж если говорить о моем «идеале», то мне куда милее образ рыцаря, принца или нежного пажа, о каких я мечтала в детстве, начитавшись сказок!
Профессор Фор (радостно). Серьезно?.. Вы это искренне? Ну так мы как нельзя лучше подходим друг к другу!
Ольга (удивленная). «Подходим друг к другу»?..
Профессор Фор. Ну да! — как партнеры, по вашему удачному выражению, как партнеры в той психологической операции, которую вы назвали «любовной интригой» с моим отделенным предком.
Ольга (смущенно). Уж я не знаю, право… (Смотрит торопливо на часы.) Все это так неожиданно и, боюсь, сложно для меня…
122 Профессор Фор (живо реагируя на ее озабоченность). Вы торопитесь куда-нибудь?
Ольга. Я боюсь — магазины закроют… А я хотела бы на новоселье купить тете цветы…
Профессор Фор (смотря на часы). Успеете… Хотя… (Вдруг.) Слушайте! я хочу вас тоже поздравить с новосельем! Пойдем-ка по-товарищески закусить в уютный ресторанчик! — я знаю один недалеко: очень приличные отдельные кабинеты… Надо выпить за ваше здоровье!
Ольга (изумленная). Но, право… Вы меня сегодня решили… совсем сбить с толку!
Профессор Фор. Да или нет?
Ольга. Но я обещала тете…
Профессор Фор. Тете скажите по телефону, что задержала экстренная операция… А я вам за обедом сообщу все данные о Теобальде!
Ольга. Кто это Теобальд?
Профессор Фор. Ах да! — вы ведь первый раз слышите, как я зову себя мысленно, то есть не себя, а то сентиментальное существо во мне, что просится наружу!
Ольга. Теобальд?.. как это средневеково!
Профессор Фор. Не правда ли, романтичнее, чем Роберт — мое имя!
Ольга (улыбаясь). Это рыцарь?
Профессор Фор. Вроде…
Ольга. А ее как зовут, его пассию? ту «простушку», о которой вы говорили?
Профессор Фор. Николет… У нее задумчивые глаза… Немного робка… Любит ходить босиком… Незабываема, отражаясь в воде, когда полощет белье…
Ольга (смеясь). Ну вот видите, как это сложно!
Профессор Фор. Нисколько! Итак, принимаете мое предложение?
Ольга. Дайте мне хоть два дня подумать!
Профессор Фор. Нет, я говорю про обед!
Ольга хохочет.
Идем или нет? Ведь вам лишь к вечеру надо домой?
Ольга. А когда ж я успею цветы купить?
Профессор Фор (вынимая букет из вазы и стряхивая влагу со стеблей). Вот вам цветы, — успокойтесь!
Ольга (принимая цветы). Ну, право, вы сегодня на себя не похожи!
Профессор Фор (смеясь). Это подкуп!
Ольга. Вот как?
Профессор Фор. …со стороны Теобальда! Да! Впрочем, и с моей тоже! От нас обоих.
Во время его последних слов сверху вновь слышится томительно-чувственный напев «Love again». Профессор прислушивается с удивлением, Ольга — с веселой улыбкой, подняв голову к потолку.
Откуда эта музыка?.. кто там поселился наверху, интересно бы знать?
Ольга. А это Станислав Малько… художник! Он уже пять дней как сюда переехал!
Профессор Фор. Вот как?
Ольга. Он все искал ателье потеплее. Его было такое холодное. Ну я и направила его сюда.
123 Профессор Фор. Так, так… (Шутливо.) Теперь я понимаю, к какому «месту службы» вы хотели быть ближе! Вот она, современная молодежь! — верь ей после этого! (Убирает со стола, запирает ящики и дверь в операционную.)
Ольга (непринужденно). Ошибаетесь! — я больше не позирую ему! моя статуя уже на выставке! — на днях было открытие. Огромный успех!
Профессор Фор (смеясь). Так что теперь вас за входную плату все могут видеть «в чем мать родила»?
Ольга. Не меня, а мой образ!
Профессор Фор. Да, верно: ваш образ! Простите за ошибку!.. Итак, едем, чтоб не терять времени? мое предложение принято?
Ольга. В отношении ресторана — да. Только не надолго: тетя будет беспокоиться. А что касается «психологической операции», то…
Профессор Фор. Вот мы об этом и потолкуем кстати… (Пропускает ее вперед, направляясь к двери налево. На секунду задерживается, вскинув глаза кверху, откуда слышится «Love again».) Гм… однако!.. (Уходит.)
Занавес.
ЧЕТВЕРТАЯ КАРТИНА
До поднятия занавеса, — выполняя переход от третьей картины к четвертой, — продолжает звучать diminuendo напев «Love again», на котором закончилась предыдущая картина. Типично буржуазная комнатка — уютная, чистенькая, банально убранная, с исстари установленным размещением мебели, характерным для средней руки меблированных комнат. Шкафчик с книгами, на нем бюст Пастера. Около него на стене — изображенье Мадонны. Дверь налево, ведущая в смежную комнату, и посередине, ведущая в коридор. Вечер. Мягкое, из-под абажуров электрическое освещение.
Слева выходят почтенный, благообразный аббат и г-жа Норман, несущая на подносике кофейник с чашечками и небольшую бутылку шартреза с рюмками. Аббат усаживается в кресло, около столика, г-жа Норман — на диван, около него, и, поставив принесенное на столик, хозяйничает.
Г-жа Норман. Боюсь, что вы остались голодны!
Аббат (принимаясь за кофе, в то время как она наливает ему рюмку шартреза). Не скромничайте свыше меры! — обед был прекрасный и делает честь кулинарным способностям…
Г-жа Норман. Вы чересчур добры… я так тронута, что вы пожаловали к нам на новоселье и благословили трапезу…
Аббат (договаривая). …что решили закормить меня до кондрашки? (Смеется.) Нехорошо, г-жа Норман!.. Истинно, — с такой соседкой, как вы, если и умрешь, то не с голоду. (Отхлебнув кофе.) Ну как вы себя чувствуете на новом пепелище? (Принимая рюмочку ликера.) Благодарю! Шартрез?
Г-жа Норман. Ваш любимый, настоящий монастырский, старинной выделки. Я ведь знаю, что вы светских ликеров не жалуете…
Аббат (пригубив ликер). Ну да разве их можно пить! Сравните этот шартрез с поддельным! Уж, кажется, по всем правилам химии ректифицирован, научным образом настоян и разлит в такие же бутылки… а не то! отсутствует какая-то благодать во вкусе! истинно божественная благодать! (Смакует ликер.)
Г-жа Норман. Я уж давно хотела перебраться сюда… поближе к вам…
124 Аббат. Помните, как я не раз вам советовал? — Правда, здесь живет, пожалуй, слишком вольнодумная публика, в этих меблированных комнатах, но… не надо придавать этому вольнодумству чрезмерного значения! — наносное в большинстве случаев.
Г-жа Норман. Мне очень нравится здесь! — уютно, спокойно, а главное — вы внизу, так сказать, — фундамент веры нашей… И как странно все устраивается на свете: Ольга моя думает, что мы переехали сюда из-за профессора Фора, ее шефа, чтобы быть поближе к нему, а я-то знаю, что из-за вас, потому что давно уж мечтала… Так мы и живем, каждая при своем убеждении… (Посмеивается.)
Аббат. Жаль, жаль, что ваша племянница не соблаговолила откушать с нами! я давно ее не видел. А сегодня у вас как раз новоселье, и я думал…
Г-жа Норман. Мы ведь не празднуем! так, если кто узнал случайно, ну заходят знакомые… А у Ольги спешная работа… вы ведь знаете, что за каторжная жизнь у врачей! — уж я так отговаривала ее от медицинской карьеры! вызывают порой среди ночи, а потом оказывается — больной просто скушал лишнего и обошлись домашними средствами.
Аббат (посмеиваясь, гладит живот). Да, чревоугодие — опасная вещь, но не смертельная, благословение Богу!
Г-жа Норман (спохватившись). Простите, ради Создателя! ведь я без намека!
Аббат. Шучу!
Г-жа Норман. А Ольга вдобавок служит секретарем у этого — слыхали, быть может, — профессора Фора?
Аббат. И даже лично знаком. Встречались в здешнем квартале у изголовья умирающих. И еще помнится, ходил я к нему (показывает наверх) с невралгией плеча. Он сам страдает этим недугом. Вот уж поистине «врачу, исцелись сам»! Помог, помню, но не надолго. Ладанка святой Агнессы, что вы мне дали вскоре, оказалась куда целительней. Вот бы ему сие средство! — да он, конечно, неверующий. (Огорченно смеется.)
Г-жа Норман (вздыхая). Ох, что за век наступил — одно отчаяние.
Аббат. Отчаиваться нечего! Знаю я этих ученых! — сколько их в предсмертный час обращались к милосердию Бога! Наносное все это, повторяю… Человек наяву атеист, а во сне сплошь и рядом набожный мальчик, который замаливает ночью грехи, совершенные днем.
Г-жа Норман (оживляясь). Я об этом тоже слыхала.
Аббат. Оно и понятно: во сне излишнее умствование не сбивает с толку человека, — вот он и возвращается на предуказанный путь.
Г-жа Норман. Дивны дела твои, Господи!
Аббат (прихлебывая кофе). А за племянницей своей все же следите! — опасный возраст, сами знаете! и я обязан напоминать вам об этом, как духовник ее покойной матери. Помните ее завещание?
Г-жа Норман. Уж сколько раз я сдерживала Ольгу одним напоминанием об этом завещании, где столько материнской заботы о ней!
Аббат (договаривая). …и о спасении души единственного детища. Ольга знает, конечно, что подлинник завещания я свято храню (указывая на нижний этаж) в своем несгораемом шкафу?
125 Г-жа Норман. Знает… Но надо бы вновь показать ей при случае. Боюсь — приспело время!..
Аббат (многозначительно). Вот как?
Г-жа Норман, опустив глаза, делает неопределенный жест — «мол, мало ли что может случиться».
Вообще, я надеюсь, вы теперь чаще будете меня навещать!
Г-жа Норман. Вы так заняты…
Аббат. Бывает и досуг… Бывает… (С добродушной плутовской улыбкой.) Я вам тогда постучу в потолок своим посохом… Я всегда так делаю, когда жильцы расшалятся чересчур… Тук, тук, тук… мол, «пастырский посох» призывает к тишине И порядку. (Смеется.)
В дверь, ведущую в коридор, кто-то деликатно, но громко стучит: тук, тук, тук.
Г-жа Норман (подходя к двери). Кто там? войдите!
Входит Ганна Малько с огромной связкой красных роз и художественным журналом под мышкой. Она уже без палочки, не хромает, очень нарядно одета, по-обычному экспансивна, но кажется сравнительно спокойнее.
Ганна. Это я — Ганна Малько! Г-жа Норман дома?
Г-жа Норман. Вы хотите видеть Ольгу? Она скоро придет. Присядьте, пожалуйста!
Ганна (поклонившись учтиво аббату). Я за ней заехала… По порученью брата. Он получил Первую премию за свою скульптуру. Вот журнал со снимками. (Садится одновременно с г-жой Норман и кладет журнал на столик, раскрыв его на иллюстрированной странице.) Сегодня как раз его чествуют. Он сам не может прийти… поблагодарить модель и заодно поздравить с новосельем… Так вот… вместо него я и… эти розы! Куда их можно поставить?
Г-жа Норман (слегка обеспокоенная, как бы секрет модели не был раскрыт перед аббатом). Да вот… Подождите, я вам принесу вазу из столовой!.. надо ее только выпростать. (Уходит налево.)
Аббат (заглянувши в журнал, где воспроизведены два скульптурных произведения, изображающих нагую женщину, полускинувшую плащ). Ай, какая бесстыдница!.. (Доставая очки и надевая их.) С кого же это лепил художник? а? вы обмолвились насчет модели… И почему в двух видах?.. Господи, какой соблазн!
Ганна. Не узнаете?.. вы не знакомы с Ольгой Норман?
Аббат. Батюшки мои! да это и впрямь ее личико… ай, срам какой!..
Г-жа Норман (с вазой в руках). Вот ваза!.. Надо теперь воды и развязать цветы. (Хочет забрать розы.) Давайте, я на кухне их сейчас под кран!
Ганна (резво). Поручите мне!.. Чего вам беспокоиться. Где тут на кухню? Обожаю возиться с цветами.
Г-жа Норман. Но право же…
Ганна (забирая вазу). Пустяки! Куда пройти? налево?
Г-жа Норман. На… направо! Вам служанка поможет.
Ганна. Я сама! (Уходит.)
Г-жа Норман (всматриваясь в иллюстрации журнала, развернутого перед аббатом). Что это?..
126 Оба секунды две-три смотрят на «бесстыдницу», изображенную в журнале, потом, оторвав от нее взгляд, медленно поворачивают головы и проникают друг другу не то в глаза, не то в душу. Г-жа Норман не выдерживает укоризны, заключенной во взоре аббата, и тихо опускает голову, в то время как аббат поднимает ее, как бы возвышая перед ней свой пастырский авторитет.
Аббат (после паузы, указуя перстом ввысь). Бог взыщет с вас за это!..
Г-жа Норман. Но право же…
Аббат. Не уследили!
Г-жа Норман. Я говорила ей…
Аббат. Она не «вавилонская блудница», чтобы так обнажаться. Она из порядочной семьи! из очень религиозной семьи! — вы это забыли.
Г-жа Норман. Уверяю вас — нет! Но мне казалось, что ежели Адам и Ева в раю…
Аббат (перебивая). Мы не в раю, к несчастью, а на грешной земле.
Г-жа Норман. Но… разве не сказал Господь про лилии, что «и Соломон во славе своей не одевался так, как всякая из них»?
Аббат. Лилии тут ни при чем… Вы должны принять меры.
Г-жа Норман. Я готова, но…
Аббат. Она на опасном пути!
Г-жа Норман. …она уже взрослая, — вот беда!
Аббат. Все дети перед Богом.
Г-жа Норман. И это было ради заработка… я была больна, нужны были деньги…
Звонок.
Аббат. Это не резон профанировать тело! тело есть сосуд души.
Г-жа Норман. Уверяю вас, что Ольга…
Аббат. Не уверяйте! — это крайнее вольнодумство!
Ганна (внося вазу с розами и ставя ее на стол). Вот и готово… Скоро, не правда ли?
Входят Сюзанна и Смит, неся в руках подарки «на новоселье»: она — торт, он — флакон духов. Общие поклоны.
Сюзанна. Здравствуйте, госпожа Норман! (Здоровается.) А где же Ольга? Мы зашли на минутку: его мама ждет нас (показывает на Смита) по случаю ровно месяца, что мы женаты.
Ганна. Поздравляю! от всей души. Я тоже тороплюсь…
Сюзанна. Замуж?
Ганна (смеясь). На чествование брата.
Сюзанна. Ах вот что! (Г-же Норман.) Когда же вернется ваша племянница?
Г-жа Норман. Жду с минуты на минуту.
Аббат (взглянув на часы). И мне пора! — засиделся. (Протягивая руку г-же Норман.) Мы еще с вами побеседуем. Заходите и… не медлите с этим! (Кланяется остальным и выходит в сопровождении г-жи Норман.)
Сюзанна (схватив журнал). Что это за журнал?.. Ба!.. Ольга!.. и в двух видах! В чем дело? — я не была на выставке…
Ганна. А вот прочтите! (Указывает текст в журнале.)
Сюзанна (читает). «Существует легенда об одном художнике, который написал две картины на один и тот же сюжет. В первой картине он следовал всем указаниям друзей и критиков, во второй — он положился только на свое вдохновение. 127 Когда толпа увидела эту вторую картину, она пришла в восторг и наградила лаврами художника. При виде же другой, которую тот выставил рядом без подписи, все издевались — кто создал такое безобразие».
С кислой миной пожимает плечами, глядя вопросительно на Смита. Ганна, смеясь, выхватывает у нее журнал и с выражением читает.
Ганна. «Ваятель Станислав Малько хотел проверить эту легенду и ему удалось подтвердить ее сокровенную правду. Его скульптура, изображающая ту же девушку и в той же позе под названием “Красота обнаженная”, представлена на выставке как подлинный шедевр и как чистейшая банальность. Нужно ли говорить, что в создании шедевра, за который присуждена первая премия, ему никто не помогал, тогда как при создании банальности — все, кто хотел, начиная с авторитетных ученых и кончая консьержкой художника».
Г-жа Норман (вернувшись при чтении последних строк). О чем это вы читаете?
Сюзанна (не без язвительности). О том, что называется «успех скандала».
Ганна (ей с достоинством). Простите, мой брат выше этого! Да и со мной скандал тогда произошел случайно. Напрасно думаете, что это у нас «на роду написано»!
Сюзанна. Я не хотела никого обидеть. Уж если кому и обижаться, так это нам, которых за добрые советы художник выставил в довольно глупом виде.
Входит Ольга с букетом ирисов, которые она преподносит г-же Норман, и здоровается с гостями.
А!.. Ольга!.. Наконец-то! А то мы скоро должны удирать. Вот наши подарки на новоселье!
Ольга (принимая подарки от Сюзанны и Смита). Тронута… простите, что так опоздала, но… (Кладет подарки на стол.) А это от кого цветы?
Ганна. От брата. Я заехала за вами. Он ждет вас на вечер, где будут чествовать не только его, но и модель, вдохновившую художника. (Показывает журнал.) Читали?
Ольга. Я об этом знала еще вчера вечером… Поблагодарите его и скажите, что… что мне неловко делить лавры, принадлежащие ему целиком.
Ганна. Он будет так огорчен!
Г-жа Норман (устраивая в вазе цветы, принесенные Ольгой). Ей неудобно, знаете ли, она ведь не профессиональная натурщица.
Ольга. К тому же я так устала и, кроме того (с плохо скрытым волнением), профессор Фор обещал пожаловать на новоселье.
Сюзанна (удивленная). Он бывает у вас?
Ольга. Нет, это в первый раз.
Сюзанна (игриво и выразительно). …в первый раз, что он «спустится сверху вниз — во второй этаж»?
Кругом смех.
Я помню хорошо, как он характеризовал этажи этого дома.
Слышен двойной звонок.
Ольга. Это, верно, он!.. (К тетке.) Тетя! ты угостишь нас потом пуншем? а? И тортом? вот этим, например! (Передает тетке торт, принесенный Сюзанной.)
128 Г-жа Норман. Ну конечно! на то и новоселье сегодня.
Входит профессор Фор. Наступает тишина, как и во второй картине при его появлении у художника. Профессор Фор со всеми, начиная с хозяйки и продолжая Ольгой, корректно здоровается.
(Ему.) Очень, очень рада вас видеть… Садитесь, пожалуйста!
Все понемногу рассаживаются около столика. Одна Ганна садится поодаль.
Ольга вам столь многим обязана… и я вам так благодарна за нее — она не нахвалится вашим добрым к ней отношением…
Профессор Фор (протирая очки). Я всегда ценил труд и прилежанье, а также серьезное отношение к чему бы то ни было. Так как этих качеств нельзя отрицать за вашей племянницей, я вполне воздаю ей должное.
Г-жа Норман. Ну правда — я так счастлива за Ольгу!
Сюзанна (профессору Фору). Ваша секретарша стала теперь настоящей знаменитостью! Вы видели? (Показывает ему журнал.) Увековечена в скульптуре, украшает собой журналы…
Профессор Фор углубляется в ознакомление с иллюстрациями и сопровождающим их текстом.
Ганна (Сюзанне). Не путайте произведение художника с его моделью! Ольга Норман здесь не названа! и… не «скомпрометирована» с буржуазной точки зрения.
Сюзанна. Успокойтесь, дорогая! Я ни в чем его не обвиняю.
Ганна (насмешливо). «Не обвиняете»? ну слава Богу! А я-то думала, не провинился ль он своим талантом иль своей оригинальностью!
Профессор Фор (просмотрев журнал). Я все-таки не понимаю, к чему понадобилась эта «проверка легенды»? Что он, в сущности, хотел доказать?
Ганна. А то, что подлинное произведение искусства — такая же тайна, как деторождение.
Г-жа Норман. Но при чем тут «деторождение», простите?
Ганна. При том, что художественное произведение рождается, подобно ребенку, от любви артиста к его модели.
Г-жа Норман (поджав губы). Вот как?
Ганна. Конечно! — это и составляет тайну творчества, о которой сотня мудрецов меньше знает, чем один какой-нибудь простец — Рафаэль… Рембрандт… Энгр.
Сюзанна. Но разве вы полагаете…
Профессор Фор (перебивая). Дайте ей договорить!
Ганна. Скульптура моего брата — лишнее тому доказательство! лишнее предостережение тем, кто готов самого Бога запихать под микроскоп, как букашку, вместо того чтобы отдаться живому ощущению любви, то есть того же Бога!
Сюзанна. Простите, но ваше сравнение тайны любви и творчества — не более как «поэтическое сравнение»!
Ганна. Почему?
Сюзанна. Потому что произведение искусства создается путем воображения, а дети — простите — совсем другим путем.
Легкий смех среди слушателей.
129 Ганна (встает взволнованная). Вовсе нет! Вот я недавно перечла любовную переписку родителей и убедилась, что папа с мамой были совсем другие люди, чем те, каких мы знали с братом. Они совсем иначе представляли себе друг друга! Просто невероятно, какими только качествами не наделяли они друг друга в любовном экстазе!
Сюзанна. Ну и что же?
Ганна. А то, что их любовная связь держалась на одном воображении, на чистейшей иллюзии, в какую они окутывали друг друга. И вот от этого творческого акта, а вовсе не физического и рождаемся мы все, подобно тому как рождаются художественные произведения.
Г-жа Норман (после короткой паузы). Это вы верно насчет Бога… Мы об этом много спорим с Ольгой, и я даже обещала ей, что…
Ольга (перебивая). Ты обещала сделать пунш! забыла?
Г-жа Норман (встает). Иду! иду! — я потом доскажу! (Направляется к двери налево.) В этом Ольга права, то есть насчет пунша! а вот относительно Бога…
Сюзанна (подходя к Смиту). К сожалению, нам пора уже… Его мама ждет нас. Всего, всего хорошего!
Г-жа Норман (растерянно). Но как же так? я хотела…
Ганна (подходя к ней). И мне пора! Уже время! (Взглянув на часы.) Я так заболталась. (Прощается со всеми вслед за Сюзанной и Смитом. Ольге.) Итак, вы не едете?
Ольга (прощаясь). Не могу, дорогая! Извинитесь перед братом!
Уходит с теткой в коридор, провожая Сюзанну и Смита.
Ганна (задерживая рукопожатие профессора Фора). Вы не забыли моей просьбы? Скоро суд, и судьба Валико зависит целиком от экспертов.
Профессор Фор. Повторяю еще раз: я не потатчик убийцам, да еще путем воздействия на совесть экспертов!
Ганна (печально, со вздохом). Бедный Валико!
Профессор Фор. Думайте лучше о себе! Как ваши нервы? Вы, кажется, значительно спокойнее теперь. Мои лекарства помогли?
Ганна (грустно). Да, но… не против любви, разумеется. Ни вам, ни мне не найти этого средства!
Профессор Фор. Я?.. Ах да, я понимаю ваши слова!
Ганна. Вы убедились в их правоте?
Профессор Фор (посмеявшись). Вы путаете симпатию с любовью.
Ганна. Я путаю? а не вы?
Профессор Фор. Конечно, вы! Если бы вы вправду были ясновидящей, вы бы заметили, что если уж любит кто кого, так это Ольга вашего брата.
Ганна (качая задумчиво головой). Ольга никого не любит и не способна полюбить. Она слишком верная ваша последовательниц! и даже, может быть, «plus royaliste que le roi»10*.
Профессор Фор (с чувством человека, которому наступили на «любимую мозоль», но который не хочет подать виду, что это случилось). «Никого»? вы уверены? «не способна»???
Ганна. Уверена! И если вы ждете от нее взаимности, — напрасно! Вам придется горько поплатиться!
130 Профессор Фор. За что?
Ганна. За внедрение в нее своих бесчеловечных взглядов. Впрочем… (со смехом) вы врач, и вам страданья не страшны — вы сумеете избавиться. Прощайте! (Убегает.)
Профессор Фор с презрительной улыбкой отходит от двери, делает несколько шагов, как бы в намерении пройтись по комнате, замечает розы на столе, подходит, нюхает, что-то соображает, садится, неприязненным движением схватывает журнал и, слегка кусая губы, жадно всматривается в изображение Ольги.
Ольга (входя). Тетя нам сейчас приготовит пунш! (Показывает на комнату налево) и угостит отличным тортом…
Профессор Фор. Но…
Ольга (взяв одну из красных роз и втыкая ее в петлицу профессора). Вы ничего почти не ели за обедом!
Профессор Фор (слегка смущенный цветочным украшением своего пиджака). Я не люблю…
Ольга (улыбаясь). Это для шутки!.. Вы же допускаете шутки?..
Профессор Фор. Нет, я хотел сказать, что не люблю перегружаться за обедом.
Ольга. Ах вот что?.. Ну что ж, вы правы! Но обед был так вкусен, что трудно было удержаться в границах…
Профессор Фор (снимая очки и пряча их в карман). Вы не проскучали? я вас не слишком утомил своими рассуждениями и… вообще?
Ольга (смущенная). Ну что вы говорите! Разве вы не чувствуете, с каким огромным интересом я отношусь к вашему (оглянувшись на дверь) «эксперименту»?
Профессор Фор. Серьезно? Я очень рад, если нашел в вашем лице…
Ольга (делает знак, приложив палец к губам и вызвав тем его молчание, идет к двери налево, прислушивается и прикрывает дверь поплотнее). Тетя моя допотопных взглядов!
Профессор Фор (встает в нерешительности). Быть может, лучше открыть дверь в таком случае?
Ольга. Нет, ничего… Она там возится по хозяйству! — не беспокойтесь!
Профессор Фор. Я боюсь быть в ложном положении…
Ольга. Ну что вы… (Улыбаясь.) Я ж дала вам слово хранить тайну!
Профессор Фор. Я безусловно верю вам, но…
Ольга (почти перебивая, с явным налетом кокетства). А он очень мил, этот ваш Теобальд!
Профессор Фор (польщенный). Вы находите?
Ольга. …такой нежный, непосредственный, такой застенчивый… Я прямо обворожена!.. И где это вы держали его под спудом до сих пор — непонятно!
Профессор Фор (смеясь). А он не слишком приторен в своей сентиментальности?
Ольга. Ну что вы!.. это так ему идет и так естественно!
Профессор Фор. Могу вас заверить, что и Николет ему безмерно понравилась! Правда, он нашел ее немножко молчаливой, но зато такой прекрасной, словно перед ним была не пастушка, а покинутая принцесса.
Ольга (обнадеживая). Николет еще мало знает Теобальда и потому стесняется. Дайте время! — она еще так развернется, что ого!.. (Смеется.)
Профессор Фор (тоже смеясь). Вы обещаете… за нее?
131 Ольга. Вполне!
Профессор Фор. Хочу вам верить!
Ольга. Николет ведь в первый раз встретила Теобальда! Она думала раньше, что такой нежный паж существует лишь в сказке.
Профессор Фор. О, вы слишком снисходительны!
Ольга. Вы хотите сказать: Николет снисходительна?
Профессор Фор (спохватившись). Ну да, конечно!.. Впрочем, и вы сами… достойны всяких похвал за ваш такт и, я бы даже сказал, за… драматический талант, который, каюсь, я никак не предполагал в вас: — вы такая замкнутая в повседневности!
Ольга (вздыхая). Этого требует наша повседневность!
Профессор Фор. И этот скульптор, знаете ли (жест в сторону раскрытого художественного журнала), вам отнюдь не польстил! — вы сложены как раз для такой роли!
Ольга (с ехидным кокетством). А эта os coccigeum, что вы нашли чересчур выдающейся в статуе, не портит «ансамбля»?
Профессор Фор (смеясь). Ничуточки! Это ошибка скульптора! — я в этом теперь убедился.
Ольга. Так что в общем вы меня одобряете?
Профессор Фор. Чего же больше: — Теобальд в вас влюбился и без ума от вас!
Ольга. Я польщена! (Спохватываясь.) То есть Николет польщена! — она ведь так ничтожна в сравнении с таким «рыцарем», и вдруг он — у ее ног! Это кружит голову.
Профессор Фор. В самом деле? (Несколько другим тоном.) Но, кроме шуток, — не правда ли, как это удобно? — это взаимоотношение «партнера» и «партнерши»? Без всякого самообмана, без ненужных и мучительных переживаний, любовных сомнений и прочей ерунды…
Ольга (продолжая). Без изводящей канители постепенного ухаживания, потери времени на всякие свидания, «охи», «ахи», слезы ревности…
Профессор Фор. Вообще, по ту сторону предрассудка, называемого «любовью»!
Ольга. Вот именно — по ту сторону любви, минуя не только буржуазные понятия, но и буржуазные чувства!
Профессор Фор. А главное — сознательное отношение к совершаемому: мы знаем, что это такое, мы отдаем себе отчет, что это «нарочно», что это только изживание отсталых чувств! Честно, практично, приятно!
Ольга. В конце концов, ведь то же самое проделывает большинство, когда подыгрывается друг к другу, вкладывая свой идеал в другого и воплощая чужой!
Профессор Фор. Ну разумеется! только это делается бессознательно, в беспросветном чаду страсти, с колоссальной потерей энергии, то есть по дилетантски до последней степени!
Ольга. А отсюда, понятно: муки ревности, тревога, неврастения, бессонница…
Профессор Фор. У большинства разум и воля во власти отсталого чувства! а у нас наоборот.
Ольга (ему в тон). Чувство в полном подчинении разуму и воле!
Профессор Фор (пожимая ей руки). Ах, я так рад, что вы сразу же поняли, чего я хотел! а то я боялся…
132 Ольга (не отпуская его рук). Неужели я казалась такой… тупицей?
Профессор Фор. Нет, но… мы так подвластны, несмотря ни на что, предрассудкам…
Ольга (живо). Только не я!
Профессор Фор. Я прямо счастлив это слышать! (Нагибается в явном намерении поцеловать ей руку, но тотчас же одумывается.)
Ольга (после короткой паузы, тихо-тихо, чуть вызывающе). А он очень вкусно целуется, ваш Теобальд!
Профессор Фор. Вы находите?
Ольга (совсем лицо к лицу). Очень вкусно!
После заметного колебания, едва заметно дрожа, он сливается с ней в поцелуе. Дверь слева бесшумно приотворяется и на пороге показывается г-жа Норман с подносом, на котором бокалы дымящегося пунша и нарезанный торт. При виде поцелуя она в испуге открывает рот и медленно пятится назад, скрываясь за дверью.
Занавес.
ПЯТАЯ КАРТИНА
В кабинете профессора Фора. Вечер. У кушетки направо горит яркая, лунно-голубая лампа под темным, немного фантастичным абажуром. На кушетке, забравшись на нее с ногами, сидит Ольга в простеньком, сравнительно коротком платьице; у нее отросли немного волосы и вьются локонами, как у подростка; ноги ее обнажены, и она их стыдливо поджимает под себя и слегка ежится, кутаясь в кружевную шаль, словно ей зябко. На пушистом ковре у ее ног сидит профессор Фор. Он без очков, в рубашке с открытым воротом и в великолепной пижаме, напоминающей узором и всем видом не то средневековый «сюпервест», не то скромный кафтан эпохи Возрождения. В его руках книга в дорогом старинном переплете. Голубое освещение лампы выхватывает из всей комнаты только этот уголок, оставляя прочее в полумгле.
Профессор Фор (читает проникновенным голосом).
«Все сильное во мне склоняется послушно
Пред слабостью твоей; движеньем глаз одним
Ты мной повелевать способна равнодушно.
О, презирай меня! Я понял все! любим
Тобою только тот, кто видит, что бесстрастен.
А я? Я ослеплен и должен быть несчастен»11*. (Отбрасывает
книгу.)
Ольга. Я не хочу, чтоб вы были несчастны, Теобальд! И мне ли, слабому созданью, такой жалкой перед вашей мудростью, влиять на ваше благоденствие!
Профессор Фор. Ты слишком скромна, моя девочка! ты все еще не веришь, как много значишь для меня! Но ты должна тому поверить. На что мне мудрость, если ты не любишь меня, ненаглядная, если мне холодно от своего одиночества!
Ольга. Я люблю вас, Теобальд! — вы так милы ко мне…
Профессор Фор. Нет, ты не можешь любить меня, как я бы хотел, Николет! (Лаская руками ее ноги.) Твое маленькое сердце холоднее твоих ног! О, если бы я 133 мог согреть его так же, как грею твои ножки! Нет, нет, не противься! — я, грея их сам, согреваю свое бедное сердце! О, как ты дорога мне, моя девочка, мое сокровище, радость моя удивительная! (Страстно припадает губами к ее ногам.)
Раздается телефонный звонок. Ольга делает движение к столу в намеренье подойти к телефону.
Нет, нет, не тревожьтесь! (Подходит к телефону и снимает трубку.) Кто говорит?.. Да, это я… Повысилась температура? А клистир ставили?.. Я же сказал вам… При аппендиците… Не перебивайте врача, когда он дает указания!.. Скопление газов? ну вот вам и причина! Когда я его оперировал… Помню!.. Клистир!.. Не беспокойтесь напрасно и меня не беспокойте даром! Завтра заеду. (Вешает трубку и возвращается к Ольге.)
Ольга (после паузы). Почему вы думаете, Теобальд, что я неспособна любить вас, как бы вы хотели?
Профессор Фор. Мои годы тому помехой, Николет! мои годы, которые куда дольше считать, чем твои!
Ольга. О, не на много дольше! к чему преувеличивать. Я правду говорю вам.
Профессор Фор. Правду? Конечно, правда, что «у страха глаза велики»! Но… что говорит поэт по этому поводу? (Поднимает книгу, раскрывает ее на заложенной странице и проникновенно читает.)
«Когда клянется мне возлюбленная в том,
Что все в ней истина, — я верю ей, хоть знаю,
Что это ложь: пускай сочтет меня юнцом
За то, что я притворств ее не понимаю.
Увы, напрасно я себе воображаю,
Что обманул ее, — мой возраст ей знаком.
Но солгала она, и стал я простаком.
Так правду гоним мы. Но для чего скрываю
Я то, что постарел, она же — ложь свою?
Любовь! Всего милей ей вид доверья нежный!
А старости в любви подсчет годов прилежный
Не нравится — и вот я лгу. На ложь мою
Она мне так же лжет, и с чувством безрассудным
Мы ложью льстим своим порокам обоюдным»12*.
Ольга. О, сколько горечи в этих стихах! Кто написал их, скажите?
Профессор Фор. Это сонет Шекспира, который умер недавно.
Ольга (слегка выходя из роли). Недавно?!
Профессор Фор (убедительно). Совсем недавно! Да и что за сроки нашей жизни в сравнении с вечностью. И если правду говорить, он и не умер вовсе. — Шекспир бессмертен!.. А я… я вот умру, и ты меня забудешь, как и любовь мою.
Ольга. К чему такие мрачные мысли?
Профессор Фор. О, если бы только знать, что ты меня тогда пожалеешь! Знать, что весною моя милая девочка придет на могилу нежного друга, принесет пучок фиалок. Омочит их слезою, — хотя б одной только слезинкой, — и бросит их, как дань его любви!
134 Ольга. Да вы поэт, Теобальд! и еще печальней Шекспира.
Профессор Фор. С тобою трудно не быть поэтом! Ты вдохновляешь, как никто! О, приласкай меня, как ты ласкала в первый раз… три месяца тому назад!..
Ольга. …когда мы с вами встретились?
Профессор Фор (прижимаясь к ней страстно). Да! Приласкай скорей!
Ольга (задумчиво гладя его волосы). Как быстротечно время!..
Они сливаются в поцелуе, как ненасытные любовники… Вновь раздается звонок телефона.
Профессор Фор (с досадой подходя к столу). Ну как нарочно!.. Дьяволы!.. (Взяв трубку телефона.) Что?.. Ошибка!.. (Вешает трубку и возвращается к Ольге.)
Ольга. Давайте лучше я буду подходить к телефону! «Нет дома и кончен бал». Они вас так замучают!
Профессор Фор (присаживаясь к ней). У меня один при смерти! Воспаление брюшины. Я сказал, чтоб позвонили в случае чего…
Ольга. Я тотчас же узнаю. Они ведь скажут!
Профессор Фор (нежно обнимая ее). Какой ужас — вторженье одного мира в другой! У меня все нервы напряжены до такой степени, что…
Ольга (гладя его волосы). Потому что вы не жалеете себя… Нельзя так переутомляться, профессор!
Профессор Фор. «Профессор»?!
Ольга (поправляясь). Теобальд!.. мой рыцарь, расточающий себя на благо ближних! Мой верный паж… (Лаская его.) Не волнуйтесь!.. вот так… Вам хорошо со мной?
Профессор Фор (с глубоким вздохом). Хорошо… Когда меня жалеешь ты — мне хорошо… А самому себя жалеть не стоит… в том мало утешенья…
Ольга. Успокоились?.. Вам так удобно?..
Профессор Фор. Да… Как я люблю тебя!.. Больше жизни! больше всего на свете! (Страстно обнимает и целует ее.) Еще!.. еще, еще!
Звонок телефона.
Ольга (соскакивает с кушетки, достает из-под нее туфли и, быстро надев их, подходит к телефону). Алло! Кто говорит?.. Профессора нет дома… Ах это вы, Станислав?
Профессор встает и, стиснув зубы, сжимает кулаки.
Не могу, голубчик, занята!.. Все еще болит рука? Да у вас же прорвался нарыв… Опять нехорошо?.. съехал бинт?.. (Обернувшись на профессора.) Я, право… у меня в лаборатории кипит эмульсия… надо следить: может взорваться… Да, но он скоро вернется!.. Нет, право же… (Пожимает плечами.) Ну хорошо, только не надолго! (Вешает трубку.)
Профессор Фор (нервно, с плохо сдержанной злобой). Зачем сказали, что меня нет дома?.. а?.. Для него я всегда дома! Слышите? — всегда дома! (С злобной улыбкой.) Он такой очаровательный собеседник!.. Надо было узнать сперва, кто говорит!
Ольга. Я не знала, что…
Профессор Фор. Ах, вы «не знали»… вас надобно всему учить… все предусматривать с вами! Так потрудитесь надеть чулки поскорее! не то вы забудете, а я не желаю быть смешным в его глазах!
Ольга достает чулки из-под кушетки и надевает их.
135 Довольно уж того, что с тех пор, как вы его сюда вселили (показывает наверх), я не вижу больше покоя! — то его дурацкий граммофон, то звонки по телефону, то он сам грозит пожаловать!.. (Гасит голубую лампу и зажигает обыкновенные лампочки, от чего комната сразу принимает свой обычный «деловой» вид.) Вы можете с ним видеться сколько угодно, но, уверяю вас, что эта квартира совсем не подходящее для этого место!
Звонок в передней.
Запомните, что я сказал!
Уходит направо, хлопая дверью, на что как эхо раздается хлопанье двери слева и голос Станислава.
Ольга (идет к двери налево и отпирает ее ключом). Кто там?.. Ах это вы? — войдите!
Станислав (входя в художнической блузе, с забинтованной левой рукой). Здравствуйте!
Ольга. Здравствуйте! В чем дело?
Станислав (осматривает ее, задержав ее руку в своей). Что за наряд на вас?
Ольга (освобождая руку). Рабочий… для лаборатории.
Станислав. Вы меня совсем забыли!
Ольга. Немыслимо! — о вас так трубят газеты и к тому же ваш граммофон… Кстати (разбинтовывая его руку), вы бы его слегка утихомирили! — эта «песня любви» начинает приедаться, да и профессор жалуется на беспокойство!
Станислав. Вот как?.. И вам, конечно, жаль бедного профессора?
Ольга. Разумеется!
Станислав. А меня?
Ольга (с кривой улыбкой). Тоже. Но в другом смысле… Нет, правда, профессор так завален работой и так нуждается в отдыхе…
Станислав. Я вижу, он совсем пленил ваше сердце!
Ольга. «Пленил» — громко сказано! Но он вполне достойный человек и… с ним так просто себя чувствуешь!
Станислав. Не так, как со мной?
Ольга. Гм… видите ли, он называет вещи своими именами, и потому с ним знаешь, чего он хочет.
Станислав. Чего же?
Ольга (мягко). Вы пришли для допроса?
Станислав. Боже избави! — меня привела к вам больная рука.
Ольга (осматривая руку). Она уже заживает!
Станислав (испуганно). Заживает?!
Ольга. Ну да! Чего вы всполошились?
Станислав (скорбно). Я предчувствовал, что вы мне это скоро скажете… Ну что же, вам виднее!
Ольга (перебивая). Только не растравите ссадину случайно!
Станислав. Вы же знаете, что я нарочно этот делал!.. чтобы иметь предлог…
Ольга. Я этого не знала.
Станислав. Какой же вы врач после этого!
Ольга (улыбаясь). Плохой, должно быть, — не стоит ко мне обращаться. (Забинтовывает руку.)
Станислав. Есть ссадины, которые могут быть заврачеваны только вами…
136 Ольга (почти издеваясь). Я догадываюсь: ссадины на сердце, не так ли?
Станислав. Вы прямо… дьявол!
Ольга. Которого вы приняли за ангела? да? Как вам не надоест эта высокопарная жвачка.
Станислав (вырвав неожиданно бинтуемую руку). Подождите! Скажите наконец мне прямо, что за роль я играл во всей этой истории?!
Ольга. В какой такой «истории»?
Станислав. Ведь я не маленький и все прекрасно вижу.
Ольга. Что же вы видите?
Станислав. Зачем вы захотели, чтобы я переехал сюда (показывает наверх), если…
Ольга. Если что?
Станислав. Если вам все больше и больше недосуг меня видеть? В чем дело? Я был вам нужен только как приманка для другого? да? как острастка для него: смотри, мол, не ты, так он, — торопись?!
Ольга (хочет закончить бинтование руки, но он не дается). Однако! вы не стесняетесь в выражениях.
Станислав. Но раз вы любите, чтобы вещи называли своими именами…
Ольга. Чего вы от меня хотите?
Станислав. Я вам не нравлюсь больше?
Ольга. Вы же сами сказали, что никогда бы на мне не женились!
Станислав. А вам так дороги буржуазные цепи?
Ольга. Я этого не говорю, но…
Станислав. Так в чем же дело? (Подойдя к ней вплотную, вкрадчивым голосом.) Почему вы изменились ко мне?
Ольга (оглянувшись на дверь направо, заново перебинтовывает ему руку). Просто я увидела, что мы не пара! — вы опоздали родиться на свет и потому…
Станислав (перебивая). Опоздал родиться?
Ольга. По крайней мере, для меня — на полстолетия! Я в этом убедилась после первых же наших бесед…
Станислав. Так зачем же вы продолжали посещать меня?
Ольга. Зачем?.. А чтоб изучить вас! — На самом деле, — что вы думаете? — не только я была вашей моделью, но и вы моей!
Станислав (дернувшись). В каком смысле?
Ольга. Спокойней!.. А в том смысле, что хотелось для будущей семейной жизни получше узнать мужскую психологию! — на практике, так сказать, на живой модели, вот как автомобиль изучают сперва на модели!
Станислав. И что же?
Ольга. Вы оказались чудеснейшей моделью! и к тому же в столь выгодных условиях: мужчина наедине с голой женщиной, идеализирующий свое чувственное отношение к ней! — чего же лучше! Все, что вы говорили и как держались, послужило ценной наукой для той, кто хотела без интимной близости узнать поближе мужчину! узнать до конца эту самомнящую психологическую машину!
Станислав (недоуменно). Значит, это было не для заработка, что вы мне позировали?
Ольга (почти смеясь). Не я вам только позировала, а и вы мне! Да еще как! — любо-дорого было смотреть.
137 Станислав (горячо). И вы ни разу не были охвачены любовным порывом? — позвольте вам не поверить: — я не слепой, слава Богу!
Ольга. Видите ли, в то время как вы воображали мою любовь к вам, я ее анализировала: разлагала на части, обследовала, взвешивала и, наконец, убедилась, что это было только сексуальным капризом с моей стороны.
Станислав. Что-о?!. Прямо не верится ушам! Подумать только, что та, кого я принял за свой идеал, сама сует мне оружие против себя!
Ольга. Какое оружие?
Станислав. Гм… какое! — да ваш проклятый микроскоп, — вот какое! чтоб я увидел воочию, каков мой идеал!
Ольга (с усмешкой). Пусть так!
Станислав. Но я им не воспользуюсь! — успокойтесь! Что мне отдельные краски и линии, когда мне важно произведение в целом!.. Я так и знал, что вы анализом убили свое чувство! положили, так сказать, свою любовь под микроскоп, и получилась такая же бессмыслица, как «Бог под микроскопом»!
Ольга (закрепляя бинт). И вовсе это не бессмыслица! Дух исследования и скепсиса — в природе человека. Будь я учеником Христа, я поступила бы, как Фома Неверный, а он, живя в наше время, конечно бы, благословил микроскоп!
Станислав (с досадой). Мы не понимаем друг друга!
Ольга. Я же говорю, что мы разные люди… (Смотрит на часы.) Ого! как время бежит!
Станислав. Ухожу! Спасибо! (Жмет руку.)
Ольга. Надеюсь, мы расстанемся друзьями?
Станислав (с горькой усмешкой, направляясь к выходной двери). Мы никогда не расстанемся с вами!
Ольга (обеспокоенно). Никогда?
Станислав (у самой двери). С вашим идеалом, хочу я сказать! с тою, кого я запечатлел в своей скульптуре!
Ольга (успокаиваясь). А, это другое дело!
Станислав. Даже после смерти.
Ольга. И после смерти?
Станислав. Я завещаю, чтоб ваше изваяние, в котором живет лучшее, что в вас имеется, было неразлучно со мной, навсегда охраняя мой могильный покой.
Ольга. Надгробный памятник, другими словами? хорошенькую роль вы мне предназначили!
Станислав. Другой, очевидно, вам не дано играть в моей судьбе!.. До свиданья! (Уходит.)
Звонок телефона.
Ольга (взяв трубку). Алло!.. Что?.. Ошибка!.. ошибка, повторяю! (Вешает трубку.)
Профессор Фор (входит справа, в очках, в обычном пиджаке, с повседневным галстуком на шее. Говорит сдержанно, почти официальным тоном, но голос ему как будто изменяет). Доктор Антуан не звонил?
Ольга. Нет.
Профессор Фор. А профессор Кальвет? Я их пригласил на свой доклад завтра! Ответа не было?
138 Ольга. Нет. (Зажигает голубую лампу и гасит остальные.) Будем продолжать, Теобальд?
Профессор Фор (гасит голубую лампу и зажигает остальные и говорит с расстановкой, цедя слова сквозь зубы.) Никакого Теобальда здесь нет! Вы ошиблись!
Ольга. Что случилось? Почему этот тон?
Профессор Фор (пройдясь молчаливо по комнате). Мне, признаться, надоела вся эта история! И если вы не понимаете, что это действует на мои нервы, — удивляюсь вашей нечуткости.
Ольга. О чем вы говорите?
Профессор Фор. Гм… о чем!.. Вы хорошо понимаете, что это не ревность! не правда ли? Я далек от первобытных страстей. Тем более, что ревность предполагает любовь, а наши с вами отношения чужды подобных предрассудков. Но это меня раздражает и отравляет покой…
Ольга. То есть, что именно?
Профессор Фор. Вы сами это знаете!.. Мне абсолютно безразлично, ухаживает этот тип за вами или нет! Нравится он вам или нет! Вас он прельщает? и прекрасно! давай Бог счастья! — какое мне до этого дело! Я не ваш муж, не любовник в обычном смысле этого слова и… о ревности не может быть и речи! Но… мне неприятны эти вторжения в мою частную жизнь, эти заигрывания на моих глазах и свиданья за моей спиной. Это не ревность, вы хорошо понимаете, а просто нежелание, чтобы этот болван смеялся мне в глаза при встречах! Я не хочу быть, наконец, смешным в глазах прислуги. А то на что это похоже!.. Он явно играет на моем самолюбии, а вы потакаете ему, словно это в порядке вещей. Повторяю — это не ревность, — смешно говорить о подобном чувстве, — а просто ограждение своего достоинства.
Сверху вновь раздается страстная песня «Love again». Профессор вздрагивает словно ужаленный, сжимает кулаки и злобно скашивает глаза в сторону Ольги, которая при звуках «Love again» растерянно улыбается.
Ну нет!.. это уж слишком!.. всему есть границы! даже наглости этого господина!!!. Он напрасно со мной шутит! — я положу предел этим любовным серенадам, обращающим мой дом в какой-то кабак! Если ему угодно через громкоговоритель извещать на весь мир о своей любви, то мне совсем неугодно, чтоб нарушали мой покой! — вы это слышите?!
Ольга (подойдя к телефону). Я скажу ему, что… это вам мешает.
Профессор Фор (почти вырвав у нее телефонную трубку и вешая ее на место). Кто вас просит об этом?! — я сам себя сумею защитить! — нечего меня впутывать в ваши отношения! Или вам угодно выставить меня в жалком виде? да? или вы не наговорились с ним достаточно? надо еще занимать телефон, который, быть может, нужен сейчас для скорой помощи, для тяжелобольных, для умирающих?!
Ольга. Вы напрасно кричите на меня, потому что…
Профессор Фор. Я не кричу! и будьте любезны мне не делать замечаний! если я принужден возвысить голос, то только потому, что эта музыка готова заглушить меня… И вообще не выводите меня из терпения!
Ольга. Я?!., это я виновата, что…
Профессор Фор (перебивая). Да, вы! потому что это вы поселили его поближе к себе! из-за вас он «завел эту музыку»! из-за вас меня лишают покоя и издеваются 139 надо мной! (Словно сорвавшись с места, бросается к столу и роется в ящиках.) Но я сумею за себя постоять! будьте уверены, сударыня! Если этот неуч прибегает к насилию, то на насилие я отвечу тем же! «Simila similibus curantur»13* Да, да, клин клином вышибают! и я вылечу этого молодчика от его эротической мании, вылечу, будьте спокойны! Ага! (Находит в ящике револьвер.) Вот он!.. (Как безумный, быстро прицеливается в то место на потолке, откуда, ему кажется, льется любовная песня, и стреляет. Звуки граммофона почти мгновенно прекращаются.)
Ольга (в ужасе хватаясь за голову). Что с вами? вы больны?!
С потолка сыплется штукатурка. Профессор Фор, словно обессиленный, бросается на кушетку и тяжело дышит. Револьвер выпадает из его рук. Он держится за сердце с видом глубокого страдания. Ольга, придя в себя, подбирает револьвер и бросает его в ящик стола. В двери слева появляется голова испуганной служанки. Раздается звонок телефона.
Ольга (вполне овладев собой, снимает трубку и спокойно спрашивает). Алло! Кто говорит?.. Ах, это вы, Станислав? Ничего особенного! — банка лопнула в лаборатории… да, да, от кипячения! Заслушалась вашей музыкой и недоглядела… Вот, вот! (Оглянувшись в сторону профессора Фора.) А банка кипятилась, кипятилась и лопнула… Нет, меня не ранило! — на этот раз все сошло благополучно, — Бог миловал!.. Спасибо! До свиданья! (Вешает трубку.)
Успокоенная служанка скрывается за дверью.
Профессор Фор (словно очнувшись). Так дальше продолжаться не может!.. Этак можно и с ума сойти! потерять облик человеческий!.. дойти до состояния дикаря! зверя!.. Я не хочу терять к себе уважение. Я всю жизнь избегал патетических эксцессов!.. Это не в моем характере… Я не тренирован… Мне уж под пятьдесят. Это мне чуждо!.. непривычно!.. противно!.. Надо положить предел этой ерунде!.. и как можно скорее!..
Ольга (после паузы). Простите, — какой «ерунде»?
Профессор Фор. Нашим отношениям. (Встает, снимает очки, протирает глаза, протирает стекла очков.) Вот уж не думал… Какой-то кошмар!.. словно я попал в топкую трясину, которая меня затягивает и одурманивает испареньями мозг… словно я сплю, вижу какой-то нелепый, смешной сон… унизительный сон и… не могу проснуться! (Энергично надевает очки.) Но я проснусь, будьте уверены! очнусь в лучшем виде! Я уже просыпаюсь и стряхиваю с себя наваждение. Да, да, — чем скорее, тем лучше!.. Мы должны расстаться. Другого выхода нет.
Ольга (грустно, но без лишнего волнения). Должны расстаться?
Профессор Фор. Да! Потому что есть такая пословица: «коготок увяз — всей птичке пропасть». Очень верная пословица! предостерегающая! Мы слишком увлеклись, вызывая образы, какие были близки нашим предкам. Мы раздразнили их! мы разбудили этих безрассудных предков, дремавших на дне нашей души, и вот они уже готовы подчинить нас себе! Но мы не будем малодушны и опомнимся вовремя! Так лучше для нас обоих! потому что это ни к чему путному не ведет и привести не может… Да, было много приятного, захватывающего в нашей «психологической операции», но… она чересчур дорого стоит! — не по карману моим нервам.
140 Ольга (глухо). Вы говорите, что это «ни к чему путному не ведет»?
Профессор Фор. И привести не может.
Ольга. Вы ошибаетесь! Кой к чему «это» уже привело. Вы забыли о возможности появления третьего «партнера».
Профессор Фор (сухо). Третий партнер не предусмотрен в нашем договоре, и вообще мне нет дела до вашего Станислава.
Ольга. Речь идет не о нем.
Профессор Фор. Ах, у вас еще есть про запас?
Ольга. Бросьте этот тон! — он унижает не только меня, но и вас.
Профессор Фор. К делу! Что вы хотели мне сказать?
Ольга (помолчав с грустным видом, пробует улыбнуться). Гм… выражаясь языком Библии, у меня «взыграл младенец во чреве».
Профессор Фор (пораженный). Что?! Как же вы допустили?.. вы… вы… вы же не деревенщина, не маленькая, вы же врач!
Ольга (садится на диван с поникшей головой). Все это так, но что же делать! (В ее голосе звучат слезы и полная искренность.) … В минуту слабости мне показалось… что я люблю вас немного… что такая радость иметь ребенка… своего ребенка, маленького, смешного, беспомощного… ребенка от каких-то сказочных Теобальда и Николет, который и знать не знает, что мы их выдумали, что мы лишь изживали какие-то отсталые чувства… (Тихо плачет, уткнувшись в спинку дивана.)
Профессор Фор (застигнутый врасплох, но справляясь с чувством растерянности). Я вас покорнейше прошу не плакать в моем присутствии! Слышите? Я этого не выношу. Слезы ничего не доказывают… Это распущенность!..
Ольга (сквозь слезы). А стрелять в потолок не распущенность?!
Профессор Фор. Я себя не оправдываю. Это был рефлекс, в котором человек не волен.
Ольга. Я тоже человек! — вы должны это помнить. Да, я тоже человек!
Профессор Фор (расхаживая нервно по комнате). Что вы хотите этим сказать? Я знаю, что вы «тоже человек»! Но что из этого следует?
Ольга (овладевая собой). А то, что раз я человек, то ничто человеческое мне не чуждо, а в том числе и инстинкт материнства. Поняли? Или вы станете отрицать «материнский инстинкт»? Сами же пробудили его во мне, так чего вы спрашиваете!
Профессор Фор (в затруднении). Видите ли… если б люди вообще следовали слепо своим инстинктам, то они давно б уж перегрызли горло друг другу. На то человеку и дан разум, чтобы бороться со своими инстинктами и примитивными чувствами.
Ольга (встает в досаде). Ах, бросьте ваши теории! и вообще не будем пустословить.
Профессор Фор. То есть как это «бросьте ваши теории»! — вы думаете, о чем вы говорите?
Ольга (горячо). Да! потому что можно бороться со стариной, но из этого не следует, что надо разрушить Реймский собор. А многие из наших древних чувств по своей ценности и красоте не меньше значат, чем Реймский собор!
Профессор Фор (глубоко пораженный). Откуда у вас эти мысли? с каких пор вы стали так думать?
141 Ольга. Не все ли вам равно! И вообще, о чем тут рассуждать, если мы расстанемся!.. Я хотела только спросить: что мне делать с ребенком? Я не хочу вас компрометировать, но вместе с тем и не намерена бросать тень на другого, нисколько в том не повинного! а главное — мне вовсе не улыбается положение девушки, брошенной с ребенком на руках. Вы сами понимаете, что это далеко не интересное положение в обществе, где все еще царствуют отсталые взгляды.
Профессор Фор (почти кричит). Так что же, мне жениться на вас, что ли, прикажете!!! да? жениться на вас? этого вы добивались?
Ольга (холодно, с достоинством, почти с презрением). Мне этого не нужно! моя любовь к вам была минутной слабостью. А вот нужно ли это вашему ребенку, имея в виду его будущее, — это другой вопрос.
Профессор Фор. Это не мой ребенок! Надо сперва доказать, что это вас не «свыше осенило». (Показывает на потолок, случайно на то место, откуда вновь посыпалась штукатурка.)
Ольга. Я… не унижусь до подобных доказательств! Да и вы сами знаете, что они излишни. Но… не желая откликнуться, как отец своего ребенка, вы, может быть, откликнитесь на мою просьбу, как хирург?
Профессор Фор (насторожившись). О чем вы говорите?
Ольга. Мне надо избавиться от ребенка! — дело ясное.
Профессор Фор. Это ваше дело!
Ольга. И вот я прошу вас о последнем одолжении: убейте его!
Профессор Фор. «Убейте»?!. Потрудитесь выбирать выраженья! — так с хирургом не разговаривают, — для этого имеются научные термины и вы, как врач, должны бы их знать!
Ольга (с грустной иронией). Увы! к вам обращается сейчас не врач, а мать своего ребенка, от которого она, вопреки своей воле, принуждена избавиться!
Профессор Фор (расхаживая сердито по комнате). Гм… «убейте»!.. Я не убийца, сударыня!
Ольга (качая головой, задумчиво смотрит в пространство). Когда приходит час, — каждому дано Судьбой по-своему убивать: кавказскому горцу — револьверной пулей, хирургу — ланцетом. Не дайте только маху, как этот Валико! Впрочем, я вас знаю: у вас рука не дрогнет!
Профессор Фор. Бросьте ваш сарказм! — я не в таком настроении. Вы хотите, чтоб я вас оперировал? да?
Ольга. Ну ясно! Я бы обратилась к другому, но… вряд ли найду лучшего хирурга! — а ведь ребенку четвертый месяц! с этим не рискуют! К тому же я не хочу, чтоб об этом узнали в нашем врачебном мире, — и так довольно сплетен.
Профессор Фор (решительно). Хорошо, я согласен!.. Тем более, что это не мой ребенок. Да если б и мой, — меня на этом не подцепить! не на простачка напали — будьте уверены!
Ольга. На что вы намекаете?
Профессор Фор. Так, — ни на что. А кто же будет ассистентом?
Ольга (со слабой улыбкой). К сожалению, на этот раз я не могу быть при исполнении служебных обязанностей. Но я надеюсь, что если простая акушерка справляется в таких случаях без посторонней помощи, то вряд ли это вас так затруднит! А все приготовления я сделаю сама.
142 Профессор Фор. Ладно! — мы это обсудим потом! (Идет к телефону с намерением позвонить.)
Ольга. Я попросила бы вас не медлить! так как ни часу лишнего не хочу оставаться в вашем «гостеприимном доме»! Да и вообще откладывать такую операцию — значит подвергать себя лишнему риску.
Профессор Фор (раздраженно). Что же вы хотите? — чтоб я сейчас вас оперировал, что ли?
Ольга. Да хоть сейчас! — благо у вас свободное время!
Профессор Фор (смотрит на часы). Меня ежеминутно могут вызвать к этому… умирающему.
Ольга. Поспеете и к нему! и к умирающему, и к зарождающемуся!
Профессор Фор (задетый). Это острота?
Ольга (с усмешкой). Случайная.
Профессор Фор. И смешная, по-вашему?
Ольга. Гм… для кого как!
Профессор Фор. Вы хотите сказать, что я лишен чувства юмора?
Ольга (нетерпеливо). Ничего я не хочу сказать, кроме того, что мне некогда и что это единственная награда, какую я прошу от вас за принесенную жертву. Поэтому сделайте для меня исключение и оперируйте меня «вне очереди»!
Профессор Фор (уязвленный). Ах, это была «жертва» с вашей стороны?.. Вот как!.. Я был вам так противен? да? вам нужно было превозмогать свое отвращение ко мне как к мужчине? Это вы хотите сказать?
Ольга. Все слова сказаны. Очередь за делом. Исполните ваш долг! или я обращусь к другому, и тогда пеняйте на себя, если наши отношения раскроются и бросят тень на вашу репутацию!
Профессор Фор. Вы мне грозите разоблачением тайны?
Ольга. Нет, но… всем известно, что я находилась при вас почти неотлучно… Тетя моя видела случайно, как мы целовались, и вообще трудно закрыть рот общественной молве.
Профессор Фор. Плевать мне на «молву»!.. Подумаешь!.. Я всегда был выше ее — запомните это!
Ольга. Ваше дело! но… если я умру, например, у вас под ножом, — вам трудно будет устоять против этой молвы! — смею вас уверить… (Заглянув в дверь операционной.) Итак, согласны обойтись без ассистента?
Он молчит.
В таком случае я иду прокипятить инструменты и сама приготовиться! (Уходит в операционную, зажигает в ней свет и слегка прикрывает за собой дверь.)
Профессор Фор (стоит секунды две стиснув зубы, потом встряхивает головой, подходит к телефону и снимает трубку). Дантон 207-04… Да, 04… Алло!.. Это профессор Кальвет?.. Здравствуйте, коллега! это я, профессор Фор! Вы получили приглашение на мой завтрашний доклад?.. Нет, ответа не было! — я бы так хотел… Не можете быть! вот досадно!.. Что? Вас могут задержать в суде? Да, ведь вы эксперт на этом процессе! Черт возьми, этот Валико все время на моем пути! — прямо какой-то фатум!.. Что?.. Да она совсем поправилась!.. пустячное раненье… Мне кажется, бедняга хотел лишь попугать ее! иначе б он, конечно, убил ее наповал! в двух шагах-то! — кавказцы очень меткие стрелки… Что?.. Да, она сама сознается, 143 что довела его до невменяемости… Конечно, если человек невменяем… Еще бы… чисто женская черта! Им нравится выводить мужчину из себя, чтобы торжествовать над его разумом, хладнокровием, выдержанностью! Я знаю такие случаи, что… (Смотрит на потолок, откуда моментами все еще сыплется штукатурка.) Разумеется… И чем больше я думаю о психологии женщин, тем больше я оправдываю эксцессы мужчин… Я не хочу навязывать своего мнения, но уж если говорить о «жертве», то скорее этот кавказец — жертва, нежели она!.. (Деланно смеется.) О, я убежденный холостяк… Свяжись только с женщиной — и прощай покой!.. Всегда так… ей непременно хочется завладеть психикой мужчины, поработить ее, сделать себе подвластной. Не дай Бог обнаружить перед ней свою слабую сторону, какой-нибудь «пунктик», психический изъян! — она тотчас же ухватится за ваше слабое место, станет играть на нем и потянет вас ко дну… Что?.. «Почему я так горячусь»?.. Разве я горячусь?.. что вы! — просто меня этот вопрос интересует с научной точки зрения… Очень жаль, что не будете на докладе! — я на вас рассчитывал… Ах, понравилась картинка?.. годится для вашей коллекции?.. (Издевательским тоном.) «Бог под микроскопом»… Да… и таких художников премируют! они кружат головы женщинам, пресса их превозносит… Вот именно!.. Еще раз сожалею. До свидания! (Подходит к столу и что-то записывает.)
Ольга (появляется в дверях в больничном балахоне, надеваемом на оперируемых). Все готово!..
Профессор Фор (пристально взглянув на нее, судорожно подавляет вздох). Иду!..
Ольга скрывается в операционной. Профессор Фор подходит к двери налево, запирает ее на ключ и гасит все лампы в кабинете, отчего гораздо ярче засвечиваются матовые стекла широких дверей, ведущих в операционную. Профессор Фор задерживается на секунду у этих дверей, как бы соображая что-то, потом нервно проводит рукой по волосам, встряхивается, твердым шагом входит в операционную и прикрывает за собой дверь. На матовых стеклах мелькает раза два его искаженная тень. Слышны твердая поступь его шагов и вскоре легкий лязг перебираемых инструментов. В кабинете раздается телефонный звонок, — один, другой, третий, не счесть сколько, и замолкает. Через несколько времени дверь операционной открывается и профессор Фор, как силуэт на ее светящемся фоне, появляется в своем докторском халате и колпаке, еле сдерживая волнение. Он проходит неуверенной походкой к кушетке и грузно на нее опускается. Пауза.
Ольга (входит, зажигает свет в кабинете и делает два шага в сторону профессора Фора). В чем дело?.. что с вами?..
Профессор Фор (прерывисто дыша). Я не могу так!.. мои нервы… у меня дрожат руки… (Пауза.) Не могу!
Сверху доносятся чувственные звуки «Love again».
Занавес.
ШЕСТАЯ КАРТИНА
До поднятия занавеса, — выполняя переход от пятой картины к шестой, — продолжает звучать диминуэндо напев «Love again», на котором закончилась предыдущая картина. Снова в меблированных комнатах, где живут Ольга Норман с теткой. Вечер. Уютное, из-под абажура электрическое освещение. Слева доносится говор, слышно, как несколько человек, отодвигая стулья, встают из-за стола. Входят Ольга и Альфред, чувствуется, что они только что сытно пообедали и немало выпили.
144 Ольга (одетая в неброское, но очень элегантное вечернее платье, указывает Альфреду место у стола направо). Садитесь! Кофе мы здесь будем пить. (Обернувшись к двери налево.) Господа! ну что же вы? Идите сюда! (Хочет уйти.)
Альфред (удерживая ее за руку). Ну и разодолжили, дорогая!.. Такая новость, такой сюрприз, что… (Разводит руками.) И целый месяц держать это в секрете! Какая выдержка! но к чему?
Ольга. Это был «пробный брак»! вроде японского. Мы не знали, насколько это прочно… экспериментировали.
Альфред. Но теперь?
Ольга. Сегодня мы были в мэрии…
Альфред. Ах, вот по случаю чего сегодня пир горой!
Ольга. И теперь «все в порядке».
Альфред. Замечательно, то есть уму непостижимо!
Ольга. «Есть многое на свете, друг Горацио…». Вы любите Шекспира? (В сторону двери налево.) Господа, ну что же? пожалуйте сюда!
Альфред. А как же Станислав? Я, признаться, думал… Он знает об этом?
Ольга. Знает и… примирился.
Альфред. Другого ничего ему не оставалось.
Ольга. Он придет скоро.
Альфред. У вас «званый вечер»?
Слева входят аббат, профессор Фор и г-жа Норман, несущая подносе чашками кофе и бутылками ликеров с рюмками.
Ольга. Я сегодня объединяю здесь представителей всех четырех этажей этого дома.
Альфред. Да… но, позвольте, — а я из какого этажа?
Ольга (смеясь). Не из какого! — вам суждено болтаться между всеми этажами!
Альфред (разводя руками). Благодарю покорно.
К ним подходит профессор Фор и усаживается за кофе с Альфредом. Налево же, за столиком, усаживаются аббат и г-жа Норман.
Профессор Фор. О чем вы тут беседовали? Ольга наливает им шартрез и переходит с ним к столику налево, чтоб угостить аббата.
Альфред. Да вот… все удивляюсь вам… такая перемена!..
Профессор Фор (прихлебывая кофе). Говорите прямо, что считаете мой поступок безумием!
Альфред. «Безумием»? — это сильно сказано!
Слышен телефонный звонок.
Г-жа Норман (привставая). Телефон!
Ольга (усаживая ее). Это меня, наверное. (Уходит в среднюю дверь.)
Г-жа Норман (улыбаясь). Сколько поздравлений сегодня! И откуда все вдруг узнали?
Профессор Фор. Я вот сейчас беседовал с аббатом… Кстати — он вовсе не так глуп, как я предполагал…
Альфред. С аббатом?.. о чем?
145 Профессор Фор. О призрачности наших знаний… Наивно смотрит на вещи, конечно, но… Он далеко не «безумец», о нет! (Пьет ликер.)
Аббат (прихлебывая кофе в компании г-жи Норман, ведет с ней интимную беседу, параллельную беседе профессора с Альфредом). А он, в общем, славный малый, этот атеист!
Г-жа Норман. Профессор Фор?
Аббат. Да. Мы с ним только что вновь побеседовали.
Г-жа Норман (боязливо, слегка наклоняясь к аббату). И вы думаете, есть надежда на его «обращение»?
Аббат. Конечно, в нем есть много наносного, так сказать, поверхностного, «от лукавого», но… будем верить, что Бог не без милости…
Профессор Фор (продолжая беседу с Альфредом). В нем, конечно, много архаичного, в этом аббате, допотопного, так сказать, отжитого, но… я не назвал бы это «безумием»! — это просто другой подход к вещам! вот и все!
Аббат (продолжая беседу с г-жой Норман в несколько конспиративном духе). Во всяком случае, если он действительно любит вашу племянницу…
Г-жа Норман (горячо). До безумия любит!
Профессор Фор (поучая Альфреда). Каждый человек имеет право на безумие… Весь вопрос: относится ли человек сознательно к своему безумию или нет.
Г-жа Норман (повторяя после длительного вздоха). … до безумия любит. А Ольге так бесконечно дорога память ее матери…
Аббат. …воля которой ясно выражена в чисто христианском завещании. (Отпив рюмку шартреза, говорит ей что-то на ухо, на что она часто кивает утвердительно головой.)
Профессор Фор (продолжает сразу же после реплики аббата, просмаковав не торопясь шартрез во время их предшествовавшей беседы). Вот я пью этот шартрез. Мне это вредно: у меня и печень, и невралгия плеча, и вообще это безумие с моей стороны. Но мне это нравится. Имею я право на некоторое безумие или нет?
Альфред. Конечно, но все же…
Профессор Фор (перебивая). Важно, чтоб я сознавал, что это безумие. Другой пьет и не сознает, что он делает. А я сознаю. Вы понимаете разницу?
Альфред. Понимать-то я понимаю, но все-таки…
Профессор Фор. Я знаю, — вы скажете: брак — это социальный пережиток, а любовь — предрассудок. Вы правы! но мы живем в мире пережитков и предрассудков. Дайте сюда вашу руку! (Жмет руку Альфреда.) Что значит это рукопожатие? — когда-то дикари, мирно встречаясь, поднимали руку, желая показать, что она не вооружена, и ощупывали ее, чтобы вполне убедиться. Но на кой черт мы это проделываем? дикий пережиток? Верно! А попробуй-ка не подать вам руки — обидитесь!
Альфред. Конечно, «с волками жить — по-волчьи выть», но тем не менее…
Профессор Фор (договаривает, перебивая). …надо бороться со стариной? Верно! но из этого не следует, что надо разрушать Реймский собор. А многие из наших древних чувств по своей ценности и красоте не меньше его значат. (Угощает ликером и пьет сам.)
Г-жа Норман (закончив шептаться с аббатом, добродушно смеется). Я нарочно хотела испытать его… Говорит: не верю я в ладанку! — предрассудок! А у самого плечо так ноет, что беда. Я говорю: ну сделайте это для меня! — не отвергайте благодати святой Агнессы, наденьте ладанку — ну что вам стоит!
146 Профессор Фор (прислушиваясь к словам г-жи Норман, говорит Альфреду). Все зависит от точки зрения. Вот, например, я против невралгии ношу ладанку… Смешно? Конечно, ладанка — чистейшее суеверие! А вот самовнушение — научно доказанный факт. И если ладанка мне помогает, то только потому, что стимулирует самовнушение. Ясно?
Альфред (еле сдерживаясь). Ну знаете, профессор, дойти до того, чтоб надеть на себя какую-то ладанку, вы меня простите…
Профессор Фор. Успокойтесь, — я просто не хотел обидеть старушку. Ну чего ее огорчать! А с меня от того не убудет. Мне это ничего не стоит, раз я свободен от суеверий и не могу в них погрузиться. Я это так и сказал господину аббату при нашем посещении его с Ольгой.
Альфред. Вы были у него?.. Там? внизу?
Профессор Фор. Да, а что?.. Меня Ольга просила об этом. Кстати, бедный аббат прихворнул, и мой визит был далеко не лишним.
Альфред. Гм… Быстро же вы стали спускаться, профессор, «вглубь веков». Просто диву даешься!
Ольга (входя, в веселом возбуждении). Звонил Станислав сверху! — к нему пришла сестра. Спрашивал: можно ли и ей нас поздравить? — она хочет в нашу честь сплясать «танец Гименея»… Завтра выпускают ее возлюбленного из тюрьмы, и она с ума сходит от радости.
Альфред. Да? А все-таки его засадили, этого Валико?
Профессор Фор. Ну, всего на один месяц «за нарушение тишины и спокойствия».
Ольга. Станислав боится, как бы его не освободили уже сегодня вечером!
Альфред. Чего же он опасается?
Ольга. Как чего? Этот Валико может сразу же ринуться к ней и, не застав, броситься на поиски. А вы знаете ее нервы!
Слышен звонок.
Тетя! а шампанское? ты его заморозила?
Г-жа Норман (встает). Сейчас принесу.
Аббат (вставая). Ну, мне уже пора! — час поздний!
Г-жа Норман. Как? уже покидаете?
Аббат. Да, и с легким сердцем, так как долг мой выполнен, а остальное в руках Божьих. Прощайте.
Кланяется всем и уходит в сопровождении г-жи Норман и профессора.
Альфред (Ольге, отводя ее направо). Ну знаете ли, и изворачивается человек! просто диву даешься! — Для всего оправдание находит!
Ольга (сдвинув брови). О ком вы? Кто это «изворачивается»?
Альфред. Да профессор Фор! Я думал сначала, он шутит.
Ольга (тоном дружеского замечания). Слушайте, мой милый! Профессор Фор — мой муж. А моему мужу не пристало «изворачиваться» пред кем бы то ни было. Если же вы не понимаете широты его взглядов, — тем хуже для вас!
Входят Сюзанна и Смит в сопровождении профессора. Общие приветствия.
147 Сюзанна (здороваясь с Ольгой). В чем дело? По какому случаю у вас сегодня прием? (Оглядывает Ольгу.)
Слышен звонок.
И это платье… Какая прелесть!.. (Альфреду.) Что за причина? — у вас у всех загадочные лица. Объясните же, в чем дело!
Альфред. Пусть уж лучше объяснит сама мадам Фор. (Кланяется в сторону Ольги.)
Сюзанна. Мадам Фор?.. (Вскрикивает.) Серьезно?.. (Бросается целовать Ольгу.) Поздравляю! вот сюрприз, так сюрприз!.. (Смиту, кланяющемуся Ольге и целующему у нее руку.) Наш пример оказался заразительным?
Профессор Фор. К счастью, это не опасная «зараза»…
Входят Станислав и Ганна. Он в смокинге, она в эффектном плаще, из-под которого видна греческая туника. Станислав держит в руках граммофон в футляре и громкоговоритель; Ганна — охапку розовых роз.
Ольга. А!.. вот и они!.. Добро пожаловать!..
Общий гул приветствий.
Ганна (горячо). Поздравляю от всей души. (Целует Ольгу, передает ей цветы и жмет руку профессору Фору.) Ну что, профессор? верите теперь в мой дар ясновидения?
Профессор Фор (смеясь). Я теперь во все верю и ничему уж не удивляюсь.
Слева появляется г-жа Норман с подносом, на котором две бутылки шампанского и налитые бокалы.
Альфред. А! шампанское! — вот это похвально!
Г-жа Норман. Надо же поздравить молодых, как следует.
Альфред. Правильно. И против этой старой традиции никто не возразит. (Беря поднос из рук г-жи Норман.) Позвольте, я всех обнесу. (Обносит всех, начиная с «молодых».)
Станислав (поставив граммофон и громкоговоритель направо в углу). Требуются тосты и речи в таком случае!.. (Берет бокал после всех.)
Сюзанна. Кто берет слово?
Станислав. Я.
Ольга. Просим.
Альфред. Господа, внимание. (Ставит поднос с бутылками на стол направо.)
Станислав (откашлявшись). Господа, не будем банальны в речах! Я говорю вам как счастливый отец детища, зачатого в любовном порыве к прекрасной Ольге Норман и похожего на нее идеально, как только ребенок может быть похож на свою мать. Кратки сроки наших любовных порывов, длинны сроки плодов нашей любви. Мы живем по-настоящему лишь в своих произведениях! и дай вам Бог, дорогой профессор (поднимает бокал, обращаясь в сторону профессора), чтобы и ваш плод любви к г-же Фор вышел столь же удачным произведением, как мое!.. Пусть вам в этом уж никто не пытается помочь! — от всей души желаю! (Пьет при одобрительном смехе и говоре окружающих.)
Ольга. Браво, Станислав! Очень смело сказано! Оригинально, откровенно!
Альфред. …и хвастливо!
Смешки.
148 Ольга (не обращая внимания, Станиславу). Вы стали «называть вещи своими именами».
Станислав (смеясь). У вас научился.
Все пьют. Смит поперхивается и сильно закашливается.
Альфред (подскочив к Смиту). Коллега Смит откашливается перед речью.
Тот, весь красный, отрицательно мотает головой, продолжая кашлять.
Просим слова!.. Господа, внимание!
Сюзанна. Оставьте его в покое!
Все. Нет, нет! — просим слова!.. Смит, говорите речь! мы давно вас не слышали!
Смит (тоном человека, припертого к стенке). Да о чем говорить-то? Говорить не о чем. Все идет своим чередом, и чему быть, того не миновать. А вообще праздные разговоры ни к чему, потому что на словах выходит одно, а на деле другое! и я в спорах из-за этого никогда не участвую! даже сам с собой избегаю спорить! потому что если веришь, что дважды два пять, то никто тебе не докажет, что дважды два четыре. Все знают, что война — бедствие! а приходит час, и все воюют. Мы смеемся над предрассудками. Но кто из вас освободился от них совершенно?.. Болтовня и только, потому против жизни не пойдешь и разговаривать тут нечего. По крайней мере, я предпочитаю молчать. А если за здоровье молодых надо выпить, так это я с удовольствием. Ваше здоровье! (Пьет при всеобщем смехе и аплодисментах.)
Ганна (выступая вперед). А я, если позволите, не скажу свою речь, а спляшу ее — в честь бога Гименея!
Станислав (устремляясь к граммофону). Подождите! надо музыку сперва наладить и освободить место! Альфред, помогите мне! (К другим). А вы, господа, раздвиньте мебель!
Все быстро откликаются на его призыв и отодвигают мебель к стенам.
Ганна. Музыка!..
Все отходят к стенам по обе стороны средней двери. Граммофон исполняет «Love again». Ганна плавными движениями, исполненными нежной страсти, начинает свой танец. В этот момент в средних дверях появляется Валико Беридзе… Он в белой черкеске, с кинжалом у пояса, юный, красивый, обаятельный, как в сказке.
(Вскрикивает.) Валико!!! Валико!.. мой Валико!..
Они стремительно бросаются друг к друг в объятия. Ганна истерически плачет и смеется, зацеловывая своего возлюбленного. Он спускается, словно с повинной, к ее ногам и ищет шрам от выстрела.
(В блаженстве лепечет.) Зажило, зажило, мой Валико!! не терзайся напрасно!.. (Притягивает его к себе.) Я жива, здорова, и ты на свободе!!! О, счастье мое, счастье несказанное!
Снова объятия и поцелуи, ненасытные, нескончаемые. Все стоят, словно завороженные этой бурной сценой любовного восторга. Станислав остановил граммофон.
149 Профессор Фор (подойдя осторожно к обнявшимся Валико и Ганне, надевает очки и наблюдает их, как естествоиспытатель каких-нибудь козявок. С почти мистическим изумлением обращается тихо к другим). Смотрите… они словно не видят нас и не слышат… Весь мир сомкнулся в них одних… Какая страшная Сила владеет ими сейчас!.. Не будем мешать им!.. удалимся!.. Пригасите свет!.. Выпьемте молча за эту необыкновенную Силу, которая еще так мало исследована наукой и которая зовется Любовью… Уйдемте!.. не будем мешать им…
Все на цыпочках, гуськом переходят в столовую.
Станислав (к другим, пригасив свет). Уйдемте!.. не будем мешать им!
Ольга (удаляясь в последней паре с профессором, негромко обращаясь к другим). Да здравствуют Теобальд и Николет!
Все (полушепотом). Кто это?.. О ком вы говорите?
Ольга. Это тайна… Это наша тайна… (Бросается на шею своего Теобальда и замирает в его объятиях.)
Сюзанна. Уйдемте… не будем мешать им… Оставим их одних…
Граммофон сам собой начинает играть «Love again».
Занавес.
150 II
«ДОРОГОЙ ДРУГ И
КОЛЛЕГА ПО СЛАДОСТЯМ ТЕАТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ…»
Переписка В. А. Теляковского и А. И. Южина
1917 – 1924
Публикация и вступительный текст
М. Г. Светаевой, примечания М. Г. Светаевой и
Н. Э. Звенигородской
Публикуемые письма В. А. Теляковского (1860 – 1924) и А. И. Южина (1857 – 1927) составляют часть их почти двадцатипятилетней переписки, которая началась в 1901 г. и на протяжении шестнадцати лет оставалась по преимуществу деловой перепиской начальника и подчиненного.
Они встретились в 1898 г., когда Теляковский стал управляющим Московской конторой Императорских театров. Пытаясь реформировать московскую драматическую сцену, он сделал ставку на корифеев труппы, но после первого же совещания с ведущими артистами заметил: «Дельнее всех говорил самый младший — А. И. Южин»53. В дальнейшем во всех своих начинаниях по переустройству работы Малого театра Теляковский опирался на Южина, ценя его энергию, обстоятельность, преданность театру и видя в нем несомненного лидера труппы54. В 1909 г. по инициативе Теляковского Южин занял пост управляющего труппой, фактически возглавив театр.
Их отношения не были простыми — Южин нередко сетовал на «непонимание» Теляковского55; Теляковский считал Южина излишне консервативным, подозревал его в «грузинской хитрости»56. Но судьбу Малого театра они решали вместе.
С весны 1917 г. их отношения лишились прежнего служебного содержания, но переписка не прекратилась, наполнившись новым смыслом. Время и события изменили жизнь каждого из них — одного больше, другого меньше. Южин остался во главе Малого театра, самоотверженно приняв на себя тяжкое бремя его сохранения в сложнейший послереволюционный период. Теляковский оказался не у дел.
1 марта 1917 г. он вместе с сыном Всеволодом57 был арестован и препровожден в канцелярию Государственной думы. Однако там арест назвали «недоразумением» и отпустили домой, велев продолжать работу58. Теляковский не терпел хаоса. Через два дня он записал в дневнике: «Так дальше дело идти не может. Наше Министерство [Министерство двора и уделов, в ведении которого находились Императорские театры. — М. С.] совсем растерялось <…> но у меня 2000 человек, которые на меня смотрят и ко мне обращаются как к начальнику — а касса Министерства, говорят, запечатана»59. По его просьбе в дирекцию театров был назначен комиссаром член Думы Н. Н. Львов, который уполномочил директора временно оставаться на своем посту. Теляковский остался, но объявил всем петербургским труппам о скором уходе.
Занимаясь на протяжении двух месяцев текущими делами театров, которые открылись 12 марта (в основном, добыванием денег для выплаты жалованья служащим), он отказывался официально участвовать в многочисленных совещаниях о будущем устройстве государственных театров, однако пребывал в курсе всего происходящего и прежде всего поисков их нового руководителя, то есть его, Теляковского, преемника. Лишь в конце апреля, после категорического отказа Вл. И. Немировича-Данченко 151 и князя С. М. Волконского, на должность главного уполномоченного Временного правительства по петроградским государственным театрам был назначен Ф. Д. Батюшков60.
По новому положению, театральная дирекция и обе конторы, петербургская и московская, упразднялись. Хотя Теляковский и подчеркивал, что не намерен оставаться на службе, но не преминул заметить: «… пока из дирекции вышибаются он и я [речь идет о заведующем репертуаром Александринского театра Н. А. Котляревском. — М. С.]. При новых порядках всем найдутся места, но мы не укладываемся ни в один из новых футляров»61.
28 апреля 1917 г. Теляковский подписал прошение об отставке. В дневнике отметил: «Ухожу с ясным представлением, что потрудился много для театра, и если что не выходило, то не из-за недостатка желания, а вследствие особенно трудных условий работы, находясь между Двором, печатью и публикой, с одной стороны — чиновниками и артистами, с другой. Дальнейшее течение театральной жизни укажет, в чем я ошибался и что нужно для успеха дела театров»62. А через несколько дней продолжил свои, не лишенные горечи рассуждения: «<…> теперь всякий, который похвалит мою деятельность в театрах, будет считаться ретроградом и мне только окажет медвежью услугу, такое уж теперь свободное время. Надо переждать и иметь терпение. Будущее театров покажет, насколько был прав я и насколько правы хулители. Дело театральное может идти лишь, когда будут исключительно заниматься искусством, а не раболепствовать перед кем бы то ни было. Безразлично, будет это толпа, народ, царедворцы, пролетариат, иностранцы, печать. Все это губительно одинаково, и об этом не может быть двух мнений»63.
Для бывшего директора, привыкшего, как он любил повторять, целый день «кипеть в котле», настала новая жизнь: «В сентябре переехал на новую квартиру, распродав все лишнее, и теперь живу, мало кого видя, тихо и мирно. Теперь надо заботиться лишь о том, чтобы достать еду, поддержать организм. Много терпения, поменьше опрометчивых суждений и заключений, ибо совершается великая трагедия». Г. Н. Федотова64, к которой обращены данные строки, и А. И. Южин становятся главными адресатами и корреспондентами Теляковского.
Вниманию читателей представляется этот новый этап переписки Теляковского и Южина, на страницах которой возникает их жизнь и их заботы — у каждого свои.
У Южина — это прежде всего сохранение Малого театра: с одной стороны, обеспечение минимально достойных материальных условий существования труппы и служащих, с другой — отчаянная борьба за независимость театра до последней возможности в условиях ужесточающейся централизации и нарастающего государственного подчинения. Все это на фоне ухудшающегося здоровья и необходимости содержать большую семью.
У Теляковского свои заботы и трудности, по большей части бытовые, в разрешении которых он вынужден порой прибегать к помощи Южина. Все они так или иначе связаны с новыми обстоятельствами жизни: это судьба его конфискованных дневников, хлопоты о пенсии.
А еще — литературная деятельность, начавшаяся исподволь, незаметно, но получившая стремительное развитие. В писательском труде Теляковский обрел для себя новый смысл в полностью, казалось бы, рухнувшей жизни.
Красной нитью через все письма проходит то, что объединяет их столь разные теперь жизни, что вызывает самые сокровенные мысли, выливающиеся на страницы. Это — театр. Не только Малый театр, связывающий их общими воспоминаниями, 152 постоянно всплывающими в памяти, но судьба русского театра вообще, его прошлое, настоящее, будущее, о котором они размышляют с все нарастающей горечью.
Особый интерес переписки — в движении времени, в тех изменениях, что оно несет с собой. Это явственно ощутимо во всем: и в приметах быта, уклада жизни, и в отчетливо проступающей смене общего настроения — от полного надежд бодрого тона 1917 года к разочарованным, безнадежно-пессимистическим интонациям последних писем года 1924-го.
Письма открывают в обоих корреспондентах новые качества их личностей — мужественно-мудрое, философское отношение к жизни у Теляковского; благородство преданного, неотступного служения делу у Южина.
Все письма печатаются впервые, по автографам. Письма Теляковского находятся в РГАЛИ (Ф. 878. Оп. 1. Ед. хр. 1983), письма Южина — в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина (Ф. 280, № 886 – 888, 890 – 892, 894, 896, 898 – 903, 908 – 911, 1138), кроме писем № 15, 18, 20, 22 и 41, хранящихся в СПб ГМТиМИ (гик 12672/4 – 8, ору 12305 – 12309).
При публикации сохраняется авторская орфография, в некоторых случаях проставляются недостающие знаки препинания — в большей степени это касается писем Теляковского. Даты приводятся в авторском написании. Письма печатаются с некоторыми купюрами в местах либо незначительных для обсуждаемой корреспондентами темы, либо содержащих повторения уже сказанного.
1
14 июля 1917 г.
Петроград
Многоуважаемый Князь Александр Иванович,
Вы правы были, что не рассчитывали на быстроту почты. Только сегодня получил Ваше письмо от 4 июля. Сердечно благодарю за память и поздравление65. В день, когда Вы писали, здесь черт знает что творилось66. Я ездил на несколько дней в Ярославль по делам завода и там узнал о том, как здесь пользуются свободой. Пришлось спешно выехать обратно. Теперь довольно спокойно, но неустойчиво.
Недавно купил себе квартиру на Каменноостровском проспекте, д. № 73 и около середины августа думаю наконец переезжать. Дом окружен зеленью и очень удобный. Так отвергаю всякие предложения службы. Хочу год отдохнуть — после 40 лет непрерывной службы67. Часть обстановки продал, ибо в новую квартиру из 9 комнат68 все не войдет.
Еще раз искренне благодарю за поздравление и прошу принять искренний привет от моей жены. Всего хорошего.
С совершенным уважением и преданностью.
В. Теляковский
153 2
5 июля 1918 г.
Москва
Высокоуважаемый Владимир Аркадьевич,
Позвольте мне от всей души пожелать Вам возможного в наши дни счастья и спокойствия, здоровья и бодрых сил, в которых мы теперь нуждаемся больше, чем когда-нибудь. Не поднимается перо принести Вам теперь поздравления с днем Вашего Ангела, но хочется, как прежде, выразить Вам к этому дню всю мою горячую и неизменную преданность, все мое высокое уважение.
Малый театр провел тяжелый год и по всяким внешним, да и по внутренним, волнениям69, и по нелепому характеру ведения художественной стороны О. А. Правдиным70, восстановившим против себя всю труппу настолько, что он не прошел в Управляющие на будущий сезон. В течение этого года выработано и принято властью, в лице Комиссаров Просвещения и Имуществ Республики, новое «Временное Положение»71, по которому Малый театр всецело управляется выборным органом (Советом и выделяемым из его состава Правлением — из трех членов — по хозяйственной, по административно-финансовой и по художественной части, — которое является исполнительною властью). Все вопросы бюджета, организации труппы, приглашения и увольнения, репертуара — словом, все управление делом принадлежит Совету «безо всякого вмешательства каких бы то ни было посторонних органов». По статье 3 Временного Положения Малый театр объявлен вполне свободным от каких бы то ни было «политических или партийных течений».
Я не считаю возможным для успеха дела такое многочисленное управление им и наотрез отказался от какой-либо должности в Правлении, приняв только временно должность Председателя Совета. От нее я не мог отказаться по двум причинам: во 1-х, я единственный был избран в Совет единогласно, а во 2-х — этой весною решался вопрос службы для многих лиц труппы и бывшей Конторы, и оставлять их на произвол судьбы я не мог. Теперь, насколько возможно, это дело кончено, хотя и не вполне благополучно (не удалось отстоять Жихареву72, которой Правдин не дал сыграть ни одной новой роли, сняв все старые, и еще кое-кого из труппы), но оставлен весь состав Канцелярии Уполномоченного по Малому театру <…> По условию с властью прежний порядок по Малому театру сохраняется до августа. С того же времени упраздняется введением нового Временного Положения и моя должность Уполномоченного, вместе с которою я, вероятно, сложу и должность Председателя Совета <…>
Ужасно хотелось бы Вас видеть, высокоуважаемый Владимир Аркадьевич. С нашей последней встречи в сентябре, на Вашей лестнице, я в Петрограде не был. Посылаю это письмо заблаговременно и прошу Вас принять еще раз мою безграничную, глубокую преданность и высокое уважение.
А. Южин-Сумбатов
154 373
14/27 июля 1918 г.
Многоуважаемый Александр Иванович,
Сердечное Вам спасибо за память и поздравление. Не знаю, верно ли, что пишу Вам по московскому адресу. Очень благодарен за сведения, которые Вы мне сообщили, я кое-что слышал. Относительно О. А. Правдина оправдались мои предположения74. Получил вчера письмо от Гликерии Николаевны75. Надеюсь Вас увидеть, когда будете в Петрограде. Я никуда не выезжаю, да и теперь это довольно сложно. Думаю, немало у Вас было дел и забот.
Искренне уважающий и преданный
В. Теляковский
476
4 января 1919 г.
Многоуважаемый Владимир Аркадьевич,
Примите мои горячие, сердечные пожелания всего лучшего, а главное — бодрости, сил и здоровья. Не откажите передать мой душевный привет Гурли Логиновне вместе с искренним поздравлением с наступающим Праздником.
Малый театр, автономный по своему Временному Положению, работает хорошо <…> Поставили пока в этом сезоне «Посадника» графа А. К. Толстого, мольеровский спектакль «Скупой» и «Проделки Скапена» и «Старик» Горького77. Из 110 бывших спектаклей эти три новые постановки заняли около 30, а 80 — сплошь старые постановки последних лет Дирекции, за которые меня так все ругали. А. В. Луначарский78 вынес от представления «Посадника» очень сильное впечатление. Он мне показался человеком в области театра чутким и не узким. Нас мало трогают, мы отвечаем строгою отчетностью в денежных делах и полною художественной аполитичностью, но широко идем и нашими силами и репертуаром навстречу районным спектаклям79. Малиновская80, здешняя заведующая Государственными театрами, ведает всецело Большой театр и ни разу не посетила Совета Малого, но много помогает артистам в их делах по уплотнению, воинской повинности, вообще — человек отзывчивый. Особенною ее симпатией пользуются Немирович и Станиславский. Меня, как автора «автономии», лично она не выносит.
Еще раз, высокоуважаемый Владимир Аркадьевич, примите мое сердечное уважение и неизменную преданность.
А. Южин-Сумбатов
5
2/15 января 1919 г.
Многоуважаемый Александр Иванович,
Сегодня получил Ваше любезное письмо и прошу принять мое и жены моей поздравление и благодарность за память и внимание.
155 Очень рад был узнать, что дело у Вас идет удовлетворительно и что Вы смогли уберечь состав администрации на прежней их службе. Данные, которые Вы сообщаете о Театре, очень меня интересуют, так как о них я ни из газет, ни из расспросов не мог себе составить ясной картины.
Только что кончил писать Гликерии Николаевне, от которой вчера получил письмо81. Жалуется на голод и холод. Давно не имел новостей о С. Т. Обухове82, жду от него письмо. Он, кажется, прошел через много затруднений и неприятностей.
У нас по-прежнему и голодно и холодно. У меня в квартире около 8°, а ночью бывает и 5°. Цены на продукты, о которых Вы пишете, похожи на наши, но в прибавлении к ним 10 – 20 %.
Вообще зима тяжелая. И если так будет продолжаться, болезни возрастут в сильной степени. Особенно много народа страдает опухолью ног — это и у меня появилось, несмотря на крепкий организм. Все это последствия жидкой непитательной и водянистой пищи.
Из артистического мира я довольно часто видаю Шаляпина, который принимает большое участие в деле оперы Мариинского театра. Кое-какие сведения имею от сына Всеволода, который работает в декоративной мастерской.
Пожелав Вам всего хорошего, еще раз благодарю за письмо и надеюсь, что Вы не будете меня забывать.
Искренне преданный и уважающий Вас
В. Теляковский
683
[16 апреля 1919 г.]
Высокоуважаемый Владимир Аркадьевич,
Христос Воскресе! — Когда-то я в «Измене»84 кончил 1-й акт словами — «двадцатая Пасха такая» и ответом на них — «последняя Пасха такая». Дай Господь, чтобы этот ответ оправдался, хотя эта Пасха и не 20-я, а 3-я, посланная России за грехи наши и в испытание за них. Всею душою желаю Вам и Вашей семье светлой радости, которая заставила бы забыть всю тяжесть пережитого. Все мы, и правые, и средние, и левые, и просвещенные, и не просвещенные, и богатые (некогда), и бедные — все равно виноваты в ужасе и разгроме нашей матери-России, и все тяжко платимся за это. Верится, что Бог простит и сжалится.
Малый театр переживает опять новую реорганизацию. Вы, конечно, знаете о новом декрете для всех Государственных, бывших Императорских, театров85, учреждающем Директории для их управления, причем для драматических театров 3 Директора назначаются, 2 избираются, для оперно-балетных — 3 избираются и 5 назначаются. Итого для Большого и Малого, Мариинского и Александринского выходит 26 Директоров!! Малому театру удалось добиться, благодаря Луначарскому, подтверждения своей автономии, аполитичности и самоуправления и — на этом основании — избрания всех 5-ти Директоров. В этом смысле утверждено «Основное Положение» уже бессрочно. Председателем Дирекции (так для Малого театра названа по моему настоянию резолюцией Луначарского Директория) избран я, остальными Директорами — Садовский86 (по режиссерской части), Головин87 (по постановочной), Платон88 (по административно-финансовой) 156 и Остужев89 (по хозяйственной). Председатель избирается основным составом театра, то есть труппою, и всем вспомогательным, от Канцелярии до дворников. Три первых Директора — труппою, последний — вспомогательным составом. Мне волей-неволей и из последних сил пришлось согласиться взять председательство, ответственное за все дело, так как я обоими составами был избран 185 голосами из 187 голосующих. Но цифры сметы — астрономические числа. И я прямо с ужасом гляжу на бюджет, но изменить его — нет возможности. Наши артистические оклады расположены по 7 группам: 3000, 3600, 4200, 4800, 5400, 5700 и 6000 в месяц!!! Но менее невозможно, так как рабочие получают при карточках 1-й категории до 2-х и 3-х тысяч в месяц. Все, что можно было сделать, это установить соответствие окладов последнего к наивысшему как 1 : 2. Поэтому Ермолова90 получает 6 тысяч, а Алексеева91 — 3 тысячи. Правда, Малый театр дает сплошные аншлаги, без перерыва <…>
Работать приходится день и ночь. А тут еще сплошное заболевание тифом. Последние случаи — Яковлев92 (поправляется), заболела Е. К. Лешковская93 очень опасно, как и Лёвшина94…
Примите мои горячие пожелания и сердечный привет, высокоуважаемый Владимир Аркадьевич, и не откажите передать мое глубочайшее уважение Гурли Логиновне.
Неизменно и глубоко Вам преданный
А. Южин
7
14 мая 1919 г.
Каменноостровский проспект д. 73/75 кв. 34
Многоуважаемый Александр Иванович,
На днях получил наконец Ваше любезное письмо, которому было суждено долго странствовать95 <…> Все, что вы мне о театре пишете, меня очень интересует. Опять новая реорганизация. Их еще, вероятно, много будет, и эти перемены, конечно, столь же интересны, как всякое брожение, но существенно остается ведь все одно — хорошее исполнение хороших пьес, то есть вкусные и содержательные блюда. Организация же кухни — учет посуды, помещение и т. п. — все равно, как делается, лишь бы не мешало главному.
Очень рад, что коренником Вы правите. Пристяжки за оглобли не везут и потому мало изменяют направление, а это для будущего очень важно, чтобы не начинать опять все налаживать вновь.
Получил на праздниках очень милое письмо от Гликерии Николаевны. Письмо, которым могу гордиться, такую высокую и незаслуженную оценку она делает моим письмам96. Но всякий человек охотно верит, когда его хвалят, и я в этом грешен. Как-никак, а приятно, особенно когда это делает такая выдающаяся и умная артистка, как Гликерия Николаевна.
Прошу меня не забывать. Всегда рад получить от Вас весточку.
Искренне преданный
В. Теляковский
157 8
Москва, Б. Палашовский, 5
20 июля 1919 г.
Высокоуважаемый Владимир Аркадьевич,
С самым искренним и глубоким чувством, крепнущим с течением времени все сильнее и сильнее, прошу Вас принять мои горячие поздравления и пожелания всякого возможного счастья, силы, бодрости и веры в высший закон смены черных и светлых дней. «Ненастный день минует, как и ясный», — говорит Шекспир, и надежда на минование голода и холода, на установление таких экономических условий, при которых не приходилось бы всю душевную энергию тратить на добывание хлеба насущного, — единственная опора в дни гражданской войны. Вряд ли удастся до осени мне побывать в Петрограде и повидаться с Вами — а так бы хотелось. Так много прожито за 21 год совместной работы под Вашим руководством в дорогом нам обоим театре, так искренно и неизменно мое высокое уважение и горячая симпатия к Вашей крупной и светлой работе и к Вашей неутомимой энергии в деле ведения наших театров в самые трудные и сложные их эпохи, что я буквально ни одной меры не принимаю по вопросам Малого театра, не справляясь со своими воспоминаниями о Вас, не проверяя каждого своего решения внутренним вопросом — как бы поступил в том или ином случае Владимир Аркадьевич, как бы он разрешил тот или иной конфликт?
А их чрезвычайно много в той переходной стадии, которая осложняет вопросы искусства целой грудой отношений, ничего общего не имеющих с его сущностью. И — как, кажется, происходит во всех областях — труднее всего приходится от тех, кто по здравому смыслу должен был бы всемерно, в личных же интересах, блюсти строй дела. Трения внутри театра, дурные закулисные страсти маскируются и драпируются громкими лозунгами, с которыми в действительности нет ничего общего у тех, кто ими прикрывается и кто первый их сбросит при малейшей перемене ветра. А ветер меняется ежеминутно. Одна позиция, которую пока удалось отстоять, — это внутренняя независимость театра в области управления материальной, репертуарной, артистической и художественной сторонами дела. Теперь готовится Луначарским декрет97, постольку гарантирующий эту свободу, поскольку вообще можно что-нибудь гарантировать при существующих условиях. Если он пройдет, то уже только… мы сами можем испортить его последствия. И этого я боюсь больше всего: тогда это непоправимо, и мы покатимся с ледяной горы. Особенно я боюсь за театры вообще. Малый все же устойчивее и надежнее, но Большой внушает серьезную тревогу. Немирович, назначенный председателем Дирекции Большого театра (там не полное выборное начало, как у нас), решительно отказывается.
Вот пока все новости летнего затишья. Что даст сезон? И вообще? Думаю — что-то даст кроме мороза и голода. И даст путем внутреннего перелома. Только этим, а не всяким насильственным порядком может что-либо уцелеть. Приношу мой душевный привет и поздравление глубоко уважаемой Гурли Логиновне и прошу принять мое высокое уважение и неизменную преданность.
А. Южин-Сумбатов
158 P. S. Я писал Вам о кончине Алексея Стаховича. Не могу отделаться от этого кошмарного воспоминания и от мучительной мысли о том, что переживет Миша, когда узнает, если уже не узнал98. Сергей Михайлович Волконский99, Ваш предшественник, принимает близкое участие в драматических курсах Малого театра, читает там постоянные лекции и член Директории Большого театра. Он перенес брюшной тиф, теперь совсем поправился. Голодно у нас, как и у Вас, но, кажется, дешевле: хлеб всего (мы купили последний раз) 2200 рублей пуд. Ужас.
9
31 июля 1919 г.
Многоуважаемый Александр Иванович,
Не удивляйтесь, что пишу Вам на подобном бланке100, но случайно по делу зашел в отдел и, воспользовавшись свободной минутой, Вам начал писать. Письмо Ваше и память о 15 июля меня несказанно тронуло и доставило мне большое удовольствие, особенно после прочтения грустного письма Гликерии Николаевны101, которая тоже меня не забывает и на этот раз особенно жалуется на судьбу, старость, слабость; не дождется смерти и пишет, что все люди так изменились, что ни о чем, кроме пищи, не могут разговаривать.
Ваше внимание ко мне меня трогает не как личное только отношение — это не важно, что Александр Иванович расположен к Владимиру Аркадьевичу, и обратно. Важно, чтобы люди в трудные минуты жизни не [нрзб.] одних практических отношений — по службе, общим делам и т. п., а чтобы отношения были бы и духовные, основанные на тех переживаниях, которые должны оставить неизгладимые следы в духовной жизни человека, какие бы времена и испытания ни посылались в дальнейшей жизни. Вот с этой стороны Ваше отношение ко мне как человеку, с которым Вы много делили радости и горя по Театру, меня успокаивает в дальнейшей судьбе вообще русских людей. В Вашем письме я вижу, кроме того, оптимизм, столь теперь редкий и столь близкий моему сердцу, ибо я не религиозный, но очень верующий человек и убежден, что все испытания, которые нам посылаются, посылаются не случайно и не зря — так быть должно. И нет места отчаянию, надо переносить — работать и вникать в плоды, которые, несомненно, принесет это испытание. Угадать и разгадать этот промысел трудно, надо много наблюдательности и спокойствия, но я стараюсь себе уяснить кое-что, особенно когда теперь зачитываюсь вновь моим любимым, помимо искусства, предметом — историею. В настоящее время я вновь с 1-й страницы перечитываю всего Шлоссера102. Ну, довольно философии. Вы бодры, и я бодр и других подбадриваю. Останемся же таковыми. Работы впереди много во всех областях.
В скором времени думаю по делам быть в Москве. Непременно к Вам заеду, а если заговоримся и приютите, проведу и ночь, ибо в один день не возвратиться. Хотел бы и Гликерию Николаевну повидать. Жена моя просит Вас поблагодарить за память и поздравление. Все, что сообщаете, крайне интересует меня и как психология артистического мира. Всего хорошего.
Искренне преданный и вниманием Вашим тронутый
В. Теляковский
Думаю быть в Москве [во] вторник или среду 6-го.
159 10
Из письма
Южина
31 декабря 1919 г.
<…> Снега у нас такие, каких я не запомню. В театре холод постоянный, 7 – 8° считается счастьем. Сейчас у меня была Мария Николаевна Ермолова. Боясь меня не застать дома, она заготовила мне записку, в которой пишет: «Умоляю, отложите мой юбилей на май, до тепла. Невозможно играть, когда все внутри дрожит, нет ни чувств, ни сил, ни голоса — все заморожено. Да еще играть в свой праздник»103.
Все мы измучены, действительно — играть в леднике, при голоде — прямо не знаю, как ухитряемся. Любопытнее всего, что частные театры везде теплее наших: они заготовили дрова по таким ценам, которые для нас невозможны, не пропустит никакой Контроль, а бывший Комитет Имуществ Республики, который должен был отапливать и Кремль, упразднен. И мы теперь бьемся, как никто <…>
11
10 января 1920 г.
Дорогой Александр Иванович,
Бываю я иногда в настроении писать сентиментальные письма — теперь, получив Ваше милое письмо, в это настроение впал. Вы не можете себе представить, какое мне делает удовольствие общение с Вами и Вашей семьей, для которой я совсем посторонний человек, но которая отнеслась ко мне исключительно сердечно. Такое отношение я ценил всегда, а теперь в особенности. Я теперь все больше и больше убеждаюсь, насколько я был прав, относясь к Вам с особым доверием в прежнее время. Каждый мой приезд104 я выношу чувство особого нравственного удовлетворения и благодарности за эти милые проявления симпатии всей Вашей семьи. В настоящее время очень важна такая взаимная поддержка друг друга.
Пишу я плохо, а дома совсем не могу писать, ибо от холода сводит руки. Пишу со службы <…>
Давно собираюсь в Москву, но когда попаду, сам не знаю. От холода и голода заболела жена, и я теперь боюсь отлучиться. Напишу Вам при случае еще, ибо теперь веду переговоры через Ф. И. Шаляпина с Горьким о моих записках. Не решу дела не посоветовавшись с Вами.
Спешу окончить письмо, поблагодарив Вас за поздравление и передав мое всем Вашим наилучшее пожелание.
Жена тронута Вашим вниманием и просит Вас поздравить и благодарит за память.
Искренне преданный
В. Теляковский
160 12
17 июня 1920 г.
Дорогой Александр Иванович,
Уезжая последний раз из Москвы, я обещал Вам напомнить относительно справки у Якова Максимовича Гоца105 по поводу того, каким образом и когда могу я рассчитывать на взлом сейфа в Лионском банке № 471, в котором лежат мои записки о Театре и ключ от которого утерян. Сейф на имя К. А. Коровина, и я имею от него доверенность106. В бюро по сейфам я подавал три раза прошение. Последнее передал Я. М. Гоцу 21 апреля сего года, когда был в Москве107. Будьте любезны попросить Вашего племянника узнать у Гоца, когда можно будет рассчитывать получить эти записки при взломе и что надо еще сделать, чтобы с вопросом этим покончить. Не надо ли еще к кому-нибудь обращаться. Мой адрес я Гоцу оставил, но вот прошло два месяца, и все я ничего не знаю. Взламывать, конечно, надо в моем присутствии. Извиняюсь за причиняемое беспокойство и прошу передать всем Вашим мой искренний привет. Надеюсь, у Вас все благополучно.
Искренне преданный
В. Теляковский
13
26/VI/20
Высокоуважаемый Владимир Аркадьевич,
Три дня назад получил Ваше письмо от 17/VI и немедленно стал наводить справки по делу Вашего сейфа с Вашими записками о театре. Мой двоюродный брат месяц тому назад уехал с женою в Тифлис, и я непосредственно обратился к секретарю комиссара Народного банка Елене Максимовне Ллойдиной, очень милой и обаятельной женщине, которая мне сообщила, что, во-первых, Гоц уже месяца 1 1/2 – 2 как арестован в связи с сейфами, а во-вторых, обещала узнать, к кому надо обращаться по этому делу теперь.
Мне кажется, Вам следовало бы приехать и разобрать здесь вопрос о вскрытии сейфа. Вчера она известила меня, что теперь этим делом руководит Коллегия и что ей обещали без уведомления Вас сейфа не вскрывать. Буду продолжат через нее следить за делом. Теперь же тороплюсь [только] успокоить Вас о его судьбе.
Шлю Вам сердечный привет и очень жду Вашего приезда. Душевно преданный Вам и высоко уважающий
А. Сумбатов-Южин
14
9 июля 1920 г.
Дорогой Александр Иванович,
Большое Вам спасибо за Ваше письмо, которое получил на прошлой неделе, особенно за фразу письма — «ей (то есть Ллойдиной) обещали без уведомления 161 Вас (то есть меня) сейфа не вскрывать». Это главное, чего я боюсь, чтобы не открыли да не выбросили бы всю мою 20-летнюю работу, как не нужный никому хлам.
Постараюсь приехать сам в Москву, но точно сказать когда не могу. Ведь я занят серьезным делом и близким мне как по сердцу, так и специальности моей — я организую по поручению Николаевской железной дороги14* сапожную мастерскую, в которой будут чинить старые сапоги. Вот куда идет время и энергия человека, занимавшегося почти всю жизнь около искусства. Я не жалуюсь, и мне с моими взглядами и характером гораздо больше смешно, чем грустно. Я подробно изучаю новые названия и вместо софитов, рампы, артистов, декораций, авторов и музыкантов знакомлюсь с подметками, набойками, юфтью, шагренем, [нрзб.], сапожниками и т. п. Теперь стараются отыскать специалистов, чтобы заставить их работать по своей специальности, — вот и до меня дошел черед. Но, конечно, все это пустяки. Что меня беспокоит, это что время идет быстро, годами я уже не так молод, а то действительно полезное, что я мог бы дать Театру и людям, им интересующимся, — обработать и приготовить при жизни материал, собранный за 20 лет, — этим я заняться не могу по совершенно пустяшным причинам (говорю о моих записках). Говорил я несколько раз с Федором Ивановичем108. Он горячо всему сначала сочувствует, хотел говорить и с Алексеем Максимовичем Горьким и с Марией Федоровной109, но как большой художник и занятый своим делом — забывает. А время все идет, да и многое начинает забываться. Когда теперь прислушиваешься да приглядываешься ко всему, что делается в виде опыта в Театре, невольно кажется, что глупо повторять те же ошибки, которые делались раньше и которые 20 лет я старался изменить. Ведь наше горе, что мы так мало изучаем прошедшее и так самоуверенно диктуем будущее из области либо собственной фантазии, либо просто пробуя, не пройдет ли такой № или другой. Все же ничего абсолютно не создается, и возвращаемся мы далеко назад, чтобы потом все опять перестраивать. Вот материал, мною собранный, и не только здесь, но и на заграничных сценах, мог бы много помочь администраторам Театра, а потому не с эгоистичной целью хочется в этом направлении поработать, а для пользы вообще всех и театральных деятелей больше, чем лично моей. На это можно, конечно, сказать: «Да что же, в сущности, Владимир Аркадьевич хочет?» Очень просто: чтобы ему дали возможность работать над своим собственным материалом на пользу Театра русского, не дав ему в то же время возможности за этой работой умереть с голоду. А то будет глупо работу не кончить, да еще расход на похороны понадобится. Мне кажется, что в этом направлении можно бы было что-нибудь сделать. На театры столько расходуется, что расход на мое дело не может обременить Р. С. Ф. Р. Надо только знать, с кем же в конце концов поговорить и от кого это зависит. Может быть, не увидите ли Вы случайно в Москве Федора Ивановича — не посоветуетесь ли с ним, ведь его моя работа должна интересовать, ибо почти вся его деятельность, как и Ваша, близко связана с моими записками. Повторяю, что ничего не прошу, но хочу оберечь себя от могущих быть потом упреков — отчего я сам не старался труд свой привести в порядок, без чего ему менее половины цены, а пропадет, так и вся работа сведется на 0.
162 Много читаю последнее время басни Крылова и «Дон Кихот» Сервантеса. Хорошо оба они знали людей, и многому у них можно научиться в области людского ума или, вернее, глупости.
Всего хорошего, искренний и сердечный привет супруге Вашей и всем Вашим. Извиняюсь за причиняемое Вам беспокойство и очень благодарю за обещание следить за моим делом.
Искренне преданный
В. Теляковский
15110
16 июля 1920 г.
Высокоуважаемый Владимир Аркадьевич,
Я получил Ваше большое письмо от 9 июля и спешу Вам ответить, а так как это письмо поспеет ко дню Вашего Ангела, то и принести Вам все те пожелания и поздравления, искренность и глубина которых все-таки не искупают их фантастичности. Но надеюсь, что Ваш твердый дух и исключительная моральная сила помогут Вам перенести все, что судьба так немилосердно и незаслуженно посылает на долю людей, которые много и плодотворно служили русской культуре. Действительно, как говорит Диккенс, судьба прибавляет к незаслуженной обиде и горькую насмешку, ставя Вас во главе сапожной мастерской, в то время когда духовные сапожники становятся во главе театров!! [Нрзб.]
Думаю, что сейчас несвоевременно поднимать вопрос о сейфе с Вашими театральными записями. Пока Е. М. Ллойдина ничего мне не сообщила. Третьего дня я виделся с ней, и она говорит, что Гоца скоро освободят. Сейфами теперь не занимаются. Мне кажется, что было бы очень хорошо, если бы Вы лично переговорили о работе над Вашими записями с А. В. Луначарским. Это можно будет устроить, когда Вы приедете в Москву. Я убежден, что в деле, о котором Вы мне пишете, т. е. о том, чтобы Вам была предоставлена возможность обработать Ваш материал, спокойно и целиком отдавшись этой работе, Вы найдете в нем активную и деятельную поддержку — и сильную в этой области. А с Федором Ивановичем хоть не говори. Он все рад был бы сделать, но он очень расхватан.
Примите от меня, жены и сестры и всего моего клана самые горячие чувства высокого уважения и самые сердечные пожелания всего лучшего. Не откажите передать Гурли Логиновне мое душевное уважение.
Неизменно Вам преданный
А. Сумбатов-Южин
16
25 июля 1920 г.
Дорогой Александр Иванович,
Вчера получил я Ваше любезное письмо от 16 июля, за которое спешу Вас поблагодарить, равно и за память и поздравление с 15 июля.
163 Собираюсь в Москву, но совершенно не знаю, когда удастся попасть. Может быть, еще и лучше будет выждать.
Много это время читаю, когда не занят сапогами. И все больше убеждаюсь, как мало общего у России с остальной Европой. История ее требует другой мысли, другой формулы, чем мысли и формулы Запада, и как говорит Пушкин: «Провидение не алгебра, ум человеческий не пророк, а угадчик». Он видит общий ход вещей и может выводить глубокие предположения, но невозможно предвидеть ему случая111. Так и мы с Вами сапожного дела не предвидели и много еще не предвидим.
У нас ничего особенно нового не происходит. Цены на жизнь растут, и Москва, кажется, не отстает от Петрограда. Прошу Вас передать мой искренний привет Марии Николаевне и всем Вашим. Жена моя благодарит Вас за память и поздравление.
Искренне преданный
В. Теляковский
17
16 сентября 1920 г.
Многоуважаемый Александр Иванович,
Недели две тому назад я начал писать воспоминания о театре с 1898 – 1917 г. План обдумал таким образом. Сначала введение или предисловие, в которое войдет назначение, знакомство с деятелями и начальниками с их характеристикой, а также оценка разных мероприятий, введенных Дирекцией до моего назначения <…> словом, то, о чем надо раз сказать, чтобы не повторять потом в каждом отдельном случае. Потом возникновение дневника с 13 октября 1898 г. — с этого времени уже руководство дневником112.
Способ изложения в виде легкого рассказа, удобно читаемого и совсем не похожего на все так называемые истории театров, в которых перечисляются все постановки, артисты, приказы и т. п. Прочитав все, что у меня было по истории театров, я нашел их ужасно скучными и официальными, интересными лишь для специалистов. Мой же труд хотелось бы сделать интересным для всякого и не театрала, для специалистов — отдельный том в виде приложения и ссылок на источники, опять-таки не столь подробных, ибо многое есть в Ежегоднике113.
Читал Шаляпину, ему очень понравилось, находит интересным и легко слушается. Конечно, пишу не без юмору, когда в прошедшем многое драматичное кажется смешным, но характерным. Могу работать до 1903 года, ибо эти источники у меня, остальное в Москве.
Федор Иванович говорил, что беседовал с Вами, Вы советовали подождать привозить другие книги. Надо только не забыть определить удобное время.
Читал я и посторонним — впечатление получилось благоприятное, и слушают с большим вниманием и интересом. Ужасно сожалею, что Вы далеко и не могу Вам прочесть. Боюсь объема, ибо по подсчету должно выйти 3 – 4 тысячи страниц. Хотя сократить всегда можно.
164 Давно не имел от Вас и Ваших известий, также и от Гликерии Николаевны.
Как Вам кажется план — одобряете ли? Если будет время, черкните словечко.
Искренний и сердечный поклон Марии Николаевне и всем Вашим.
Искренне преданный
В. Теляковский
18
5 октября 1920 г.
Москва Б. Палашовский, 5
Высокоуважаемый Владимир Аркадьевич,
Я только 3 октября вернулся из Нижнего, куда я ездил играть на три недели, и застал здесь Ваше письмо. В этом причина замедления моего ответа, за которое прошу меня простить. Я очень обрадован тем, что Вы принялись за Ваши мемуары: помимо их огромного значения для истории театра, в них, мне кажется, громадное освежающее и укрепляющее силы значение и для Вас самих. Работа над анализом всего того, чем Вам так долго пришлось руководить, должна принести Вам лично отдых и жизненный интерес, какого не может дать никакая повседневная работа. Большое счастье — целиком уйти в иной мир из того, который нас захватил в свои железные лапы.
Я просил Шаляпина передать Вам мое мнение о том, что Ваш приезд теперь за дневниками вряд ли удобен. Мне кажется, что теперь скоро можно будет это сделать, но подождать не мешает. Сейчас слишком сильно общее напряженное состояние, не удобное для всяких личных хлопот. По приезде из Нижнего я узнал от той же Е. М. Ллойдиной, что положение ящика все то же, значит, экстренной необходимости спешить нет.
С Малым театром положение ужасное. Оно настолько меня волнует, что едва справляюсь с собою и насильно заставляю себя продолжать его управление. Во-первых, начат этот необходимый, неизбежный ремонт114, без которого уже играть в нем оказалось невозможным еще прошлую весну, вместо начала мая в половине июля, и когда он кончится — я не знаю: теперь уже говорят о 1 января. Да и к тому времени вряд ли этот злосчастный ремонт будет закончен. Я бьюсь как рыба об лед — и не нахожу никакого выхода. Дошел до Совета Народных Комиссаров, получил всякие предписания, подтверждения и пр. — но ни балок, ни рабочих. К счастью, я настоял на том, чтобы директор Малого театра не имел никакого касательства к бюджету перестройки, расходованию кредитов, отпущенных на ремонт и т. д., во избежание неминуемых обвинений в хищениях: всем этим заведует Оском (Особый Комитет Государственных сооружений), а Дирекция только указывает, какие работы и в каком направлении их производить. Да она и бессильна была бы ускорить дело.
Во-вторых, это вынужденное безделье театра деморализует и труппу, а эта деморализация в связи с распылением [нрзб.] между всякими профсоюзами, Моно, Тео115 и пр., не считая местных комитетов, разнообразных комиссий, тарифных организаций и пр., в корне ее обессиливает. Голова идет кругом. Хочу невыразимо свалить с себя этот труд — и не смею на это решиться.
165 Будьте здоровы, сильны и тверды, глубокоуважаемый Владимир Аркадьевич. Вся моя семья шлет Вам самый сердечный привет, а я целую ручки Гурли Логиновне и прошу верить в мое неизменное великое уважение и глубокую преданность
А. Сумбатов-Южин
19
21 декабря 1920 г.
Многоуважаемый Александр Иванович,
Пишу Вам очередное письмо, чтобы напомнить о моих записках. С Вашими многосложными занятиями мне все кажется, что можно и забыть временно о моем деле. Важно только время от времени справляться, все ли остается по-прежнему, и не пропустить момент, когда необходимость заставит их вынуть, чтобы они не затерялись. Федор Иванович думает в январе быть в Москве и тоже наведаться, в каком положении дело. Я сам, как Вы мне говорили, ничего предпринимать не буду, ибо мне они не скоро еще понадобятся.
Продолжаю свою работу ежедневно и теперь на днях кончаю лишь второй том, т. е. два первые сезона в Москве 1898 – 1899 и 1899 – 1900, кончая Волковскими торжествами; и между прочим написал Вашу речь, читанную на Торжественном собрании, о Волге116.
Работа выходит интересная, и я совершенно в нее погрузился. Явилось у меня даже какое-то сознание, что это мой долг — записки эти привести в порядок и тем завершить круг театральной работы, которую волею судеб мне пришлось вести в течение двадцати лет. Закончив работу эту, я буду сознавать, что принес известную пользу Театру не только управлением и направлением его, но и описанием, как все это делалось и как и кто делу этому помогал или мешал. Кто-нибудь со временем извлечет из этого и пользу для Театра вообще. Подчас критика бывает строгая, но стараюсь различно относиться к людям, творящим дело (артистам и художникам), которым, конечно, свойственно и заблуждаться, и ошибаться в своем деле, и людям, стоящим около этого дела, т. е. чиновникам, администраторам, которые должны не столько свое дело делать, сколько облегчать работу главным театральным деятелям. Чем дальше пишу, тем более прихожу к заключению, что я работал в особо благоприятных условиях. Мне высшее начальство мало мешало делать дело, и если что не удавалось, большая часть вины лежит на мне и на моей неопытности. В извинение могу лишь привести то обстоятельство, что работал много — в этом отдаешь себе отчет именно теперь, когда подневно прочитываешь дневник. Занят был я целый день — с утра и до поздней ночи. Работы по семи труппам117, действительно, было много, и за всем уследить было трудно. Кроме того, приходилось много читать и самому учиться одновременно. Дело это настоль сложно, что, пробыв и сорок лет на моем месте, многое приходилось бы еще изучать.
Как здоровье и состояние духа всех Ваших? Прошу передать мой самый искренний и сердечный привет Марии Николаевне и всем Вашим. Давно не имел сведений от Гликерии Николаевны, хочу ей на днях написать. Жаль, что не 166 удастся самому попасть в Москву, много бы поговорили теперь с Вами о прошлом, да и настоящее интересно — все учимся.
Искренний привет. Жму Вашу руку. Преданный
В. Теляковский
20118
5 января 1921
Высокоуважаемый Владимир Аркадьевич,
Я должен был задержать ответ на Ваше письмо, полученное мною 30/XII, именно потому, что как раз в это время меня известила Е. М. Ллойдина, что все сейфы вскрыты и что никаких предупреждений владельцам сейфов не делали. Как раз это время она была в отъезде и раньше сообщить мне не могла. Я немедленно, бросив все дела, стал добиваться везде, где мог, что сталось с Вашими записками, вынутыми из Коровинского сейфа. После 2-х дней всевозможных мытарств мне удалось наконец сегодня утром их найти в Сохранной Казне в Настасьинском переулке благодаря содействию Елены Максимовны Ллойдиной и главное — Управляющего Сохранной Казной Евгения Евгеньевича Левицкого. Благодаря ему они в полном порядке, всего 41 книга, со всеми даже не вклеенными вырезками: я их лично сейчас видел и пересчитывал. Немедленно из Сохранной Казны я поехал к Наркомфину Сергею Егоровичу Чуцкаеву, секретарем у которого служит Елена Максимовна Ллойдина, и обратился к нему с просьбою выдать мне эти книги для пересылки Вам. Без его разрешения, конечно, Е. Е. Левицкий этого сделать не мог. Чуцкаев отнесся к этой просьбе очень сочувственно и сказал мне, что выдаст это разрешение, если на это будет согласие Наркома по просвещению Анатолия Васильевича Луначарского. Я от него же телефонировал Луначарскому, но его уже не было дома, и до поздней ночи его домой не ждут. В Комиссариате его тоже нет. До завтра придется отложить это дело, а завтра — Сочельник, и все присутственные места закрываются до понедельника 10 января. Луначарского я увижу, конечно, завтра же и надеюсь, что на мою просьбу отказа не встречу. Таким образом, в понедельник 10 января, я надеюсь и на то, что все книги будут уже у меня.
Только сегодня я вздохнул свободно после двух дней невероятной тревоги. Не знаю, как и благодарить Ллойдину за ее помощь и своевременное извещение. Как раз перед Новым годом я недели полторы был сильно болен, но перед этим я звонил к ней около половины декабря, когда она была в отъезде. Последний раз я с ней сносился около первых чисел декабря, и тогда все обстояло благополучно. Мне не удалось точно узнать, когда произошло это вскрытие — да кажется, это и вообще сделалось внезапно, в силу какого-то особого распоряжения обо всех еще не открытых сейфах. Но все хорошо, что хорошо кончается. Когда я пересчитывал и перелистывал Ваши записки, я испытывал такое чувство, какое испытывал бы при пересмотре найденных своих собственных.
Вот теперь есть одна опасность, которой надо избежать во что бы ни стало! Существует, как мне сказали Чуцкаев и Левицкий, декрет Совнаркома119, по которому все рукописи, вынутые из сейфов, подлежат к сдаче в Народный Комиссариат 167 по просвещению, т. е. — в распоряжение Луначарского. Я не сомневаюсь, что Луначарский не откажет в выдаче Ваших записок мне на руки, но около него группируются разные мародеры по театру, которые могут, если дело получит огласку, отговорить его от передачи их в Ваше распоряжение и захотят сами использовать их материал. Поэтому необходимо во что бы то ни стало придать делу как можно меньше огласки и провести его быстрее. К счастью, здесь Шаляпин, с которым пока я виделся мельком, в нашей бывшей конторе, 31 декабря, но говорил с ним, еще не имея извещения о выемке записок, о необходимости их вынуть и перевезти к Вам. Если завтра, в Сочельник, Луначарский затруднится мне выдать это разрешение, я немедленно снесусь с Шаляпиным, и мы вдвоем сделаем, надеюсь, то, что может не удаться мне одному. 8-го, в субботу, мы с ним участвуем в одном и том же концерте. Это будет на второй день Рождества. После этого концерта я с ним и переговорю, так как мы оба приглашены вместе ужинать к устроителю концерта. Там же, предполагаю, будет и Луначарский.
В сущности, от вскрытия сейфа положение, по-моему, изменилось к лучшему: книги находятся в ведении Левицкого, с которым мы знакомы 39 лет, человека, любящего театр и знающего Вас. Отношение его к делу очень сочувственное. Таково же отношение и Чуцкаева благодаря Ллойдиной. В кладовых Сохранной Казны нет опасности — по крайней мере, меньше опасности в пожарном отношении, чем где-либо. Теперь вся задача — поскорее получить записки и передать в Ваши руки. Это, я думаю, лучше всего сделать через Федора Ивановича, который в половине января, кажется, возвращается в Пбг.
Невероятная трудность сношения с Петербургом заставляет меня думать, что это письмо Вы получите не раньше 8 – 10-го. Если у Вас будет возможность, соединитесь со мной по телефону (мой телефон — 93-08) или в понедельник, 10-го, между 6-ю и 8-ю часами, или во вторник, 11-го, между 9-ю и 11-ю часами утра. Я Вам сообщу все, что к тому времени будет сделано. Может быть, хотя навряд, понадобится даже Ваш приезд сюда. Но, повторяю, вряд ли. Все, что можно, я сделаю. Главное — записки целы.
Примите и не откажите передать глубокоуважаемой Гурли Логиновне мои сердечные поздравления с наступающими Праздниками и горячие пожелания провести будущий год легче и благополучнее прошлого. Жена и все мои шлют Вам приветы и благодарность за память.
Душевно и неизменно Вам преданный
А. Южин
21
15 января 1921 г.
Дорогой Александр Иванович,
Большое и сердечное Вам спасибо за Ваше обстоятельное и подробное письмо, которое меня так успокоило. Получил я его только вчера, а потому, конечно, не мог в условленное Вами время переговорить по телефону. Да я думаю, это и не важно. Главное, что записки целы и сохранны и находятся в ведении человека, 168 отдающего себе отчет, какой это долгий труд и результат двадцатилетней неустанной работы. Что бы ни было, важно, что они избегли пока огня или мусорной ямы. Мне же теперь, после того как я шесть месяцев пишу воспоминания, они стали еще дороже и интереснее, ибо, повторяю, это не просто Театр, а история жизни почти четверти века. Я очень привязался к новой работе и с ужасом все думал, а что, как первые тома разберу, и остальное придется писать на память без ссылок на документы и без точного обозначения времени и места действия. Это уже совсем другая работа и гораздо менее ценная. Рад очень, что вверил эту заботу именно Вам, без Вашего бы содействия ничего не вышло бы. Вы видите, что, несмотря на мои три письменных заявления, я ни одного не получил ответа. Да и кого это может интересовать, это не золото, не серебро и не камни. Мне при настоящих условиях очень трудно приезжать в Москву, надо как-нибудь обойтись без моего присутствия. Я бы мог, если это понадобится, выслать доверенность Коровина с правом мне передоверить, но и это я боюсь делать по почте, ибо письма, говорят, зачастую затереваются. Я думаю, конечно, самое лучшее, если Шаляпин их привезет <…> я думаю, что Федор это постарается сделать, ибо это и в его интересах — о нем много написано того, что он и сам забыл и не записал. Что касается Вашего участия, то еще раз благодарю, но этим еще не ограничиваюсь, ибо все же надеюсь этот труд постепенно с Вами прочесть и исправить. Я в деле издания вообще мало сведущий, и мне важны многие указания человека, в этом деле опытного. Тем более, что все это не к спеху. Ранее двух лет, а может быть, и более, я с этим трудом не слажу. Теперь за отсутствием трамваев приходится ходить в город пешком ежедневно, так что времени для работы остается не много, да и на 62 году не так уже много физических сил. Моральных хватает, я по-прежнему духом бодр, но тело уже не прежнее. А как интересно писать, как я по вечерам все забываю и отдаюсь прошлому, как воскресает понемногу все пережитое и перечувствованное. Сколько было искренней веры в необходимость именно так работать, как я работал. Впрочем, результаты налицо, лучше ведь еще не сделали другие, да и сделают ли?
Вы знаете, кто выходит по воспоминаниям и документам очень трогателен — это Князь С. М. Волконский. Я даже собираюсь ему написать, что сам не знал, как я его полюбил за его прямоту, искренность и полнейшее отсутствие зависти, за искреннее сочувствие моим горям и удачам, необыкновенное безграничное доверие, тонкость понимания того, что я переживал, когда он мне (его подчиненному и заместителю) и моей жене первый раз показывал квартиру120. Это был экзамен, который он блестяще выдержал. Теперь все это еще яснее обрисовалось при перечтении всей нашей с ним переписки. Это не чета Ивану Александровичу Всеволожскому121, старавшемуся топить его, своего племянника, им же рекомендованного, за то, что он осмеливался свое суждение иметь. Я думаю, что и Князь Сергей Михайлович совсем не подозревает, сколько я о нем передумал, как я его ценил и как я его теперь за прошлое полюбил. Скажу даже больше, это самая яркая встреча во всей моей жизни благородного начальника-товарища. В нем оправдались мои ожидания и вера в людей. Не правда ли, и Вы удивитесь всему, что я пишу, тем более, что лично Князю Сергею Михайловичу я ничего подобного не говорил, — да я и не экспансивный человек. У меня все складывалось в архив, не было времени разобраться. А теперь, как рядом факты стали 169 на бумаге, — я сам поражен. Очень бы хотел все это ему не только сказать, но и указать со счетом в руках на его благородство и наивный, совершенно не чиновничий взгляд на службу и совместную работу. Взгляд, который мне всегда был особенно дорог и который вполне я только в нем встретил за всю свою жизнь. Когда Вы познакомитесь с моими записками, Вы почувствуете то же самое. Волконского не поняли — этому мешал его дилетантизм, в котором он не отдавал себе ясного отчета сам. Но в этом, с другой стороны, было много милого и наивного. Это его ахиллесова пята, но кто же какой-нибудь пяты не имеет. Ну, разболтался. Если встретите Князя Сергея Михайловича, сердечно ему поклонитесь. Он все-таки раз должен узнать, как я его люблю и ценю <…>
В. Теляковский
22
20 января 1921 г.
Высокоуважаемый Владимир Аркадьевич!
До сего дня я не получил ответа на мое заказное письмо Вам от 5 января, и Вы мне не телефонировали ни 10-го, ни 11-го, чтобы узнать дальнейшую судьбу рукописей. Из этого я заключаю, что или мое письмо (расписка за № 519) Вами вовремя не получено, или Вы не добились телефона.
Восьмого, в субботу, я виделся с Ф. И. Шаляпиным на концерте, и 9-го, в воскресенье, мы съехались в Большом театре, где был А. В. Луначарский. Как я и ожидал, моя просьба выдать мне Ваши рукописи не встретила с его стороны препятствий: в понедельник, 11-го, я был у него и он выдал мне бумагу, по которой Наркомпрос (Народный комиссариат по просвещению) поручает мне получить эти рукописи, а кроме того — написал мне записку, по которой я имею право передать их Вам «для обработки на предмет издания наиболее интересных частей». Эта приписка гарантирует не только меня, но главным образом спокойствие Вашей работы: Вы всегда можете опереться на это разрешение при всяких возможных случайностях.
По получении этой главной бумаги начались мои мытарства по Комиссариату финансов, в ведении которого состоит бывшая Ссудная Казна, в ней самой, в Рабоче-Крестьянской инспекции, виза коей необходима на всякой бумаге о выдаче, хоть бы и с разрешения двух Комиссаров, как это было в данном случае, и т. д. Утомлять Вас всеми перипетиями этих трепок я не стану, но должен сказать, что как на зло дело задержалось и тем, кроме обычной волокиты из инстанции в инстанцию, что как раз 5 января сменился Комиссар Чуцкаев новым — Альским122.
Как бы то ни было, сегодня, в четверг 20 января, мы с Машей, нашей горничной, привезли на салазках мешок, наполненный 40 Вашими тетрадями. Признаюсь Вам, я только сейчас вздохнул полной грудью и пишу это письмо, поглядывая на драгоценный мешок, лежащий за книжным шкапом в моей спальне. (Кстати, Е. Е. Левицкий сообщил мне, что книг не 41, а 40; 5-го при беглом подсчете он ошибся на 1. Не имея от Вас точных указаний, сколько их было, я проверить этого не мог. Но он показал мне и препроводительную накладную из сейфовой Комиссии, где указано число — 40).
170 Теперь последний вопрос — как Вам их переправить? Во вторник, 18-го, я ужинал у Шаляпина и спрашивал его, не возьмется ли он доставить Вам этот деревянный ящик, в который я их упакую? Он согласился, но мне необходимо Ваше указание — хотите ли Вы иметь их у себя этим путем или приедете за ними сами? Во всяком случае, я очень бы просил Вас возможно скорее их взять от меня, так как я панически боюсь пожара и всяких случайностей. Но до Вашего письма об этом я ничего решать не могу. Федор Иванович уезжает 28-го (кажется). Надо всеми силами постараться дать мне знать до 27-го, как мне поступить.
Тороплюсь отправить это письмо, сердечно Вас поздравляю с благополучным исходом и прошу принять от меня и жены сердечный привет.
Высокоуважающий Вас и неизменно Вам преданный
А. Южин
23123
30 января 1921 г.
Петроград
Дорогой Александр Иванович,
Не знаю, как Вас благодарить за все то, что Вы постарались сделать, чтобы получить мои книги. Очень извиняюсь за все те хлопоты, которые Вам доставил этой опекой моих интересов. Хотя мне не так совестно, ибо дело это касается не одного меня <…> Первое письмо Ваше с надеждой на получение получил столь поздно, что не мог успеть говорить с Вами по телефону. Да по правде сказать, и не очень хотелось. Оставаться предпочитал перед запечатанным письмом, боясь его вскрытия — а вдруг неудача? Лучше подождать, когда само откроется. Знаете это чувство? Вот, получив второе, я и успокоился. Второе письмо, из которого я узнал, что пилигренаж с салазками окончился, и Маша вместо лошадки подкатила с грузом к подъезду, и книги внесены в памятную мне по прошлому году спальню, я вздохнул свободно. Побежал сейчас же на телеграф (вчера, 29 января, я получил второе письмо от 20 января), чтобы Вам сообщить, что письмо получил и прошу передать книги Федору для доставки мне и сердечно благодарю. Оказалось, что у нас на Каменноостровском телеграф не действует — надо идти на Главный, а это верст 6 от меня. Но я вспомнил, что в моем заказном Вам письме от 18 января124, которое Вы, вероятно, теперь уже получили, я писал, что хорошо бы было, если Шаляпин возьмется мне эти книги доставить, так что мое решение Вам уже известно <…>
[В. Теляковский]
24
5 мая 1921 г.
Дорогой Александр Иванович,
Давно собирался Вам писать, но, будучи уверен, что Вы по случаю наступивших праздников будете мне писать и, может быть, будут специально затронуты вопросы, Вас в настоящую минуту интересующие, я дождался Вашего письма, которое только сегодня до меня дошло <…>
171 Очень рад был узнать из Вашего письма, что у вас все благополучно и что Малый театр опять открыт, и открыт с подобающим ему репертуаром125. Все эти подробности и детали мне теперь особенно интересны, когда я уже целый год живу прошлым и перебираю в памяти и на бумаге все причины и следствия театральной деятельности конца XIX и начала XX столетия. Сколько имел я опыта вникать записывая в причины: как постепенно незначительное явление или факт порождал целую нить последствий, и как, в сущности, все имело причину, и как все ясно и понятно, когда факты подобраны в порядке и поставлены в последовательности. На днях я окончил московский период, то есть 1898 – 1901 года, и перешел на сезон 1901/02 года126, когда запись касается и Москвы, и Петербурга в более широком масштабе и с более отдаленной точки от театров и более близкой к высшему, не только Российскому, но и мировому Театру. Ибо, в сущности, вся трагикомедия высшая есть тот же Театр — с теми же артистами, режиссерами, управляющими и директором. И в мировой истории есть свой репертуар со всеми его достоинствами и недостатками. Та же борьба, то же удовлетворение часто своего собственного самолюбия, то же желание играть не пьесу, не ансамбль, а свою собственную роль, и та же боязнь более талантливого дублера. Те же громкие фразы об общей пользе и общем деле <…>
В. Теляковский
25
11/24 июля 1921
Москва
От всей души, горячо, горячо поздравляю Вас, высокоуважаемый Владимир Аркадьевич, с днем Вашего Ангела. Дорого бы дал сделать это лично, хоть часок посидеть с Вами и послушать Ваших воспоминаний, о которых на днях мне Шаляпин говорил, что они полны живого интереса. И была у меня надежда побывать в Пбг., но теперь и думать об этом нечего: приходится без отдыха играть или участвовать в этих бессмысленных концертах изо дня в день, а все остальное время убивать на данаидину работу — лить в бездонную бочку ни к чему не ведущего управления Малым театром целые ушаты последних остатков сил и энергии, чтобы бочка совсем не рассохлась. Но и это мне уже невтерпеж, несмотря на мою природную настойчивость. Не могу Вам выразить, до чего я устал, а в то же время все увеличивающаяся семья из близких людей не дает права подумать не только о временном отдыхе, но и пожелать вечного…
Эти грустные строки написались сами собой, и я прошу Вас простить меня за то, что, я, может быть, омрачаю ими день Вашего Ангела.
Вы поймете, почему я называю мою работу работою Данаид. И в нормальное время трудно согласовать интересы театра с интересиками его разнообразных работников, — Вы это знаете лучше меня. А теперь, когда исчезла почти всякая возможность поднять энергию обессиленных и изголодавшихся, да к тому же — неуравновешенных и неустойчивых людей, работа эта не ведет ни к чему. На все попытки установить какой бы то ни было деловой и строгий строй закулисной жизни встречаешь в лучшем случае пассивное и лишенное какого-либо горения отношение к делу. Да и невозможно его требовать: растерялись и ушли 172 только в селедку и черный паек и более сильные и устойчивые организмы, чем театральные. О грядущей зиме страшно подумать… И вот эти тяжелые мысли, от которых почти сна нет без усыпительных средств, еще уцелевших в прежней домашней аптечке, волей-неволей надо скрывать под маской не только спокойствия, но подчас веселости, которой в душе нет и следа. Да, в такие годы легче всего тому, кто имеет возможность и право уйти в свою раковину.
Искренне поздравляю глубокочтимую Гурли Логиновну и еще раз от всего сердца желаю Вам, искренне любимый Владимир Аркадьевич, сохранить ту твердость духа и мужество, без которых в наше время не прожить.
Неизменно Вам преданный
А. Сумбатов-Южин
26
16/29 июля 1921 г.
Дорогой Александр Иванович,
Сердечно благодарю за память и поздравление и прошу принять благодарность Гурли Логиновны. Очень был рад получить от Вас письмо, но недоволен Вашим настроением. Я еще понимаю, что Гликерия Николаевна пишет в минорном тоне127 — ее мучает и изводит физический недуг. Болезнь вещь скучная и непоэтичная, к тому же вас все время изводит. Вы, кажется, здоровы, и за это одно надо благодарить Бога. Все остальное в нас и от нас зависит, и падать духом не следует. Я, напротив, чем дальше, тем более чувствую себя бодрым. С селедками и фасолью я уже давно примирился, ибо ел и баланду, и зеленый лист капусты, да в общем не все ли равно — качество перерабатываемой нами пищи оценит все тот же огород. Все это только через нас проходит и уходит, и все это постольку необходимо, поскольку нужно поддерживать огонь в нашем газогенераторе, необходимом для поддержания жизни, без которой бы наш дух и духовная сущность не могли бы существовать — это ведь главное. А при нынешних условиях жизни, по-моему, дух и духовная жизнь стали даже сильнее, независимее и крепче. Тело загнали вконец, и ему отведен маленький угол. Я, может быть, не совсем ясно выражаюсь, но я это отлично и ясно чувствую. Мне даже подчас бывает не только грустно, но просто смешно, и со свойственным мне юмором я могу смеяться до слез, когда узнаю о новых и новых потугах доказать, что дважды два пять. Это и раньше старались доказывать — это и теперь стараются <…>
Нельзя отрицать в нынешних деятелях ум и знание русского человека. Он только тогда понимает, когда его бьют в переносицу. Но прежде конфетничали и чего-то стеснялись, а теперь пробуют и делают откровенно. Надо все это переносить, потому что это заслужили. И поверьте, не унывайте — перемелется, мука будет. И может быть, еще никто такой пользы не принес России, как большевики. Ряд опытов не пройдет без пользы, это несомненно. Это тяжело, но назидательно, а то уж очень много накопилось последнее время теорий — без применения на практике. А теория заманчива и много обещает, и одним рассуждением ее не опровергнешь. Как ребенку трудно объяснить качества огня, пока не сунет руку. А мы были детьми и с огнем играли — а теперь, как обожглись, пищим <…>
В. Теляковский
173 27
21 января 1922 г.
Многоуважаемый Александр Иванович,
Очень был обрадован сегодня получить от Вас длинное интересное письмо, напомнившее мне прежние доклады о состоянии Малого театра. Е. Турчанинова была настоль любезна, что сама занесла Ваше письмо128 и этим доставила мне удовольствие вспомнить времена моего пребывания в Москве и ее игры в Новом театре. Сколько было тогда надежд, волнений, разных проб, созидания и веры в расцвет Театра. Правда, не все удавалось, делались ошибки и промахи, но каждый новый год давал новые надежды, и казалось, все идет вперед. Каждый знал, зачем он работает, и каждый ждал перемен к лучшему. Теперь картина изменилась. Все больше сообщают о переменах к худшему, о потерях среди артистов, о падении интереса к настоящему Театру и о поисках восстановить не настоящую театральную деятельность, а нечто рядом — мало имеющее общего с искусством. Вам честь и слава, что Вы еще хватаетесь за обломки и стараетесь удержать Театр, а в особенности репертуар на поверхности <…>
Предстоит еще трудное время нам всем переживать, но на многое открываются глаза, и кто знает, может быть, все эти страдания принесут всем нам большую пользу и не скоро забываемый опыт. Лично про себя скажу, что духом не падаю, а умеренная пища и пренебрежение к потребностям тела дали возможность много думать, разбирать и анализировать современное состояние.
Я по-прежнему погружен в свою работу. Проработав с вами со всеми около 20 лет добросовестно и внимательно, наскоро все записав и отметив, я теперь, перебирая весь накопившийся материал и сортируя его, прихожу к самым неожиданным выводам, настоль интересным, что так и тянет все это издать и поделиться с другими, кому близки интересы искусства вообще и Театра в особенности.
Двадцать лет я неустанно следил не только за жизнью Театра, но за жизнью даже отдельных членов театральной семьи. Как все это видоизменялось, подвергаясь известным законам детства, отрочества, зрелого возраста и старости. Как из маленького артиста делался большой, как на него действовал успех моральный, художественный и материальный. Как сам я понемногу менялся в своих собственных воззрениях. Как многое, что я писал от себя, — оценивая то или другое событие, — как это теперь иногда кажется странным, будто это не я писал. Все это вместе представляет особый интерес, когда прошло известное время, и результаты получались часто не те, которые ожидались. Если бы я мог до вступления на службу в Театр прочесть что-нибудь подобное тому, что теперь пишу, я бы много сберег время для более продуктивной работы. Мне пришлось многому учиться только на практике и на примерах. Правда, эта наука вышла прочнее, но зато много на это потратил времени и на настоящее дело осталось мало.
Ужасно жаль, что Вы так от меня далеки. Мне бы необходимо было — до того, как приготовить окончательно мой труд к изданию, — посоветоваться с человеком преданным и любящим Театр. Пока я разобрал 9 томов из 50. Написал 1600 страниц. Работать придется еще года 3 – 4. А потом еще все пересмотреть.
174 Вы пишете про громадные цены в Москве — у нас не лучше. Дрова дошли до 1 1/2 миллиона сажень. Хлеб — 12 000 рублей, картофель — 160 тысяч пуд. Крупы — 30 – 40 тысяч. Масло 120 тысяч рублей фунт. Молоко 16 – 18 тысяч бутылка. Из нашего нового содержания ничего не выходит.
Вы мне ничего не написали про своих — где они работают, открыли ли лавку или магазин. Как Ваши материальные дела.
Жена очень тронута Вашим вниманием и благодарит за поздравление. Прошу Вас передать Вашей супруге и всем Вашим мой сердечный привет. Поздравляю всех с Новым годом.
Искренне преданный и сердечно любящий
В. Теляковский
28
9 апреля 1922 г.
Дорогой Александр Иванович,
Благодарю Вас за память и поздравление, которое сегодня получил129. Должен начать и кончить письмо одинаковой фразой: как все это, вместе взятое, надоело! Прямо мочи нет — это одно, что бродит все время в голове. Все можно терпеть и все можно переносить, когда хотя в каком-нибудь направлении виден просвет — но именно этого-то и не видать. Полная бездарность, топтание на месте, хвастовство, ложь и совершенно обратные результаты задуманного, ибо жизнь всегда имела и будет иметь непреложные законы, которые можно временно обходить, но не изменить. Грустнее всего постепенное, но постоянное оседание всякой культуры, добытой трудами целых поколений.
Конечно, острый период быстро миновал, но рассасывание может продолжаться бесконечное количество времени, ибо перепутаны все отношения и некоторые исключения принимаются за правила, а правила за исключения, и когда все это должным образом разберется, совершенно неизвестно, ибо завязались тугие узлы. Кроме того, меня ужасно угнетает постоянная забота о самых скучных хозяйственных нуждах: дрова, керосин, хлеб, картофель и т. п. отнимает у вас столько физических сил, что мышление притупляется и в конце концов не живешь, а прозябаешь изо дня в день, и когда, наконец, думаешь, что все устроил и заготовил, вам приходят сказать, что для стирки мыла нет. Все это невыразимо скучно и обидно. Тем не менее я бодрюсь и очень рад, что никуда не уехал. Почти все уехавшие находятся не в лучшем положении. Ехать куда-нибудь отдыхать или жить — совсем большая разница. Как ни плохо дома, все же вы у себя, среди своих, и убеждение, что вы все переносите вместе, дает некоторое удовлетворение и еще больше его даст, когда начнется какое-нибудь улучшение.
Моя история подвигается, хоть довольно медленно, ибо условия работы очень затруднительны. За день устаешь от службы, а вечером плохое освещение, а теперь вот уже около 3-х недель совсем нет электричества.
Еще раз благодарю Вас за письмо и прошу принять благодарность и привет моей жены. Очень бы хотелось Вас повидать и потолковать, а также познакомить Вас с написанным. Но, по-видимому, всякое сообщение и передвижение будет все труднее и труднее.
175 Поздравляю с наступающими праздниками Вас и всю Вашу семью и желаю всего лучшего. Искренне преданный
В. Теляковский
29
4 сентября 1922 г.
Высокоуважаемый Владимир Аркадьевич,
Я не уезжал в июле, но пролежал больным почти месяц, с начала июля до конца его, вернее, до половины августа. И Вам, и А. Ф. Кони130 — двум лицам, с которыми я только и переписываюсь за эти годы, — я задолжал письмами до бессовестности и, право, мучился этим очень.
Началось у меня энфлюэнцей, а потом оказалось и сильное ослабление сердца и мучающий меня давно трахеит <…>
Словом, я едва теперь, после 2-х месяцев йода и фетина, не считая прочих гадостей, в состоянии буду выступить 2 раза в начале сезона, в связи с исполнившимися 40 годами моей службы Малому театру, и беру полугодовой отпуск. Работать в сезоне я уже не в силах, все равно свалюсь к ноябрю или декабрю. С июля я уже не выступаю нигде, а ввиду того, что жить на что-нибудь надо, это не особенно удобно.
Теперь введены 35 — и далее — 40, 50-летние бенефисы. Ущерба театру от этого нет, так как бенефициант оплачивает полный сбор или берет театр в день нормального отдыха, в понедельник. Так сделаю и я. 12 сентября я буду участвовать в день открытия Малого театра в «Горе от ума», день в день через 40 лет после того, как выступил там же в 1882 году 30 августа старого стиля в Чацком. Затем в ближайший понедельник 18 сентября состоится в Большом театре мой бенефис — поставлю 3 акта «Отелло»131 (1-й, 3-й и 5-й), благо все главные исполнители налицо и не надо делать новой обстановки.
Затем я на 6 недель, около конца сентября, уеду в Кисловодск, оттуда — в Тифлис до января. В январе, если хватит денег, думаю на январь и февраль съездить за границу: я получил очень выгодное предложение, относящееся к переводу и постановке «Измены» и «Цепей»132 в Америке и Лондоне. Но без личного приезда ничего не выйдет. Пока для меня главное — поправиться. Для этого надо здесь вполне обеспечить мою большую семью, а на Кавказе — иметь возможность прожить независимо до отъезда за границу. То, что я там заработаю, — уйдет на заграничную поездку.
Отсюда мне очень трудно вырваться, но я надеюсь, что до марта, когда я думаю вернуться, без меня с делом справятся. И репертуар, и материальные планы я подготовил. Вот причина, почему я приношу Вам очень запоздалые, но такие же сердечные и горячие пожелания и поздравления с 15 июля — днем Вашего Ангела. Меня грызла все эти два месяца мысль о том, что полная прострация, в которой я находился, да еще масса таких неотложных дел, без которых нельзя обойтись, хоть умирай, — мешала мне писать Вам и Анатолию Федоровичу.
Простите меня и верьте, что если хоть и 41-й, но все же активный сезон я вынужден покинуть, да еще на время расстаться с семьей, — значит мне, действительно, круто пришлось <…>
А. Сумбатов-Южин
176 30
[18 сентября 1922 г.]
Дорогой Александр Иванович,
Очень благодарю Вас за подробное письмо и поздравление, полученное мною вчера. Неполучение от Вас долго писем меня стало беспокоить. Очень рад был наконец узнать, что все относительно благополучно. Очень хорошо делаете, что едете наконец отдохнуть. Все терпимо, пока [есть] здоровье, и ничего не надо, когда его нет. Да, кроме того, и убиваться-то не имеет большого смысла. Все ведь пока сводится к немного лучше или немного хуже — настоящей театральной здоровой жизни нет и быть не может при настоящих условиях. <…> Завидую Вам, что едете за границу, и надеюсь, что напишете мне с Кавказа или Европы. Интересно будет повидать Вас зимой по возвращении.
На днях Ваш юбилей. Когда говорят о юбилее, я все не могу забыть Чехова. Но что делать, без этого не обойдешься, кроме того, «дитя не плачет, мать молока не даст». А Вам теперь, по-видимому, молоко-то нужно, и дай Бог, чтоб его было много и пожирнее. Я Вам написал полуофициальное юбилейное письмо и приложил отдельно, ибо, может быть, юбилейное письмо будут читать. Очень прошу Вас передать его церемониймейстеру, который будет заниматься порядком чествования, а потому и заключаю его в отдельный конверт <…>
18 сентября 1922 г.
Глубокоуважаемый Александр Иванович,
Искренне приветствуя Вас в день празднования сороколетнего служения Вашего на сцене Малого театра, служения, из которого почти половина протекла совместно с временем моего управления Академическими театрами, считаю долгом Вас не только поздравить, но и засвидетельствовать, что нет среди артистов всех трупп Академических театров ни одного артиста, который мог бы, хотя отчасти, сравниться с Вами по тому громадному и постоянному участию, которое Вы проявляли к жизни Малого театра. Вы работали не только как артист, но Вы были и администратором, и режиссером, и управляющим труппой, и членом Репертуарного совета, и членом Театрально-литературного комитета, и драматическим автором, и, наконец, председателем Дирекции московского Малого театра133. Не было вопроса, касающегося Малого театра, к разрешению которого Вы бы не привлекались, и не было часу дня и даже ночи, когда бы Вас не вызывали, чтобы просить принять участие в сложном театральном деле Вашего родного театра. Мое личное к Вам доверие и уважение основаны были не на личной симпатии, а на основании 20 лет совместной работы. За это время нашей совместной службы я мог Вас ценить как выдающегося артиста и сотрудника. После окончания совместной с Вами службы — и как человека, отличительными чертами которого всегда были: благородство, прямота, такт и желание всякому сделать добро. Все мною написанное не есть только приветствие, высказываемое по случаю юбилея, а просто сущая правда, много раз мною высказанная и прежде. Сегодня ее только повторяю.
Искренне и глубоко Вас уважающий бывший сослуживец
В. Теляковский
177 31
18/III/23
Москва
Высокоуважаемый Владимир Аркадьевич,
После моего письма к Вам в октябре прошлого года134 я уехал из Москвы, лечился до декабря в Кисловодске, так как у меня очень ослабело сердце, провел два месяца в Тифлисе и собрался за границу до конца моего полугодового отпуска, но был экстренно вызван в Москву по делам Малого театра за два месяца до окончания отпускного срока. Здесь я застал большой кавардак, теперь несколько и временно уладившийся, и смутные слухи о понесенной Вами тяжкой утрате135. Первые известия о ней я получил еще месяц тому назад, но не решался писать Вам, так как несколько раз подобные слухи о других лицах оказывались ложными. Только вчера, встретив кн. Гагарину136 вместе с Добужинским137, я, к большому горю, получил подтверждение этой тяжкой вести.
Не могу выразить, как мне тяжело и больно за Вас и как глубоко я принимаю к сердцу все, что Вы пережили. Поверьте, что мое соболезнование, мое горе за Вас — не одна обычная, шаблонная фраза. Я знал Вашу душевную близость, Вашу прочную внутреннюю связь с покойной Гурлей Логиновной и всем сердцем чувствую, какая глубокая рана нанесена этой утратой Вашей жизни и Вашим привязанностям. Единственным утешением для меня служит то, что Вы — верующий человек и что для Вас не все кончается с телом. Искренне молюсь, чтобы эта вера подкрепила Вас и дала Вам силы на труд, который Вам должен теперь быть еще ближе и дороже, чем раньше.
Простите меня, если я этим письмом разбередил наболевшую рану. Но я не могу удержаться от потребности высказать то, что я испытал при этой вести <…>
А. Сумбатов
32
15 апреля 1923 г.
Дорогой Александр Иванович,
Извиняюсь, что так долго не отвечал на Ваше милое письмо. Сейчас только что написал Гликерии Николаевне и, пользуясь случаем, пишу Вам, прося ее передать Вам это письмо при оказии.
Поздравляю Вас, супругу Вашу и всех Ваших, которые помнят приезжавшего в Москву финансового инспектора, столь часто одно время надоедавшего своими посещениями. С особым удовольствием вспоминаю большой стол — салат, пшенку и радушных, милых хозяев. Как уже все это кажется далеким, когда радовались фунту черного хлеба. А теперь и белый в рот не идет, потому что мало надежды на будущее. И я теперь одинок, чего ждать и для чего. Мое будущее не на этом свете — «не все коту масленица». Очень я был уж счастьем избалован.
До Вас, может быть, доходили слухи, что меня к Государственным театрам привлекали — зовет Экскузович138 в Академические, только это между нами. Я согласился осмотреть пока Государственные и в течение 2-х месяцев, не принимая 178 никакого административного места, консультировал139. Но ничего из этого не выходит и, по-моему, не выйдет, что я и заявил. Как дело идет, его лучше пока и не трогать, а то совсем развалится. Занимаются всем, что около Театра, но не Театром, а около оказалось больше, чем сам Театр. Это многоэтажная вавилонская башня, построенная с совершенно не театральными требованиями. Все пропитано политикой, а это так скучно в искусстве.
Я написал длинное письмо Гликерии Николаевне, в котором излагаю мое личное мнение о Театре вообще. Увидя все опять после 5 лет, заскучал по Ромео и Джульетте. Нет и не может быть нового театра — могут быть только новые формы. Театр стар, как жизнь, его бутафорией не надуешь. Он хотя и седой, но всегда юн, а без Ромео и Джульетты в конце концов скучен. Я считался новатором и декадентом, но это все только по части формы справедливо. Суть театра настоящего новой быть не может, как не может быть и новой жизни на этом свете. Это только кажется, что люди переменились. Они только переодеваются, но все продолжают любить, ненавидеть, ревновать, [нрзб.] и т. д.
На днях меня просили написать несколько строк про Мейерхольда140 — напечатано это в № 14 журнала, издающегося при Государственных театрах. Может быть, не попался ли Вам этот №? Я, конечно, написал о Мейерхольде только как режиссере и очень поверхностно, ибо статья маленькая и все писать нельзя.
Усиленно работаю над своими воспоминаниями. Веду переговоры со многими, но, вероятно, ни с кем не решусь связаться, — надо раньше кончить все, потом оглядеться. Многое критически и с любовью написанное может показаться современникам обидным и не в том свете, как я бы хотел, а без правды полцены моим воспоминаниям. Я хочу, чтобы моя работа кому-нибудь на пользу пошла, ибо там тысячи примеров и результатов.
Еще раз благодарю за внимание и память. Очень жалею, что Вас не вижу — много бы рассказал.
Искренне Вам преданный
В. Теляковский
33
Из письма
Теляковского
8 мая 1923 г.
<…> Неизменно мил ко мне здесь был все время М. Дарский141 и, кто Вы думаете еще — поверьте, не угадаете? В. Мейерхольд, посмевший громогласно в Александринском театре на своем чествовании 22 апреля142 после обращенных к нему приветствий, в том числе и от Союза работников искусств (исключившего меня в феврале месяце из Союза как бывшего сановника, занимавшего большой пост директора театров), сказать, что русский Театр и он лично именно мне многим обязан — что и просит Головина143 мне передать за моим отсутствием. Головин сидел в ложе как автор декораций «Маскарада», который в это время шел, и к нему он обратился. На это последовал гром аплодисментов, и все сожалели, что меня не было в театре и нельзя было устроить особую овацию, к чему все стремились. Но я не был в театре и был очень рад — так лучше. Мое исключение из Союза и именно в то время, когда стали печатать о привлечении меня к работе в Государственных театрах, считаю за высшую награду, посланную 179 мне свыше. Упиваюсь этим угнетением, ибо оно яснее всего доказывает, что со мной надо считаться, [нрзб.] меня при прежнем режиме ругали за революционность в искусстве, теперь боятся как ретрограда. Прямо забавно и показательно. А я все тот же и теперь. И Театр для меня — история любви Ромео и Джульетты, все остальное — временные формы, недолговечные и всегда меняющиеся. Но политику в Театре ненавижу всеми фибрами души <…>
Я вот теперь работаю над воспоминаниями, роюсь в этом сложном лабиринте событий и примеров, ибо цель моя не историю театров написать, а связь их с жизнью. Театр как отражение людских слабостей и жизни людей, не только артистов. Ибо эти последние не инструменты, а живые люди — в каждом из них есть и часть публики, не всегда они на сцене и не всегда говорят умные речи выдающихся авторов <…>
Я думаю, что мои рассуждения, заключения, может быть, и мало окажутся полезными, ибо могут быть ошибочны, но факты, которые я привожу — громадный и, я думаю, небывалый материал для будущего историка не только театров, но и народа. Факты останутся, как нечто когда-то случившееся, и мудрый историк из них много почерпнет объяснений событий. Ибо именно моя эпоха записей особенно интересна — вопросы некоторые поставлены жизнью ребром. Что-нибудь рано или поздно, но произойти должно. Частная жизнь каждого из нас окажется более важной или общая, в которой мы только номера, пешки. Это выяснится.
Написал Вам длинное письмо и, хотя Вы писать не любите, но буду ждать Вашего ответа, хотя и не сейчас. Я Вам послал письмо через Гликерию Николаевну, не знаю, получили ли Вы его? Я ей писал с оказией, она через кого-то посылала мне письмо. Сообщите, получили ли Вы его.
Лично я теперь хлопочу быть зачисленным в инвалиды труда144. Служить довольно. Я уже 46 лет служу и чувствую, что, если буду служить, не кончу своих мемуаров. А это, как я Вам писал, считаю наиболее важным. В театре теперь работать мне не время. Я познакомился с теперешней организацией — это все, что хотите, но не театры. Старые театры плохи, совсем нет изюминки, а новые, работающие отдельно от своих родителей, предлагают все не готовый обед, а приглашают на кухню смотреть, как пытаются что-то приготовить. Но повара из рук вон плохи, и рецепты блюд потеряны. Работать новый театр может только при старом, и если «Маскарад» в Александринском театре продолжает кормить кассу, то оттого, что Мейерхольд и Головин работали в старом театре <…>
Из-за границы я получил за 5 лет одну посылку от многочисленных там моих артистов, и знаете, от кого — балерины Балашовой145. Вы, наверное, подумали о Шаляпине146, так нет, и это понятно — я для Балашовой никогда ничего не сделал. Ну, довольно <…>
34
5 июня 1923 г.
Москва
Высокоуважаемый Владимир Аркадьевич,
Недели 2 тому назад получил через зятя моего брата Ваше дорогое и интересное письмо — и, несмотря на горячее желание немедленно на него ответить, до сих пор не мог взяться за перо. Получение Вашего письма совпало с такой адской 180 работой по Малому театру, которую я Вам вкратце сейчас опишу, и из этого описания Вы увидите, что помешало мне до сего дня побеседовать с Вами.
Я еще в мартовском письме намекнул Вам, что я был экстренно вызван за 2 месяца до окончания моего отпуска сюда в Москву по делам театра. Моим отсутствием в течение 314 месяцев воспользовались для того, чтобы ввести в дирекцию Малого театра некоего молодого человека, тов. Скороходова, буквально ничего не смыслящего в театре, но взявшего на себя роль его реформатора147. Реформы заключались в том, что, благодаря его демагогическим приемам прежде всего, почти в корне была подорвана вся внутренняя дисциплина театра, которую удалось удержать — правда, с большим трудом — до текущего сезона, то есть целые пять лет, восстановлены друг против друга артистический и рабочий составы, отдельные группы и даже отдельные лица каждого из них, вызваны наружу всякие счеты, кто сколько получает, сколько работает и т. д. Надо сказать по правде, что и оставшиеся без меня четыре директора отдельных частей не сумели объединиться в своей работе: вернувшись в феврале, я застал всего одну новую постановку за весь сезон («Снегурочку») и прошедшую только в 20-х числах марта вторую — «Недоросль»148. Застал и большую запутанность в остальных частях — во всей администрации, в заведовании имуществом и в его учете, во всех взаимоотношениях и самой Дирекции, и ее подсобных органов. Каждый из директоров на правах полного самовластия ведал своей частью и тормозил работу других. Словом, то коллегиальное управление, которое было установлено с 1917 года и во всей своей чистоте удержалось до 23-го года только в одном Малом театре в силу его «Положений» 18-го и 19-го гг., оказалось теперь, во-первых — идущим в разрез с нынешними взглядами власти, а во-вторых — и в самом деле непрочным, чуть только оно хотя бы временно не объединялось возглавляющим 5-членную Дирекцию Председателем. Заместитель мой (Ваш любимец Платон) более половины времени моей отлучки проболел воспалением легких, а когда поправился приблизительно к декабрю, то, очевидно, не справился с самолюбиями и честолюбиями своих товарищей. Словом, встретила меня картина печальная. И вне Малого театра, во всех учреждениях, к которым он причислен в разных степенях зависимости, ясно обозначился новый курс, по которому идут теперь все гостресты и прочие производственные предприятия, — курс самоокупаемости и курс подчинения деятельности каждого не только директивам, но и лицам, устанавливаемым и назначаемым сверху. Благодаря тому, что с театрами нельзя все же так обращаться, как с фабрикой или даже школой, благодаря тому, что во главе Наркомпроса стоит Луначарский, человек и понимающий значение театра, и любящий его, и действительно много сделавший для его сохранения, наконец, благодаря действительно невозможному поведению т. Скороходова, — мне удалось довольно скоро, в две-три недели, добиться, во-первых — его немедленного устранения, во-вторых — подтверждения «Основного Положения» до конца истекшего сезона, а значит, и полномочий Дирекции149. Но одновременно с этим была образована Комиссия при Малом театре для пересмотра начал, на которых могла бы идти его дальнейшая работа, начиная с будущего сезона, на принципе единоличного управления и уже не выборного, а назначенного, как во всех театрах, да и везде. К концу марта эта Комиссия выработала общий порядок для всех Государственных Академических театров, по 181 которому каждый театр управляется единоличным Директором. Затем образована еще Комиссия о пересмотре уже не внутреннего устройства каждого театра, а всего органа Наркомпроса, ведающего всеми Государственными Академическими театрами150. Эта Комиссия, запутавшись в самых разнообразных течениях и — попросту говоря — интригах, отложила решение этой задачи до возвращения Луначарского из Сибири, откуда его ждут к 10 июня. Еще перед его отъездом, около 15 мая, закончился сезон Малого театра. Начиная с моего приезда в феврале Луначарский настаивал на том, чтобы я взял на себя эту должность Директора Малого театра. Тогда я наотрез отказался ее принять до окончания сезона. При повторном, уже категорическом предложении перед концом сезона, около 10 – 12 мая, я отклонил его так же решительно, мотивируя свой отказ не только большим утомлением и нездоровьем, но главным образом тем, что, возлагая на директора театра всю ответственность за дело и предоставляя ему в теории решающую власть, на деле ему не дают никаких средств осуществить ни ту ни другую: ни денег, ни достаточного для задач театра имущества, ни свободы от профессионального союза, имеющего право вмешательства во всю [нрзб.] и нормировку труда, ни, наконец, точно определенного бюджета. Да еще, кроме того, первым делом нового директора было бы сокращение всего состава театра более чем на 30 %, причем не только увольняемые, но и те, кто остаются на будущий сезон, получают жалованье до 15 июня, а затем оно прекращается до 15 августа на 2 месяца для всей труппы и для 150 – 200 человек, не оставляемых на летнее время, на которое остается около 100 всего для текущей службы и для охраны имущества. Дебютировать в роли такого Директора значит губить и себя и дело. Понятно, что я не мог взять этого на себя. Тогда Луначарский образовал опять Комиссию, которая с 16 мая заседает ежедневно и в которой я опять-таки не мог взять на себя председательство, но вынужден был принять персональное назначение непременным членом. Задачи этой Комиссии — уяснить все материально-финансовые стороны дела Малого театра, составить твердые штаты, сократить состав, выработать сметы… изыскать средства для ведения дела. И вот третью неделю ежедневно по 5 – 6 часов кроме работы подкомиссий идут заседания. Пришлось все бросить, кроме этой работы. И чем дальше она идет, тем яснее я вижу, что браться за дело при этих условиях немыслимо. Теперь работа близится к концу, и по ее окончании, с возвращением Луначарского, я отвечу, вероятно, полным отказом от должности. Кроме всего того, что я Вам написал, есть еще два мотива, по которым мне претит всякое управление: первый — это то, что два моих любимых дела, актера и драматурга, страдают от пятнадцатилетнего почти в разных должностях заведования делом Малого театра, что оно мне просто опротивело, берет все силы, нервы, время — и не дает никакого удовлетворения, потому что, как Вы пишете, Ромео и Джульетта задавлены всем чуждым искусству элементом театральной жизни. И сам-то театр последней четверти века не дает мне духовного удовлетворения: я не верю в него. И, кажется, я прав. Посмотрите, Владимир Аркадьевич, много ли уцелело от шумих, гремевших на весь мир в качестве «великих достижений», «новых путей», «озарений» и т. д.? А актер — пропал. Автор — пропал. Смысл театра — свелся к служебной роли рупора, в который трубят во всю глотку то, что нужно или выгодно кому бы то ни было, кто взял этот рупор. Со времени появления Качалова я не знаю ни одного действительно 182 крупного сценического явления, считая даже таких, как очень для меня сомнительный Чехов151. Художественный театр свелся к очень изящно культивируемой оперетте, а за границу везет показывать свои пьесы и постановки времен до японской войны. Думаю, что если бы Вы увидели «Землю дыбом» или «Рогоносец» Мейерхольда152, Вы убедились бы, к чему пришел благодаря внутренней раздвоенности и многим другим сторонам своей художественной природы этот — несомненно талантливый человек. Театр так называемый старый бессилен выдвинуть новые индивидуальности актера, так как драматургия замерла, если не умерла, отрешилась от жизни и реальной и фантастической, от мечты и от быта, — и тем несомненно богатым молодым силам, которые могли бы стать актерами, не на чем вырасти во весь свой рост. А те, кто через каждое слово твердят о «традициях» и о своей «любви к театру», прежде всего забывают о том, что единственная прочная традиция того же старого Малого театра требовала «творчества, оригинальности и вечного движения вперед», а не повторения задов Щепкиных и Шумских, что крупные актеры всегда самостоятельны и никогда не подражательны.
Второй мотив — нет честных и убежденных помощников. Честных не в смысле воровства: такие есть, в Малом театре не воруют. Но между подлинной честностью и честностью компромиссной — глубокая пропасть. Как в администрации я не вижу помощников, так в важном деле режиссуры не вижу режиссеров. Я наметил шесть превосходных пьес (три классического и три нового, но ценного репертуара, переводные две из них и одна — переделка). Нет денег как следует их обставить и режиссеров — как следует поставить.
Что я при этих условиях могу сделать?
Еще одно, чтобы кончить с этими мотивами. Ведь я живу своим заработком. Конечно, этот заработок слагается из ничтожного для Москвы жалованья (в истекшем году я получал как Председатель Дирекции на золото153, по октябрьскому курсу 50 миллионов за золотой, около 150 рублей в месяц, а теперь, при цене золотого в 1 миллиард — 20 рублей) и из приработка, примерно в 6 – 7 раз превышающего жалованье: мне за отдельное выступление платят вдвое против месячного заработка в Малом театре. Семью мою Вы знаете, и она еще увеличилась. Если я возьму директорство, никакие приработки для меня уже невозможны: все время уйдет на управление. Правда, мне предлагают госмаксимум, но не могу же я как директор получать 15 – 20 миллиардов в месяц (по Большому театру Кубацкий, Лосский154 и другие получают 35, 40 миллиардов), когда главному артисту я могу платить едва 4 1/2. Чем же мне жить?
Осложняет дело то, что вся труппа, от Ермоловой до выходного, подали мне трогательное заявление с требованием, чтобы я взял дело155. Весь вспомогательный состав в иной форме обратился с тем же. Но одно дело — просить, совсем другое — помогать делу. Актеры — милые, но жестокие дети. Все это Вы знаете лучше меня. Как разрешится этот вопрос — я боюсь и думать. Здравый смысл говорит мне то, что я Вам пишу. Как повернется дело в связи с требованиями сохранения Малого театра хотя бы как-нибудь, боюсь теперь и думать.
Вот просидел за письмом к Вам всю ночь, высокоуважаемый, поистине глубоко любимый Владимир Аркадьевич. Ответил ли я Вам на Ваше дорогое письмо с целым рядом глубоко затронутых вопросов? Конечно, нет. Заговорил Вас своими 183 болячками и сомнениями. С каким бы наслаждением послушал Ваши воспоминания! По-моему, это драгоценная работа для разумного будущего. Только рано еще Вам уходить в прошлое, когда настоящее русского театра требует таких людей, как Вы, на деловых постах и, конечно, не второстепенных. Об этом до следующего раза или, может быть, до личного свидания. Гликерия Николаевна, у которой я был на Пасхе, без перемен: так же жива, умна и не ослабла. А вот М. Н. Ермолова, кажется, совсем сошла со сцены: она не играла ни разу и боится сцены. Примите мой самый сердечный и горячий привет и высокое уважение.
Преданный Вам
А. Южин-Сумбатов
35156
7 июня 1923 г.
Глубокоуважаемый Александр Иванович,
Сегодня получил Ваше милое и интересное во всех отношениях письмо. Если, с одной стороны, это не есть прямой ответ на «много глубоких вопросов, мною затронутых» в моем к Вам письме, как Вы сами пишете, то, с другой стороны, Ваше письмо есть ответ на мой главный вопрос: что был, есть и должен быть Театр. Его жизнь с известным открывающимся горизонтом вперед — немного выше жизни. Если слишком высок, не поймут, слишком назад — перестанут интересоваться, скучно. Все, что Вы мне пишете про Малый театр и все перипетии страстей, глупости и слепоты, разве это история Малого театра — это просто настоящая история России <…> Вы пишете про Малый театр, а я вижу современную Россию, вижу так, как ее видел 20 лет, когда с театром имел дело и все думал: «Что есть театр?» И об этом теперь пишу — лишь по фактам, «не мудрствуя лукаво». И выходит: Театр — жизнь, жизнь — Театр. И без жизни нет театра, и без театра давно уже не было [бы] жизни. Более 2000 лет он ее сторожит, из нее черпает, а она в свою очередь из него берет, ибо в нем есть запас несколько больший — он забегает вперед, он предчувствует.
Мы с Вами, как Вы знаете, во многом не сходились. Я Вам — Комиссаржевского157, а Вы мне — Платона. Я Вам — Мейерхольда или Броневского158, а Вы мне всё — милейшего Платона. Я Вам — Рощину159, а Вы мне — Саничку160. Я Вам — Жихареву, а Вы — опять милейшую Саничку и т. д. Но когда ножом стали резать по сердцу театра, мы будем кричать одинаково от боли, ибо режут не «un théâtre», a «le théâtre»161, а в этом мы уже совсем сойдемся; частные наши домашние распри прекратим, ибо у нас один общий враг, который уже бьет не по веткам, не по листьям, меняющимся каждую весну, а бьет по стволу и корням, и нам больно, да и мы видим опасность. Все эти Станиславские, Мейерхольды, мейнингенцы, Немировичи — это листья, ветки, они способны менять контуры дерева: густоту, цвет, они прут в сторону, более или менее далеко, ибо стволы и корни прочны; соков заготовлено тысячелетиями много — отчего не принарядиться к весне и не поразить, на один сезон, новыми причудами, новой необыкновенной тенью от вечно восходящего, освещающего и согревающего солнца… Вы пишете о себе. Борис Годунов, кажется, несколько раз отказывался 184 от короны; Лжедмитрий, кажется, сразу согласился <…> Конечно, в каждом деле трудность состоит не столько в уничтожении своих врагов, сколько в соглашении своих друзей — «этих милых, но жестоких детей», как Вы в письме Вашем называете актеров. К тому же Вы в письме прибавляете, что я их знаю лучше еще Вас. Нет, теперь и Вы их по драматическому театру знаете не хуже меня, а знали, действительно, хуже, пока не стояли во главе театра. Сначала Вы их знали так, как Вам это знать хотелось и было приятно, ибо Вы сами актер, а теперь Вы их знаете такими, какими они действительно есть, со всеми имеющимися и кажущимися достоинствами и недостатками <…> Вы в эту душистую банку с театральными духами давно попали, пробка закрыта, и Вам все равно не выскочить. Так уж, может быть, лучше быть руководителем, чем руководимым. Ну, это Вам виднее <…>
Очень умно и на редкость метко Вы в письме своем о моей работе над воспоминаниями написали: «по-моему, это драгоценная работа для разумного будущего». Это очень верно, а главное, для меня лестно, и я в самом деле постараюсь себя утешать, если работа моя не будет оценена, что я написал для «разумного будущего», и если настоящее ее не оценит, следовательно, не я, не моя работа неразумны, а оно, настоящее, неразумно. Видите, как ловко я Ваши слова приложил к себе. Тоже ведь не глупо!!!
Еще раз большое Вам спасибо за письмо, а о бессонной ночи не жалейте, еще будет нам время спать, когда в ящик нас положат — отдохнем вдоволь и навсегда.
Сердечный и искренний поклон всем Вашим, меня помнящим. Всего хорошего.
Искренне Вас любящий и преданный
В. Теляковский
Хотел бы получить лишь два слова ответа — «получил — прочел — согласен или нет».
36
20 июля 1923 г.
Москва
Высокоуважаемый Владимир Аркадьевич,
Недели три с половиной назад получил Ваше дорогое письмо — около 25 июня в ответ на мое огромное письмо к Вам. Ваше было помечено на самом письме — 7 июня, а на конверте стоял Пбг. штемпель 22 июня. Что это значит, и задержалось ли Ваше письмо у Вас или еще где-нибудь — не знаю. <…> Пришлось через силу и в очень тяжелых условиях взять на себя то, что до сих пор делилось между пятичленной дирекционной Коллегией. С первого июля я вступил в обязанности единоличного Директора Малого театра. Правда, благодаря тому, что последние пять лет я был Председателем Дирекционной Коллегии, я был в курсе всей механики. Но большая часть тех отдельных дел, которые находились в руках отдельных же директоров (художественной, постановочной, административно-финансовой и хозяйственной частей), требовали большого пересмотра, и теперь я целыми днями и ночами работаю над множеством прорех и упущений. 185 К счастью, пока я не натолкнулся ни на один случай — скажем мягко — корыстных упущений или расстрат денег и имущества. Вступление мое произошло только после работ, длившихся целый месяц, так называемой Реорганизационной Комиссии, образованной по моему настоянию для подробного учета всего имущественного и делопроизводственного отделов. Эта комиссия заседала ежедневно 31 день и пришла к грустному выводу, что, хотя дело и велось эти пять-шесть последних лет если не вполне умело кое в чем, то, во всяком случае, — честно (и очень скромно в сравнении с другими театрами Москвы), то все же нет возможности и при этой скромности удержать на должной высоте дело Малого театра при условии, что вместо приблизительно 650 000 трат на него (золотом) в дореволюционное время, теперь надо уложить его расходный бюджет в 13 советских триллионов в год, то есть (считая настоящий золотой 10-рублевик в круглых цифрах в полтора миллиарда) в 87 000 настоящих золотых рублей (по счету же на официальный червонный курс эти 13 триллионов из расчета 1 миллиард за 1 червонец дают все же только 130 000 настоящих рублей в год). На это надо сделать все: оплатить личный состав, сокращенный с 548 человек до 418, то есть на 20 % против прошлого сезона; оплатить все постановочные и все хозяйственные расходы, а также текущий ремонт. Отпускается же на все это в 7 1/2 раза меньше, чем в дореволюционное время (13 %). А требования выросли, а не уменьшились… И особенно к роскоши постановки. Высший оклад артиста при этих условиях не превышает со всякими «нагрузками» и пр., 63 новых руб. в месяц, приблизительно 9 1/2 миллиардов <…> Понятно, что на это жалованье если и идут в театр, то или его фанатики, или те, кто театру мало нужен. И так-то актеров настоящих надо искать с фонарем, а при этих условиях они уезжают за границу, идут в оперетту, в кинематограф, гастролируют, наконец, «прирабатывают», что волей-неволей приходится разрешать, ибо таких, которые получают 63 руб. в месяц, — три, четыре, а затем идут все к низу и доходят до 9 и 8 руб. О ценах на отопление и освещение театра, на сукно, холст и говорить скучно. Вы их знаете.
Я бы не писал Вам всех этих скучных вещей, если бы без них можно было вести театр. Но так как театр есть такой же отросток живой жизни, как и всякое дело, то все [нрзб.] отражается на его художественности так же, как болезнь тела на душевной деятельности организма. И уверяю Вас, что никакой Борис не хлопотал бы о таком царстве, каким является мой престол, утыканный гвоздями. Вы как-то сказали мне, когда я Вам представлял план труппы: «А. И., раз навсегда — пусть содержание труппы и режиссуры не превышает годовых сборов. Окупайте хоть самих себя». Теперь я должен сборами окупать уже не 100, а 418 человек, да еще добавлять из сборов же на материальные расходы. Прежде государственная поддержка равнялась 60 % расходу, теперь она покрывает едва 20 %. Продолжать Ваше сравнение с Борисом и Самозванцем трудно: положение теперешнего театра не напоминает и отдаленно того прекрасного королевства, каким он был раньше. И право, не стоит для него быть Борисом, если бы даже я и был способен на его тактику.
Я прямо говорил и труппе и Луначарскому, что я вовсе не потому колеблюсь и отказываюсь, что хочу ломаться, а потому, что при этих условиях я ничего не поделаю. Одни, актеры, письменно обещали мне всякое содействие; другие, 186 правительство, обещали письменно же всякие денежные подкрепления. Вот с этими векселями я и принял должность. Буду ждать по ним уплаты. Не получу — я ничем не связан, кроме того, что ведь Малый театр взял буквально всю мою жизнь с 25 до 66 лет, и без остатка. Но я не останусь в нем, как Вы пишете, «не управляющим, а управляемым». Действительно, в общем Вы правы: везде, кроме театра, лучше быть первым, чем вторым. Но, уверяю Вас, в театре у крупного актера больше власти, чем у Директора, даже в то время, когда у последнего не было под боком десяти заостренных осиновых кольев вроде РКК, месткомов, корпораций, охран труда, ячеек, общих собраний, союзного вмешательства etc. А теперь и говорить нечего162. Все-таки я должен попробовать удержать театр, насколько хватит моих сил.
Теперь я работаю по множеству направлений — по репертуару, обновлению труппы, по обеспечению театра средствами, по его приспособлению, в смысле починки ветхого здания, к возможно лучшим условиям работы в нем, по приисканию новых сил. К этому я только что приступил и пока ничего не могу Вам сказать, чего добьюсь. Был бы бесконечно счастлив, если б удалось представить на Ваш суд осенью каких-либо удачных достижений.
Письмо опять растянулось и, боюсь, утомило Вас, хотя я в нем не сказал сотой доли того, чем хотелось бы поделиться с Вами как с моим учителем в деле администрации. Кроме того, оно мало говорит Вам о художественной моей программе. О ней до ближайшего письма. <…>
На днях мы схоронили Надежду Алексеевну Никулину163. Гликерия Николаевна все в том же положении и голова светла и умна. М. Н. Ермолова уже не может играть, но поправляется. Е. К. Лешковская выздоровела — ей вырезали почку, и она играет по-прежнему ярко и талантливо — увы, старух.
Все мои шлют Вам самый сердечный привет, а я, искренне любимый и высоко уважаемый В. А., остаюсь неизменно Вашим
А. Южин-Сумбатов
37164
29 августа 1923 г.
Дорогой Александр Иванович,
Вы уже раз оказали мне громадную услугу, спасая мой дневник и приняв к сердцу судьбу его.
Теперь я вновь обращаюсь к Вам с просьбой, имеющей нечто общее с тем же и касающейся лично моей жизни и возможности продолжать спокойно работу. Уже 5 месяцев, как я нигде не служу, а Вы знаете сами, что значит теперь не иметь никакого притока средств. Я, однако, выхлопотал себе пенсию, но она настоль велика, что ее может хватить дня на два в месяц: я получаю около 400 миллионов!!! В здешнем Губсобесе ко мне очень хорошо относятся <…> Сознавая, что пенсия эта микроскопическая, они советуют мне просить пенсию персональную, которую могут мне дать на основании моей 47-летней службы, из которых 20 — в театре и 5 — на советской службе. Обещают сами об этом хлопотать в Московском собесе. А такая пенсия может быть 3 и даже больше миллиардов 187 в месяц. Но советуют, чтобы я достал ходатайства известных в Москве людей, и, конечно, хорошо, если партийных, хотя бы одного. Особенно, говорят, хорошо бы было и от Мейерхольда.
Он, как Вы знаете, всегда ко мне хорошо относился, и, конечно, такое ходатайство, свидетельствующее о том, что я все же некоторую пользу Театру принес, будет иметь большое значение. Вы понимаете, что мне самому писать ему не хочется. И вот я Вас очень прошу переговорить с ним по этому поводу по телефону (адрес его — Новинский бульвар, 32, кв. 1/5. Т. — 93-23).
Кроме того, желательно бы иметь поддержку Луначарского, если это возможно и Вы его видите, а также лично Вашу как моего сослуживца. <…> Так что желательно три ходатайства: Луначарского, Мейерхольда и Ваше. В крайнем случае, Ваше и Мейерхольда, ибо, может быть, Луначарский скажет, что меня и мою деятельность мало знает.
Если это Вас не затруднит, помогите устроить, и я тогда могу выдержать и не продавать за гроши мой громадный труд, — на который есть любителей немало, но, конечно, меня припирают, зная, что я нуждаюсь, — и я могу спокойно работать, продавая вещи свои.
Работа моя подвигается. Я уже сдал на днях часть в издательство «Время». Это будет сначала краткий обзор листов в 15 – 18 отдельной книжкой с заглавием «В. А. Теляковский. Театральные воспоминания. 1898 – 1917 г.». С дневником это общего мало имеет по размерам и деталям, ибо на 300 печатных страницах мало о 20 годах можно сказать. Но на выдержку взято несколько эпизодов подробно, чтобы дать публике понять, каким материалом я обладаю. Когда я буду видеть, как книга эта пойдет, я решу и вопрос о подробном издании. Статья моя «Балетоманы» издательством задержана умышленно, чтобы выпустить ее почти одновременно недели за 2 до «Воспоминаний» — решено выпустить в начале октября, в сезоне. Книжки эти я пришлю и Вам, и одну, я думаю, надо дать Луначарскому — через Вас же.
Когда Вы будете говорить по телефону с Мейерхольдом, пожалуйста, спросите, говорил ли он, как мне весной обещал, с Союзом работников искусств по поводу моего исключения из Союза как бывшего крупного администратора. Он тогда очень возмущался и хотел переговорить с центром и мне дать знать, но прошло 4 месяца, и я от него не получал никаких известий, а до этого и сам ничего не мог предпринимать. А в данном случае, будь я членом Союза, Союз бы и в пенсии за меня бы хлопотал. А теперь я «бессоюзный», «извергнутый» из среды, в которой 20 лет работал и, кажется, пользовался неплохой репутацией, не занимаясь никогда политикой <…>
В. Теляковский
P. S. По дневнику разработано уже 3000 страниц — готовы. Какого громадного интереса 1904 – 1905 год! Много подробностей о Горьком есть, мало кому известных.
Буду ждать с нетерпением от Вас известия. Извиняюсь за причиняемое беспокойство. Ну, я вообще в жизни редко просил, а потому, не краснея, обращался к Вам и знал, что Вы меня-то знаете хорошо. Я люблю работать по ночам, а теперь электричество так дорого — беда, а трамвай 8 миллионов!!!
188 38
Из письма
Южина
2 сентября 1923 г.
Москва
<…> Как только 3-го дня (1 сентября) я получил Ваше письмо, я справился о Мейерхольде. Его нет в Москве. По слухам, он за границей165, и мне не удалось узнать, когда он вернется. В тот же день я телефонировал А. В. Луначарскому, прося его меня принять сегодня, в понедельник. Сейчас я вернулся от него и спешу Вам сообщить, что он обещал дать самую усиленную поддержку, но ему надо иметь предлог для этого вмешательства в другое ведомство. Этот предлог он видит в Вашем обращении к нему, письменном, в ответе на который он напишет в Петроградский соцобес «немедленно и убедительно», как он выразился. <…>
39
18/IX/23
Высокоуважаемый Владимир Аркадьевич,
Вчера, 17 сентября, я получил от А. В. Луначарского Ваше заявление в Соцобес166 с надписью: «Настоящее ходатайство вполне поддерживаю. Нарком по Просвещению А. Луначарский». Присоединяю к нему краткое свое ходатайство и завтра, 19-го, все представлю под расписку в Соцобес. Расписку пришлю Вам немедленно вслед за этим письмом, оставив у себя копию <…> ибо, по здешней манере затеривать дела, придется часто наводить справки <…>
А. Сумбатов-Южин
40
29 сентября 1923 г.
Многоуважаемый, дорогой Александр Иванович,
Письмо это передаст Вам моя дочь Ирина Красовская, будущий профессор ботаники167. Хотя на вид она похожа на девочку, но уже год делающая ученые доклады и ведущая переписку Института с Англиею и Америкой по ученой части. Ирина в Москве на несколько дней, командирована на выставку.
Не знаю, как Вас благодарить за Ваше милое отношение. Письмо Ваше от 18-го получил и с нетерпением жду, чем кончатся Ваши хлопоты, которыми мне было так совестно Вас затруднять. Но положение мое может вскоре быть трагичным, ибо теперь без всякого заработка жить немыслимо.
Благодаря тому, что я не состою в Союзе работников искусств, я не могу поступить по моей специальности на какое-нибудь место в театр или кинематограф — даже сторожем.
Сын мой, художник, после больших сокращений здесь в Академических театрах сокращен и оставлен на разовых, а так как денег нет, то и работы почти не дают.
Одной продажей вещей долго не прожить, так что положение становится невыносимым, и хотя я бодр духом, но все же мне 64 года <…>
В. Теляковский
189 41
7/10/23
Москва
Высокоуважаемый Владимир Аркадьевич,
Надеюсь, что сегодня, в пятницу, Ирина Владимировна зайдет за этим письмом.
Я Вам на нее немного пожалуюсь: она первый раз меня не застала дома, а на все просьбы Марии Николаевны зайти и посидеть у нас или, наконец, зайти ко мне в театр повидаться со мною — Ирина Владимировна, стесняясь и конфузясь, отказалась. Хорошо, что она повидалась с Посниковым168, который усадил ее на свое место в театре в среду («Посадник»). Хотела быть и вчера, но не пришла, о чем Петр Павлович, которого я просил непременно провести ко мне на сцену Ирину Владимировну, и сообщил мне. Сейчас я жду ее дома и готовлю это письмо.
Три дня назад я ездил в Соцобес, и мне сказали, что дело еще не рассматривалось. Надо Вам сказать, что там у меня нет никаких связей, поэтому вчера я просил по телефону А. В. Луначарского еще раз лично запросить Соцобес о результатах ходатайства. Он с большой охотой согласился это сделать, но сегодня я его нигде по телефону поймать не мог: он в каких-то партийных заседаниях, сегодня неуловим. Завтра попытаюсь поймать его по телефону, а во всяком случае, заеду еще в Соцобес сам. Вообще, этого дела я не оставлю, будьте совершенно спокойны. Будет сделано все, что в моих силах и средствах. Мейерхольд, говорят, вернулся, но его телефон 93-23 выключен. В театре своем (Театр Революции) он не бывает. Его лично я увижу вместе с Луначарским на концерте в Большом театре в понедельник169. Как только я что-нибудь узнаю, я буду Вам немедленно телеграфировать.
Ирина Владимировна пришла, и я доканчиваю письмо. Я сейчас получил для меня более чем тяжелое известие — скончался Михаил Александрович Стахович. Я в себя прийти не могу, как я ни одеревенел за эти годы. Простите мне поэтому несвязность и почерк этого письма.
Неизменно и горячо Вам преданный
А. Сумбатов-Южин
42
9 ноября 1923 г.
Дорогой Александр Иванович,
Сейчас только получил Вашу телеграмму170. Несказанно Вам благодарен и тронут Вашим вниманием и заботами обо мне. Не говоря уже о том, что в настоящую минуту мне это очень и очень важно в материальном отношении, но мне, кроме того, особенно приятно, что сделано это через Вас, и у меня нет того неприятного привкуса, что я к кому-то обращался к такому, к которому бы не обратился, если бы не нужда. Вы как человек чуткий и умный должны это понять. Я никогда ничего не просил, хотя вообще не считаю дурным или неблаговидным просить, но это уже в характере моем.
190 Когда со временем выйдет моя автобиография, которая уже почти написана мною, Вы больше ознакомитесь со мной и моим прошлым. Такой был и мой отец, в самом расцвете своей карьеры бросивший службу только оттого, что его ученик, знаменитый в то время граф Тотлебен не так с ним обошелся, как он того, по его мнению, заслуживал, и ни уговоры Александра II, ни графа Милютина, тогда военного министра, его не убедили171.
Жизнь моя была во всех отношениях счастлива, и я был счастьем избалован. Но зато и злобы у меня ни к кому не было и нет, ибо я даже вполне понимал, что такие-то и такие люди не могли ко мне относиться иначе, как враги, ибо мои воззрения и убеждения для них были все равно что черту крест, иначе и быть они не могли. Недаром есть французская пословица — «все понять, все простить» <…>
На днях ожидаю выхода моей юмористической статьи «Балетоманы»172. Вам ее пришлю. Другая, которая выйдет отдельной книгой, — «Краткие воспоминания. 1898 – 1917 г.»173, — выйдет в декабре. О большом труде еще ничего не решил. Посмотрю, что эти два сочинения скажут. Первое — 1 1/2 печатных листа, второе — 15 листов. А как жаль, что я не могу с Вами посоветоваться. Я писака неопытный, не знаю, так ли издаю. Но это все мелочи, главное — большой труд. Пока написано 3 1/2 тысячи страниц и охватывает с 1898 г. по 1905-й — меньше половины, а пишу целыми днями, как Пимен, и масса приложений. Интересны, конечно, самые мелочи и детали. Они-то и составляют «жизнь в Театре» и «Театр в жизни». Об этом я говорю и в предисловии к моему изданию, которое выйдет в декабре. Плохо все это написано или нет, но такой истории Театров никто еще не писал, да и писать не мог, ибо для этого надо было раньше 20 лет ежедневно всю шебаршу артистов, публики, печати записывать, иначе вспомнить мелочи невозможно. Ну, теперь об этом довольно.
Как Вы, думаете ли быть в этом сезоне в Петрограде или нет?.. Хотелось с Вами о труде моем поговорить. Во всяком случае, когда это будет напечатано, прочтете, впечатление свое скажете откровенно. Мне важно это знать для моей большой работы, которую издавать надо очень и очень подумавши. Много еще есть в живых. Писать неправду нет смысла, пропускать — нарушить общую связь, и получатся последствия без причин, а это не моя задача. Посылаю Вам письмо, а не телеграмму, ибо в телеграмме, Вы сами знаете, что пишут, и вообразите, что ее получили.
Спешного ответа от Вас не жду, знаю, что Вы заняты. А что, скажите, тяжела шапка Мономаха? Прикиньте-ка, я ее 20 лет нес по 7-ми труппам, и в каждой по 1 или 2 Савиной, 1 Давыдов, Шаляпин, Кшесинская174 и т. д. У Вас все хоть по 1-му экземпляру «не тронь меня», у меня был целый букет с разными запахами — а теперь все они на страницах бумаги и меня не беспокоят. <…>
В. Теляковский
43
25/XII/23
Высокоуважаемый Владимир Аркадьевич,
Примите мою искреннюю благодарность и за присланный Вами оттиск «Балетоманов», и за Вашу добрую и милую надпись на брошюре175. Конечно, как только 191 я отделался от дневной театральной трепки и возни, разделся и залег в постель, я начал читать отрывок Ваших воспоминаний — и не оторвался от него до конца, так колоритно и живо встала передо мною целая картина. <…> Естественно, что, прочтя Ваших «Балетоманов», я еще больше разгорелся нетерпеливым желанием прочесть Ваши воспоминания о более близком и знакомом мне мире драмы. Думаю, что в нем немало, если и не точно таких, то очень близких по описываемым Вами закоулков — может быть, не таких импозантных, но не менее влиявших на многие бедствия наших театров и на многие стороны его управления. И когда я об этом думал во время чтения Вашего очерка, улыбка, вызванная Вашим юмором или живостью изображения, часто сменялась морщиной между бровями. Тем более это понятно, что Вы хоть имеете право смотреть на все это — пережитое, а мне еще, скрепя сердце и стиснув зубы, пока волей-неволей надо считаться с однородными явлениями в настоящем, ибо plus que ça change plus c’est la même chose15*.
Что касается чисто литературной стороны Ваших приемов, то мне кажется, что на легкость и яркость Вашего пера сильно повлиял тот огромный труд, который Вы положили на разработку Вашего дневника. Во многих отдельных местах чувствуется, что эта окраска шутки или юмора, которую Вы им придаете, вырастает из совершенно невеселых настроений автора, является смягчающей подлинный смысл того, что Вы описываете, не лишая вместе с тем Ваше описание силы и колорита. Читается брошюра и с легкостью, и с неослабевающим интересом. Жаль, что это только эпизод огромной книги. Очень удачна параллель с Саломеей176.
Сердечно поздравляю Вас с началом. Искренне верю, что Ваш большой труд внесет много такого в театральную работу, что явится большой помощью в этом сложном деле, а в литературу — серьезное обогащение. Примите мои лучшие пожелания на Новый год и сердечный привет от всех моих.
Неизменно преданный Вам
А. Южин-Сумбатов
44
Было написано 15 января 1924 г.,
но задержалось до 15 февраля177
Дорогой Александр Иванович,
Письмо это Вам доставит Евгений Михайлович Кузнецов178 — молодой человек, бывший лицеист, теперь заведующий театральным отделом «Красной газеты», тот самый, который меня понудил начать разрешаться от бремени моего писания <…>
Написал я несколько статей небольших для редактируемого им журнала «Театр»179, заменяющего «Ежегодник Академических театров» и ныне издаваемый «Красной газетой», а в скором времени выйдет и мой том «Воспоминаний».
Е. М. Кузнецов — один из тех единственных людей здесь в Петербурге, который в курсе всей плодовитости моих работ, как бывших, так и настоящих. Он 192 знаком со всем громадным количеством моего материала и хочет обнаружить в Москве мой инкогнито. А потому обратится к Вам за некоторыми советами как опытному литератору, театральному деятелю и упивающемуся теперь прелестями театральной администрации, которую Вам пришлось так искренне полюбить, что наконец Вы добились спокойного и безмятежного сна с Вашими милыми детками — артистами.
Пожалуйста, уделите Е. М. Кузнецову несколько минут беседы. Он Вам даст также несколько моих статей. Все они смешные и, когда Вы, насладившись вполне дневной и вечерней работой в театре, ляжете в кровать и закурите папиросу, возьмите в виде сонника мои статьи читать. Думаю, что не сразу заснете, а может быть, и напротив, заснете крепко с улыбкой на устах. Все это, что написано было, — все это настоящая быль, мною пережитая и потому, думаю, не лишенная интереса.
Пожалуйста, побалуйте Е. М. Кузнецова театром. Он в Москве пробудет дней десять.
Очень благодарю Вас за Ваше милое письмо по поводу «Балетоманов». Очень рад, что первое мое произведение, написанное на седьмом десятке лет, Вам понравилось <…>
Когда будете читать мой первый том «Воспоминаний», читайте внимательно предисловие (хотя по цензурным условиям его пришлось переделать). Я ругаю Малый театр и особенно вас, премьеров, но есть такая фраза: «И хотя ум мой и интерес особенно был занят Александринским театром, сердце осталось в Малом, в этом благородном седом старике»180. Кто знает, кто был из этих театров прав? еще неизвестно. Эта тема длинная, и об этом надо написать много, а в общем обзоре невозможно.
Много бы теперь я Вам мог рассказать. Рыба часто перед смертью особенно играет. Когда вся жизнь и все перечувствованное отдаляется, многое уходит вдаль и остается общий рисунок всего прошедшего. Нет уже ни слез, ни горя, ни радости, а есть созерцание сути жизни, о которой по большей части начинают думать поздно.
Искренний и сердечный привет Марии Николаевне и всем Вашим. Дружески жму Вашу руку и остаюсь искренне Вас любящим и преданным
В. Теляковский
45
20 марта 1924 г.
Дорогой, многоуважаемый Александр Иванович,
Давно не имел от Вас известий, несмотря на то, что с нетерпением их ждал, интересуясь знать Ваше откровенное мнение по поводу вышедших в печати кратких моих воспоминаний. Книгу мою я Вам давно уже послал, но оказалось, что мой знакомый, взявшийся ее Вам доставить, провез ее на Юг.
Воспользовавшись поездкой в Москву Е. М. Кузнецова, я на всякий случай дал ему второй экземпляр, будучи убежден, что Вы его за неделю его пребывания в Москве примите. Поручил я ему также кое о чем с Вами переговорить. Но оказалось, что до Вас не так-то легко добраться. Секретарь Ваш, кажется 193 Федоров181, Вас оберегает, как настоящий Цербер, и все говорил Кузнецову, что Вас видеть невозможно.
Очевидно, нынешние директора Московских театров стали менее доступны обыкновенным смертным, чем бывшие Петербургских, или, как ныне говорят, Ленинградских.
Потеряв всякую надежду Вас видеть, Кузнецов отправился в Малый театр, купил себе место и думал там к Вам проникнуть — но и это оказалось невозможным, и только перед самым отъездом Ваш секретарь ему позвонил, но у него уже был взят билет на железную дорогу и он не мог к Вам приехать и был в отчаянии.
С Немировичем ему больше повезло, в первый же день он был им принят, получил место в театре и много с ним говорил по поводу меня и моего дела.
К Немировичу я также Кузнецову дал письмо и получил от него ответ182. Немирович совсем очаровал Кузнецова своей любезностью, а Вы его знаете, он это умеет, когда хочет. Между прочим, Кузнецов говорил с Немировичем по поводу моего издания будущего. Немирович обещал переговорить с каким-то американцем, представителем издательства, находящимся теперь в Москве, а также взялся написать в Америку Станиславскому, а меня поставить в курс предлагаемых условий.
Об этом Немирович и мне написал, советуя издавать в Америке, где платят раз в 8 больше, чем здесь.
О «Балетоманах» Немирович написал мне много лестного и вообще думает, что записки мои будут иметь большой интерес. «Воспоминания» Немирович тогда еще не читал. Обещал прочесть и мне написать.
В Москве Кузнецову предложили уговорить меня печатать небольшие отрывки вроде тех, что помещены были здесь в журнале «Театр», и предлагали хорошее вознаграждение.
Но все это не так меня интересовало, как результат Вашей беседы с Кузнецовым, ибо мне хотелось знать Ваше мнение по поводу книги «Воспоминания». Я не знаю, есть ли она у Вас, ибо Кузнецов привез обратно экземпляр, который я ему на всякий случай для Вас дал.
Теперь, конечно, очень трудно писать и надо кое-что маскировать, чтобы прошло цензуру, что много и сделано было в «Воспоминаниях». Многое недосказано, а другое вставлено, чтобы сделать общее впечатление.
Послал я с Кузнецовым письмо и Гликерии Николаевне, но не получил от нее ответа еще и на посланную брошюру «Балетоманы»183, которую Вы ей послали 2 месяца назад. Я уже вообразил, что она очень плоха, ибо на нее не похоже такое долгое молчание, и я давал письмо на ее имя, прося Кузнецова спросить раньше Вашего совета, можно ли и удобно ли ему к ней ехать. И от нее я также известий не имею.
Прождав теперь по возвращении Кузнецова три недели, решил наконец Вам написать, ибо раньше, чем что-нибудь решать, мне хотелось бы знать Ваше мнение о моей книге.
Первое издание в одну неделю было разобрано книжными лавками и в этом отношении прошло успешно. В скором времени в газете «Новости» от 4 февраля появилась очень благоприятная рецензия184. От читающей публики слышу почти 194 от всех отзывы благоприятные. Некоторые правые шипят, как шипели и в прежнее время. Словом, все это нормально. Журнал «Жизнь искусства» выругал, но так неумно и предвзято, что составил мне рекламу185, и многие стали после этой руготни особенно покупать книгу. <…>
Для Америки думаю писать другое, а с главным изданием думаю не торопиться, пока не почувствую температуру современного читателя, что ему нужно, ибо, даже говоря то же самое, можно разно говорить. <…> Все это не так просто и с главным надо очень и очень обдумать, ибо целиком никогда нельзя — как по условиям цензуры, так и при жизни действующих лиц — писать.
Меня все соблазняют написать книгу отдельную о Шаляпине186, но я пока не соглашаюсь. Много сказать нельзя, письма нельзя целиком напечатать, — а тогда выйдет не правда, а возле. А таких о нем книг уже много напечатано.
Я знаю, что Вам писать неохота. Но и не пишите длинно, ибо, может быть, весной или летом увидимся, и тогда я Вам покажу то, что приготовлено — готово 8 лет. А пока напишите:
1) Ваше мнение о «Воспоминаниях» — дают ли они общую картину.
2) Стоит ли писать отдельные мелкие статьи.
3) Печатать ли в Америке. Ведь я-то остаюсь тут, значит, цензура почти та же.
4) Что делать с Г. Н. Федотовой.
5) Если случайно увидитесь с Вл. Ив. Немировичем, спросите его, получил ли он мое письмо <…>
В. Теляковский
46
Москва, 22 марта 24 г.
Высокоуважаемый Владимир Аркадьевич,
Вот уж никак не ожидал от Вас обвинения в недоступности! <…> Но вот что ужасно досадно, так это то, что обе Ваши посылки мне Ваших «Воспоминаний» до меня не дошли, а Вы должны знать, как мне дорого Ваше доброе внимание ко мне и до какой высокой степени они меня интересуют. Купить их мне не удалось — два раза пытался, и мне приносили известие, что они все разошлись. Но все же я достал их и с жадностью прочел в одну ночь. О них надо беседовать целыми часами с книгой в руке или писать шесть-семь таких листов. Ни то ни другое для меня сейчас невозможно, и я должен ограничиться только общими впечатлениями. Книга написана увлекательно, в особенности для тех, кто, как я, пережили весь этот период. У Вас положительно блестящий юмор, который проступает на каждой странице. Все, что касается Москвы, и главным образом Малого театра, меня страшно захватило. Конечно, это не полные «Воспоминания», а скорее — их конспект. Положительно протестую против моей «грузинской хитрости»187. Я, конечно, шучу: это меня нисколько не обидело, но в этой характеристике я вижу налет всего того, что Вам про меня шептали сотни моих «друзей». Их у меня и теперь не меньше. Думаю, что Вы не могли бы привести доказательств этой хитрости по отношению к чему-либо, что Вы мне поручали. Должен Вам отметить одну сторону, которой не хватает в Вашей книге. Вы почти не касаетесь критики тех художественных сторон дела, которые проявлялись 195 во всех семи труппах Вашей Дирекции. Я прекрасно понимаю — почему: это завлекло бы Вас так сильно в сторону, что потребовало бы многих томов. Вы предпочли дать общую картину жизни всех театров, их положения в современном «Воспоминаниям» строе, их общую характеристику — и это Вы выполнили с огромным мастерством. <…> Теперь последнее: вот мое общее впечатление от «Воспоминаний» при их очень спешном прочтении. У Вас положительно талантливое письмо и мастерская обрисовка того, что вы хотите обрисовать. Вы с огромным тактом относитесь к лицам, о которых Вы говорите. Вы умеете выбрать то, что характернее всего в затронутом Вами явлении. На Ваш вопрос, «стоит ли писать отдельные мелкие статьи», должен по совести сказать — «нет», если это ходячие газетные, ограниченные строками статьи: они мельчат. <…>
Неизменно Вам преданный
А. Сумбатов
47
2 марта 1924 г.188
Дорогой Александр Иванович,
Знаю, как Вы заняты и как Вам трудно писать длинные письма, а потому особенно благодарю за полученное мною на днях сообщение.
Вы напрасно утруждали себя объяснениями, почему сделались столь недоступны: я нисколько в этом не сомневался, что Е. М. Кузнецов сам виноват, что Вас не повидал. Тон моего письма был просто провокация, чтобы Вас заставить скорее мне написать. Я с нетерпением ждал именно Вашего мнения о «Воспоминаниях». <…>
Несмотря на все заманчивые предложения, я до разговора с Вами ни на что не согласился. Полученная благодаря Вам пенсия, хотя и не очень большая (полного оклада ответственного работника не дают, два месяца я получал по 50 рублей, третий — 75 рублей, а эти два — по 52 рубля 50 копеек; говорят, со следующего будет больше, у них просто нет денег, но, во всяком случае, и это очень хорошо, и этим я очень доволен, ибо этого не ожидал), дает мне возможность за деньгами не гнаться, тем более, что за «Воспоминания» я получил около 38 червонцев, и при моих скромных всегда потребностях я совершенно удовлетворен и могу выбирать, что издавать.
Написать же «Воспоминания» было гораздо труднее, чем кажется <…> Условия цензуры всегда претяжелые, а теперь в особенности. А «пуганая ворона куста боится», особенно когда думает еще его увидеть. Чтоб о таком перле жизни, как Театр, написать правду, надо, думаю, ехать на остров Коста-Рика, да и то там случайно найдется обиженный.
«Грузинская» вставлена для красного словца, «хитрость» — по убеждению, ибо без этого качества умными бывают лишь профессора математики. Удержаться же на административном посту, да еще театральном, без этого качества невозможно, в этом я убежден — и даже не просто, а по опыту. Без этого качества скушают в год, максимум в два. <…>
Одновременно с Вашим письмом я получил письмо от В. И. Немировича189, который щедро наградил меня похвалами, и одна мне доставила особое удовольствие, 196 ибо попала в самый центр моих желаний, когда я писал. Он мне писал, что, несмотря на то, что воспоминания театральные, он, читая, почувствовал эпоху больше, чем читая другие воспоминания, как, например, Витте190. Значит, вышло то, что я хотел, то есть, говоря о театре, давать жизнь, ибо это, в сущности, все равно, и когда говорят только о сцене и артистах, это не полный театр, а оскопленный.
Курьезно, что В. И. Немирович, написав уже все письмо, не удержался, чтобы не сделать приписку. Вы-то, я знаю, на «грузинскую хитрость» не обиделись, да и обидеться не могли — она насквозь написана доброжелательно, а Владимир Иванович, по-моему, обиделся, что я все время Художественный театр называю театром Станиславского, а этого, пишет он, «в сущности, никогда не было». Ну, это разговор длинный. Про хитрость Владимира Ивановича я сказать не рискнул. Но я совершенно согласен, что, может быть, без Немировича Художественного театра и не было бы. Костя Станиславский — знаете его выражение — «входил в круг», но из этого круга, пожалуй, бы не вышел без Немировича, так в кругу бы и остался. А надо еще уметь в кассе продавать билеты. Этой «хитрости» у него не было. В особенности важно это было в первые годы существования этого театра <…>
Очень трудно было писать последнюю книгу, и в ней масса недостатков, я знаю. Примерами и фактами я набит, как фаршированный поросенок. Но которые взять в краткую книгу, чтобы дать картину, да еще при жизни моей и тех, о ком пишу, как избегнуть лягания копытом, в чем, конечно, правые меня упрекают, — это вопрос трудный, в особенности если хотеть правды и не быть лицеприятным и не писать только, чтобы что-нибудь написать <…>
При писании надо быть очень осторожным с людьми живыми и особенно с их письмами, которые мне писали, конечно, не думая, что они могут попасть в печать <…>
Во всяком случае, огромное Вам спасибо за письмо, которое меня в моей работе очень ободрило. Я его с большим интересом ждал и очень рад, что именно Вам «Воспоминания» понравились <…>
Мне передавали люди, говорившие с Луначарским, что ему очень понравились «Балетоманы». Он нашел, что «широко» написано. Интересно, читал ли он «Воспоминания»?
Мои мелкие статьи я для Вас сброшюровал вместе и их высылаю, а также прилагаю две рецензии о «Воспоминаниях», рецензии, о которых Вам писал. Одна из них была в газете «Последние новости» от 4 февраля 1924 № 5 (83). Другая была помещена в журнале «Жизнь искусства» № 9, 1924191. <…>
В. Теляковский
P. S. Недавно снес книгу мою графу В. Б. Фредериксу192, которому недавно минуло 85 лет. Он не ходит, сидит в кресле. Очень постарел, но выглядит относительно неплохо. Живет со своей младшей дочерью и все мечтает ехать за границу <…>
197 48193
Из письма
Южина
21 апреля 1924 г.
<…> Сильно пошатнулось мое здоровье. Сердце очень устало и замучил незалеченный кашель. Целый день на ногах в самой разнообразной дневной трепке, а ночью приходится или читать десятки — а то и больше — почти сплошь бездарных пьес, или писать какие-нибудь срочные записки и требования.
У театра безденежье отчаянное, но я все же пока держусь без задолженности благодаря необычайной экономии, которую приходится нагонять. Но что я буду делать летом, когда театры не будут давать молока, я не знаю и об этом-то и хлопочу, хотя покамест хлопоты мои приводят меня только к обидным объяснениям. Никогда в жизни я не думал, что между рублем и делом, которое в нем нуждается, было столько инстанций, лестниц и переходов — в буквальном смысле задыхаешься, взбираясь по их бесчисленным ступеням.
Прошел уже (почти) текущий сезон, и, представьте, несмотря на многое множество очень неблагоприятных условий и извне и внутри, Малый театр удержался на первом месте по посещаемости. Теперь предстоит тяжелое лето и для ликвидации прошлого, и для подготовки будущего. Думается мне, что, справившись, если доживу, со столетним юбилеем Малого театра (27 октября 24 г.), придется совсем бросить всякое управление театром и хоть на год уехать из Москвы полечить сердце вне театра <…>
49
Из письма
Теляковского
23 апреля 1924 г.
<…> Выпуск первой моей книги — это не больше как проба. Я рискнул это сделать, а потом как-то перепугался. Мне так бы не хотелось, чтобы то, что мною выстрадано, буквально выстрадано, было бы принято, читая мою книгу, как какое-то обличение кого-то. Я ведь далек был от этого, ибо твердо убежден, что «кто раз понял, все простил». И я, когда писал, об обвинении не думал. Обвинение если и выходило, то невольно, из поступков, но если, боясь обвинения, о поступках правду не писать, не стоит и вообще писать. Мне порой даже казалось, что если бы меня самого поставили в условия рождения, жизни, воспитания, борьбы, вредных привычек, окружающих обстоятельств действующих лиц, я сам бы делал, вероятно, то же самое, ибо многое делается многими совершенно бессознательно — так пришлось. Мы все все-таки очень мало властны над собой, в особенности в молодости и в моменты усиленной работы, усиленного стремления к тому, что считали в данное время важным и для нас интересным. Только потом, уйдя от игры на сцене жизни, начинаешь ко всему относиться более объективно — когда, как говорит французская пословица, «вынуты булавки из игры».
И все мне кажется, что, может быть, некоторым лицам, о которых я пишу, я дал не совсем верную окраску, ибо все написано о них давно, иногда под 198 впечатлением свежим, и это свежее, может быть, и верное, но слишком острое. Особенно трудно писать о живых еще. И многие из них переменились, но их характеристики нельзя менять, так как тогда картина прошлого не будет верна и свежа. Контуры не подойдут и не сольются.
Очень интересное явление и знаменательное — посещаемость Малого театра. Это случайным быть не может. Я слишком хорошо с этим вопросом знаком. Все явления имеют причины. А причины эти гораздо проще, чем обыкновенно думают. Вообще побеждает в конце концов ведь здравый рассудок, именно здравый — здравый, нормальный. Он наперекор всем желаниям, стремлениям и стараниям от него уйти и схорониться за придуманные ширмы обнаруживает свое veto.
Кажется, теперь Экскузович будет касаться также Московских театров. Я его давно не видел и с ним давно не говорил. Он, впрочем, от Театра и той жизни Театра, которой я исключительно интересовался, далек. Ему эти стороны мало, кажется, говорят. Он делец. Есть ведь сорт людей, которые из всякого занятия делают особое дело — особый род, на их взгляд, важного дела, которое очень похоже на их другие дела, даже железнодорожные. Там тоже есть служащие, финансовая часть, отопление, здания, электричество, подрядчики, касса, публика, буфеты, даже костюмы своего рода, новшества, рутина, премьеры, последние усовершенствования. Словом, все близко, как Театр, но в то же время очень далеко и совсем не то.
Вы знаете, что было самое характерное и типичное во время моего пребывания в Театральном управлении? Это вечера, чаепития и ужины ежедневные после спектакля, как в Петербурге, так и в Москве. Где-то до 3 – 4 часов утра спорили о Театре, и когда я теперь все эти описания вечеров сложил вместе и перечитал все, что на них говорилось, и все, что на них бывало, получилась определенная картина жизни Театра, тех постоянных вопросов, которые он, этот Театр, мне задавал и на которые ответ я искал у всех моих подчиненных, Театром интересовавшихся, будь то Шаляпин, Коровин, Вы, или Головин, Нелидов, или В. Н. Давыдов, Мережковский, или старуха Ю. Ф. Абаза194, [Л. Н.] Андреев или Куприн, Рахманинов <…>
P. S. <…> Не забудьте впредь адрес мой писать — тот же дом, но квартира № 2. Я живу теперь у дочери, а свою сдал.
50
18 июля 1924 г.
Кисловодск. Гранд-отель, № 105
Высокоуважаемый и дорогой Владимир Аркадьевич,
Серьезная сердечная болезнь загнала меня сюда, откуда и шлю Вам мой самый сердечный и самый горячий привет и лучшие поздравления, как встарь. Часто и много Вас вспоминаю, сердечно любимый Владимир Аркадьевич.
В мае у меня так стеснило грудь, что я — дело было в Малом театре днем — думал не доехать домой. Два месяца, однако, пришлось после этого еще по делам театра пробыть в Москве, и только к концу июня я попал сюда, где за 3 недели точно рукой сняло все недомогания. Но врачи требуют возвращения в Москву не раньше 1 сентября, иначе обещают повторение всех испытанных 199 удовольствий. Это все проклятое дело управления. Не хочется и писать, в каких условиях теперь приходится его вести. Не знаю, как вырваться из этого ада. Но твердо решил это сделать195, тем более, что все усилия ни к чему не ведут.
Сейчас надвигается столетний юбилей театра, и нельзя его не довести до конца. Чтобы быть кратким, довольно сказать одно: в довоенное время сборы оплачивали только труппу. Теперь на них лежит все, начиная с очистки снега до жалованья директору. Прежде был неограниченный, теперь 8-часовой рабочий день, и каждый лишний час оплачивается двойной платой. Прежде управление было одно, теперь управляют все: директор, местком, общее собрание, РКК и пр. Можно что-либо сделать? Прежде по точному расчету к сборам давалась субсидия около 300 – 350 тысяч рублей в год, теперь — 42 тысячи, и весь технический персонал с сверхурочными получает неизмеримо больше прежнего. И т. д. Мне удалось, однако, свести благодаря высоким сборам (до 80 %) Малый театр без дефицита на 1 июня и без задолженности. Это единственный из московских театров, ибо Большой имеет 1 миллион золотых рублей долгу, Художественный — 1/2 миллиона и т. д., но это и стоило мне сердца.
Что Вы поделываете? Ведете ли Вашу большую работу? Я совершенно вне курса всего, что делается за стенами Малого театра. Только Дарский мне писал, что он с Вами виделся и что Вы много работаете.
От всей души желаю Вам сил, бодрости, душевного покоя, а главное — здоровья и здоровья. Был бы страшно рад получить от Вас здесь одно из Ваших дорогих писем.
Неизменно и глубоко Вам преданный
А. Южин
51
26 июля 1924 г.
Дорогой друг и коллега по сладостям театрального управления, Александр Иванович,
Несказанно был рад получить от Вас наконец хорошие известия. Не далее как вчера много о Вас говорил с М. Е. Дарским, который в сопровождении М. Ведринской196 и ее мужа случайно меня вечером посетили <…> Более двух часов они у меня оставались, и я им читал и устно рассказывал о «земли родной минувшей судьбе», конечно, главным образом касаясь Театра. Все их ужасно интересовало, и, когда речь шла об артистах, которых я, конечно, выставлял такими, как они на самом деле есть, без всякой злобы, но с горькой иногда правдой и с сочувствующим юмором, они, конечно, пробовали себя защищать. Дарский все повторял: «Да вы ведь прямо неумолимый палач прошлого» <…>
Я теперь как раз пишу о Малом театре сезона 1907/08, когда спасать Малый театр премьеры же задумали предложить В. Немировича, очень обрадовались сами, когда это не устроилось, и дело поправлять взялся свой же А. П. Ленский, и как ничего из этого не вышло, и как я решил тогда взять Вас197. Рассчитывая не на необыкновенные сверхрежиссерские постановки, которые, закатывая глаза и потирая виски мигрень-штифтом, обещал А. П. Ленский, ставя «Коринфское чудо» Косоротова198 и т. п. пьесы, а просто на благоразумное комбинирование 200 желаемого и воображаемого с возможным и реальным и с точной уплатой счетов как казне, так и публике. Идеальный театр — это одно, реальный и казенный — другое, а еще вполне оплаченный — третье <…>
Очень был обрадован, что Вы поправляетесь, у меня осталось мало людей, которыми я дорожу и с которыми охотно говорю <…>
Вы мне от всей души желаете всего, и здоровья прежде всего. Желаю я и Вам того же самого, ибо на этой земле здоровье необходимо, чтобы быть нормальным человеком. Без этого все другое не может быть настоящим, правильным и здоровым, ибо духом мы недостаточно сильны вообще, чтобы не зависеть от тела.
Ну, исписал я Вам немало, может быть, даже слишком много. Но я ведь пенсионер, инвалид труда, а что таковым и делать, как ни писать. Я был убежден, что если Вы здоровы, то к 15 июля напишете письмо, тем более, что не стоило нарушать 25-летнюю серию — и я от этого выигрываю, да и Вы не в проигрыше. А славное я Вам местечко 15 лет тому назад устроил — иметь дело с артистами!!! И управлением Театра!!! Малина… Должны меня за это благодеяние не забывать.
Искренне любящий и преданный Вам
В. Теляковский
P. S. Буду от Вас ждать еще известий — Вы теперь свободны!199
С. М. Эйзенштейн
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР
Публикация, вступительный текст
и примечания В. В. Иванова
Предлагаемый текст С. М. Эйзенштейна написан в 1928 г. по заказу немецкого журнала, но так и не был опубликован. Режиссер писал статью на немецком языке, которым владел свободно. В его архиве (РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Ед. хр. 965) сохранились два черновых варианта статьи, сделанных рукой режиссера красными чернилами (период 1927 – 1928 г., связанный с работой над фильмом «Октябрь», стал для Эйзенштейна «периодом красных чернил»). Там же хранится и машинописный текст на немецком языке, с правкой автора красными чернилами. Кроме того, существует неполный текст перевода статьи на русский язык, частично отпечатанный на машинке, частично сохранившийся в автографе. Правка в машинописном тексте, как и рукописная часть перевода, сделана красными чернилами одной рукой, и это не рука Эйзенштейна. Есть основания полагать, что переводил текст соратник режиссера по левому искусству С. М. Третьяков и делал это буквально в кабинете Эйзенштейна. Отсюда — красные чернила.
На вопрос, для каких целей делался перевод, однозначного ответа не существует. Может быть, Эйзенштейн думал о русской публикации, скажем, для «Нового ЛЕФа». Но вполне вероятно, что публикация «Интернационального театра» входила в стратегию 201 предполагаемого зарубежного турне с фильмом «Октябрь», наподобие того, что имело место с «Бронепоездом “Потемкин”» в 1926 г. Решение о подобных акциях принималось на самом высоком партийно-правительственном уровне. И не исключено, что перевод статьи делался для представления в соответствующую контролирующую инстанцию.
Политическая левизна «Интернационального театра» оказалась неудобоваримой для советской идеологии. Текст не был напечатан в 20-е гг. Не вошел он и в шеститомное собрание сочинений Эйзенштейна, хотя вопрос о нем и рассматривался. Сохранился черновой перевод, сделанный И. М. Шрайбером уже в конце 60-х гг. (РГАЛИ. Ф. 1923. Оп. 1. Ед. хр. 778). В сокращенном виде статья была опубликована мною в «Независимой газете» (М., 1999. № 79. 30 апреля. С. 15). Специально для настоящей публикации перевод сделан Г. В. Макаровой.
Полемическим поводом для Эйзенштейна стали дискуссии в немецких газетах второй половины 20-х гг. о необходимости интернациональных театральных акций (фестивалей, олимпиад), которые могли бы закрепить выход Германии из международной изоляции, сложившейся как следствие поражения страны в первой мировой войне и Версальского договора.
Эйзенштейн использует шекспировскую парадигму «весь мир — театр», чтобы выставить свой «список злодеяний» буржуазного мира. Примеры взяты им почти наугад из тогдашнего информационного потока. Дело не столько в самих фактах (при желании он мог бы подобрать еще более убийственные), сколько в организующей точке зрения на реальность 20-х гг. как жестокий политический гиньоль.
Но Шекспир не единственный источник политической риторики Эйзенштейна. В петроградской театральной среде начала 20-х гг. влиятельной фигурой был Н. Н. Евреинов. Честолюбивая молодежь училась у него прежде всего технологии известности. В тексте середины 1940-х гг., названном публикаторами условно «Почему я стал режиссером», Эйзенштейн вспоминал: «Меня еще совсем на заре моей деятельности “задели” четыре громадных альбома, переплетенных в серый холст, на полках библиотеки Н. Н. Евреинова в Петрограде, четыре альбома вырезок и отзывов, касающихся его постановок и работ. Я не мог успокоиться, пока объем вырезок, касающихся меня, не превзошел тех четырех серых альбомов»200. Эйзенштейн был требовательным читателем многочисленных трактатов и манифестов Евреинова, посвященных «театральному инстинкту». В памяти его осталась даже малоизвестная лекция Евреинова «Театр и эшафот», симпатии не вызвавшая. В статье «Интернациональный театр» идеи, для Евреинова сущностные, использованы скорее как образ, как ораторский прием, хотя конечные выводы Эйзенштейна («Я выбираю — жизнь, цена — искусство») парадоксально сближаются с евреиновским предпочтением жизни как театра перед театром как искусством. Впрочем, и сам Евреинов был не чужд вторжениям в современную политическую реальность и после публичных политических процессов 30-х гг. записал Сталина в последователи своей теории театрализации жизни.
Леворадикальная точка зрения Эйзенштейна, воспроизводящая в 1928 г. мейерхольдовский радикализм образца 1920 г., представляет интерес и с другой точки зрения. Тема политической левизны художников 20-х гг. в последние годы стала добычей фельетонистов. В ней видят, как правило, свидетельство либо восторженного скудоумия, либо цинического приспособленчества. В этом отношении публикуемый текст является тем более значимым свидетельством, что еще в августе 1919 г. Эйзенштейн записал в своей театральной тетради: «Я принципиальный противник социализма…»201 Текст «Интернационального театра» позволяет дать хотя бы частичный ответ на вопрос о причинах столь коренного пересмотра точки зрения.
202 Анри Барбюс в книге «Правдивые повести», на которую дважды ссылается Эйзенштейн, так сформулировал моральный пафос левой интеллигенции: «Пусть эти наблюдения, выловленные наудачу из различных областей ужасной современной цивилизации, приучат хотя бы нескольких читателей к неправдоподобности правды и откроют перед глазами общественного мнения, убаюканного всякими ханжескими легендами, новую перспективу на истинный облик нашего XX века, который можно назвать и золотым веком, и веком стали, и веком джаз-банда, но правильнее всего было называть веком крови»202. Среди «ханжеских легенд» одной из самых устойчивых оказался миф о существовании «цивилизованного сообщества», быть свидетелями гибели которого нам выпала сомнительная честь.
Вторая мировая война стала неизбежна в тот момент, когда пересмотру подверглись результаты первой мировой войны. На протяжении 20-х гг. оставалось только неясным, кто и против кого будет воевать. Стремительно возникали и рассыпались контуры военных союзов. Франция вступала в дружественные отношения то с Муссолини, то с Германией. США и Англия объединялись с Японией в попытках подавить национально-освободительное движение в Китае. Пилсудский при поддержке Англии готовился оккупировать Литву. Один за другим приходили к власти фашистские и профашистские режимы (Италия, Венгрия, Румыния, Болгария). Балканы стали сущей «преисподней Европы» (Анри Барбюс).
Неприятие «века крови» оставляло не так уж много возможностей выбора.
Как крайние точки этого диапазона можно рассматривать выбор Михаила Чехова, который после долгих смятенных поисков, доводивших до мыслей о самоубийстве, ушел в метафизику Рудольфа Штайнера, и выбор Сергея Эйзенштейна, сделанный в пользу «коллектива, объединенного классовым сознанием, являющегося переустроителем мира». Только при этом нужно помнить, что и антропософия была выражением неприятия мира, утопической попыткой переделки его по высшему духовному плану. Как бы то ни было, они свой выбор делали в пользу творческого преодоления действительности, усилий вырваться за пределы вечного повторения пройденного. С позиции позднего знания над выбором и верой Михаила Чехова и Сергея Эйзенштейна можно, конечно, иронизировать как не оправдавшими себя. Но ирония эта недорого стоит.
В послании Эйзенштейна речь идет не столько о театре и не только о политике. Оно обращено к нам обжигающей экзистенциальностью. Мы можем не принять предложенный ответ, но мы не можем проигнорировать поставленный вопрос.
С. М. Эйзенштейн
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР
Холичеру203 — другу всех угнетенных
С. Э.
Да. Почему бы и нет?
Уже давно пора в международном масштабе приподнять завесу над этой тайной, к сожалению, не слишком многим известной. Интернациональный — расшифровываемый как «межнациональный», должен быть понят как «наднациональный». 203 Без каких-либо рамок и национальной ограниченности. Как по образу мыслей, так и по образу формы.
Следовательно.
Экстатическое начало в национальной сфере, выведенное за пределы, превращается в интернационально-экзотическое.
Воздействует лишь как нечто уникальное, как курьез.
При этом мы стремимся к чему-то такому, что вбирало бы в себя самые незначительные частности и возвышалось бы над ними.
Нечто такое, что раскрепощало общечеловеческое, преодолевало все границы, разрушало колючую проволоку шовинизма, бесчисленных маленьких «фатерляндов»!
Во имя общечеловеческой души.
Космической Психеи.
Интернациональный театр…
Возможно ли такое?
Почему бы и нет?
Это возвышенное благородство, идеальное мировоззрение, высоко парящее над ничтожностью национальной розни, выношенное людьми, даже сверхлюдьми, уже почти было достигнуто в счастливейшие часы человечества.
Вы вспомнили Христа?
Мой пример ближе.
Во многом превосходя Христа, его образ заслоняет величественный символ братской любви, самоотверженной жалости, сострадательного сочувствия, одним словом — благородная фигура промышленника предвоенного времени.
Жестокою судьбой связанный со своим отечеством, он движим великою любовью к ближнему и не только к нейтральному — нет! Более того, — к ненавистному, заклятому врагу, для того, чтобы стать полезным ему во имя христианской любви!
Он работает в буквальном смысле в интересах человечества в целом. В наднациональном и интернациональном масштабе.
Правой рукой он вооружает собственное государство, но его любвеобильное сердце перелетает границы, его сострадательной душе очень трудно не помогать соседу. Левая рука, не ведающая, что творит правая, преодолевая преграды, всюду разжигает священный огонь любви к отечеству при помощи массово распространяемых патриотических газет.
И все из человеколюбия…
Лицемерная маска корыстолюбия и «священного реванша»!
И благодаря этой любви во всех ее многообразных проявлениях вырастают долгожданные цветы мировой войны, и тот же самый друг человечества оплодотворяет смертоносными игрушками… обе стороны.
И все из человеколюбия…
Прочтите у Жака Садуля204 о том, почти легендарном Базиле Захарове205, который, будучи тесно связан с производством пулеметов «Максим» и будучи владельцем «Виккерс Гросс-Верке», так расширил границы своего человеколюбия, что одновременно снабжал оружием и амуницией Россию и Японию (1905 год), Балканские государства и Турцию (1912 год) и — самое блестящее достижение! — 204 Антанту и… Германию! Стоит почитать также, что пишет Шарль Раппопорт206 о деле «Фигаро» и Круппа207!
Всемирный театр, не признающий границ…
Почему бы и нет? Ведь более невероятное, независимое от границ творили, создавали… натворили. И сегодня имеется множество великих мастеров так трактуемого интернационализма!
Всемирный театр. Наднациональный.
Итак, — это некая художественная мешанина, сочетание компонентов, в которую каждое государство вносит то лучшее, что у него имеется.
Зал. Кулисы. Драматургия. Трагические хоры.
Кулисы…
Кулис бесчисленное множество…
Кулисы, за которыми либеральные парламенты продаются крупным промышленникам!
Реквизит…
Великолепно, поистине со средневековой эффектностью блеснул бы топор палача, приводя в исполнение несправедливый приговор по делу ложно обвиненного в Штрелитце Якубовского208, что избавило его от безрадостного существования. И это произошло в 1926 году, в век электричества, телефона и скоростных автомобилей!!!
Впрочем, останься Якубовский жив, все равно от него вряд ли была бы какая-либо польза, он не смог бы участвовать в этом немецком спектакле. Бывший военнопленный, он так скверно понимал по-немецки, что ему пришлось прибегнуть к помощи судебного служителя, который во время оглашения растолковал ему жестами смертный приговор (ему не были понятны даже не слова, а суть, — ведь он был невиновен).
Прекрасное следствие! Без переводчика! Великолепны результаты такого расследования…
Костюм?
Самые блестящие модели костюмов мог бы представить магазин готовой одежды «Пилсудский»209. (Универмаг в Варшаве).
Во всяком случае, самые остроумные и забавные образцы: по личному приказу «пана коменданта» варшавский коллега штрелитцкого «оруженосца» исполнит головокружительный трюк при полном параде — фрак, шапокляк и белые перчатки!
Особо необходимый в подобных случаях лирический хор может быть любезно доставлен из индийских колоний.
Ведь дошла же любезность в Индии до того, что по специальному приказу в период репрессий в Бомбее солдаты расстреливали с колена митинговавших210.
3 – 4 тысячи человек (этим сказана лишь половина истины — на самом деле большую часть составляли старики, женщины и дети!). Расстреливали с колена. Зачем причинять неудобство беднягам индийцам и заставлять их вставать.
Дело в том, что в знак протеста против приказа освободить площадь митингующие индийцы все вместе сели на землю.
205 Джазового эффекта с подобным хором можно достичь при помощи нескольких строчащих пулеметов взамен саксофонов.
Хорошо проверенных.
Подобных тем, которые превратили тысячи жителей Кантона211 и Тяньцзиня212 в кровавую кашу…
Соединенные Штаты могли бы в высшей степени любезно предоставить для зрителей клубные кресла типа «Синг-Синг»213 …
Вдруг они случайно на короткое время окажутся свободными.
Но ни с чем не сравнимым по разнообразию мог бы стать для такой сцены интернациональный драматургический материал. Приключения. Любовные истории. Нечто сентиментальное.
Что же еще нужно современному театру?
Порнография? — О! с этим у нас все в порядке.
Этому служат на мировом рынке свастика214 и Фридерикус215!
Итак.
Любовные истории.
В беседах с Эккерманом Гете замечает, что, по мнению итальянца Гоцци, существует лишь 36 возможных трагических ситуаций. Шиллер, по словам Гете, приложил великие усилия, чтобы увеличить их число. Но ничего не добился216.
То, до чего Шиллер не дорос, оказалось детской игрой для румынской сигуранцы (тайной полиции).
Пожалуйста:
37. 38. 39. 40. 50. 100…
До бесконечности.
Вы сомневаетесь, сударыня?
Тогда просто возьмите книгу «Faits divers»217 моего друга Анри Барбюса.
Например:
Страница 178. «Ensemble» — «Вместе».
Это очаровательнейшая любовная история, выдуманная неким Пронэ, капитаном венгерской армии, разработанная и доведенная им до конца.
«В тюрьме капитан де Пронэ, который ненавидел нас до такой степени, что при виде нас приходил в бешенство, однажды сказал: “Эй, вы там любите друг друга? Ну, так вот, мы вас…”
— Разлучили?
— Наоборот. Он сказал: “Мы свяжем вас вместе”.
— Что же дальше?
— И он связал нас, привязал нас друг к другу вплотную, скрутив нас веревками вокруг пояса.
— И что же?
— И потянулись дни, ночи и опять дни. Понимаешь ли ты? Шесть месяцев. Днем и ночью. Днем и ночью. Шесть месяцев привязанные друг к другу. Шесть месяцев лицо прижато к лицу. Нельзя было шевельнуться, не причинив друг другу невыносимую боль. Шесть месяцев совместной муки. Шесть месяцев беспрерывно глядеть друг на друга в упор. Вечное мученье. Вечность, в течение которой любовь постепенно, час за часом перерождается в ярость, в бешенство. В глубокую 206 ненависть к некогда любимому существу. Ибо страшно мстит за себя длительная и не знающая завершения близость. Она превращается в болезнь. Сексуальный психоз. Буйное помешательство.
Два существа, страстно любившие друг друга. В день освобождения (после шести месяцев близости!) они впервые с облегчением поворачиваются друг к другу спиной. Чтобы никогда больше не видеть друг друга…
Такого не выдумаешь. Это свидетельство записано кровью сердца. Показания дал Андреас, несчастный возлюбленный Риты. Записал Барбюс»218.
«Faits divers». Стр. 178. «Вместе» — «Ensemble».
В мрачную трагическую атмосферу этой истории любви-ненависти было бы неплохо внести сентиментальную ноту.
Может быть, показать ребеночка? Детскую судьбу?
Дети всегда производят свежее впечатление, как в фильме, так и в драме.
Почему бы не взять этакого славного десятилетнего мальчугана? Вот как раз такой имеется.
В течение семи лет он ничего не делает. Точнее, он ждет. Ждет в Бостоне.
Отец Марко работает… нет, — работал на большой фабрике мясных консервов.
Во время не совсем дружественной встречи со штрейкбрехерами, этими гнуснейшими потомками Иуды Искариота, он по неосторожности, оказавшейся роковой, попал камнем в полисмена.
Бегство.
Десятилетний Марко очень надежно спрятал отца.
И все же обоих арестовали.
Вскоре песенка отца была спета.
В «Синг-Синге».
Но как быть с мальчиком? Преступление его чудовищно. Он хотел отнять у «правосудия» его жертву.
Это был отец? Какая разница!
По закону мальчика можно отправить на электрический стул не сразу, а в восемнадцать лет.
Что же делать?
Мальчик должен подрасти. Ведь осталось всего лишь восемь лет. Один год уже истек. Одна восьмая часть оставшейся жизни… Впереди еще семь…
И каждое утро во время прогулки надзиратель, по сердечной доброте, показывает маленькому Марко на дверь, обитую железом:
— Вот видишь? Там стоит электрический стул, на который посадили твоего отца. Сядешь туда и ты. Когда тебе исполнится восемнадцать. Ты сядешь на мгновение, но этого тебе придется ждать еще семь лет.
Ну, чем не отличный сюжет для всемирного театра?
Мальчик будет еще целых семь лет бездельничать. Или нет — ждать. В Бостоне.
Возможно, одиннадцать лет — это многовато.
Вам нужен грудной младенец? Этакое розовое маленькое создание? Крохотное существо, премилое всегда, и когда плачет и когда смеется? К сожалению, такого не будет.
Работница Л., обвиненная в политической деятельности, во время родов была брошена в тюрьму (Венгрия). Ударами сапог и прикладов новорожденного младенца загнали обратно в материнское чрево… (Барбюс, там же)219.
207 Вот тут чувствуется высокая культура. Да и верно! Никоим образом подобная сцена не может обойтись без филигранной работы, удовлетворяющей нежнейшее прикосновение пальцев!
Об этом тоже позаботились.
Что бы вы сказали по этому поводу, если на допросах для разнообразия вместо того, чтобы традиционно ломать пальцы в дверном проеме, загонять под ногти изящные тонкие иглы? Осторожно, разумеется, но глубоко-глубоко и энергично?
Как насчет новых тончайших тактильных ощущений?
Специалист по такому маникюру — дуче220. Italia la bella16*!
Каждый вносит свою долю, то, что у него есть.
И все же…
Я опасаюсь, что спектакли подобного театра могут с треском провалиться…
Миллионная галерка сметет и сотрет в порошок «верхние десять тысяч»221, сидящие в партере.
Ибо там, где будет сорвана маска с патриотического национализма, вознесется и утвердится правда непримиримой классовой ненависти.
И до тех пор, пока это не произойдет, всемирная сцена останется такой же утопией, как мир во всем мире, как разоружение.
Так как классовые противоречия в отличие от границ непреодолимы. Классы могут лишь подчинять один другого.
И только коллектив, объединенный классовым сознанием, являющийся переустроителем мира, зрителем и творцом новой жизни, может решить эту проблему, как и любую другую.
Правда, тут возникает важный вопрос: будет ли тогда нужно искусство и театр?
Потому что искусство — это форма замены, необходимая для неудовлетворенных жизнью.
Но разве к этому времени сама жизнь не станет немыслимо прекрасным произведением искусства?
Я выбираю — жизнь, цена — искусство!
(С. М. Эйзенштейн)
Москва 15.6.1928
P. S. Впрочем, риск поглощения партера галеркой не слишком велик!
Уж очень много имеется либеральных друзей человечества, которые всей тяжестью своих упитанных тел повиснут на занавесе, лишь бы тот не открыл действительность и истину!
Даже дырку в занавесе, глазок «свободной прессы», они тщательно заделают!
P. P. S. Следовательно, из всемирной сцены ничего не получится. На нынешний день всемирная сцена — чушь.
Ибо олимпийские игры эстетствующих маскарадных плясунов слишком убоги, чтобы о них говорить в связи с «всемирной сценой»!
Что же касается самой сцены, то вместо нее как таковой мир в сегодняшнем его статус-кво будет и в дальнейшем ориентироваться на удовлетворение эрзацами, 208 грандиозными зрелищами, что порой возникают по разным «поводам», типа «мировая война», «кровавая баня в Китае», «массовые убийства в Калькутте»222.
Кто-нибудь уж позаботится, чтобы они не заставили себя долго ждать.
Тем временем миру приходится ограничиваться спектаклями скверного кукольного театра под вывеской «Лига Наций», где неизменно идет фарс: «Мы разоружаемся! Мы разоружаемся!»223
«… МЫ
ОКАЗАЛИСЬ В НЕВЕРОЯТНОМ ОДИНОЧЕСТВЕ»
Письмо З. Н. Райх А. М. Горькому 20 июня
1928 года
Публикация, вступительный текст
и примечания В. В. Гудковой
Это письмо до сих пор не попадало в поле внимания мейерхольдоведов224 — по-видимому, оно долгое время таилось в спецхране из-за упоминаний запрещенных фамилий, в первую очередь — Троцкого225. Во всяком случае, на папке, в которой хранятся эти листки, осталась надпись, датированная 13 марта 1959 г.: «В каталог не включать». Между тем письмо содержит важные сведения и о психологическом состоянии Мейерхольда второй половины 1920-х гг., и о сложностях существования ГосТИМа того времени, и о грозящих режиссеру обвинениях в нелояльности власти. В письме проявлены и известные черты решительной, страстной натуры Зинаиды Райх: прямота, неспособность обходить острые углы, отсутствие дипломатичности и умения лавировать. Именно ясность, даже резкость изложения ситуации, как она видится Райх, и составляет главную ценность документа.
Обращаясь к Горькому с конкретной просьбой: помочь добиться передачи помещения бывшего казино ГосТИМу, Райх касается вещей, имеющих более принципиальное значение. Так, напоминая о прежних этапах работы Мейерхольда, Райх сетует, что режиссеру не дали осуществлять некие лозунги, с которыми он пришел в Театральный Октябрь, «широко» — и он «стал осуществлять их в театре». Свидетельство близко стоящего человека косвенно подтверждает неоднократно высказывавшиеся в литературе о Мейерхольде предположения, что жизненные амбиции художника, нераскаявшегося приверженца символистских мировоззренческих глобальных идей, простирались много дальше сугубо театральных новаций. Затрагивает Райх и очень опасную тему, когда констатирует, что «наши друзья оказались оппозиционерами», предваряя публичные обвинения Мейерхольда в троцкизме. (Хотя Военная коллегия, вынося расстрельный приговор Мейерхольду в 1939 г., укажет именно на эту дату: «Мейерхольд являлся троцкистом с 1928 года…»226). Напомню, что «троцкистская оппозиция» капитулировала 10 декабря 1927 г., после того, как партийный съезд принял решение о «несовместимости оппозиционной деятельности с пребыванием в партии»227, а ряд оппозиционеров был арестован. Наконец, мимоходом Райх упоминает еще одну рискованную тему, а именно — нежелание ГосТИМа «дружить с правительством через женщин». Не изменяя старым традициям русского купечества (да и двора), высшие партийные функционеры, которым ничто человеческое было не чуждо, имели связи с актрисами, но обсуждение этой щекотливой темы вряд ли 209 поощрялось. Намек Райх на «правительство», которое «дружит с театром через женщин», в соединении с названием театра (Большой) задевает многих и в том числе Сталина, в самом деле имевшего связи с актрисами Большого.
Итак, в этом сравнительно небольшом документе в единый узел стянуты не только узкотеатральные, но и человеческие, и политические проблемы.
Коротко напомню положение дел в стране. Во властной элите государства идут важные перемены, — в частности, после разгрома троцкистской оппозиции Сталин сменяет партийное руководство двух столиц. На XV съезде партии он говорит о трех перемещениях, имеющих, с его точки зрения, «показательное значение»: «Вы знаете, что председателем Московского Совета избран, вместо Каменева228, Уханов229, рабочий-металлист. Вы знаете, что председателем Ленинградского Совета избран, вместо Зиновьева230, Комаров231, тоже рабочий-металлист. Стало быть, “лорд-мэрами” обеих столиц состоят у нас рабочие-металлисты»232.
При этой смене властного кадрового состава Мейерхольд теряет своих приверженцев и поклонников. Но пока что П. М. Керженцев233 еще «друг» — хотя и излишне «мягкий». Знакомый Мейерхольду со времени ТЕО, радушно принимавший чету Мейерхольдов в Италии в 1925 г., а в начале 1930-х бывавший у них в гостях в Москве в Брюсовском переулке234, именно Керженцев через несколько лет станет автором печально знаменитой статьи «Чужой театр», ознаменовавшей начало разгрома театра Мейерхольда и гибель его самого.
Горький приезжает в СССР 28 мая 1928 г. в связи с широкой программой празднования своего шестидесятилетия. В последний раз они с Мейерхольдом виделись в 1925 г., когда режиссер вместе с женой навестил Горького в Италии235. Пользуясь возможностью прибегнуть к авторитетному заступничеству (весь июнь Горький в Москве), Мейерхольд и Райх посещают его. Но обойтись без чужих глаз не удается. Из письма не ясно, чье именно поведение контролировалось неизвестным чиновником, Горького или Мейерхольда, но скорее всего — обоих. («Органы тайного надзора начали подглядывать за ним [Мейерхольдом] еще во второй половине 20-х г…»236. А уж как настойчиво контролировался каждый шаг Горького во время приезда в СССР, общеизвестно.) Райх отправляет это письмо оттого, что шансов встретиться с Горьким еще раз у них нет: днями Мейерхольды отправляются во Францию. Уже 26 июня 1928 г. они в Берлине, на следующий день в пять часов дня — в Париже237.
Итак, о чем же речь? В правом крыле здания, занимаемого ГосТИМом на Садово-Триумфальной, помещалось казино «Монако». Это казино было широко известно, даже знаменито. О нем рассказывала первая жена М. А. Булгакова, Т. Н. Лаппа, — Булгаковы жили неподалеку, буквально в нескольких шагах, в «нехорошей квартире» дома на Большой Садовой. Захаживали туда Маяковский, Катаев, Мандельштам. Молодые литераторы нередко отправлялись в «Монако» с последней пятеркой в надежде на удачу. Театр и казино имели общий вестибюль. В замечательном письме В. Яхонтова Мейерхольду о «Лесе»238 выразительно передано, в частности, необычное смешение разных людских слоев: припозднившиеся гости казино, покидая его утром, сталкивались с актерами, собиравшимися на репетицию. Весной 1928 г. помещение казино было передано Пролеткульту, но ГосТИМ продолжал бороться за него. В конце 1928 г. в докладе дирекции ГосТИМа Главискусству прозвучит возмущение бестолковостью создавшейся ситуации:
«1. В этом здании, при данном его состоянии, при отсутствии репетиционного зала, при отсутствии каких бы то ни было мастерских, нет возможности дать три постановки в сезон.
2. Негде больше хранить конструкции, без преувеличения можно сказать, что в этом здании перевернуть еще некоторое количество конструкций не представляется 210 возможным. <…> Тупик, из которого один выход — капитальный ремонт театра и предоставление нам составной части нашего здания, искусственно оторванной — быв. помещения казино.
Если бы я вам рассказал, как используется помещение б. казино, эти громадные зеркальные залы (фойе нашего театра), эти великолепные вспомогательные помещения — подвалы, вам бы сразу бросилась в глаза эта грубая ошибка, допущенная в отношении этого помещения и нашего театра. Если подходить к этому вопросу независимо от нашего театра, получается картина буквально преступного использования (вернее, неиспользования) такого колоссального помещения. Подвалы этого помещения имеют площадь в 200 кв. саж., первый этаж — 8 комнат около 56 кв. саж. и зал — 8 кв. саж. Второй этаж — 2 комнаты в 13 кв. саж. и зеркальный зал — 105 кв. саж. В зеркальном зале поставлены пять небольших столиков и там помещается канцелярия Пролеткульта численностью также в пять человек. Подвалы пустуют. Пролеткульт предполагал там устроить кино, но из соображения пожарной безопасности в этом отказано, так как из одного здания во время выхода может получиться большое скопление публики, а запасных дверей нет. Запасных выходов нет и у нас. Ведь прежде это был один театр с нормальными запасными выходами. Мне думается, что для того, что сейчас делает Пролеткульт в нашем здании, было бы вполне достаточно один или два номера в верхних торговых рядах ГУМа, а не занимать естественную часть нашего театрального здания в то время, как мы задыхаемся от тесноты и неудобств. <…>
Мы просим Главискусство <…> исходатайствовать перед Совнаркомом о присоединении к нам помещения б. казино»239.
Кроме как к Горькому, Мейерхольды с той же просьбой о помощи обращаются и к другим высокопоставленным лицам: к А. И. Рыкову240 и его жене, Н. С. Рыковой241, Н. И. Бухарину242 и проч. Хлопоты о расширении театрального помещения ГосТИМа демонстрируют связи режиссера, определенные его возможности. Так как мейерхольдовские письма к этим людям сегодня неизвестны (а возможно, и не отыщутся никогда), особую ценность приобретают свидетельства о том, что они существовали.
Вопрос о помещении бывшего казино был настолько важен, что в Париж летели письма Х. А. Локшиной243, А. В. Февральского244, Н. К. Мологина245 и других с сообщениями, что еще удалось в связи с этим делом. Хлопоты выстраиваются по разным направлениям: доверенные лица по поручению Мейерхольда и Райх обзванивают влиятельных лиц, составляют письма в прессу, беседуют с газетчиками и проч.
Локшина пишет Райх: «Для вопроса с казино я попросила Логинову246 остаться на несколько дней, она соберет резолюции в полку, Нестеров247 в кружках, а Февральский у отдельных лиц и все пустит в печать. Делается это в срочном порядке, потому что важно, чтоб пресса была до постановки вопроса о дотации в Совнаркоме». И далее спрашивает: «Написали ли Вы письмо Бухарину? Это очень важно для дотации. Нестеров поговорит с Сарабьяновым248, но если возможно только — нужно написать Бухарину». В письме, отправленном между 20 и 23 июля: «Дорогая Зинаида Николаевна, сегодня получилось письмо Всеволода Эмильевича с копией письма Рыкову. Мне оно очень нравится четкостью и ясностью постановки вопроса. <…> Мне кажется, что письмо Всеволода Эмильевича должно сильно подвинуть вперед вопрос о казино». В следующем письме, после сообщений о детях и проч., Локшина продолжает: «В делах театра по-прежнему о казино и дотации нет ничего определенного. По многим внутренним причинам все внимание у нужных людей направлено не на это. Все же вопрос с нужной нам дотацией, вероятно, будет быстрей и лучше решен. А пересмотра вопроса о казино добиться трудней». Через несколько дней, получив копию письма Мейерхольда, Хеся Александровна радуется: «И вот письмо Всеволода Эмильевича к Рыкову на меня замечательно подействовало. Оно не может остаться 211 без ответа и заставит наконец додумать вопрос о праве и возможности существовать делу живому и большому. И сказано Всеволодом Эмильевичем, что мы не можем являться теперь торговым домом. Тысячу раз поблагодарите Мастера за это письмо». Еще несколько дней спустя она сообщает: «Письма Рыкову и Р[ыков]ой передали. Ждем результатов». И наконец: «Дорогая Зинаида Николаевна, дозвонилась до Рыковой, она обещала дать ответ “на днях”, тон ее разговора был весьма холодный. Увидеться и поговорить она не считает нужным, потому что знает все от Вас. И прибавила, что лучше всего было бы, если б Всеволод Эмильевич сам просил свидания и поговорил бы официально. Я ей объяснила, что сейчас нам необходима срочная поддержка и все делается по поручению Всеволода Эмильевича, и каждый работник театра принимает на себя все удары и борется за лучшее будущее. В субботу думаю к ней направиться, все же она обещала дать ответ»249.
Таким образом, среди участников интриги вокруг передачи помещения бывшего казино ГосТИМу, похоже, все главные лица грядущих политических процессов, от Зиновьева и Каменева до Бухарина и Рыкова. И со всеми ними переписываются, встречаются, разговаривают по телефону Мейерхольд и его посланцы. Тем самым совершенно, казалось бы, практическому, «хозяйственному» делу с течением времени суждено неизбежно обратиться в компромат.
Ответ Н. С. Рыковой неизвестен. Вопрос о помещении бывшего казино на протяжении 1928 – 1931 гг. неоднократно обсуждался на заседаниях специальных комиссий, и 25 января 1931 г. решением СНК РСФСР оно было передано ГосТИМу. Жаль, но пользоваться добытым театру придется недолго: летом 1931 г. в здании на Садово-Триумфальной начнется капитальный ремонт, и более спектакли Мейерхольда в нем играться не будут.
Бесспорно, театр Мейерхольда нуждался в расширении помещения. Но важнее другое: исход борьбы вокруг бывшего казино означал не только конкретный выигрыш или проигрыш ГосТИМа. Приближенные к власти люди очень чутки к любому ее сигналу, решению, жесту — и данное частное поражение лета 1928 г. свидетельствовало о начинающейся опале, отлученности Мейерхольда от власти и влияния вообще.
Письмо З. Н. Райх печатается по автографу: Архив Горького Института мировой литературы Российской Академии наук. КГ-ДИ 8.22.1.
Публикатор приносит благодарность руководству Архива А. М. Горького ИМЛИ РАН за разрешение ввести в научный обиход историков театра ценный документ.
Пользуясь случаем, уточню ссылку на это письмо З. Н. Райх в моей книге «Юрий Олеша и Всеволод Мейерхольд в работе над спектаклем “Список благодеяний”» (М., 2002), где оказалась пропущенной строчка: «Архив А. М. Горького» (С. 34).
Слова, дописанные публикатором, помещены в квадратные скобки. Подчеркнутое Райх выделено курсивом.
З. Н. РАЙХ — А. М. ГОРЬКОМУ
20 VI-28 г. Москва
Алексей Максимович,
очень хотелось Вас повидать самого, а потому пришед за делом — мы его скомкали, да и присутствие этого «чиновника особых поручений», что был с нами, — 212 мешало сказать Вам вразумительно то глубокое и трудное, что накопилось в Мейерхольде.
Не обладаю даром рассказывать я, Мейерхольд это делает талантливо, когда вдохновляется (извините за столь немодное слово…), и простите меня за некоторое косноязычие.
Дело в том, что Мейерхольд устал бороться в безвоздушном пространстве. Чтоб делать эти годы, что делал Мейерхольд, надо было иметь запас громадной, нечеловеческой энергии.
Но хорошо, если эта борьба чем-то кончается или есть хоть передышки. А их у него нет.
К фактам:
Мейерхольд пришел в послеоктябрьский театр с лозунгами. Эти лозунги ему не дали осуществлять широко. Стал их раскрывать в театре. Вот за право работать в здании за лозунги театрального Октября, а не за что либо иное, пришлось перетерпеть бесконечную цепь бесконечной ерунды, как то:
выселение из здания совсем (1921 г.);
соединение самое нелепейшее — театра Мейерхольда и Незлобина250 (1922 г.);
угрозы вторичного выгона и опять соединения (лето 1923 г.);
издевательства в ряде лет от самого соседства с казино и администрации казино над всем театром (не отапливало нас — простужались и болели актеры, бежала публика: отопление у нас общее с казино);
отсутствие всякой финансовой поддержки со стороны правительства.
Последние три года было чуть-чуть лучше. Деньги давали, но мало. Шутка сказать: к пятилетию театра нас сделали «государственным», наше имущество, приблизительно на 100 000 рублей, стало «государственным», а долги наши на эту же сумму251 не пожелали признать государственными.
И стал «Государственный театр им. Мейерхольда» с почетной вывеской, но с долговой ямой, из которой мы никак не можем выкарабкаться.
Быль, а не анекдот!
У нас очень любят почет — гнусная личина на русской хитреце.
Последние 2 года были совсем ужасны в другом: «Ревизор» — печать провалила. Сторон[ников] не было. От травли у Мейерхольда апатия и худож[ественное] упрямство. За «Ревизором», облаянным ужасающе, — печать проваливает «Горе от ума» — у художника Мейерхольда уже не апатия, а отвращение…
К горю нашему — наши малочисленные друзья (через которых, кстати, Совнарком деньги давал изредка нам) — оказались — оказались… оппозиционерами-троцкистами, и Демьян Бедный252 стал улюлюкать на Мейерхольда. Демьяна Бедного с удовольствием поддерживают Степанов-Скворцов253, Рязанов254, Осинский255 и целая ватага рыбешек помельче, — говоря гадости (все печатно, во «всесоюзном» масштабе), повторяя бабьи сплетни, не по существу искусства Мейерхольда, а за этим скрывая свои подозрения в его симпатии к троцкизму, к Троцкому.
Сейчас растеряно все: доброжелательство правительства (у нас нет ни одного «протеже»256), прессы, кассы, энергия Мейерхольда и т. д.
Когда счастье улыбнулось — мы могли получить помещение казино (которое физически и фактически есть часть нашего здания), — имея его, мы могли бы и 213 работать в лучших условиях и, эксплуатируя его, — поправить свои финансы, не обивая порогов Совнаркома.
Но мы оказались в невероятном одиночестве. Казино передали Пролеткульту, а Совнарком, видите ли, не желает из-за нас-де, мерзавцев (мы и такие и сякие), ссориться с Московским Советом и не желает приказывать Моск[овскому] Совету передавать казино нам.
Прошу Вас о двух вещах: 1. — Внушите Уханову и Угланову257, — что казино надо отдать «Гостеатру Мейерхольда», а 2. — Правительству, для которого у нас нет в театре бархатных лож, как есть, например, в Большом театре, и с которым дружить через женщин мы не в охоте, а на простой интерес к театру их не хватает, — что Мейерхольд величина художественно достаточно культурная (годная очень в культурной революции) и большая, и затравливать и «игнорировать» Мейерхольда не следует. Искать связей, улещивать кого-то, домогаться — нет сил у Мейерхольда (администрация в театре, как на грех, все годы слабая, не энергичная), а потому я решила, простите, родной (очень Вас таким чувствую — оттого реву всегда от удовольствия, когда вижу Вас), просить и умолять Вас о помощи и поддержке.
Если решите помочь — делайте скорее (Пролеткульт въехал, но пока это не страшно) — говорите с «вышеназванными» лицами.
Прошу простить меня за мою нетактичную прямоту и искренность.
Любящая Вас Зинаида Райх-Мейерхольд
В письме две приписки. На левом поле первого листа:
«Письмо уничтожьте.
Кстати: это не то, что собиралась три года писать. З. Р.»;
на левом поле последнего, четвертого, листа:
«Наши друзья, начиная с Луначарского и Керженцева, очень добрые, мягкие люди, но делу помочь они бессильны».
214 III
СНЫ О РОССИИ, ИЛИ
ЖИЗНЬ ИГРОКА
Никита Балиев. [Воспоминания]
Публикация, вступительный текст
и примечания В. В. Иванова
Есть основания предполагать, что Никита Федорович Балиев (1877 – 1936) принялся за воспоминания уже в начале 30-х гг., когда «Летучая мышь» ушла в прошлое, а оседлая жизнь в Нью-Йорке сделала возможными литературные занятия. Однако болезни и годы взяли свое. Артист не закончил эту работу, оставшуюся черновиком, в текст которого вкраплены в скобках пометки вроде «Описание Геста», «Описание Москвы», «Описание жизни в Академии и балы ее», так и не получившие последующей детализации. Поначалу Балиев придерживался хронологической последовательности изложения. Но затем стал сбиваться. Вероятно, яркость и живость воспоминаний оттеснили первоначальный план. Балиев набрасывает фрагменты, относящиеся к более поздним событиям, и дает им шапку «Вне очереди», надеясь, что со временем все станет на свои места. Но это время так и не наступило. Рукопись Балиева вместе со всем архивом хранила его вдова, Елена Балиева. После ее смерти в 1980 г. документы, в него входившие, были выставлены на аукционах и разошлись в разные руки.
Воспоминания Балиева находятся в настоящее время в фондах Института современной русской культуры в Лос-Анджелесе (США), фотокопия рукописи хранится в РГАЛИ. Разрешение на публикацию в нашем издании было любезно предоставлено директором Института современной русской культуры г-ном Джоном Боултом.
Неозаглавленная рукопись, написанная карандашом на линованной желтой бумаге (20,4 x 31), состоит из 43 двусторонних листов, прожженных (возможно, сигаретой) в нескольких местах.
Воспоминания предназначались для американского читателя, что проскальзывает и в прямых обращениях («Блин напоминает ваш pancake, только он более круглой формы, делается он почти так же, как делаете pancake вы…»), и в самой манере изложения, возводящей характерное в степень экзотического.
К тексту Балиева как источнику следует относиться с осторожностью — в нем немало уникальных биографических сведений, большую часть которых невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Встречаются и фактические ошибки. Наиболее яркая из них содержится в следующем пассаже: «В Москве, как и вообще во всей России, смотрели на театр не как на праздную забаву или пустое времяпрепровождение, а как на рассадник культуры, и Чехов в одной из пьес говорит: “В Москве два университета — один на Моховой улице — другой в императорском Малом театре”». Как очевидно читателю, Балиев контаминировал две цитаты: слова Соленого из «Трех сестер» о двух университетах и хрестоматийное суждение XIX века о Малом театре как о втором университете. В контексте всех «Воспоминаний» эта контаминация свидетельствует не столько о памяти дряхлеющего Балиева, сколько о неопровержимой мифологической правде золотого века русского театра и русской жизни. Балиевские 215 сны о России сосредоточены на том, как ели-пили, играли в карты, при этом жгуче любили театр и мечтали послужить «святому искусству». Они полны такой раблезианской избыточности, что сам автор временами спохватывается: «Когда вспоминаешь, сколько русский человек мог съесть и выпить, можно поражаться, как еще могла существовать Россия». Конечно, Россия и театр в балиевских воспоминаниях есть, прежде всего, эмигрантский образ и эмигрантский миф. Но и миф — всегда сообщение. В него должно вглядеться.
Никита Балиев
[ВОСПОМИНАНИЯ]
Во время одного из спектаклей «Летучей мыши», в театре [«Фемина»]258, находящемся на Елисейских полях в Paris, в 1921 г., ко мне в уборную вошел господин американской складки (описание Геста259) и задал мне вопрос на английском языке: «Хотите ли вы ехать в Америку?» Совершенно не сознавая всей серьезности этого вопроса, я в шутливом тоне ответил: «К сожалению, я не могу найти такого fool’а17*, который повез бы меня в Америку», на что американец серьезно ответил: «Этот fool — я». Как оказалось, это был известный американский импресарио M. Gest, который сыграл в моей жизни одну из самых крупных ролей. На десять лет раньше, когда еще кругом все было спокойно, когда никто еще не мог предвидеть надвигающихся ужасов войны, Mendelkernн, американский импресарио, предложил мне поехать в Америку, соблазняя меня громадными гонорарами. Но какие гонорары могли соблазнить, когда в Москве театр ежедневно был переполнен и когда мы еще не могли представить возможности бросить Россию на шесть [месяцев] контракта и поехать куда-то в Америку, которая тогда еще казалась бесконечно далекой и о которой средний русский обыватель знал, что она открыта каким-то Христофором Колумбом, что все там миллионеры, занимаются рекламой, известной под именем американской.
И только впоследствии мы волею судеб узнали, как мал свет и как все только относительно далеко. И зачем было покидать Москву? (Описание Москвы.) В этом чудном городе прошли мои детские и юношеские годы. Ровно сорок лет тому назад мои родители решили меня отдать в Практическую академию коммерческих наук260 (описание жизни в Академии и балы ее), и эта монотонная жизнь вдруг однажды была нарушена маленьким фактом, который решил всю мою жизненную карьеру. Однажды во время рождественских каникул директор Академии вызвал меня к себе и предложил поставить какой-нибудь спектакль, где будут участвовать большинство оставшихся в школе на рождественские каникулы, или потому что их некому было брать на праздник, или потому что родители их жили далеко за пределами Москвы. Я был [так] счастлив громадным доверием, оказанным директором, что без всяких разговоров принял его предложение, даже не обдумав, как выполнять это задание. [В] громадной актовой зале домашними средствами была выстроена сцена, сделаны попытки на какие-то декорации. И после долгих споров, в которые дирекция школы не входила, мы остановились на юношеском произведении Л. Н. Толстого «Первый винокур», 216 где Толстой нарисовал картину, как дьявол учит русского мужика делать водку и все последствия этого зла. Почему и чем мы руководствовались, выбирая именно это произведение, никто из нас не знал. Вернее всего, только потому, что в библиотеке этой школы не оказалось ничего более подходящего, ибо все другие пьесы были или очень длинны, или изобиловали женскими ролями. Начались многосуточные репетиции, споры, ссоры, и 6 января, 40 лет тому назад перед переполненным залом мы начали лицедействовать. Спектакль начался довольно гладко. Как вдруг совершенно неожиданно за кулисы явился сам директор, призывая немедленно прекратить спектакль, ибо сюжет пьесы и имя автора, несмотря на то, что это был сам Толстой, нарушали основы самодержавия. Какой странной и непонятной казалась нам, мальчишкам, эта фраза, которую мы поняли недавно, когда основы самодержавия были нарушены. Публике, пришедшей смотреть спектакль, было предложено танцевать, но настроение было сорвано, и публика скоро разошлась. И в тот же вечер я по приказу начальства был посажен на три дня в карцер за проповедование вольнодумных идей. И это было первое мое страдание на славу русского искусства.
И как в синематографе мелькали календарные числа, менялись годы, и я был выпущен в жизнь с аттестатом зрелости и довольно небольшим багажом приобретенных за мое пребывание в школе знаний. Мне было восемнадцать лет. Я был молод и полон энергии, и лучшая карьера, которую я себе представлял, это была карьера актера. Кто вкусил хоть на секунду яд сцены, тот отравлен этим ядом навсегда. Когда я, вернувшись из школы домой, заявил родителям о желании идти на сцену, мой отец, человек старого закала, желая выбить из меня эту дурь, послал меня или, вернее, сослал меня в один глухой провинциальный город под названием Луганск, в одно из многочисленных отделений «Торговой фирмы Ф. Б. Балиев», где управляющему было приказано как можно скорее убить во мне любовь к театру и приучить к делу. Город этот, как и многие города России, напоминал маленькую деревушку с несколькими церквами, двумя мощеными улицами, ведущими к городскому саду, который находился на окраине города и где помещалось здание театра. И никакие железные цепи, никакие человеческие силы не могли удержать меня от этого места. Ежевечерне, лихорадочно ожидая момента закрытия магазина, я был посетителем галерки этого театра, боясь проникать в партер, где меня мог увидеть управляющий нашей фирмы. Как в какой-то Эдем, мне захотелось проникнуть за кулисы, где все казалось таким божественно прекрасным, войти в сферу этих людей, которых я тогда считал людьми не от мира сего, как-либо познакомиться с ними и хоть раз исполнить мое заветное желание — сыграть на сцене.
И в один прекрасный день мое желание сбылось. Случайно узнав, что заболел какой-то выходной актер, я предложил одному из актеров уговорить антрепренера театра дать мне эту роль. И вот я на сцене изображал роль какого-то раба в какой-то пьесе, название которой уже мной давно забыто. По ходу пьесы я должен был пронести светильник, освещая дорогу Калигуле, и произнести какие-то слова, которые я никогда не произнес или от волнения, или от сильного переживания. Я помню, как за два часа до спектакля я раз пятьсот повторил эту фразу на тысячу ладов, и, выйдя на сцену, не зная, на каком из этих ладов остановиться, я промолчал все несколько минут, которые я был на сцене. После спектакля 217 с несколькими маленькими актерами я праздновал свой дебют в буфете того же театра и познакомился случайно с маленькой, начинавшей тогда свою карьеру артисткой Рощиной-Инсаровой261, имя которой впоследствии было украшением Императорских театров и которая, как я, никогда не думала, что через известное или, скорее, неизвестное количество лет мы будем выкинуты волной революции за пределы нашего отечества далеко-далеко от родины. Слухи о моем выступлении не могли не дойти до моего отца, и я был выслан обратно в город Ростов под личную опеку отца. И опять замелькали числа, и в один не менее прекрасный день меня вызвали отбывать воинскую повинность. Шел двадцать первый год моей жизни, и в одном из городков Северного Кавказа — Владикавказе — промелькнул год военной службы. Как какой-то театральный костюм, я надел на себя военную форму, и медленно и однообразно скучно начались дни военной дисциплины.
Особенное внимание [начальство] обращало на внешность, и если кто выходил на плац на очередную маршировку с каким-то дефектом в форме или неблестяще вычищенной медной пуговицей шинели, его ожидало большое наказание. Думали ли кто-нибудь из начальства тогда, что пройдут годы, и никакие дисциплины не удержат солдата, и что пропадет блеск пуговиц, и что шинель превратится в тряпье и в опорках разбредется по всей Руси великая русская армия. Менее всего об этом думал я, ибо мои мысли были поглощены только одним театром. Начальство относилось к идее солд[атских] спектаклей довольно благодушно, и первый спектакль, который был сыгран под моим режиссерством солдатами местной дивизии, состоялся в присутствии главнокомандующего в Военном собрании, на сцене которого впервые была поставлена пьеса под названием «Графиня Эльвира, или Шелковый платок». И выходя на сцену и видя перед собой в первом ряду главнокомандующего, его солдаты, изображавшие графов, графинь и людей великосветского общества, раньше чем произносить какие-либо слова, вытягивались во фрунт перед главнокомандующим, рапортуя по-военному: «Здравия желаю, Ваше Превосходительство». Спектакль этот имел большой успех. Главнокомандующий просил передать благодарность всем участникам, и эта благодарность выразилась в чарке водки. Уже будучи артистом Художественного театра, мне было поручено составить программу вечера, сбор с которого шел на фонд для престарелых артистов этого театра262, и, вспомня этот спектакль, я повторил его на сцене Художественного театра как один из номеров этого вечера, пригласив для этого специально солдат из Покровских казарм, с которыми серьезно разучил эту пьесу и которая шла под несмолкаемый хохот всего зрительного зала263. Как противоположна бывает восприимчивость публики, думаю я, сравнивая серьезное, сосредоточенное внимание военной публики во Владикавказе с раскатами хохота во время исполнения той же самой пьесы солдатами хотя бы другого города, но перед другой публикой, перед аристократией Москвы.
И протекла военная служба, — и я был выпущен в запас русской армии в звании вахмистра. Тогда — это было в мирное время — это было первое повышение по службе, и думал ли кто-либо когда-либо, что волны революции поставят во главе русской армии простого вахмистра, не знающего никаких законов стратегии и не проходившего курс Военной академии264.
218 Отбывши воинскую повинность, я вернулся в дом отца, к которому не имел никакого влечения. Несмотря на то, что дело было поставлено в крупном масштабе, приходилось, по старому обычаю, выходить навстречу каждому покупателю и обмениваться несколькими фразами без всякого смысла и значения. Может быть, эти ежедневные упражнения в разговорной технике так сильно отразились на моей последующей карьере. Тридцать лет тому назад и в особенности в провинциальных городах России дело шло старыми устоями. В пять часов утра отец брал ключ [от] магазина и лично открывал его, проверяя, все ли служащие на месте. В громадном магазине было еще не топлено, холодно и сыро. Заваривался чай, и все служащие, приблизительно до пятидесяти человек, садились в подвале магазина, кидаясь впечатлениями бурно проведенных ночей. Несмотря на то, что отец не позволял мне бывать с ним во время этих чаев, меня тянуло к этому веселому получасу, где сыпались шутки, сплетни и где дышало здоровье, выявлявшееся в том, что эти люди выпивали от 5 до 20 стаканов чая с двумя кусками сахара вприкуску. (Несколько слов об обычаях, как пить чай.)
После этого начинался долгий, нудный день. Как хозяйскому сыну мне давались известные привилегии, чтобы моя личность не смешивалась со служебным персоналом. Тогда еще вопросы демократии не были так сильно преувеличены, как сейчас, и я продолжал думать все время о театре, забившись где-то в угол незаметно для отца, намечая театральную литературу, выбирая для себя пьесы, в которых я должен буду появиться, когда мне наконец будет дано разрешение пойти на сцену.
До вечера, с перерывами на обед и вечерний чай, магазин наполнялся разными людьми, приезжавшими со всех сторон юга России для закупок. Я любил после официального разговора, во время того, как записывают нужный ему товар, интимно беседовать с ними на всевозможные темы. Все это был более или менее зажиточный мелкий класс, так называемая буржуазия, у которого были своеобразные взгляды и твердая вера в монархию. Так как на мне всегда лежала тяжесть отцовской [руки], запрещавшей мне делать то или другое, а главное, не позволявшей мне идти на сцену, то уже с детства во мне возбуждался известный протест ко власти какого-либо рода и, может быть, незаметно для себя сеял революционные семена, которые потом дали такую тучную жатву. В восемь часов вечера официально магазин закрывался, но отец, человек старой традиции, не посещал театров, не был членом клубов и его времяпрепровождение ограничивалось семейным кругом или магазином, и часто, отпустив всех служащих, он оставался еще долго в магазине при спущенных шторах и [прига]шенном свете, проверяя какие-то книги, неизвестно о чем думая. Он никогда не позволял мне покинуть магазин раньше него, он как бы приучал меня к какой-то дисциплине, желая разбудить во мне любовь к делу. Но никакие цепи не могли удержать меня, и рано или поздно я опять был в театре, любовь к которому росла ежечасно. (Описать театр в провинции.)
Я выступал часто секретно от отца в любительских спектаклях под фамилией Задонский. Этот псевдоним я выбрал потому, что город, в котором я жил, стоял на реке Дон. В этих спектаклях я впервые встретился с молодым, тогда еще начинавшим артистом Кузнецовым265, который впоследствии стал одним из лучших артистов русского театра. На Рождество отец разрешал своим детям более свободное 219 препровождение времени. Магазин закрывался в сочельник и был закрыт в течение четырех дней Рождества, и в эти дни дом и все находящееся в нем отдавалось во власть детям. Семья наша была довольно многочисленная, и если бы моя мать была бы француженкой, то она, наверное, получила бы премию за деторождение.
Мать моя вышла замуж, как это часто бывало на юге России, когда ей было четырнадцать лет, и семья наша состояла из четырнадцати человек, где мальчики преобладали. Отец мог гордиться восьмью сыновьями и шестью дочерьми. На первый день Рождества все эти четырнадцать человек приглашали массу своих знакомых сообразно своему возрасту и в гостиной устраивалась грандиозная елка, подарки с которой поручалось раздавать мне, и тут я себя впервые почувствовал в роли конферансье, когда, передавая по назначению подарок, я сыпал шутки над персоной, его получившей.
И в один день отца не стало. Дело продолжало идти, управляемое старшими сыновьями, которые старались поддерживать традицию, установленную отцом. Но ни той боязни, но ни того трепета, которые я испытывал перед отцом, уже не было. С братьями я чувствовал себя равным и хотел иметь такие же права, как они. Часто по воскресным дням дома я рисовал свой либеральный взгляд на жизнь, с которым они не могли соглашаться, и в один прекрасный день я твердо и решительно заявил, что я еду в Москву, чтобы там работать самостоятельно, думая в душе, что, попавши в Москву, я немедленно поступлю в Художественный театр, слава о котором докатилась до нашего города. Несмотря на все протесты матери и братьев, я, после месяца убеждений, споров и ссор, выехал в Москву с целью покупки из первых рук товара для нашей фирмы. И вот я в Москве, той самой Москве, где в течение девяти лет меня чему-то учили, стараясь делать из меня достойнейшего гражданина родины.
Я приехал в Москву с известным капиталом, который мне принадлежал по завещанию отца. Снявши помещение для конторы в одном из торговых центров Москвы, я решил повести дело на совершенно новых основаниях. Я купил знаменитый Botten266, книгу, выпущенную во Франции, в которой были помещены все более или менее крупные торговые дела всевозможных оттенков, разбросанные по всему миру. Я нанял дактило18*, которая в течение пятнадцати дней обращалась с письмами, подписанными мной ко всем более или менее крупным фирмам, помещенным в этой энциклопедии. Ссылаясь на отделение Азовского Донского банка в Москве, я сообщал о том, что я открыл агентурное дело в Москве, и просил эти фирмы послать мне образцы их товаров.
Причем эти письма адресовались не по каким-либо специальностям, а просто в соответствии от более или менее соблазнительного объявления, напечатанного в Botten’е. Так, например, на одной из страниц Botten’а, на которой было семьдесят строчек, напечатанных мелким шрифтом, было помещено объявление какой-то константинопольской фирмы «Рахат Лукум». Это объявление было напечатано таким витиеватым, восточного стиля языком, что невольно хотелось как можно скорее получить этот «Рахат Лукум», который восстанавливал силы, 220 давал известную веселость и поражал вас ароматным вкусом. Второе письмо было отправлено в Страсбург, где какая-то фирма предлагала чудные паштеты: на объявлении был нарисован жирный гусь, который ел паштет, приготовленный из его собственной печенки. Мне нравилось это разнообразие и контраст фирм, к которым я адресовал свои письма. Из Лейпцига я просил выслать гитары, на которых могли играть люди абсолютно незнакомые с музыкой. Из Lyon’а я выписывал образцы шелкового бархата, из Италии — образцы макарон и вин Chianti19* и, кроме того, мной была послана масса писем разным французским фирмам шампанского. Все эти письма в количестве 700 или 800 штук пошли по разным направлениям, и через месяц или полтора я начал отовсюду получать ответы, в которых сообщалось, что всем этим фирмам было очень приятно со мной познакомиться, что они высылают образцы, что им очень приятно будет вести со мной дело, ибо банк, на который я ссылался, дал мне очень хорошие рекомендации. Я стал нетерпеливо и волнительно ждать образцов, рисуя в своей фантазии, как я начну разбрасывать по всей России все эти страсбургские паштеты, шампанское, фиги и как в русском народе, благодаря мне, вкус будет делаться все утонченнее и утонченнее.
И вот в одно зимнее утро я получил из московской таможни до двухсот повесток, вызывающих меня выкупить адресованные мне товары. Слово «выкупить» мне не особенно понравилось, ибо делать какие-либо расходы на приобретение образцов я абсолютно не имел в виду.
Но каково же было мое разочарование, когда в таможне с меня потребовали около 1500 рублей, что по тогдашнему курсу было 750 долларов пошлины за эти образцы. [Однако] волнение и радужные мечты о том грандиозном деле, которое я начинаю, было сильнее всех других чувств, и я, нанявши троих извозчиков, автомобили только тогда еще появились и их было очень мало, повез к себе в контору все эти пакеты, которые были загадочны и интересны.
Распаковав все эти посылки, я долго не знал, как приступить к сбыту этих товаров, образцы которых так аппетитно были расставлены у меня на столе. В моем мозгу уже рисовался шикарный завтрак à la fourchette20*, на котором красовались бы деликатесы всего мира. У меня мелькнула оригинальная идея пригласить нескольких моих интимных друзей на игру preference, отдаленно напоминающую bridge21*, предложив им вместо обычно шаблонного ужина эти деликатесы. И вечером мы долго гутировали гурмантные hors d’oeuvre’ы22* и вина, начиная с самых обыкновенных и кончая самыми тончайшими. На этом опыте, кажется, и оборвался весь мой интерес к коммерческой деятельности.
Попав случайно в один из клубов, так называются в Москве игорные дома, и выиграв не менее случайно довольно крупную сумму в chemin de fer23*, я предпочел такой путь обогащения всем другим, и долгое время эта карьера увлекала меня тем волнением, которое мне давала азартная игра. Я совершенно забыл о своей конторе, ([и], как кажется, меня забыли во всем коммерческом мире), 221 ведя образ жизни довольно приятный, но очень дорогостоящий. Посещая ежедневно театры, я еще более останавливался на мысли, что дальнейшее мое будущее только в театре. Служить русскому искусству было основной идеей дальнейшего моего существования. После спектакля я заходил в маленький ресторанчик, посещаемый актерами Москвы. Мало-помалу я заводил знакомства, угощая актеров. Вечер обычно заканчивался в клубе, где мне так не везло, что меня прозвали Punie Baccarat267. Кто знаком с игрой chemin de fer, тот должен понять иронию этой клички, ибо, в то время как мои партнеры гордо открывали старшие карты, моя комбинация карт давала всегда то сочетание цифр, которое считалось проигрышным и называлось «baccarat».
Возвращаясь домой ранним утром, я ложился совершенно разбитый и засыпал крепким сном, и во сне мне грезились бесконечные комбинации карточной игры. На первом месте и чаще всех карт я видел пиковую даму, которая в дальнейшей моей жизни была переломной точкой всей моей театральной деятельности. Просыпаясь, я летел на скачки или бега, где, совершенно не зная ни лошадей, ни жокеев, я ставил на цифры, которые попадались мне чаще других по пути к бегам или скачкам. Я был довольно популярен среди игроков, ибо играл я довольно крупно и безрассудно, презирая фаворитов и прислушиваясь к голосу всех темных людей, неизвестно почему называвшихся «жучками» и шептавших вам на ухо имя лошади, которая должна принести крупную сумму выигрыша. И однажды на бегах я увидел на программе лошадь под № 7 под именем Гамлет и, вспомнив знаменитое «быть или не быть», я не долго думая поставил на эту лошадь довольно крупную сумму денег, и впервые судьба мне улыбнулась, и Гамлет, мало-помалу опережая всех, был на финише первым, везя мне выдачу 1036 рублей, что на американские деньги составляло солидную сумму, превышающую 500 долларов.
Театральная жизнь Москвы в это время была кипуче разнообразная. На первом месте стоял МХТ, во главе которого директора Станиславский и Немирович-Данченко каждой своей новой постановкой все более и более привлекали в стены своего театра, тогда еще молодого, публику Москвы. (Описание МХТ и других театров.)
После спектакля московская публика не любила возвращаться домой, предпочитая проводить остаток ночи или в городе в знаменитых тогда ресторанах «Эрмитаж» — [нрзб.], либо мчаться на диких тройках за город к «Яру» или [в] «Стрельну». Когда уже светало, то вся эта публика собиралась в маленьком трактире, который содержал бойкий француз Jean, у которого вся эта полупьяная и полусонная публика глотала наскоро последнюю рюмку водки и закусывала яичницей с ветчиной. Это была последняя остановка, и в седьмом часу весело и шумно все эти люди, делавшие жизнь Москвы, ворочающие миллионами или прожигающие последние свои гроши, возвращались домой, чтобы вечером повторить тот же ритуал.
Жизнь Москвы тогда била ключом. Не видно было никаких туч. Все интересы были довольно обыденны, почти никто, за исключением специалистов, не думал о политике, и все жили одним девизом «день пережить и слава Богу» (Описать торговую Москву и ее отношение к театру. Несколько слов о Савве Морозове268 и о семье Станиславского.)
222 Так передвига[лась] часовая стрелка на больших часах Кремля, и по всей Москве слышен был бой этих часов, звеневших так весело, что жизнь казалась необычайно прекрасной. Как снег на голову вдруг московские газеты напечатали на первой своей странице очень жирным шрифтом о том, что Япония объявила нам войну. Шел такой-то! год269. До этого года так мало кто-либо думал о войне и не мог предвидеть ее, что казалось, что и те, которые занимались только вопросами военными, которые всю свою деятельность посвятили этому делу и карьера которых могла так сильно двинуться вперед благодаря войне, совершенно об этом не думали, не предвидели ее, как не предвидели все обыденные жители Москвы. Враг, которого (в общежитии) оскорбительно звали makaki, был так бесконечно далек, что даже не хотелось о нем думать, но факт оставался фактом, и по улицам несли портреты Государя и стотысячные толпы пели гимны, обещая забросать шапками япошек. Жизнь Москвы ни на йоту не переменилась в это время, как будто стало еще веселее. Вдруг неожиданно появилось много военных, которые стали кумирами толпы. В театрах спектакли начинались гимном, в ревю были вставлены наскоро [со]стряпанные сцены, оскорбительные для японцев, куплетисты на открытых сценах пели куплеты, осмеивая дерзость Японии, и эти куплеты оканчивались рефреном: «шапками закидаем». (Несколько слов о войне.)
Начался набор ратников 1-го разряда, все засуетились, и первые эшелоны торжественно отходили на театры военных действий. На вокзалах толпился народ с криками «ура!» и с пением «Боже, царя храни», и эти толпы народа провожали отходящие эшелоны не с грустью, не со слезами, а как на увеселительную поездку. Москва зажила лихорадочной жизнью. Дамы и барышни московского общества кокетливо рисовались в костюмах сестер милосердия, хотя еще не было ни одного раненого солдата и всех эта война больше забавляла, чем страшила. Пользовавшуюся тогда громадным успехом оперетку «Гейша»270 запретили ставить на сцене во избежание демонстраций. Японские магазины, торговавшие каким-то неизвестным и, кажется, никому не нужным товаром, были заколочены, и владельцы их были высланы из Москвы.
Обо мне как будто забыли. Несмотря на то, что я сам принадлежал к ратникам 1-го разряда, меня не вызывали, и я мысленно льстил себе, что меня вызовут в более серьезный момент, когда вопрос о спасении Родины станет на первый план. Я продолжал посещать театр, ежевечерне появлялся в клубах, где медленно, но верно терял остатки своего состояния. Мир игроков совершенно не интересовался вопросом о войне, и когда в промежутках между одной оконченной колодой карт и приготовлением другой кто-либо сообщал какие-либо новости о войне, его немедленно останавливали словами: «Бросьте это, — тут идет более серьезное дело».
Наступил день, когда рано утром вернувшись домой, проиграв почти все, что у меня было, и думая над тем, как лучше кончить эту пустую и глупую шутку, именуемую жизнью, я увидел на столе повестку из Воинского управления, приглашавшую меня немедленно явиться к воинскому начальнику. Это был великолепный выход из положения, и я, скорее, обрадовался этому приглашению, ибо в Москве ликвидировать мне было совершенно нечего, все счеты с Москвой были кончены, и я уже представлял себе, как двину русские войска на японцев 223 и как победоносно мы вернемся в Москву, которую я покидал пораженный (defeated24*). У воинского начальника меня долго не держали. Небрежно осмотрев мою фигуру, меня признали годным к военной службе, и на другой день мне было приказано выехать в Смоленск, где формировался 13-й корпус. Настроение мое было приподнято, ибо воинский начальник вручил мне 500 рублей на обмундировку и на прогоны до Смоленска, и вечером, может, в последний раз в моей жизни я отправился в клуб, желая проверить отношение ко мне моей судьбы. Как ни странно, фортуна в этот вечер мне улыбнулась, и как будто все игроки, которые обычно обыгрывали меня, тайно сговорились в этот знаменательный для меня день дать мне выиграть, и, взяв в руки колоду карт, я начал метать банк, повторяя слова из «Пиковой дамы», оперы Чайковского: «Сегодня ты, а завтра я — пусть неудачник плачет!» Каждая карта была победой для меня. Я выиграл довольно значительную сумму денег, и так как в семь часов утра мне надо было быть на вокзале, то в эту ночь мне не удалось проиграть выигрыша <…> [с] затаенной грустью, покинув клуб раньше обычного времени и напутствуемый счастливым пожеланием, в туманное ноябрьское утро я, заехав домой за багажом, отправился на вокзал, весело распевая французскую песенку: «Malbrough s’en va-t-en guerre»271. Третья страница моей жизни была перевернута, и перед новым актом моей жизни, актом волнительным, интригующим, занавес медленно поднялся.
Город Смоленск был переполнен военными; всюду слышались разговоры о войне, но все были веселы и не чувствовали никакой тревоги. Даже то, как везли солдат на войну, давало ясное понятие, что никто не верит в продолжительность войны и что война может быть окончена гораздо раньше, чем наш 13-й корпус попадет на театр военных действий. Мне нравилось это определение «театр военных действий», ибо я верил, что моя театральная карьера начнется удачей в этом театре и что на сцене этого театра мне наконец удастся сыграть выигрышную для меня роль. Через неделю мы двинулись в путь. Песенники пели победоносные песни; из солдатских вагонов неслись веселые звуки гармошки и везде царило непринужденное веселье. И вот мы в пути. Навстречу нам попадались санитарные поезда с ранеными, но и эта картина не портила нашего настроения. На 6-й день нашего путешествия поползли слухи о том, что военные действия приостановлены, что объявлено перемирие, но, несмотря на это, мы двинулись вперед все дальше и дальше от Москвы, приближаясь с каждым днем к Сибири. Доехав до Харбина, нам было приказано выгружаться. Было ясно, что слухи не были преувеличены. Харбин был переполнен до отказа. Погода была мерзкая, моросил холодный мелкий дождь, и мы прямо с вокзала отправились в специально заготовленные для нас казармы, в которых оставались до конца января. Мы были уже убеждены в том, что пороха мы нюхать не будем. Дни проходили лениво, бездеятельно. Жили слухами, которые менялись ежесекундно, и, кажется, трудно было нам, оторванным от московской жизни, как-то привыкнуть к этой новой, абсолютно неинтересной и скучной жизни. Но к чему человек не привыкает? И мало-помалу мы начали входить во вкус военной жизни, читая утром вместо газет — военные приказы, занимаясь несколько часов в день 224 военными науками, маршировкой, стрельбой в цель, вообще, всем тем, что абсолютно непригодно к обычной жизни. По вечерам нас отпускали в Харбин, который находился в нескольких верстах от наших казарм, и мы шли в китайские кварталы, где меня лично страшно заинтересовал китайский театр. Это было зрелище совершенно своеобразное. (Описать китайский спектакль.)
Блуждая по грязным переулкам китайских базаров, заходя в маленькие китайские ресторанчики, мы поражались, чем может довольствоваться [в] своей пище китайский народ. По стенам висели сушеные рыбы, высохшие лягушки, засохшие травы и везде преобладал рис, и от всего этого шел такой аромат, который заставлял вас немедленно бежать от этих мест. И в мысли нарисовались московский «Эрмитаж» с его выдрессированной прислугой, с метрдотелем, который говорил на всех языках, и с изумительной русской кухней, в меню которой входили вкусы всех народов, стилизованные à la russe. Обед «Эрмитажа», одного из главных капищ Лукулла, состоял из семи блюд. Все подавалось в большом изобилии. Дирекция обижалась, если какое-то блюдо уносилось недоеденным. К вам немедленно подбегал метрдотель, стараясь выяснить причину вашего неудовольствия, и никак не мог примириться с тем, что ваш желудок не мог вместить в себя всего напечатанного в меню. Когда вспоминаешь, сколько русский человек мог съесть и выпить, можно поражаться, как еще могла существовать Россия. Тогда еще не было разговора о том, что кто-то должен худеть, что нужна какая-то диета, что избыток еды вреден для здоровья, и все ели скорее не для того, чтобы жить, а жили для того, чтобы есть.
На масленицу, один из популярных нецерковных праздников, праздник желудка, вся Москва в течение целой недели пожирала блины. Блины эти подавались в семидесяти видах. К этим блинам давалась икра, семга, лососина и всякие «копчения» (smoked), и блин, раньше чем был съеден, поливался горячим сливочным маслом, покрывался сметаной, густо намазывался икрой и так отправлялся в рот русского гурмана. Обычно держали пари, кто съест больше блинов, и я был личным свидетелем, как один из знаменитых московских едоков довел это количество до 105. Что такое блин? И почему я так долго останавливаюсь на этом пункте? Блин напоминает ваш pancake25*, только он более круглой формы, делается он почти так же, как делаете pancake вы, но более тонкого объема, и едят его не по утрам, но днем, и мое лицо — не знаю почему — люди, претендующие на остроумие, сравнивали с блином.
Покинув берега России, русские привезли в свою горькую жизнь эмиграции свои привычки и вкусы, но этим не ограничились, заставив иностранцев полюбить это русское блюдо, имя которого, несмотря на всю его легкопроизносимость, они никак произнести не могли, и когда какой-либо иностранец попадал в какой-нибудь русский ресторан, будь то в Париже, Лондоне и Нью-Йорке, ему прежде всего предлагались блины, которые были в такой моде последние годы, и раньше, чем съесть блин, всякий иностранец долго и с большим любопытством осведомлялся, как он делается и для чего его едят. Правда, не с меньшим любопытством я смотрел на кучку pancakes, поданных мне за утренним кофе в нью-йоркском ресторане, и никак не мог понять, как может нация, так 225 заботившаяся о том, чтобы не увеличить своего веса, набивать свой желудок куском недопеченного теста, густо политого медом.
Но вернемся опять к Харбину, на театр безмолвных военных действий. Когда стало ясно, что война кончена, вдруг все почувствовали себя героями, несмотря на то, что фактически мы были поражены раньше, чем началась настоящая война. Каждый повторял только одно слово: «Еще бы немного времени, и мы бы забросали эту жалкую японскую армию шапками». Начальство не знало, как убить время, продолжая заставлять маршировать, стрелять в цель, делать парады и прочие военные развлечения, и в свободное от этих развлечений время во всех казармах шла карточная игра. Азарт дошел до высших пределов, и никакие кары, никакие приказы не могли его остановить. Все получали больше, чем могли тратить, играли уже не на какие-либо определенные суммы, а на стаканчики, наполненные золотыми монетами.
Наконец, было объявлено официально о том, что Витте, тогдашний министр финансов, должен выехать в Портсмут272 для подписания мирного договора. И оставаясь телом в Харбине, душой и сердцем мы рвались в Москву, попасть в которую было очень трудно. Эшелоны уходили по очереди. Был конец ноября, и нашему эшелону предписано было возвращаться в марте. Как убить это время ожидания? Все люди от нечего делать начали спекулировать. Покупалось и продавалось буквально все. В то время как один старался избавиться от всего необходимого в военной жизни и совершенно ненужного в частной, другой по известным только ему причинам старался скупить все это за бесценок. Шел снег, какой-то мокрый и грязный. В долгие зимние вечера все эти люди, волею судеб оторванные от своих семей, дел и забот, старались как-то забыться и жили, рассказывая всевозможные небылицы, которым позавидовал бы барон Мюнхгаузен. Но нет ничего бесконечного, и вот настал день, когда наш эшелон начал грузиться. Но так как не хватало пассажирского состава, то людей погружали в товарные вагоны. По российским правилам в товарный вагон могло быть погружено или 8 лошадей, или 40 человек. С лошадьми приходилось считаться, но люди сами не считались с этими правилами и, желая как можно скорее попасть в родные места, набивали вагоны, которые почему-то назывались теплушками, своими телами до того, что никто не мог двинуться. В воздухе пахло смесью сапог, потом солдатского тела и смешавшимся запахом той снеди, которую более запасливые люди взяли с собой. И одно сознание, что мы все едем домой, заставляло нас примириться со всеми этими неудобствами или, вернее, невозможностями передвижения. Все были в веселом настроении, и железнодорожная линия, по которой два измученных тяжестью локомотива тащили бесконечное количество вагонов, оглашалась песнями и звуками гармошек. Каждый эшелон имел с собой как эмблему счастья годовалого медвежонка, который чувствовал себя enfant terrible26* этих простых людей. Подъезжая к какой-либо станции, вся эта бесконечная толпа выскакивала из вагонов, где была радушно встречаема бабами ближайшей деревни, предлагавшими солдатам молоко, яблоки, какие-то куски мяса в обмен за то, что они везли с фронта. Чистый до приезда этого поезда дебаркадер станции вдруг покрывался шелухой подсолнухов, отбросами 226 еды, разбитыми бутылками, и казалось, что эту грязь придется долго, долго вычищать. Вдруг раздавался звук трубы, давались три звонка и так же бешено, как идут на приступ какой-либо крепости, рвались в открытые двери теплушек, путая вагоны, все эти люди, опьяненные сознанием предстоящей свободы.
Но все были настроены очень добродушно и весело. Слышны были шутки, довольно острого содержания, кто-то кому-то кричал последнее «прости», и в то время, как локомотив начинал испускать свои первые пары и отходить от станции, видны были бешено догонявшие этот поезд солдаты, которые, любезничая с бабами, не слышали ни звука трубы, ни звона колокола. Как в наши поезда вбились люди, солдаты, отставшие от своих эшелонов, то же самое повторялось с поездами, идущими позади нас. В начале января мы каким-то чудом все еще живые вернулись в Москву.
На первый взгляд в Москве все было тихо и спокойно. Слышен был перезвон московских колоколов, стояла чудная зима, солнце светило, как бы радуясь нашему приезду, и ничего не предвещало, что в скором времени брат пойдет на брата и польется русская кровь не на поле битвы с врагом, а дома. Одетый в военную форму, я вернулся в ту Москву, где я так долго искал счастья. Вернулся я с громадным запасом энергии, совершенно неиспользовавшейся на фронте, и мне хотелось работать, как в жаркий знойный день хочется пить. Денег в кармане было мало, но я был так счастлив избавиться от харбинского прозябания, что этого недостатка я даже не чувствовал. И остановившись в маленьких меблированных комнатах с громким названием «Кремль», я вечером без всякого предупреждения отправился в один знакомый дом, где случайно праздновался день ангела хозяйки. Все были поражены моему неожиданному приезду и чествовали меня как героя. И по натуре будучи очень скромным человеком, я от этого чествования не отклонился. И в этом доме у меня произошла знаменательная встреча с одним молодым человеком, с которым я учился в одном и том же училище и которого я считал своим другом, несмотря на то, что он был значительно моложе меня. Этот молодой человек был Николай Тарасов273. Имя его ничего не говорит теперешнему поколению. Но в то время он считался видным представителем аристократического купечества, которое давало тон Москве. Узнав, что я остановился где-то в гостинице, он мне предложил немедленно переехать к нему в квартиру, только что снятую им, и в этой квартире я прожил с ним как с самым близким другом, деля с ним все радости жизни и все маленькие горести молодости до того рокового дня, когда в семь часов утра из его спальни раздался выстрел, закончивший красивую и беспечную жизнь одного из лучших представителей нашего поколения, безумно любившего искусство и очень талантливого, не старавшегося как-то увеличить этот талант и рассыпавшего его небрежно и шутя на своем жизненном пути, который был так короток. В день его смерти ему шел двадцать шестой год. Перевернулась еще одна страница жизни.
Как странно было после месяцев скучнейшего прозябания в Харбине вдруг очутиться в центре мысли и русской культуры. Так хотелось делать что-нибудь, чтобы когда-либо иметь право сказать про себя: «И моего там капля меда есть». В то время центром всего того, что как-то мыслило, могло свободно говорить, где спорили об искусстве и где любили его, был Московский художественно-литературный кружок274, членами которого были артисты московских театров, 227 художники, писатели и… зубные техники. Как они могли попадать в число членов, которые подвергались довольно строго баллотировке, было абсолютно неизвестно.
Но зубные врачи почему-то в этом кружке чувствовали себя как дома, и как курьез я вспоминаю визитную карточку одного из них, на которой было напечатано: «Н. Л. Вейсблат, зубной врач и член Московского художественно-литературного кружка». Этот кружок занимал огромный особняк одного тогда очень известного купца, Родиона Вострякова275, славившегося на всю Москву своим гостеприимством и задававшего от времени до времени такие пиры, на которые выписывались повара из Парижа, привозившие с берегов Сены все провизии, фрукты и редчайшие вина. И сколько таких людей было в Москве и как все беспечно жили, никогда не думая, что вдруг, по мановению какого-то волшебного жезла, судьба дьявольски перепутает буквы, составлявшие имя великой России, и перевернет их порядок, сделав из слова «Россия» — «СССР». В Литературном кружке была масса комнат, с двумя громадными двухсветными залами, в которых происходили писательские диспуты, публичные выступления артистов, чествования именитых иностранцев, и стены этого зала были украшены грандиозными портретами Ермоловой и Шаляпина, написанными одним из известнейших художников того времени — Серовым276. И много других картин, изображающих лучших артистов того времени277. Боковая комната, несмотря на всю литературность и художественность помещения, была отведена под игру в карты, и за карточным столом соединялись представители Мельпомены и Терпсихоры. Это было, кажется, единственное учреждение в Москве, где в игорные комнаты допускались женщины, и часто актер, игравший в последнем акте и заканчивавший пьесу последними ее словами, начинал свои следующие слова за карточным столом, повторяя шаблонную фразу, принятую в игре chemin de fer: «Rien ne va plus»27*.
Художественный кружок был очагом свободной мысли, и так как во главе его стояли виднейшие артисты, которые были любимцы Москвы, тогдашнее начальство старалось смотреть сквозь пальцы на все, [что] делалось и говорилось в клубе, не чиня никакие препятствия. Тогдашний градоначальник, будучи сам очень культурный человек, держал в своих руках бразды правления столицей, и если до него доходили слухи или официальные донесения о чем-либо, подтачивающем основы государства, старался избегать официальных выговоров и делал их в шутливой форме, случайно встречаясь с директорами кружка где-либо в театре.
Москва обожала своих артистов, и артисты были влюблены в свою публику. В Москве, как и вообще во всей России, смотрели на театр не как на праздную забаву или пустое времяпрепровождение, а как на рассадник культуры, и Чехов в одной из пьес говорит: в Москве два университета — один на Моховой улице — другой в императорском Малом театре.
Актеры Москвы жили общими интересами. Это была одна семья. Все знали друг друга, и генеральные репетиции в каком-либо из театров наполнялись прежде всего актерами всех других театров. Как-то странно было, очутясь в эмиграции, видеть, что заграничные артисты жили совершенно разрозненно, совершенно не интересуясь друг другом и не имея никаких общих интересов. Ни в 228 одной из столиц мира я не мог найти какого-либо учреждения, объединявшего всех артистов.
Кумиром и учителем Москвы был тогда Л. Толстой, который объединял всю русскую литературу и благодаря которому Ясная Поляна, место, где обычно он жил, была Меккой для всей культурной России. Конечно, все помнят знаменитый репинский портрет, изображающий Толстого в простой мужицкой поддевке и сапогах. Таким его знала вся Москва, таким его знала вся Россия и весь мир. Но «What price is glory?»28*, и однажды во время представления «Плодов просвещения» в московском Малом театре, в stage door29* зашел человек, одетый в крестьянский полушубок и спросивший у stage door man’а30*, нельзя ли ему увидеть директора театра, на что stage door man возмущенно ответил: «Еще вопрос — будет ли с тобой говорить директор». Несмотря ни на какие доводы и напоминания своей фамилии, door man ни за что не пропускал графа за кулисы, и если бы не случайное вмешательство одного из артистов, случайно увидевшего графа в таком положении, Л. Толстой в этот день за кулисы не попал бы.
Прошли те времена, когда актер был крепостным, когда быть актером считалось унизительным и когда актера не пускали ни в какой приличный дом. Прошли те времена, когда прислуга, докладывая о визите какого-то актера, обычно слышала от своих хозяев один и тот же ответ: «Что просит?» Актеры времен, о которых я говорю, были желанными гостями во всех лучших домах московской аристократии и буржуазии. Они вносили с собой оживление, радость, каждому хотелось видеть ближе своих любимцев и слушать разные анекдоты из кулисной театральной жизни. Как пример таких анекдотов, я позволю себе привести один из них. В театре Корша, в одном из самых старых театров Москвы, служил очень долго один актер, игравший только роли лакеев. Никаких других ролей ему не поручалось. Но лакеев он играл бесподобно. Вот однажды заболевает один из актеров этой труппы, и пьесу приходится внезапно заменять другой. Так как одного из исполнителей, игравшего в этой пьесе роль какого-то графа, не могли нигде найти, то его роль передали этому актеру, который долго отказывался, но которого в конце концов уговорили сыграть роль графа, чтобы выручить спектакль. В том же театре служил один из известных артистов того времени, Киселевский278, которого немедленно вызвали, известив его о перемене спектакля. Актер этот отличался тем, что никогда не учил никаких ролей, играя все под суфлера, и, явившись в театр и небрежно спросив, какая пьеса идет, переодевшись и загримировавшись, он вышел на сцену, и несмотря на то, что суфлер надрывался, подавая ему реплику, начинавшую акт, Киселевский никак не мог ее принять. И увидя перед собой этого актера, игравшего всю жизнь только лакеев, он, чтобы выиграть время, надеясь в конце концов услышать свою реплику, небрежно обратился к нему со словами: «Любезный, подай-ка мне сигару», и какой ужас отразился на его лице, когда он услышал робко в ответ своего партнера: «Иван Платонович, я сегодня сам граф».
Победоносные войска, правда не одержавшие никакой победы, продолжали возвращаться домой. Все было как будто тихо и спокойно, и вдруг грянул гром. (Описать 1-ю революцию.) Закрылись все театры, и стало тихо, тихо. В этой тишине 229 еще громче были слышны бесконечные ружейные выстрелы, какие-то дикие, взывающие о помощи крики, слышались топот лошадей и бряцание сабель. Пустые улицы неожиданно наполнялись народом, бегущим от смерти, которой он избежал на поле битвы. Все старались не выходить на улицу, запершись в своих домах, не будучи в состоянии узнать подробности всей трагедии улицы.
Выйти из дому было опасно. Какая-либо шальная пуля могла сразу окончить ваше существование, и редкий безумец в поисках сильных ощущений все же выходил, чтобы лично убедиться, что происходит на улице. Электричество полугорело, телефон полуработал и, не зная, как дома убить время, когда на улицах убивали людей, мы, убегавшие и ненавидевшие кровопролитие, предавались мирной игре в карты, сидя в своих квартирах как в крепости. Мне не хочется говорить о правительственной политике того времени по двум причинам: во-первых, как говорят французы, «je suis trop poli pour parler de la politique»31*, а, во-вторых, может быть, и потому, что все актеры были так далеки от политики, что в ней ничего не понимали.
В один день, когда зимнее солнце осветило Москву ярче обычного, вдруг выстрелы замолкли, и первая революция как будто неожиданно закончилась. Народ высыпал на улицу, пользуясь той свободой, которой не добились убитые за эти дни. Московский Художественный театр решил, что в такое время, когда русский народ переживает такую трагедию, он не может открыть своих дверей для публики и что должен в виде протеста и сочувствия временно закрыться. Но так как это было частное учреждение, которое не могло себе позволить не работать, то собрание пайщиков решило временно выехать за границу на гастроли в Берлин, который так долго и тщетно добивался приезда этого театра279. После долгих хлопот и мытарств им было дано это разрешение, получив которое театр немедленно выехал280. Покинуло столицу, может быть, побеждаемое теми же чувствами или только чувством страха, что все это может повториться, и большое количество москвичей; [они] направились на берега Средиземного моря, чтобы спокойно сидеть за зелеными столами рулетки в Монте-Карло или свободно дышать воздухом Ниццы и любоваться прибоем волн. Их примеру последовал и я со своим неизменным другом Тарасовым. И сидя в Монте-Карло, читая восторженные отзывы берлинской прессы о спектаклях МХТ, мы как-то внезапно очутились в Берлине и в тот же вечер были на спектакле.
Зал был наполнен лучшей публикой Берлина. Несмотря на то, что пьеса шла на русском языке, немцы слушали ее с громадным вниманием. Язык не играл никакой роли, и в конце каждого акта раздавались такие аплодисменты, что приходилось давать занавес до 15 – 20 раз. Но расходы на поездку и бюджет самого театра, привыкшего жить на большую ногу, были так велики, что, несмотря на переполненные сборы, театр терпел громадные убытки, и в первый же вечер я, попав за кулисы, с прискорбием узнал, что со дня на день они должны будут вернуться в Москву за неимением средств для продолжения дела. Директор театра Немирович-Данченко с грустью сказал мне, что «только чудо может помочь нам». На мой вопрос, сколько им нужно денег, чтобы не покидать Берлин, он мне ответил с грустной улыбкой, что им не хватает 30 000 рублей. Вернувшись в зал, я рассказал об этом своему другу, который, обладая большим состоянием 230 по тому времени и обожая этот театр, ответил мне, чтобы я немедленно пошел за кулисы и предложил бы им эту сумму якобы от своего имени.
На сцене шел 3-й акт «Вишневого сада», и до кабинета директора, в который вошел я с этим волнующим предложением, донеслись слова: «Вишневый сад продан». Как бы в ответ на эту реплику я, обращаясь к Немировичу-Данченко, сказал: «Нет, он еще не продан», и передал ему, что с деньгами вопрос улажен и деньги будут внесены ему завтра. Он был так взволнован, что не мог произнести каких-либо слов и только крепко пожал мне руку.
После спектакля я вернулся за кулисы, чтобы представить директору театра Тарасова, который еще раз сказал мне, чтобы я не упоминал его имени и что деньги эти как бы даются театру от моего имени. За кулисами чувствовалась атмосфера ликования. Все были счастливы подольше остаться в Берлине, веря в то, что гроза, повисшая над Россией, пройдет очень скоро. И все после спектакля, по русскому обычаю, отправились праздновать это событие. Вернулись домой мы или очень поздно ночью, или очень рано утром — не помню, но через день меня уже вызвала дирекция театра, чтобы оформить эту сделку. Я не мог скрыть поступка Тарасова и назвал Немировичу его фамилию. Немирович был еще более тронут, ибо Тарасов был совершенно незнаком ему и поступок его, следовательно, был совершенно бескорыстен. Директор театра принимал этот вклад, делая нас пайщиками театра, а Тарасова, кроме того, одним из директоров театра. Видно, у одного из нас была счастливая рука, ибо вдруг, по неизвестным причинам, дела стали исправляться, и однажды по всему городу были расклеены громадные плакаты, извещавшие о том, что по повелению Kaiser Wilhelm’а вместо объявленной в этот вечер пьесы Ибсена «Доктор Штокман» пойдет «Царь Федор Иоаннович» Толстого.
Вечером спектакль носил парадный вид. Театр был наполнен германской аристократией, представителями двора и военными. Спектакль начался ровно в восемь часов, и ровно в восемь часов вечера в ложе появилась Kaiserin32* в сопровождении Вильгельма, одетого в русскую форму. Весь зал поднялся. Тогда еще не было в обычае поднимать руки, направленными к Führer’у33*, и я думаю, что никто из присутствовавших в зале не думал, что когда-либо настанет момент, когда весь германский народ, обожавший своего императора, заменит свое обычное «Hoch»34* словами «Heil Hitler»35*. Вначале артисты волновались, но вскоре освоились, и спектакль шел с большим нервным подъемом. Во втором антракте Вильгельм вызвал к себе в ложу директоров театра Немировича и Станиславского и благодарил их за минуты художественного удовольствия. И перед тем как кончить беседу он совершенно неожиданно попросил переводчика передать им следующее: «Все симпатии государыни на стороне царя Федора, но, как это ни странно, я душой более симпатизирую Борису Годунову».
На этом беседа закончилась, каким-то чудом слова эти передались по всему залу, и в антракте все шумно дебатировали на эту тему. Успех спектакля рос с каждым актом, и когда пьеса кончилась, император, как бы давая пример всем 231 присутствующим, продолжал долго аплодировать, и его аплодисменты сливались с бурной овацией всего зала по адресу артистов, имена которых никто даже не мог произнести.
На другой день все газеты были переполнены отчетом этого спектакля. Император давал как будто пример своему народу, и с этого дня над кассой театра ежедневно висело объявление о том, что билеты все проданы.
Раскаты грома над Россией делались все тише и тише, и МХТ в один из зимних дней, увозя с собой лавры и газетные вырезки и опьяненный победой, [ради] которой была пролита масса чернил на критику и ни капли крови, выехал в Россию281. И в этот день начальник станции не знал, как ему справиться с провожающей публикой. На перроне русская речь сливалась с берлинской. Вагон, в котором возвращалась труппа, забрасывался цветами, и вдруг совершенно неожиданно поезд бесшумно двинулся, и долго еще неслись вслед уходящего поезда приветствия, слезы восторга и крики умиления. Когда поезд совершенно скрылся, как будто по какому-то тайному соглашению вся находившаяся на перроне публика произнесла как один человек одно слово из чеховской пьесы «Дядя Ваня»: «Уехали».
Театр победоносно вернулся в Москву, где так же шумно и еще более торжественно лучшая часть Москвы встречала свой любимый театр, своих любимых артистов. С бурными криками радости, с цветами, качая в виде приветствия каждого выходящего из вагона артиста. Прошли дни празднеств, банкетов, посвященных театру. Прошел угар, и театр ушел в себя и погрузился в работу.
Я был назначен личным секретарем Немировича-Данченко. Но меня тянуло на сцену, и я не раз, делая ему дежурный доклад, намекал о своем желании выступить на сцене хотя бы в безмолвной роли. И когда чего сильно желаешь, то желание часто осуществляется.
Карьера в театре почти всегда делается или в каком-либо случае, или на каком-либо несчастье. Совершенно случайно заболевает актер, игравший в «Вишневом саде» Прохожего, и я был вызван срочно на репетицию, и сам Станиславский прошел со мной несколько раз мою роль. Выйдя из театра, я как пьяный ходил по улицам Москвы, повторяя чуть ни вслух тридцать слов роли, которая должна была решить всю мою дальнейшую судьбу. В 6 часов вечера я был уже в театре и сидел в уборной, готовясь к гриму, но руки мои так дрожали, что я только размазал на своем лице краски, совершенно еще не зная их секрет. Когда в 7 часов стали сходиться участники этого спектакля, каждый из них старался как-либо помочь мне. В этом театре, по крайней мере в ту эпоху, совершенно отсутствовали ревность, зависть и недружелюбие и только, может, в одном театре во всем мире, в МХТ, актер, игравший сегодня главную роль, завтра мог быть в толпе, которую он бы воодушевлял и симпатизировал, и эта толпа, когда бы она ни выступала на сцене театра, она была на одном уровне с первым персонажем. Никто из составляющих эту толпу не стыдился своего положения, сознавая, что будет день, когда и он будет на первом плане.
В театре актеры могли играть первые роли, могли получать большие или меньшие оклады, но во всем остальном все были равны, и стоявшие во главе этого театра делали все возможное, чтобы этот принцип оставался всегда в стенах 232 театра, и один из лучших артистов театра — Москвин, выступающий сегодня в роли царя Федора, завтра с такой же любовью выступал в толпе, нападавшей на доктора Штокмана, и этот ансамбль, эта безумная любовь к делу создали театру всероссийскую славу, которая докатилась далеко за пределы России.
Мне хочется немного дольше остановиться на этом театре, в котором я провел лучшие свои годы и который воспитал во мне страстную любовь к творчеству. Тогда я еще не думал, что когда-либо настанет время, что это искусство, доведенное до высших степеней, будут ставить мне в вину.
Жизнь театра начиналась в 10 часов утра. В вестибюле театра, как [и] за кулисами, висел [рас]порядок работы на каждый день. При театре была студия282, в которой преподавали все артисты театра, и студия эта составлялась из молодых людей обоего пола, которые ежегодно выбирались в начале сезона из массы пришедших на экзамен и приведенных одним желанием попасть в театр. Это был какой-то храм, где творилось большое искусство — каждый попадающий в этот храм как бы давал обет забыть какую-либо жизнь, не имеющую чего-либо общего с искусством, и все находящиеся в театре были фанатиками искусства. Прошедшие этот экзамен избранные поступали в школу и делались членами этой большой семьи. Как уроки в школе, так и репетиции в разных комнатах и на сцене начинались в 10.30 утра, и считалось позором и чем-то необычайным опоздать на репетицию. И только один Станиславский, сам издававший все эти приказы, всегда немного опаздывал и приступал к репетиции, как-то наивно и виновато, детски улыбаясь, старался объяснить причину своего опоздания, причем ежедневно эта причина менялась. Мы все это знали и каждый раз сочувственно принимали его объяснения. Во время репетиции в театре царила священная тишина, и все незанятые на репетиции ходили on tip-toes36*, обмениваясь фразами вполголоса. В 12.30 объявлялся перерыв для завтрака, и, как по мановению какого-то волшебного жезла, сразу раздавался смех, оживленный разговор и все эти жрецы искусства направлялись в буфет при театре, где в течение получаса-часа обменивались остроумными шутками, импровизациями и не чувствовалось никакой принужденности, и случайно вошедший, непричастный к театру посетитель не мог бы сказать, кто в этом театре первый актер, кто только что поступивший. В час с четвертью гонг призывал всех опять на репетицию, опять становилось тихо и опять продолжалась работа и слышны были только реплики репетирующих пьесу.
Одну из репетиций вел Немирович, другую — Станиславский. Принципы в изучении ролей у обоих были совершенно разные, но в итоге они сходились к одному результату.
Немирович-Данченко, будучи сам писателем, объяснял роль каждому актеру с психологической точки зрения. Он старался рассказать актерам обыденную жизнь каждого героя пьесы, его привычки и все мелочи его жизни, давая таким путем актеру возможность нарисовать в своем воображении личность героя, базируясь на его поступках и привычках вне этой пьесы. Немирович-Данченко любил кропотливую работу. Он был тончайшим ювелиром от искусства, и мало-помалу актер вживался в свою роль, принимая образ героя с его привычками, с его внешним образом и характером.
233 Станиславский, будучи сам актером, старался передать лично секрет перевоплощения. Он часто вскакивал и начинал показывать актеру все мелочи, все детали создаваемого актером лица. Голос его необычайно менялся, и, входя на сцену как Станиславский, в течение нескольких секунд он как-то преображался, показывая наглядно актеру то лицо, которое он должен будет показать в пьесе. Перед каждым началом репетиции Станиславский просил всех присутствующих войти в круг. Это было любимое его выражение, обозначавшее, что каждый актер должен на время забыть свое собственное я, забыть какое-либо напряжение, все, чем он жил до начала репетиции, чтобы к концу репетиции быть уже тем лицом, над созданием которого он работал.
И эти оба человека, как бы на первый взгляд не имеющие ничего общего, совершенно различных характеров, темпераментов, а может, в душе различных даже взглядов на искусство, дополняли в совместной работе друг друга, и часто, по крайней мере в годы моего пребывания в театре, Немирович-Данченко звал Станиславского на свою репетицию, как и Станиславский звал Немировича на свою, чтобы поставить свою окончательную точку над «i».
Репетиции шли до 5 часов вечера, а иногда артисты, не занятые в текущих спектаклях, затягивали гораздо дольше, и МХТ отличался тем, что репетировали бесконечно долго. Иногда начинали репетировать пьесу, которая должна была пойти только в следующем сезоне. Невольно напрашивается параллель между русскими и заграничными театрами. В заграничных театрах репетируют 30 дней пьесу, которая идет не менее 300 дней. В Художественном театре репетируют 300 дней пьесу, которая может идти только 30 дней.
В 8 часов вечера начинался спектакль, и двери закрывались для всех опоздавших, которые могли войти в зал только в следующем антракте. Причем в программе объявлялось, что дирекция, извиняясь перед опоздавшими, во избежание нарушения хода спектакля и из уважения к артистам, просит всех опоздавших терпеливо ждать в фойе театра до следующего антракта. Это правило не переделывалось ни для кого, и из любви к театру все молча мирились с этим правилом. И может, Художественный театр был единственным театром в мире, где все места были заняты до поднятия первого занавеса. Интендантом театра283 был гвардейский полковник в отставке, который, привыкший к военной дисциплине, считал, что все правила, вывешенные дирекцией, — это те же военные приказы, и не допускал никаких нарушений. Когда какая-нибудь шикарно одетая дама обращалась к нему с просьбой сделать ей исключение, его плечи пожимались, и он, произнеся только одно слово «приказ», отходил с глубоким поклоном от этой дамы. Был такой анекдотический случай, когда однажды одна из самых известных трагических артисток Москвы, по таланту не уступавшая ни Дузе, ни Саре Бернар, артистка Ермолова, пришла в театр с опозданием и, виновато подойдя к вышеупомянутому полковнику, [по]просила сделать для нее исключение, скромно назвав свою фамилию, полковник попросил ее повторить свою фамилию. «Артистка Малого театра Ермолова», на что полковник с большим достоинством ответил: «Если бы вы были статс-дамой Ермоловой, и то я этого правила нарушить не могу».
Антракты в театре длились довольно долго. Московская публика любила в антрактах гулять в фойе, спорить о только что виденном акте или выпить в буфете чашку чая. Антракты продолжались до 20 минут. Фойе были очень просторны, 234 и дамы могли свободно демонстрировать свои туалеты, которые часто выписывались из Парижа специально для премьеры этого театра. Этот театр был самым любимым театром всей Москвы. В то время, когда московский Малый театр считался домом Пушкина284, актеры которого были долгое время одним из лучших украшений этого театра и благодаря которому русское актерство выросло в глазах общества и стало на равной ноге с ним, Художественный театр называли домом Чехова, ибо этот театр открылся пьесой Чехова «Чайкой»285 и этому театру Чехов отдавал все свои произведения. На занавесе театра была распластана стилизованная чайка — эмблема театра. На сцене театра почти всегда шли пьесы в четыре или пять актов, и четыре раза в вечер публика наполняла фойе и буфет театра, причем в последнем антракте, уже многие проголодавшись, выпивали рюмку водки, закусывая сандвичем с зернистой икрой. Никто не жаловался на длинноту антрактов. Эти антракты считались как бы rendez-vous de la belle société37*, и ни один из театров не мог бы рискнуть сократить их продолжительность, хотя бы из боязни потерять свою публику.
Художественный театр революционным путем нарушал все театральные традиции, которые годами усваивались в других театрах. Как была поражена вся публика, когда, войдя в этот театр, они не увидели оркестра, который в других театрах, как в начале спектакля, так и во всех антрактах, играл музыкальные произведения, ничего общего с пьесой не имеющие. Стены в фойе театра были украшены портретами великих писателей, как русских, так и иностранных, классические произведения которых шли на сцене этого театра и попасть в галерею этих портретов считалось очень лестным для каждого писателя. И может быть, это был также единственный театр, который уважал критику, не считая ее за врага, и на стене фойе театра висел портрет одного из лучших критиков того времени, который [нрзб.] уважать работу театра, хоть резко критиковал всю его деятельность286.
Коридоры театра были устланы тяжелыми коврами, по которым бесшумно двигались зрители. Может быть, первым и единственным Художественный театр рискнул ввести абонементы, которые состояли из пяти пьес, объявляемых в репертуаре текущего года, и иметь такие абонементы считалось гордостью каждого москвича. Эти абонементы упоминались даже в завещаниях.
Спектакль обычно кончался не раньше 12 часов ночи. Раньше чем покинуть театр, вся публика долго аплодировала своим любимцам, с которыми она встречалась в каком-либо ресторане Москвы после спектакля. Почти никто из бывших на спектакле не шел прямо «домой», и все рестораны Москвы были заполнены театральной публикой. Ни дамы, ни мужчины не боялись полнеть и ели и пили на ночь довольно плотно. Может быть, только русский желудок мог переварить все то, что съедалось перед отходом ко сну. Засыпали мирно и спокойно, зная, что и завтрашний день принесет какие-то маленькие радости, какие-то новые веселые события. Все старались забыть о грозе, пронесшейся над Россией, и никто не мог думать, что настанет день, когда густые тучи еще раз нависнут над любимой Москвой. И невольно вспоминаются слова поэта: «Москва… как много в этом слове для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось»287.
235 ВНЕ ОЧЕРЕДИ288
Одной из самых блестящих постановок Художественного театра была классическая пьеса Грибоедова «Горе от ума»289. Эту пьесу репетировал Немирович-Данченко, и к этой постановке отнеслись особенно внимательно, ибо пьеса эта в течение многих лет ставилась на сцене Малого театра, где ее играли образцово. Приходилось как бы конкурировать в постановке. Но Художественному театру было необходимо иметь в своем репертуаре одно из лучших произведений русской классики, и, ставя это произведение, дирекция отнюдь не руководствовалась каким-либо тщеславным желанием лучшей постановки. К этой постановке готовились очень долго. Для Художественного театра цензура разрешила запрещенные раньше места290, и вся Москва волнительно ожидала этого спектакля, боясь, что их любимый театр должен будет уступить пальму первенства в этой постановке Малому театру.
Третий акт пьесы «Горе от ума» был самый трудный для режиссера. Нужно было на сравнительно небольшой сцене дать картину бала у богатого вельможи Фамусова. И тут Немирович-Данченко показал все свое мастерство и весь свой гений режиссуры. На репетициях сцена представляла из себя шахматную доску, каждый квадрат которой был занумерован, и лица, участвующие в этом бале, имели каждый определенное место и двигались по приказу режиссера — особенно в первое время, — как двигаются фигуры в игре в шахматы и мало-помалу все освоились со своими местами, каждый пунктуально знал свое переходное место, и уже на последних черновых репетициях было видно, что этот акт будет иметь самый большой успех.
На репетиции был приглашен генерал Стахович291, который специально занимался с генералом Скалозубом292, показывая ему военные манеры, а остальных артистов учил умению, как надо держать себя в хорошем обществе.
Роль Фамусова играл сам Станиславский, который нарушил все традиции этого классического образа, и театр вперед знал, что толкование этой пьесы Московским Художественным театром вызовет большие споры и даже брань у старых театралов. На генеральной репетиции присутствовала вся театральная Москва и все артисты, когда-либо занятые в этой пьесе в московском Малом театре. Первые два акта прошли с большим успехом, несмотря на то, что многие из публики, сравнивая исполнение Малого театра с исполнением МХТ, говорили, что в этой пьесе у Малого театра нет конкурентов, что артисты Художественного театра еще не доросли до понимания этой классической пьесы. Но когда поднялся занавес перед третьим актом и перед зрителями закружились пары в танцах того времени, и когда во время этих танцев исполнители вели диалог, в котором ни одно слово не пропадало, когда все чувствовали, как гениально режиссер привел [все] к одному знаменателю, то зал в порыве восторга как бы привстал, разражаясь бурей аплодисментов, которые на несколько минут прервали ход спектакля. Каждый из маленьких артистов, участвующих в этом акте, до последнего статиста включительно, как бы понимал возложенную на [него] миссию, и в этот вечер все превзошли себя, и даже старые театралы не могли сдерживать своего восторга, и по окончании этого акта занавес поднимался бесконечно, 236 причем артисты чуть ни силой вывели режиссера, который неловко раскланивался перед восторженной публикой. В городе постановка этой пьесы стала злобой дня. Все газеты посвятили очень большие статьи этой постановке, начались литературные диспуты о том, правильно ли понимает Художественный театр это классическое произведение, и после этой постановки, несмотря даже на то, что публика разделилась на два враждебных лагеря, театр этот занял еще более высокое положение в глазах московской публики.
ВНЕ ОЧЕРЕДИ
В то время вся культурная Москва, неизвестно по каким причинам, зачитывалась Кнутом Гамсуном, и однажды Художественному театру предложили поставить одну из его пьес под названием «У царских врат». Пьесу эту ставил Станиславский. Пьеса была написана довольно сумбурно, и как режиссер, так и актеры долго бились над задачей ее разрешения. Несмотря на то, что сам Станиславский восторгался этой пьесой, все исполнители относились к ней иронически и были уверены в ее провале. Так как Художественный театр считался театром передовым, одной из главных задач которого было знакомить публику с новыми течениями литературы, то Станиславский, несмотря на всю создавшуюся вокруг него неприятную обстановку, все же довел эти репетиции до спектакля. Уже на генеральной репетиции чувствовалось неприязненное отношение к пьесе. Многие из зрителей вообще не понимали ее содержания, у других почти каждая фраза вызывала взрывы смеха. Когда опускался занавес в конце каждого акта, то робкие аплодисменты людей, боготворивших этот театр и всю его работу, заглушались свистками, причем, когда занавес раздвигался и актеры выходили на сцену для поклонов, то многие демонстративно вынимали ключи и свистели в них, чтобы свист был более пронзительный. Критика, за редкими исключениями, отнеслась к спектаклю очень критически. Пьеса не удержалась в репертуаре293, и несмотря, повторяю, на всю любовь публики к этому писателю.
Самое яркое воспоминание из жизни, связанной с Художественным театром, была личность Крэга, выписанного специально для постановки «Гамлета» на сцене Художественного театра. Человек этот совсем не говорил по-русски, и репетиции велись через переводчика. На актеров или толкование ролей он почти не обращал никакого внимания, сосредоточивая его только на декорационной стороне спектакля. После сотни репетиций, после массы всяких скандалов «Гамлет» был поставлен294. Критика отнеслась очень строго к этому спектаклю. Эта пьеса вообще не удержалась в репертуаре Художественного театра. Но у меня с этой постановкой и с личностью Крэга [связаны] самые дорогие воспоминания. Ибо, во-первых, в этом спектакле я почти впервые заговорил на сцене Художественного театра. Я играл 2-го могильщика и думал, что играю эту роль гениально. Но на следующий день после премьеры один критик написал: «Молодой артист Балиев играл роль 2-го могильщика и на сцене рыл могилу. Самое лучшее, что он мог сделать, это похоронить себя в этой могиле». Во-вторых, потому что пародия на этот спектакль, поставленная мною в подвале «Летучей мыши»295, имела такой ошеломляющий успех, что даже сам Крэг, против которого было направлено все жало сатиры, смеялся и аплодировал больше всего.
237 Мне давали мало говорить на сцене, но я всегда во всех своих ролях был на первом плане, и как бы велика толпа ни была, меня невольно замечала публика. Однажды мне безумно захотелось говорить, и, воскликнувши, как Толстой, «не могу молчать», я решил, работая параллельно в Художественном театре, создать что-либо такое, где бы я мог делать то, чего я не мог делать в Художественном театре, — говорить. Рассказав свои идеи моему другу Тарасову и получив от него благословение как морально, так и финансово, я нашел в одном из переулков близ реки Москвы подвал, в котором и начала свое существование «Летучая мышь». Меня часто спрашивали, почему я дал своему театру такое название, которое как будто ничего общего с театром не имеет.
Объяснение гораздо проще, чем все думали. В то время, когда я подписывал контракт на этот подвал, из угла выпорхнула летучая мышь и вцепилась в мои волосы. Это было давно, более 25 лет тому назад, когда я еще имел кудри черные до плеч. Как будто сама судьба мне подсказывала название моего театра, и уже в контракте я назвал свое будущее кабаре этим названием, чтобы какие-либо посторонние влияния не могли бы изменить решение судьбы.
Подвал этот на первый взгляд был так запущен, все углы были покрыты паутиной, чувствовалась какая-то сырость и затхлость и никто не мог бы предположить, что в этом подвале будут собираться лучшие артисты, художники и писатели Москвы, где будут зарождаться новые идеи и где будет осмеиваться все, что достойно осмеяния296.
Начиналась «Летучая мышь» как клуб, где я и Тарасов как основатели этого клуба выбирали двух новых членов, причем первое время членами могли быть только артисты. Выбрав двоих, уже четверо выбирали пятого, и в таком порядке были выбраны 40 человек, именами которых — может быть, только за исключением моего — гордилась Москва. Помещение вмещало вообще не более 80 человек, и каждому из членов предоставлялось право приглашать одного гостя, причем этот гость должен был быть также актером или актрисой какого-либо театра. Несмотря ни на какие правила и декреты, были вечера, когда в подвале было около 200 человек. Дышать было абсолютно нечем. Двинуться было почти невозможно, и, несмотря на это, каждый четверг и субботу подвал был наполнен до отказу. В первом из углов подвала стояли подмостки, около них маленькое пианино, в другом углу напротив был буфет, и каждому из приходящих гостей ставилось правило принести с собой какую-либо еду и какое-либо вино. Все это выкладывалось на стойку буфета для общего пользования. Никто из представителей прессы или людей, не причастных к искусству, не допускался. Как бы велико положение какого-либо лица ни было, какие бы громадные суммы ни предлагались за право входа, правило это, в особенности в первый год существования «Летучей мыши», ни при каких обстоятельствах не нарушалось.
29 февраля 1908 года подвал «Летучая мышь» праздновал свое открытие в день Кассиана Преподобного, в день, совпадающий с первым днем масленицы, когда вся Москва праздновала день Кассиана. (Описать день Кассиана.) В этот день в подвале было до 180 человек. Все, чем гордилась Москва, было представлено публикой этого вечера. Актеры, чувствуя себя как дома, старались каждый дать в виде подарка на новоселье часть своего таланта, причем каждый актер должен был показать на подмостках «Летучей мыши» что-либо, ничего общего с его 238 дарованием не имеющее, и Станиславский, режиссер Художественного театра и главный его директор, выступал в роли фокусника; Собинов, знаменитый тенор того времени, пел репертуар Шаляпина; кн. Сумбатов-Южин, герой на сцене московского Малого театра, пел злободневные куплеты; Балашова, одна из лучших балерин московского балета, читала драматические отрывки, и Бравич297 танцевал мазурку. Никто никого не уговаривал, никто не ломался, все веселились для себя. В подвале не чувствовалось времени, и когда часовая стрелка приближалась к 7-ми утра, люди начинали расходиться. И на другой же день стоустая молва облетела всю Москву, и в газетах появились краткие отчеты, причем каждый из писавших отчет упомянул, что он пишет со слов очевидцев.
Всесильная пресса первое время даже не знала, как реагировать на то, что ее не пускали в подвал, но с этим надо было примириться, ибо это было решение. Но и нельзя было обвинять кого-либо из них, а пришлось [бы] обвинить всех. Следующее очередное собрание было также многолюдно, но уже у дверей пришлось поставить швейцара-цербера, ибо к дому, в котором помещался подвал, подъезжало так много автомобилей и саней, подвозивших без конца самую шикарную публику города, которая надеялась как-либо попасть в подвал, но ни для кого и в этот день правило не было нарушено. Как всякий запрещенный плод, этот плод был особенно вкусен. Уже в газетах стали появляться статьи возмущения, уже в публике стали раздаваться недовольные голоса по адресу своих любимцев и уже московский градоначальник должен был дать нам на помощь наряд полиции, который не допускал какого-либо насилия над швейцаром, ограждавшим вход в подвал «Летучей мыши». У входа в подвал стоял аналой, на котором лежала громадная книга, и каждый входивший должен был расписаться в этой книге. В швейцарской висело объявление: «Просят каждого посещающего “Летучую мышь” оставлять в прихожей галоши, верхнее платье, шляпы, палки и зонтики, а также мрачное, пессимистическое настроение», и все подчинялись и этому правилу и входили в зал с веселыми, возбужденными лицами. Стены подвала были украшены карикатурами на все злобы дня театральной жизни Москвы. Плакаты эти писались лучшими художниками Москвы и за 15 лет существования театра могли бы стать библиографической редкостью, если бы вихри революции не разнесли их забрызганными кровью, смешанными с грязью по мостовым Москвы. Плакаты эти менялись для каждого очередного собрания. Слухи о том, что творится на этих собраниях, принимали фантастическую форму, и, несмотря на все уверения присутствующих, в Москве говорили, что там творится что-то такое, о чем публика и пресса не должны знать. Несмотря на то, что клуб имел официальный устав, градоначальство было взволновано наплывом публики, которую приходилось разгонять чуть ли ни силой, а главное, невероятными слухами о происходившем в стенах подвала, и однажды я получил неофициальное письмо от самого градоначальника с просьбой пропустить его на один из вечеров «Летучей мыши», причем в письме он подчеркнул, что он хочет явиться не как официальное лицо, а как друг театра. Ему отказать было никак нельзя ни при каких условиях, и однажды ночью дежурный пристав сообщил по телефону, что через 20 минут градоначальник будет гостем «Летучей мыши». Это был светский генерал298.
239 ПОДВОДЯ ИТОГИ
Письмо Никиты Балиева Юрию Ракитину
Публикация, вступительный текст
и примечания В. В. Иванова
Никита Балиев, в отличие от большинства русских театральных эмигрантов, сумел многого достичь. Его театр «Летучая мышь» в разных модификациях просуществовал вплоть до начала второй мировой войны, уцелев даже после смерти создателя. Балиев добился материального успеха, чего не удалось ни одному русскому театру в эмиграции. Тем не менее письмо написано человеком проигравшим. Последнее слово здесь тем уместнее, что Балиев был и оставался игроком в жизни и искусстве. Остатки состояния, потерянного в годы Великой депрессии, он буквально проиграл в карты. Горечь потери родины умножается в письме ясно проступающей потерей театральной уверенности, ощущением, что «Летучая мышь» в ее сложившемся виде как художественное начинание кончилась. Балиеву казалось, что для того «хама», который заполнил зрительные залы едва ли ни всех стран, пустой звук все, что для артиста свято в искусстве. Он не без основания готов даже предположить, что иссякает время театра как такового, не выдерживающего натиска заговорившего Великого немого. Письмо Балиева позволяет составить представление не только о фактах последних лет жизни артиста, но и о его внутреннем, душевном состоянии в преддверии конца. Существенной представляется и затронутая в нем попытка радикальной реформы традиционной «Летучей мыши», предпринятая в 1931 г. в связи с постановкой «Пиковой дамы» и закончившаяся неудачей.
На протяжении 20 – 30-х гг. Ю. Л. Ракитин299 работал в Белграде. Его уверенное и стабильное положение было предметом зависти многих в среде русской театральной эмиграции. А между тем его судьба была исполнена жесточайшего драматизма, о чем свидетельствует, например, переписка Ракитина с Н. Н. Евреиновым, с которой читатель может познакомиться в этом разделе альманаха.
Письмо публикуется по оригиналу, хранящемуся в архиве Ю. Л. Ракитина (Театральный музей автономного края Воеводина, Нови Сад).
Н. Ф. БАЛИЕВ — Ю. Л. РАКИТИНУ
[14 марта 1933 г., Лондон]
Дорогой, милый Юрочка,
Вы себе представить не можете, как я был счастлив получить Ваше поздравление, пришедшее в самый день юбилея. Вы понимаете, как мне было дорого, что Вы, один из самых близких мне людей, вспомнили меня в этот день и своим письмом напомнили мне обо всем, что ушло безвозвратно. Праздновать эту дату мне пришлось в чужом городе среди чужих мне людей. Утром и вечером были спектакли, и хотя вся публика знала, что это юбилейные спектакли, и хотя при моем появлении играли туш, публика никак не реагировала. Были те же аплодисменты, которые я слышу каждый день. После спектакля на сцене было устроено чествование театра, при участии только английской прессы, которая пришла не столько из-за факта — юбилея, а пришла — чтоб быть этичной. Вначале 240 было все очень церемонно, но после бутылки толстобрюшки я захватил эти 150 человек и делал с ними все, что мне было угодно, до утра. Они ушли под впечатлением, что такой [оргии] они доселе не видали — но, может, благодаря только тому, что я сделал их юбилярами и весь вечер работал как вол, чтоб поддерживать то настроение, которое каждую минуту могло исчезнуть. Но ни в душе, ни в сердце я не испытывал того трепета, который в таких случаях захватывал меня в Москве. И что я им и что им Гекуба? Ну, вот прошла ночь. Я пришел в театр, который чистят, убирают и превращают в будничный вид. В театре ни души, я один, и, как чеховский суфлер, я хожу по полутемной сцене и шепчу про себя… Зачем я не в Москве! Зачем я не среди своих. Зачем мой юбилей совпал с 13 числом и понедельником. Какие-то шорохи, какие-то скрипы, и я вспоминаю все старое. Вы пишете мне несколько слов упрека. Неужели Вы думаете, что, протекай моя деятельность в Москве — Ваше имя было бы забыто, затеряно? Но сейчас, когда мы на чужбине, когда имена оцениваются только получаемыми окладами, когда даже имя Станиславского для всех иностранцев какое-то непонятное, невыговариваемое соединение букв, представило бы Вам интерес, если б где-либо упомянул Ваше имя. Ваше имя, Вы сами — сохранили ту же свежесть, ту же радость в моем сердце. И читая Ваше письмо, я в какие-то несколько минут пережил все невозвратное прошлое. Да неужели Вы можете хоть секунду думать, что я не отдал бы всей роскоши вчерашнего чествования, всей этой своры чужих мне людей за компанию в 5 человек у себя в Гнездниковском переулке? У себя! Да разве что-либо принадлежит нам. Раньше говорили: Бог дал, Бог взял… Теперь отбирает все человек. Люди перестали быть людьми, и то, что делается сейчас, не поддается никакой логике. Мы работаем по инерции, ибо прекрасно сознаем, что то, что мы делаем, никому не нужно… Все [изжито], все пропало, и только мы ждем момента, когда «спасибо сердечное нам скажет русский народ». А он безмолвствует… Заговорил Великий немой. Который заговорил так громко, что не слышно ничего кругом. И захирел, отошел на второй план пока и, должно быть, отойдет скоро в вечность — театр. Старик 2000 лет! Сейчас старики не нужны. Нужны комсомольцы! Нужно машин! Искусство — слово никому не нужное. А мы еще бредим этим искусством. И Вы, и я, и немного других остались идеалистами, когда уже давно в моде — одна только пошлость. В свое время я имел много предложений в кинематограф. Когда он был нем. Говорили, что я фотогеничен, что у меня чудная для экрана мимика — но тогда я с презрением говорил, что родил меня театр, и на сцене я кончу свои дни. Но все перемешалось, перепуталось. И уже нас никто не зовет. Мы не могли угадать будущего и остались в прошлом. В тени славы, почета… А делают дело другие. Неизвестные, без всякого стажа. Люди с улицы. Случайно попавшие на экран, случайно ухватившиеся за славу и так же случайно уходящие в неизвестность. Имя Ермоловой, Станиславского росло годами. Имена теперешних знаменитостей — мыльный пузырь.
Извините за «немного философии», но в мои годы уже хочется философствовать, ибо уже не верится, что даже через 200 – 300 лет жизнь станет невыразимо прекрасна.
И с криком «Эй, ухнем!» мы тянем канат искусства. И все труднее его тащить, ноша все тяжелее. И жертвы никому не нужны. И после всех юбилейных 241 речей, и где «дорогой шкаф» повторялся сотни раз300, хочется бросить вся и всех и удалиться под сень струй — пока тебя не ушли.
А ведь только 25 лет тому назад мы были молоды, веселы, верующи… И чего только нельзя было сделать с нами.
Но ушла наша публика. Революция, война, кризис — заставили уйти в подполье нашу публику. Она сократилась, стесняется показываться, и воцарился хам. Улица! Которой нужны убийства на сцене, на экране, которой нужен разврат… И не поспеть за их желаниями, так они быстро меняются. А мы те же! И потому побеждены.
Вчера на юбилее был Ф. Ф. Комиссаржевский. Он ставит на бумаге «Макбета». Для кого… Только для себя и Шекспира. Последний в могиле, а первого любовь к Шекспиру сведет в могилу. Мечтатель, и потому без денег. И без работы301.
Вот, дорогой Юрочка, моя сторона жизни абстрактная… А деловая — следующая. В позапрошлом году я поставил «Пиковую даму» с иностранными артистами, с гениальными декорациями Анненкова302. И этот опыт обошелся мне безумно дорого. Пушкина здесь не знают. Ибо играли великолепно. Поездка в Америку с «Пиковой дамой» на гарантии в 5000 долларов от лучшего антрепренера Шуберта303 совпала с его банкротством. И подписав контракт с артистами на 20 недель, я не получал от Шуберта ни копейки и должен был расплачиваться за все сам. А это совпало с грандиозным крахом в Америке… Кроме того, «Пиковая дама» не взяла публику, и связанный контрактом с английскими актерами, я тянул этот воз 20 недель, потеряв на этом состояние в долларах. Кроме того, бумаги американские, в которые вложен был мой капитал (а не Маркса), также дошли до полного обесценения (кажется, есть такое слово). Но я не сдавался и продолжал сеять разумное, доброе, вечное. Потом после Америки я попал в Южную Африку304… Это там, где буры… Там мы были на гарантии и процентах. Гарантии мы получили, а о процентах не приходилось думать, ибо в это время наступил кризис бриллиантов. Они как-то сразу утратили свою ценность. А так как благосостояние Африки в бриллиантах, это отразилось и на делах. Мы вернулись в Европу. Уже кризис охватил всю Европу… И вот я уже один год с перерывами играю в Англии, был в Голландии. И опять в Англии, откуда и пишу Вам.
А помните ли то время, когда шел анекдот об Альшвонген, когда никто в Москве не жаловался на дела, когда мы с Вами в Художественном театре, имея два рубля в кармане, чувствовали себя господами положения. И как тогда все было весело. Мне 57 лет. И уже пора подумать о другом, а еще не хочется сдавать позиций. И по инерции идет год за годом… Мне часто кажется, что жанр моего театра уже изжит, что нужно что-то новое, а что это новое — никто не знает. В Лондоне полгода тому назад половина театров перешла на беспрерывный спектакль, начинавшийся в час дня до 11 часов вечера. Что-то вроде театра Арцыбушева305. Но и это надоело. Теперь театры один за другим отходят в руки кинематографа.
Но не слишком ли я преувеличиваю все невзгоды театра. Может, просто мода на «Летучую мышь» прошла, как проходит все на свете. Не такие люди, как я, вдруг выходили из моды. И нет ничего вечного.
Обидно только с этим соглашаться в день 25-летнего юбилея.
Ну, а как Вы, дорогой, милый, старый друг? Я мельком слышал о Ваших успехах, понаслышке знаю, что из Вашей жены вышел хороший режиссер306. 242 Поцелуйте ее за меня, если она меня помнит. У Вас есть дети307. Есть для чего работать. А у меня их нет… И, может, это к лучшему.
Мой американский импресарио Гест, человек, обожавший театр, потерял на театре и состояние, и здоровье308. Театр — как женщина. Не надо показывать, что Вы ее любите. Из старых — один Архангельский309 со мной. Был у меня чудный актер Юр. Городецкий. И вдруг кончил жизнь самоубийством310. Он был актер, обожал театр. И всегда был счастлив, что и в эмиграции он в театре, а не где-либо в кабаке. И как будто он предвидел, что скоро театра не будет, и, обожая театр, он ушел, чтобы не видеть погибели театра.
Из Ваших старых знакомых с нами «знаменитый бас Макаров». Он уже давно в Лондоне. С первого приезда «Летучей мыши»311. Остался и осел. Сохранил гордую походку, важность старого барина и остатки голоса. Выступает здесь в Hungarian Restaurant и чувствует себя неплохо. Здесь Гореван, Бураковская312 и семья Калиных313, помните, у которых на вечеринках бывала головка Художественного театра… Здесь все добротно, англичане — милый народ и более постоянны, чем французы… Lolo314 любит последних. Он поселился в Ницце, очень постарел. Изредка пишет мне. Но в душе тот же идеалист. Обожает старую Москву, москвичей и на эту тему может говорить бесконечно. Жена его, Ильнарская315, с ним. Она как-то опухла, опустилась, брюзжит, но стала как-то привязаннее, ближе к Lolo. Рощина окончательно бросила сцену и держит клуб бриджа316, Германова выступает изредка в театре Питоева317, Асланов Николай Петрович318 в очень скверном положении и иногда выступает на благотворительных вечерах. Между прочим, здесь Ваша греза молодости. Верите, в Париже… Женя Эйхенвальд319… Муж ее, не имея возможностей что-нибудь заработать в Париже, вернулся в Россию, где поставил свою оперу «Степь» на какие-то калмыцкие темы320. Должен был ей помогать. Но разве кто-либо из России чем-либо может помочь. Она теперь занимается портняжным мастерством. От прежней молодости, задора, юмора — ничего не осталось. Только вера какая-то в жизнь. И безумная приспособляемость. Я ее часто встречаю. И мы часто вспоминаем Вас, молодого безумца.
Вы, должно быть, устали читать мое письмо. Но мне так приятно писать Вам, хотя за последнее время я вообще отвык от писания, ибо приходится все время диктовать. Но разве мог я продиктовать письмо, адресованное Вам. Там же в Париже Саша Давыдов321. Такой же очаровательный, но уже совсем глухой. Носится по всем судебным инстанциям с иском против Эдисона322. И Эдисон уже умер, а он все меняет адвокатов. И [нрзб.] и нечего. Иногда на благотворительных вечерах поет «Пару гнедых»… Но всегда весел. Единственный эмигрант, который не напоминает осенний шум.
В Америке Николай Александрович Румянцев323. Тоже бросил [штаб] Художественного театра, артистическую карьеру и стал доктором. Тамара Дейкарханова324, которая оставила нас и осталась с мужем в Америке; Тамиров325, женившийся на дочери Никулина; Вениамин Иванович Никулин326, Миша Далматов327… В Америке же умер дорогой Миша Вавич328.
И сколько народу умерло… О скольких мы ничего не знаем…
Видел как-то в Paris Мейерхольда, привозившего свои советские chefs-d’oeuvre’ы329. Говорил с ним. Такой же. Но в Paris чувствовал себя как-то неловко. Был Таиров с Коонен330. Оба стали весьма солидны и более приличны. Говорят 243 о советском рае с критикой, но, возвращаясь, критикуют зло эмиграцию. Подлец Никулин (помните, был такой поэтик) написал в «Красной нови» свои «Воспоминания и мысли»331, где, забыв, как когда-то питался около «Летучей мыши», облил меня лакейской грязью. Чтобы услужить хозяевам большевикам. Написал подлости о Шаляпине332, о Татьяне Павловой333 и о всех находящихся в эмиграции. Но больше всего досталось мне. Прочтите, если достанете, «Красную новь» за ноябрь. Не лучше поступил Б. С. Борисов в своей книге «Моя жизнь в смехе»334, где окатил меня ведром помоев!
Но их, может, обвинять нельзя. Каков поп, таков и приход.
Но не довольно ли. Перо покоя просит. Ваши старческие глаза, должно быть, устали. Буду бесконечно счастлив получить от Вас ответ. И если Вам что-нибудь нужно, буду счастлив услужить Вам. Вас же попрошу об одном. Не могли бы Вы достать для меня «Нежданчик» Григорьева-Истомина335! Эта вещь мне очень, очень нужна, и я был бы Вам бесконечно благодарен, если бы Вы ее переписали мне или, если есть печатный экземпляр — прислали бы его мне. Я оплачу все расходы. Адрес: Vaudeville Theatre. Strand W. London.
Целую Вас горячо, крепко и еще раз благодарю Вас за Вашу память, дорогой, старый друг.
Ваш Никита Балиев
ИЗ ДВУХ УГЛОВ
Переписка Николая Евреинова с Юрием и Юлией Ракитиными
1928 – 1938
Публикация, вступительный текст
и примечания В. В. Иванова
Переписка Евреинова с Ракитиными представляется существенной и познавательной. Продолжавшаяся на протяжении одиннадцати лет (1928 – 1938), она захватывает разные стороны эмигрантского театрального быта, позволяя прочертить кардиограмму реальной жизни двух крупных театральных деятелей.
К осени 1928 г., когда началась переписка, Николай Евреинов был в эмиграции уже три года. Впрочем, в 20-е гг. он не подчеркивал эмигрантский характер своего пребывания за границей. Парижские русские газеты относились к нему настороженно, подозревая в нем эмиссара Советской России. Евреинов и сам давал поводы для «курьезных» недоразумений. Вероятно, вопрос о возвращении еще не был закрыт окончательно, и артист не отрезал своих путей в Москву. Так, информационным обеспечением, как теперь говорят, его американской поездки занималась просоветская газета «Русский голос» (Нью-Йорк), которая отъезд Евреинова из Советской России с ведома самого героя подавала как длительные гастроли, но не как эмиграцию.
17 октября 1926 г. в Нью-Йорке состоялась лекция Николая Евреинова на его излюбленную тему «Театрализация жизни», собравшая весь русский культурный 244 Нью-Йорк. Давид Бурлюк, давний и доверенный друг Евреинова, предварял лекцию вступительным словом, без сомнения, загодя согласованным. По газетному отчету все того же «Русского голоса», «Д. Бурлюк указывает, что 9-летие пролетарской революции — явление не случайное, что гнет царизма, вызвавший взрыв народного гнева, — явил миру пролетарскую революцию как стройное явление, закончившееся победой пролетариата лишь потому, что Великая Русская Культура, заложенная еще в Петровскую эпоху, выдвинула ряд великих революционеров в различных областях ищущей, творящей русской мысли. Имена В. И. Ленина, Л. Троцкого, Луначарского, И. Сталина — могучая плеяда революционеров, создателей Новой России — СССР. Н. Н. Евреинов, говорит Бурлюк, избрал себе область театра»336. Конечно, упоминание Евреинова в одном ряду с вождями пролетарской революции выглядит комичной гиперболой. Но для нас существенно то, что Евреинов аттестуется (в известном смысле сам себя аттестует посредством Бурлюка) как представитель новой, советской культуры, а не человек, бежавший от нее.
Несмотря на заметный успех «Самого Главного» в Гилд театре (премьера — 21 марта 1926 г., режиссеры Ф. Моллер и Н. Евреинов) и «Корабля Праведных» в Еврейском Художественном театре (премьера — 19 сентября 1926 г., режиссер Я. Бен-Ами), Америка не стала для Евреинова Клондайком и надежд его в полной мере не оправдала. В его отсутствие Шарль Дюллен наконец показал Парижу «Самое Главное». Наталья Бутковская, которая представляла интересы Евреинова, сообщала в письме от 2 ноября 1926 г.: «Генеральная репетиция 8-го. Актеры распределены хорошо, но, конечно, молодые, не очень опытные. Dullin ведет в стиле commedia dell’arte постановку, т. е. так говорит. 2-я и 4-я картины живые. Я стараюсь деликатно помочь иногда, т. е. когда спрашивают — говорю впечатление. Иногда получалась “clukva”. Конечно, ввели гармонику — Dullin в последней картине поигрывает. Оттого и взял, что умеет. Идет пьеса под заглавием “Comédie du Bonheur”38*. Увидев такую афишу, я подняла вопрос почему? Они не видят разницу в [словах] Théâtre и Comédie — Dullin утверждает, что потому так поставил, что при нем Вы с Noziere’ом, разговаривая, приняли это название, и спорил об этом, и переменить не может. <…> На этом пришлось помириться, хотя я нахожу разницу. Пойдет сразу 10 дней подряд. Возможно, что Вы еще застанете пьесу. Ждем Вас вообще на праздники. Наверное, январь дел не делает в Америке, и Вам ни к чему там оставаться»337. На следующий день после премьеры она писала: «Дорогой Николай Николаевич, можете принимать поздравления, потому что генеральная репетиция для прессы прошла с определенным успехом и в “кулуарах” определенно говорилось “c’est un succès”39*. Театр был переполнен всеми, кто — как мне объяснили — “составляют генеральные репетиции Парижа”. Публика эта все время следила оживленно за действием, реагировала и смехом, и аплодисментами на трогательных сценах и осталась в зале до последнего момента. Noziere и Dullin очень старались, чтоб пьеса имела успех, и я не могла противоречить некоторым купюрам, хотя одна из них (в свидании с 3-мя женами) была сделана, видимо, в последнюю минуту, и мне не понравилась, когда я увидела это. Такой же сюрприз вышел для меня с костюмом доктора. Dullin все же очень поверхностный человек, и русские многое могут возразить против этой постановки. Но ведь играют для французов. Между прочим, моя ученица слышала, как одна француженка сказала: “En russe cela doit être beaucoup plus profond qu’en français”40*. <…> Думаю, что это все публикой 245 не замечено и не заметится. А воспринимается самое действие. Конец очень живо и остроумно сделан. Когда Арлекин говорил о развязках, актеры их пантомимически иллюстрируют. Очень хорош режиссер во 2-й картине, и она вся проходит под смех. Лучше всего идет, по-моему, 3-я картина, и это, конечно, важнее всего»338. Бутковская оказалась права. Играли для французов, и успех превзошел все ожидания. При не очень выразительной реакции критики спектакль прошел 250 раз.
Николай Евреинов вел битвы за тантьемы (поспектакльные вознаграждения) с объяснимой настойчивостью человека, не имеющего других средств к существованию, но и с каким-то иссушающим душу и отношения прагматизмом. Одним из первых перемены в письмах, а затем и в личности отметил профессор Борис Казанский, самый талантливый из «портретистов» Евреинова, в письме от 14 июля 1926 г.: «Вы явно американизировались, и Ваше письмо приобретает все более хроникальный и циркулярный характер. Я скучаю по Вашей подлинной, оригинальной речи, не говоря уже о прочем Вашем»339.
Но чем дальше в прошлое уходили успехи середины 20-х гг. (вспомним еще «Самое Главное» у Луиджи Пиранделло и Александра Моисси, спектакли Станиславы Высоцкой), тем больше в изнурительной борьбе за тантьемы у Евреинова проявлялись подозрительность и педантизм.
Обратим внимание читателя на то, сколь отличается открытый, эмоциональный стиль письма Ракитина от деловой вежливости Евреинова. Дело не только в том, что культурная изоляция Ракитина заставляла искать контакта с близким по духу собеседником, но и в самом складе личности, не утратившей связи с русской традицией неформализованного общения.
Переписка затрагивает многие проблемы. Назовем лишь некоторые из них. Существование русского режиссера в национальном театре страны пребывания, где доминируют эстетические принципы, обслуживающие неразвитые художественные вкусы. Проблема эмигрантского сообщества как вынужденного общежития в замкнутом пространстве, где концентрируются и усугубляются худшие стороны взаимоотношений артиста и публики. Ведь те люди, которые в условиях Москвы или Петербурга ходили бы в разные театры и, возможно, никогда не встретились, здесь были обречены, как в провинции, на единственный театр. Но основную массу русской общины в Белграде и составляли провинциалы, задававшие свой тон. На эту ситуацию артист нередко реагирует приступами социальной и психологической клаустрофобии. Политическая поляризация как сербского общества, так и эмигрантских кругов, одинаково свирепые попытки навязать артисту правую или левую конъюнктуру с драматической остротой ставили вопрос о самостоятельном голосе режиссера.
Письма Н. Н. Евреинова публикуются по рукописным оригиналам, которые хранятся в Театральном музее автономного края Воеводина (Нови Сад); письма Ракитиных — по рукописным оригиналам, находящимся в Бахметьевском архиве Библиотеки редких книг и рукописей Колумбийского университета в Нью-Йорке (Bakhmeteff Arhive, Rare Book and Manuscript Library, Columbia University; BAR: Evreinov’s Papers. Box 2).
Сердечно благодарю коллег, которые помогали в работе над научным аппаратом: Наталью Вагапову, Луку Хайдуковича и Алексея Арсеньева (Нови Сад), Мари Кристин Отан-Матье (Париж).
246 1
Ю. Л. РАКИТИН — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
[Конец августа – начало сентября 1928 г.]
Белград
Дорогой Николай Николаевич,
Простите, что задержался с ответом на Ваше милое письмон. Сердечно рад был ощутить Вас издалека. Относительно авторского гонорара за «Самое Главное»340. Увы, это было 5 лет тому назад, а по здешним законам авторская «тантьема» платится только в течение года, когда пьеса идет, а потом, если автор не получил, то пропало. Затем Сербия (часть Югославии) только сейчас входит в авторскую конвенцию, а до сих пор здесь авторского права и не существовало.
Загреб, Любляна жили и после войны по австрийским законам об авторском праве, а в Сербии это только теперь вводится. И будет предметом обсуждения на русском съезде писателей и журналистов в конце сентября этого года.
Театр наш ставил французские новинки, только когда они напечатаны были в Illustration341. Здесь ведь Балканы, но, несмотря на это, пьеса Ваша имела очень большой успех.
Я ее страшно любил, как и Ваши острые книги.
Последнюю Вашу пьесу я прочел и только вчера дал прочесть ее нашему директору драмы Гавеле342. Но, не ожидая его ответа, я решил написать Вам.
Извещу Вас, если пьеса пойдет. Вы можете и ему сами написать. Г. Бранко Гавела директор драмы Национального театра. Пишите ему по-французски или по-русски, как хотите. Он хорват, но знает по-русски. Вашу пьесу «Самое Главное» играли по всей Югославии и с успехом. Но получить авторские спустя столько лет, по-моему, нельзя, так мне и сказал Генеральный секретарь Ранко Младенович343. Если пойдет Ваша новая пьеса, надо Вам будет заключить с ними условие. Ваш комплимент о моих успехах, сильно преувеличенных, мне был дорог. Всегда рад Вам служить. Пишите. Сердечно Ваш поклонник
Юрий Ракитин
Если видите кн. А. К. Шервашидзе344 — ему мои поцелуи.
2
Н. Н. ЕВРЕИНОВ — Ю. Л. РАКИТИНУ
10 сентября 1928
Париж
Дорогой Юрий Львович,
Огромное спасибо за Ваш сердечно-деловой отклик. Поступлю, как советуете: сейчас же напишу несколько слов г-ну Бранко Гавела, но буду уповать главным образом на Вас!
Я только что встретил товарища по Правоведению — Пелёхина345; зашли в кафе, говорили о Вас; он Вас хвалит от всего сердца.
247 Вас часто-часто вспоминает жена моя Анна (она на 20 лет младше меня), особенно Вашу роль Мальволио в «Крещенском вечере» (Михайловский театр346), — «а на ногах… желток», — не может забыть Вашей интонации.
Очень прошу Вас, если решится участь «Театра вечной войны»347 (Вы скрыли Ваше мнение о ней), черкните мне, пожалуйста, и помогите, в случае «да», защите авторского права.
Преданный Вам
Н. Евреинов
3
Н. Н. ЕВРЕИНОВ — Ю. Л. РАКИТИНУ
12 марта 1929 года
Париж
Дорогой Юрий Львович,
В газетах промелькнуло известие, что Вы ставите одну из моих пьес348. Спешу сердечно поблагодарить Вас за ценное для меня внимание. Черкните, пожалуйста, что Вы ставите: «Самое Главное» или «Театр вечной войны»? Последнюю пьесу я ставлю сейчас здесь, в Милане (в «Filodrammatici») в переводе R. Naldi349.
Еще очень интересует меня, урегулирован ли в Югославии вопрос об авторском гонораре. Был бы совершенно растроган Вашим ответом на сей существенный для нашего бренного существования вопрос.
Виделся у нас в Опере (Кузнецовой), где я ставил «Салтана»350 и «Снегурочку»351, со многими из Белграда — нашими общими друзьями и знакомыми (Роговская, ее муж352, Нелидов353, Пелёхин — этого отдельно — и др.). Все Вас любят, как и я.
Черкните мне сюда или на парижский адрес: 7, rue de l’Alboni Paris (16-е) France.
Крепко жму Вашу дружескую руку. Душевно Ваш
Н. Евреинов
4
Н. Н. ЕВРЕИНОВ — Ю. Л. РАКИТИНУ
31 июля 1931 года
Париж
Дорогой Юрий Львович,
Только что виделся с проф. Евг. В. Аничковым354, который мне много говорил о Вашей блестящей деятельности в Сербии и о Вас лично; так что как будто я сам с Вами свиделся — правда, словно во сне!
Сообщил мне также Е. В. Аничков, что видел мою пьесу «Самое Главное» («Комедия счастья») в Скопле (Skoplie)355.
Очень обяжете меня, если сообщите, могу ли я получить авторские и к кому обратиться. Слыхал, что у вас там прошел закон об авторском праве применительно 248 к Литературной Бернской конвенции и что для русских он, во всяком случае, благоприятен. Мне бы хотелось (губа — не дура) получить задним числом и с других Юго-Славских театров, начиная с Белграда, где моя пьеса (пьесы?) шла… Помогите мне в сем! — с огромным удовольствием, как драматическому агенту, уделю Вам 10 % за эти хлопоты с вырученных сумм.
Это во I-х. А во II-х, написал только что (еще не переписано) новую пьесу «Бог под микроскопом»356, комедию в 3 действиях и 6 картинах. Очень занятная вещь. Если бы Вы заинтересовались, прислал бы Вам ее на предмет художественной постановки Вами перевода на сербский язык и распространения.
О себе не пишу подробностей, потому что не знаю, поскольку они Вам интересны.
С нетерпением жду Ваш ответ.
Ваш старинный поклонник, небезызвестный Вам
Н. Евреинов
5
Ю. Л. РАКИТИН — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
13 августа 1931 года
Белград
Дорогой Николай Николаевич,
Очень был рад получить Ваше письмо, хотя и деловое. Я только сегодня получил его, так как теперь каникулы и театр не работает совершенно. Сегодня моя жена случайно зашла в театр и нашла там Ваше письмо. Немедленно отвечаю. Лет 6 тому назад Ваша пьеса шла у нас в театре в моей постановке357. Пьеса имела большой успех и была снята со сбором в 7000 динар. Дирекция наша, тогда еще очень робкая, испугалась новых истин, новых приемов и новых слов в пьесе Вашей. Потом шли пьесы Пиранделло, во весь голос повторяющие Ваши приемы. Но европейский театр более импонировал нашей Управе (Дирекции), чем русский автор. Просто «Самое Главное», отлично первые представления разыгранное, было тогда слишком новым словом для нашего театра. В последующих спектаклях актеры, как это часто бывает, расшалились. Особенно в 3 акте, когда они показывают преимущество искусственного перед «природным». В Вашу пьесу я был искренно влюблен, хотя там были вещи, которые у меня не выходили и мне не нравились. (Сцена с глухонемой и падшей в 4 акте). После этого, я слышал, пьеса шла в Загребе, ставил ее некий малоизвестный мне господин Кривецкий358. Он нагородил там такого, что сам Бог не разберет. Декадентство с футуризмом. Конструктивизма тогда еще здесь не знали. Пьеса успеха не имела. Новый Сад, Сплит359, Скопле тоже ставили Вашу пьесу с успехом. Там — в Сплите и Новом Саду — ставил ее мой помощник режиссера по моим mis’en scèn’ам. Не думаю, чтобы Вы смогли получить там за прошлое гонорар. Я Вам об этом писал. Если она шла в прошлом сезоне в Скопле, то есть после того, как в прошлом сезоне прошел закон об авторском праве в Югославии, то получите (закон прошел только в 1930 году, и только тогда наши хозяева стали платить), то тогда Вы сможете 249 получить тантьему. Это я пишу Вам относительно скоплянского театра. В Белграде же и в других местах это было так давно, что не заплатят ничего. Мы по этому поводу переписывались с Вами. Теперь кроме сербских спектаклей я иногда даю и русские с полуартистами и с любителями. Хотя это бывает и не часто, и не регулярно, но бывает. Этой осенью я непременно хочу поставить «Самое Главное» уже по-русски. Это, конечно, будет один спектакль всего. На большее не хватит публики. Но немедленно после спектакля Вы получите свой гонорар уже от моей жены как устроительницы спектаклей этих. За это уже Вы не беспокойтесь. Вы получите все с рапортичкой сбора и т. д. Спектакль этот я хочу дать в октябре, ноябре. Относительно авторских в Скопле прошу Вас прислать мне нотариальную доверенность, официальный документ и письмо по-французски в местные газеты с тем, что я являюсь Вашим представителем на Югославию. Пьесу новую, если в ней нет ничего обидного для белых и против религии, я поставлю с восторгом и по-сербски, и по-русски, и тогда Вы через меня можете войти в переговоры с нашей Дирекцией Национального театра. Во всяком случае, прошу Вас мне ее прислать. Вас ставить мне огромное наслаждение.
Авторский закон на Балканах — вещь совершенно новая, так, наш «Союз русских писателей и журналистов в Югославии»360 защищает права Шмелева361. Мы задержали целое издание хищнически переведенного его «Человека из ресторана» на складе, но не выпущенного в продажу, и теперь идет тяжба. Издатели книг не выпускают, боятся, а платить не хотят, говоря, что роман вышел до войны в издательстве «Земля». С театрами, которые здесь правительственные, дело обстоит легче, но все же достаточно тяжело. Итак, вышлите мне пьесу новую. Буду рад ей и доверенность официальную с письмом в печать. Напрасно Вы пишете, что мне неинтересны подробности о Вашей работе. Я ловлю все из газет о подлинных русских мастерах, каковым Вы для меня являлись и являетесь. Буду рад переписке с Вами и служить Вам всем, чем могу. Вас здесь знают твердо не только русские, которые мало ходят в сербскую драму. Вот потому-то я и хочу представить им «Самое Главное» по-русски. Русская публика переменилась здесь, а по-сербски пьеса шла, как я уже говорил, давно. Деятельность моя здесь далеко не блестящая, а мучительная, и я терплю потому, что нет другого выхода.
Ваш сердечно и любовно
Юрий Ракитин
6
Н. Н. ЕВРЕИНОВ — Ю. Л. РАКИТИНУ
9 сентября 1931 года
Париж
Дорогой Юрий Львович,
Бесконечно был тронут Вашим письмом и готовностью помочь мне по моим драматургическим делам. Посылаю доверенность для Скопле и других городов, а также в 4-х экземплярах письмо в редакции газет. (Проставьте от руки кому в заголовке!) За взыскание тантьем прошу Вас оставить себе 10 %. Пьесу «Бог под 250 микроскопом» («По ту сторону любви», она же «Операция профессора Фора») пришлю вскоре; — хочу сначала узнать, посылал ли я Вам мою пьесу «Театр вечной войны», имевшую успех в Польше362 и Латвии363 и плохо сыгранную в Италии364 (издается сейчас «Nemi»365 ввиду изумительной прессы). По поводу «Бога под микроскопом» предуведомляю, что в 5-й картине, — если, по-Вашему, сцена с абортом рискованна, — у меня имеется вариант; и вообще публика любой страны может иметь свои вкусы, которые не предвидеть издали, но легко учесть на месте! а я рассчитываю, что Вы должным образом сценически проредактируете пьесу. Интересуюсь, как нам быть с переводчиком! кого Вы берете (если пьеса понравится) и каковы его условия! Я не хотел бы платить больше 30 % переводчику. Подумайте, решите и скажите мне. Страшно обрадовался Вашему желанию поставить «Самое Главное» по-русски и жалею, что не смогу приехать на спектакль пожать Вам руку. Успеха! Успеха!
Посылаю Вам еще заметочку о себе в русскую газету и заранее благодарю за ее помещение; заметка интересна в том смысле, что я могу в случае надобности защитить профессиональные интересы русских драматургов.
Живу я довольно лихорадочно, так как заработки, в общем, случайны. В прошлом сезоне недурно заработал в кино: продал сценарий «Самого Главного» и ставил с Николаем Римским366 оперетту «Pas sur la Bouche» для Comédie-Filmées367. Здорово устал! это ад порой — работать над говорящим фильмом. Зато успеха добились: признали, что это «очень парижский фильм». Потом писал пьесу368, которую Вам пошлю. Теперь вновь пишу (вот уже 3-й год) работу о функции искусства369. Насколько у меня здесь мало времени, говорит факт отсутствия рояля в моей квартире! — а ведь я, по профессии, музыкант (ученик Римского-Корсакова). Трудна жизнь в Париже, если хочешь зарабатывать искусством. Конкуренция аховая! Все-таки не жалуюсь: 3 пьесы мои прошли здесь в авангардных театрах и подкормили изрядно. Живем мы с женой хоть и богемисто, но в особнячке с садиком, прислуга приходящая на 3 ч. ежедневно. Выдали замуж за дирижера А. И. Лабинского сестру жены Ирочку370. Русских здесь больше 200 000 человек, но Париж — город, где можно порой столетиями не встречаться. Собираю по-прежнему марки времени Великой Войны (1914 – 1919). Родной Юрий Львович, нет ли у Вас или у сербских знакомых открыток военнопленных, писем с «вскрыто военной цензурой» и прочих филателистических реликвий эпохи Великой Войны? Очень бы разодолжили, прислав. Жена моя A. Kachina — романистка, пишет 3-й роман; 1-й был в сотрудничестве с Еленой Извольской (дочь посла371), которая вышла недавно замуж за бар. Унгерна372 и уехала в Нагасаки (в Японию). Здесь имеет безумный успех Колониальная выставка373! и заслуженный: красота, экзотика, ново, богато до чрезмерности, удобно — упорядочено посещение и пр. Из-за этой Всемирной выставки лето оказалось отнюдь не «мертвым сезоном» в Париже: иностранцев — тьма тьмущая! Напишите, что Вас здесь интересует, а то я, быть может, зря болтаю. Обнимаю Вас от всей души. Искренно любящий Вас и высоко ценящий Ваш талант
Н. Евреинов
251 7
Ю. Л. РАКИТИН — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
7 октября 1931 года
Белград
Дорогой Николай Николаевич,
Прежде чем ответить Вам, ждал реальных результатов на предпринятые действия.
Я лично допустил некоторые ошибки в нашей сербской процедуре.
Оказывается, что я, как чиновник, по здешним законам не имею права быть доверенным лицом по денежным получениям и взысканиям. Поэтому я решил, посоветовавшись с людьми знающими, просить Вас:
1) Переменить доверенность на жену мою Юлию Валентиновну Ракитину.
2) После французского нотариуса отправиться в наше югословенское посольство и там сделать перевод Вашего полномочия на сербский язык. Люди там очень любезные. Пьеса Ваша по-сербски называется «Главна Ствар» («Главная вещь»).
За это время произошло у нас в Белграде большое горе в нашем театральном быту.
У нас 2 театра. Один, где дается опера, драма и балет, в другом, переделанном из когда-то бывшего манежа, но отлично переделанном и заново перестроенном, здесь давали только драму и всевозможные гастроли. В этом последнем мы давали и русские спектакли. Теперь этот театр отняли под открывающийся сейчас снова парламент. Новый строится 20 лет, но не готов и слишком мал. Итак, мы лишились театра. За каждый свой спектакль я получал, правда, гроши, но в конце месяца это составляло кое-какую сумму. Теперь мы этого лишились. Здесь, кроме того, кризис. Жалованье нам уменьшили. Перебиваемся кое-как.
Посылаю Вам заметку о Вас, напечатанную в здешней русской газете374. Скорее высылайте доверенность, подтвердивши ее в посольстве. Не удивляйтесь, пожалуйста, чинимым препятствиям. Это Балканский полуостров. Я же недавно стал чиновником и не знаю еще всего, что здесь запрещается. Пьесы Ваши новые присылайте. Буду счастлив и рад. Надеюсь «Самое Главное» поставить по-русски до Рождества375. Простите, что ввожу Вас в расходы переменой доверенности. Если нужно, девичья фамилия жены моей — Шацкая. Может быть, это потребует французский нотариус. Возвращаю Вам для обмена доверенность, выданную Вами мне.
Сейчас ставлю в театре французскую комедию «Бальтазар»376. Она прошла у Вас в Париже в прошлом году. Я ставил в Пражской группе Художественного театра «Ревизора»377, но в Париже много новых исполнителей378. Но Хлестаков мой старый — Алекин379, прелестный актер. Его стоит посмотреть.
Обнимаю Вас. Ваш искренний почитатель и сердечно преданный Вам
Юрий Ракитин
252 8
Ю. Л. РАКИТИН — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
14 октября 1931 года
Белград
Дорогой Николай Николаевич,
Пришло и мне время беспокоить Вас и просить Вашей помощи. Помните ли Вы, как мы с Вами заседали на съезде режиссерского права в Москве380? Тогда обворовывали Мейерхольда, Вас, но до меня не доходили, я ставил более или менее академически, в духе условного реализма. Я не знаю, что происходит сейчас с моей постановкой «Ревизора» в Пражской группе худож[ественников]. Во-первых, стоит ли хотя бы на программе мое имя381? Во-вторых, сохранили ли они мои mis’en scèn’ы? Конечно, естественно было бы обратиться прямо к ним, но ввиду того, что я не знаю наверное, я хочу уже с ними говорить с фактами в руках. Дело в том, что ни одна газета не упоминает моей фамилии, а в «Возрождении» в одной заметке говорилось, что постановка «Ревизора» принадлежит Павлову382. В этой постановке есть вещи, которыми я очень горжусь. Это роль Хлестакова (Алекин), созданная мною. Он приехал в Белград из Берлина с высокой маркой — ученик Рейнхардта, а на самом деле был незрелый птенец. Очень способный, восприимчивый, но сырой, и роль Хлестакова — наивного мальчишки сделана мною с ним. Я не в восторге от «Белой гвардии» у них, но опять Алекин там изумителен, а Чебышев его не упоминает или упоминает за другую роль немца383.
Милый Николай Николаевич, я Ваш агент в Югославии, а Вы помогите мне в Париже. Если нет моей фамилии на программах у художественников, не можете ли Вы спросить у них, почему это так, ведь это странно. Расстались мы с ними друзьями, я сам питомец Художественного театра, хотя во многом не поклонник его. Мне интересно, что они могут говорить об этом Вам, русскому режиссеру с именем.
Но, конечно, о том, что я писал Вам, Вы умолчите. Я тогда запрошу их уже официально.
Может быть, это просто русские газеты решили умолчать о режиссере в этой постановке. Дело в том, что «Последние новости» здесь запрещены к продаже, хотя мне и попалась случайно критика Волконского «Белой гвардии», где он очень хвалит «Ревизора» вскользь384. Я кисну безнадежно в Белграде, в Париж я попасть не могу даже погостить. Причины — проклятые деньги. А теперь, когда у нас взяли второй театр под Парламент, и совсем зубы на полку. Здесь мы получали так называемые шпильхонорары за дежурство на своих спектаклях. Это в конце месяца давало сумму приличную. Если Вы не ходите к худож[ественникам] и не общаетесь с ними, то, конечно, моя просьба само собой отпадает, но я хотел бы написать им уже с готовым матерьялом в руках. Почему Вы не отвечаете с доверенностью моей жене. Если я напутал, то, ей-богу, я не могу знать всех крючкотворств в югословенском законодательстве. Обнимаю Вас. Если возможно, пришлите программу «Ревизора».
Вашей жене целую ручку. Ваш старый почитатель и приятель
Юрий Ракитин
253 9
Ю. Л. РАКИТИН — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
27 октября 1931 года
Белград
Дорогой Николай Николаевич,
Немедленно по получению Вашего письман отвечаю Вам. Благодарю за присылку программы МХТ. Я обратился к Вам с этой просьбой, так как до меня дошли слухи, что группа эта, которая оставила здесь много врагов, не постеснялась и со мною. Такие слухи доходили и до меня сюда в Белград. Я попросил Вас проверить, так ли это. Меня удивила приставленная ко мне фамилия Павлова. Но это уже дело его «скромности». Бог с ним. А отсебятины… этим он страдал и здесь. Я у них не служил и требовать не мог. К тому же у [них] нет суфлера. Но это все не так важно. Дорогой Николай Николаевич, мне очень стыдно, но верьте, что я в прошлой задержке менее всего виноват. Конечно, нельзя отговариваться незнанием законов, но в этом виновата сербская волынка! Здесь все делается «полаку», то есть понемножку. Вы можете сравнивать темп Парижа и темп деревни — Белграда. Относительно Альбинин могу сказать, что слышал о существовании его, слышал о его вечных ссорах с театром, но сербы вообще, также как и хорваты, платить не любят. Вы, конечно, можете доверить Ваши интересы и ему. Его представитель есть и в Белграде. Решите сами. Доверенность Ваша на имя моей жены — это то же, что и на меня, и я бы отвечал перед Вами. Бывший секретарь скоплянского театра Васич385 служит сейчас у нас, и я, договорившись с ним, хотел проверять количество там сыгранных спектаклей Вашей пьесы помимо Дирекции театра, которая может уменьшить число раз и сборы. Спешу Вас заверить, что я нисколько не буду в претензии на Вас. Передайте все Альбини. Я вообще рад Вам служить всем, чем могу, помня мое увлечение «Театром для себя» в России и «Самым Главным» здесь. «Театр вечной войны» читал давно, как только она вышла. Сейчас я его перечту и прочту с любовью. Я читаю много пьес и по-сербски, и по-русски. Пьес же читать вообще не люблю. Ваше «Самое Главное» я хочу ставить и добьюсь. Сыграю его по-русски. Замечательно то, что Вы до Пиранделло, много до!!! смешали представление с жизнью, а Европа кричала о Пиранделло. Я ставил его «Шесть персонажей в поисках автора» и с успехом386. Пьесу Вашу я получил и жду вторую. Вообще, в медленности меня не обвиняйте. Сегодня я отвечаю Вам, сегодня я несколько часов тому назад получил Ваше письмо. Ради бога, не думайте, что я обижусь на Вас, если Вы передадите Ваши полномочия Альбини. Шлю Вам свои самые горячие приветы. Жена моя Вам кланяется, а Вашей поцелуйте за меня ручку. Напишу Вам, не ожидая Вашего ответа по поводу «Вечной войны», но прошу прислать и пьесу новую. Любящий Вас почитатель Ваш
Юрий Ракитин
Простите за беспокойство с программой.
254 10
Ю. Л. РАКИТИН — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
[После 11 декабря 1932 г.]
Белград
Дорогой Николай Николаевич,
Вы так резко прекратили нашу переписку, что я не знаю, помните ли Вы еще о моем существовании. Я должен Вам напомнить о себе, так как имею честь доложить Вам, что Ваша пьеса «Комедия счастья» («Самое Главное») прошла по-русски в Белграде при полном зале с успехом, которому может позавидовать не всякий европейский автор в Балканском полуострове.
Мои артисты, или полуартисты и полулюбители, под дирекцией моей жены, которая организовала эти спектакли 1 раз в месяц, были выше похвал. Мы лишены возможности повторять наши спектакли, так как театральной русской публики в Белграде не более 1700 человек, а Вашу пьесу посмотрело 1200. Авторские были заплачены гг. Биничкин и Альбини. Мы играли в самом большом театральном зале здесь. Наш театр имеет 870 мест всего, а театр Коларчевого университета — 1200.
Теперь я вправе рассчитывать на присылку Вашей новой пьесы, которую я поставлю с подобающей Вашему таланту помпой и в газетах, и на сцене.
Кроме шуток, дорогой Николай Николаевич. Не теряйте меня из виду, я готов служить Вам и на русской сцене, и на сербской, и гордиться Вами. Детали о моей постановке с русскими Вам расскажет через месяц Илья Николаевич Голенищев-Кутузов387. Он был на спектакле и хочет писать обо всем. Он приедет в Париж. Жду от Вас письма и пьесы «Любовь под микроскопом», о которой я читал.
Я очень хочу передать Вам приветы от труппы. Публика, наши черносотенники, были поражены несколько свободой 2-го акта. Они еще не видят в этом юмора. Подумайте, всю жизнь сидели в Ставрополе или Аккермане. Целую Вас крепко. Вашей жене целую ручку.
Любящий Вас Юрий Ракитин
С письмом посылаю афишу и программу.
11
Н. Н. ЕВРЕИНОВ — Ю. Л. РАКИТИНУ
31 января 1933 год
Париж
Дорогой Юрий Львович,
Пишу это письмо вдогонку моей открытке, в которой благодарю Вас за посылку афиши и программы «Комедии счастья». Надеюсь, своевременно получили.
Сегодня послал заказное письмо Василию Николаевичу Штрандтману388, которого хорошо знает наш общий друг М. К. Извольская (вдова посла во Франции)389; она захотела от себя написать ему письмо с просьбой посодействовать уплате мне 255 тантьем за мою пьесу, игравшуюся до 1930 г. и после в Югославии; В. Н. Штрандтман, быть может, захочет обратить внимание на мое дело самого короля Александра390 (который учился у нас в Училище правоведения; я — 62-го выпуска).
Письмо М. К. Извольской послано Василию Николаевичу одновременно с моим.
Был бы Вам глубоко признателен, если бы Вы протелеграфировали Василию Николаевичу и со своей стороны указали бы, что мое дело можно легко разрешить в «исключительном порядке», стоит лишь захотеть того Его Величеству. Кстати, Вы могли бы указать Василию Николаевичу, где (в каких городах) пьеса моя шла.
Я подал прошение г. Сполайковичу391 (послу во Франции) еще в декабре 1931 г., но до сих пор «ни ответа, ни привета»; известили только (тому больше 1/2 года), что г. Сполайкович направит мое дело Министерству народного просвещения.
Потом вот что: говорят, что из Югославии нельзя пересылать деньги. Неужели это правда? Опять-таки здесь, может быть, Василий Николаевич поможет мне.
Очень рад был приглашению Ал. Ксюнина392 вступить в комитет по чествованию Юлии Валентиновны, которой прошу поцеловать почтительно ручки и передать от меня и жены сердечный привет и низкий поклон. Хоть 25 февраля и не смогу быть на юбилейном спектакле, но в комитет с огромной радостью вступлю и беспокоюсь заранее о должной организации торжественного представления393.
Если моя новая пьеса не подходит, верните, прошу, не стесняясь и без объясненья причин. Был бы счастлив, если б И. Н. Голенищев-Кутузов привез 2 – 3 рецензии о Вашей постановке «Самого Главного».
Обнимаю горячо и крепко целую! Ваш старый поклонник, глубоко Вам признательный и преданный на чужбине, как и на родине
Н. Евреинов
12
Ю. Л. РАКИТИН — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
5 февраля 1933 год
Белград
Дорогой и милый Николай Николаевич,
Сейчас же отвечаю Вам на Ваше письмо, чтобы Вы не подумали, что я не хочу отозваться сердцем на Ваше милое к нам внимание. Сомневаюсь, чтобы В. Н. Штрандтман мог получить деньги — авторский гонорар за пьесу, шедшую так давно. Закон об авторском праве существует не более 2-х лет. Я об этом Вам подробно писал. В театре сейчас страшное положение: на миллион динар уменьшена помощь. Это сделали мужики из Парламента. Мы влачимся едва-едва. Я Вам писал. С каждым годом все хуже и хуже. Жалованья сокращены до минимума. Все это мне и жене моей не помешает поговорить с Василием Николаевичем Штрандтманом, но он главным образом теперь занимается Красным Крестом и постоянно [ездит] в Панчево, где находится русский лазарет. Сейчас его в Белграде нет.
Вслед за этим письмом напишу Вам о пьесе не критику, а о постановке и несколько вопросов о ней.
В субботу я окончил устройство бала-концерта русских журналистов и писателей. Это кроме мо[ей] постанов[ки] в театре «Mademoiselle»394, а начались, когда 256 свобод[ен] от службы, русские: переделка романа Романова «3 пары шелковых чулок»395. На жалованье жить трудно. Кругом грипп. У меня припадки подагры или ревматизм. Или сижу в театре, или лежу в кровати, или бегаю. Вашу пьесу не прочел — нет времени. Прочел только 2 акта и то ночью во время бессонницы. Было бы хорошо, если бы она прошла и по-сербски, и по-русски. Нет ли у Вас, дорогой, перевода ее на французский. Это ускорило дело, если бы наша Управа (Дирекция) прочла ее целиком, а не в моем изложении. Я думаю, что Ваше имя и сенсационное заглавие сделает все!! О пьесе напишу через 3 – 4 дня обстоятельно свое мнение. Во всяком случае, по-русски мы ее сыграем, но Вам важно и по-сербски. Если есть французский текст [пьесы], пошлите его Théâtre National Monsieur Preditsch396. Я свой экземпляр не дам. Если пьеса пойдет по-сербски, они лучше переведут с французского. Жена моя благодарит очень Вас и Вашу супругу. Евгений Васильевич Аничков рассказывал нам о Вашем особнячке, о том, как Вы хорошо устроились. Целую ручки Вашей супруги, Вас обнимаю.
Ю. Ракитин
Ради бога, не думайте, что я халатен — занятия и болезни.
13
Н. Н. ЕВРЕИНОВ — Ю. Л. РАКИТИНУ
20 февраля 1933 год
Париж
Дорогой Юрий Львович,
Поздравляю Вас с театральным праздником Юлии Валентиновны, прошу передать прилагаемое мною официальное и в то же время сердечное поздравление и поцеловать от меня ручку Юлии Валентиновны. Жена моя Анна (Anna Kachina) горячо присоединяется к моему приветствию и шлет поклон и наилучшие пожелания глубокоуважаемой Юлии Валентиновне.
Прилагаю вырезку из газеты «Возрождение», где вместо 25/II стоит 5/III, вместо Н. Н. Евреинов — Н. И. Евреинов и вместо Римска 13 — Римска 18397. Кто давал заметку из нашего комитета по чествованию Юлии Валентиновны?
И. Н. Голенищева-Кутузова еще не видел. Может быть, он еще и не в Париже?
Спасибо Вам огромное за Ваше письмо, на которое сразу не ответил, так как Вы пишете, что через 3 – 4 дня дадите отзыв о моей пьесе («Любовь под микроскопом»). Понял, что с юбилеем, верно, заняты свыше меры, и потому пишу, не ожидая Вашего письма, «вдогонку» последнему. Французских экземпляров пьесы моей у меня «кот наплакал», поэтому пошлю только в случае Вашего благоприятного отзыва и Вам лично (во французском экземпляре есть небольшие различия, вызванные «adaptation»; но перевод хороший).
Беспокоюсь насчет г-на Штрандтмана: говорил ли он власть имущим обо мне? Здесь уже добрая половина русского Парижа следит за течением моего «дела» об авторских и ждет, «кто победит»: справедливость или формальность? Это было бы веселое зрелище, если б не когти кризиса, в которые мы все здесь попали.
Спрашивал во Французском Союзе драматических и музыкальных писателей насчет денег от Monsieur Albini из Югославии: — ни гу-гу пока! А он мне за Скопле еще должен!
257 Простите, что скулю и надоедаю Вам тем; делаю это (т. е. позволяю себе это) лишь потому, что считаю Вас своим другом.
Всего, всего хорошего! Желаю здоровья и счастья в делах. Преданный и признательный Вам
Н. Евреинов
14
Н. Н. ЕВРЕИНОВ — Ю. В. РАКИТИНОЙ
20 февраля 1933 года
Париж
Глубокоуважаемая Юлия Валентиновна,
Примите, прошу Вас, мое сердечное поздравление с исполняющимся двадцатилетием Вашей славной артистической деятельности398 и искреннее пожелание дальнейшего преуспеяния Вашего высокого искусства и руководимого Вами же театрального дела!
Низко кланяюсь Вашему таланту, принося Вам, как русский драматург и русский режиссер, свою глубокую душевную признательность и благодарность! Почитающий Вас
Н. Евреинов
15
Ю. Л. РАКИТИН — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
7 марта 1933 года
Белград
Дорогой Николай Николаевич,
Сегодня получил Ваше письмо и тотчас же отвечаю Вам. Жена моя будет писать свои признательности и благодарности отдельно. Я же пишу о деле. Сначала о пьесе Вашей. Я буду, если позволите, ее ставить по-русски в цикле русских спектаклей в будущем сезоне, так как в этом была уже Ваша пьеса. Я отлично понимаю, что Вам очень важно пустить пьесу в Сербский Национальный театр. Для этого я бы посоветовал Вам прислать пьесу нашей Дирекции по-французски; почему? Да потому, что по-русски они сами, т. е. управник (генеральный директор) драмы не смогут прочесть, по-французски смогут. Русский язык здесь мало кто знает. В пьесе Вашей нужно проследить самому идею, а не выслушивать скелет фабулы и идею со слов русского, хотя бы и меня даже.
Русская драматургия здесь в среднем почете, во всяком случае, меньше французской и немецкой. Ваша пьеса интернациональна, поэтому ее можно читать на любом языке. Я бы советовал Вам прислать пьесу по-французски. Если Вы хотите, я могу отдать в театр Вашу русскую рукопись, присланную мне, но за целость ее у наших директоров я не отвечаю. Поступлю, как прикажете. Пьеса мне понравилась. О ней надо писать отдельно, что я и хотел сделать. Но Ваше письмо заставило меня немедленно ответить Вам. Я только что закончил постановку 258 «Mademoiselle» у сербов, затем по вечерам занят постановкой переделки романовских «3 пар шелковых чулок»399 у русских. Вы пишете, что не получили авторских со спектакля моей жены. Деньги авторской аганцией41* были с нас удержаны сразу после спектакля. В чем имеется у нас расписка за подписью Бинички (белградского агента). Может быть, из-за валютных трудностей они задержали пересылку Вам денег. Валюту отсюда посылать нельзя. Запрещено законом. Затем относительно Штрандтмана и его хлопот. Я, милый Николай Николаевич, уже объяснял Вам, что авторский закон здесь прошел только в прошлом году. Закон не имеет обратной силы. Штрандтман, хлопочи хоть у самого короля, ничего не добьется, да и хлопотун он не по этим делам, а за русскую эмиграцию. Я же Вам объяснял. Послушайте моего совета: напишите немедленно 2 письма. Одно управнику (генеральному директору) скоплянского позориште госп. Войновичу400. Напишите по-французски и запросите его, может ли он заплатить Вам, а другое письмо адресуйте в Белградский Национальный театр господину Директору Драмы Радивою Караджичу401. (Он был управником скопланского театра, когда Ваша пьеса там шла.) Сравните эти два ответа из Скопле и Белграда, и Вам все станет ясно. Письма надо будет писать по-французски. Мне трудно Вам объяснить, что здесь на Балканах свои собственные нравы и обычаи. Жалованье здесь часто задерживают. В Болгарии и Румынии по 3 месяца. У нас пока нет, но когда вы его получаете, вас поздравляют со счастливым окончанием дела. Денег сейчас в стране нет. Убавили нам содержание очень. Бюджет убавлен на 1 миллион. Отнят под Парламент второй театр, и за это не заплачено ничего. Получить по старому счету здесь нельзя, а к тому же и закон против Вас. Скольким бы авторам пришлось платить, если бы они, т. е. правительство, платили за старые года, когда еще не было авторского закона. Если пьеса Ваша «Любовь под микроскопом» пойдет у сербов, то надо сговариваться с ними непосредственно о гонораре. Писать Вам в театр. Возвращаясь к юбилею моей жены и ошибкам в «Возрождении», то можно еще удивляться, что они что-то напечатали вообще. О театре там пишет просвещенный прокурор палаты Чебышев402. Мэтр в прокурорском надзоре, но убогий критик, а корреспондент из Белграда Цакони, финансист вроде Гаева из «Вишневого сада». Он же был у Врангеля по финансовой части!!!
О пьесе напишу позже. Но ставить ее по-русски буду! А по-сербски хотел бы. Но ее надо поднести им. Целую крепко и нежно.
Юрий Ракитин
16
Ю. В. РАКИТИНА — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
7 марта 1933 года
Белград
Глубокоуважаемый Николай Николаевич,
Приношу Вам мою искреннюю благодарность за Ваше поздравление и добрые пожелания ко дню моего юбилея. Они мне были особенно дороги, потому 259 что я очень ценю Вас как русского, исключительно талантливого режиссера и замечательного драматурга.
И кроме этого, у меня связаны с Вашим именем лучшие воспоминания моей жизни. Я начала свою артистическую карьеру «Веселой смертью» Евреинова… Это было 20 лет тому назад403.
Еще раз спасибо Вам. Преданная Вам
Юлия Ракитина
17
Ю. Л. РАКИТИН — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
10 апреля 1933 года
Белград
Дорогой Николай Николаевич,
Посылаю к Вам талантливую танцовщицу Ксению Федоровну Грундт404. Она служила на первых ролях в нашем балете. Теперь хочет Париж и самостоятельной деятельности. Она прекрасно играла Вашу танцовщицу в «Самом Главном» и играла лучше, чем в сербской труппе артистка-сербка. Теперь она хочет учиться стать балетмейстером. Она и рисует, и танцует. Обратите на нее внимание. Жаль, что она уехала, а то бы она играла в Вашей новой пьесе «Любовь под микроскопом» тоже танцовщицу. Пьесу я отдал сербам, отчаявшись получить от Вас французский экземпляр.
Обнимаю Вас крепко и нежно.
Юрий Ракитин
18
Ю. Л. РАКИТИН — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
20 октября 1933 года
Белград
Вчера, дорогой Николай Николаевич, получил Ваше письмо и сегодня уже пишу Вам. Вас интересует, конечно, судьба Вашей пьесы. В прошлом году играли «Комедию счастья». В этом году в ноябре будем играть «Любовь под микроскопом». Если бы я передал Вашу пьесу сербской дирекции, то мы не смогли бы ее играть в Белграде по-русски до сербского представления. Понятно ли это Вам, дорогой друг. Мы могли бы ее поставить только после Национального театра, а не раньше. В столе дирекции лежит много русских пьес, чающих движения воды, но уже несколько лет как русской литературы в театре не видно. Последняя вещь была «Квадратура круга» Катаева405. Театр занят местными авторами. Этого требуют и правительство, и газеты. Деньги дают на театр не даром. Потом ставят французов, немцев, чехов и поляков. Я Вам обо всем этом уже писал, дорогой Николай Николаевич. Моя роль в театре ограничивается несколькими постановками в сезон — вот и все. Меня ни о чем никогда не спрашивают. Штрандтмана еще меньше слушают, да еще в театре. Он в Сербии только благодарит, объясняет и ухаживает за 260 докторшей — вот и вся его деятельность. Русские дипломаты!! Эхма! Только сейчас мы видим их качества. Но Штрандтман — человек милый и любезный.
Я решил сыграть пьесу по-русски Вашу, а потом отдать в Сербский театр, на спектакль моя жена позовет сербскую дирекцию и печать. Так что им легче будет все понять. Русский они понимают с трудом, когда говорят, но сами читают слабо. В русском сезоне прошел «Царевич Алексей» Мережковского406. Сейчас идет Ильф и Петров «12 стульев»407. Затем Вы. У сербов прошла чешская пьеса «Йошка Пучек»408 и «Фанни» Паньоля409 и моя постановка, которая идет сегодня, «Давид Копперфильд» Диккенса410. Утром я на службе в театре, потом отдыхаю, вечером на русской репетиции. Ведь приходится многих обламывать как [слонов]. Времени у меня так мало. Кроме того, я пишу воспоминания411, как всякий старый эмигрант. Но мои воспоминания будут интереснее, чем у Чебышева412, и будет про меня меньше, чем про других. Вашу пьесу берег на разгар сезона на ноябрь месяц. [Далее почерк Ю. В. Ракитиной.] Диктую жене. Русская культура в Белграде между русскими на самой низкой степени. Так, образовавшаяся вторая группа любителей под громким названием «Русский театр» состоит вся из халтурщиков и дает пьесы вроде «Кина», «Барышни с фиалками» и «Василисы Мелентьевой». Во главе этого предприятия стоит, наверное, Вам известный Дуван-Торцов413, который в своей программе объявил, что будет избегать новые пьесы и советских авторов414. Нас считают большевиками и пьесу Мережковского приняли бранью. Белграду по вкусу «Шпанская мушка», «Дорога в ад», «Девушка с мышкой»415 или произведения из Ростова и Новочеркасска. О Грундт могу сказать, что ей не хватает вкуса, что Вы и сами увидели. Но она работоспособна и имеет богатого мужа. Не пропадет.
Обнимаю Вас крепко.
Целую ручки Вашей супруге. Пришлю Вам литературу о Вашей пьесе и снимки с постановки. Теперь у нас есть фотограф.
Ваш горячий поклонник и друг
Юрий Ракитин
Дорогого автора «Веселой смерти» приветствую и горжусь Вашим лестным обо мне мнением.
Юлия Ракитина
Спасибо за вырезки.
19
Н. Н. ЕВРЕИНОВ — Ю. Л. РАКИТИНУ
29 октября 1933 года
Париж
Дорогой Юрий Львович,
Наконец-то от Вас весточка! Искренне порадовали! И от Юлии Валентиновны! Вдвойне счастлив!
Сильно волнуюсь, как примет ваша публика «Любовь под микроскопом» и кого будет играть Юлия Валентиновна (т. е. какая роль ей больше по сердцу).
Ловлю Вас на дружеском обещании прислать фотоснимки, афишу и программу: — мне это бесконечно дорого. (Вы сами понимаете!)
261 Да! Не помню, писал ли в последнем письме, что денег (авторских) я до сих пор не получил из Белграда. Поэтому, может быть, Вы изберете какой-нибудь другой способ пересылки мне. А то обидно, если они остаются у 3-го лица! правда?
Я занят с «La scène joyeuse»42*, которую основала жена (французская романистка Анна Kachina)416. Дризен417 — слишком ослаб (рамоли), и у него здесь неважнецкая репутация; посему, боюсь, мы снова с ним разойдемся. Увидим! (21 год мы были в ссоре418).
Сейчас работаю еще в «Cercle International des Arts», где «ставлю» вечер сравнительной пластики (от Японии — через всю Азию — до Америки)419.
Потом занят еще с моей маленькой пьесой (на 35 минут), которую ставит самый снобистический из здешних театров «Studio des Champs Elysées». (Это будет ровным счетом 4-я из пьес моих, поставленных в Париже «авангардными» театрами.)
Безумно хочется приехать на премьеру «Любви под микроскопом». И ужасно хочется повидать Вас и горячо обнять, а у доброй Юлии Валентиновны поцеловать обе ручки! — Отчего оба вы так далеки от меня территориально, будучи столь близки моей театральной душе?!
Ваш давешний горячий и искренний поклонник и друг
Н. Евреинов
20
Ю. Л. РАКИТИН — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
17 декабря 1933 года
Белград
Дорогой Николай Николаевич,
Пишу Вам с легкой совестью выполненного большого дела. Я поставил Вашу пьесу «Любовь под микроскопом» с большим художественным успехом. Отнесся я к Вашему произведению с огромной любовью и уважением. Редко какая пьеса мне так нравится, как Ваша «Любовь», несмотря на то, что она чисто французская и русского в ней только Ваша сексуальность (евреиновская). Ваше огромное мастерство сценического препаратора держит публику все время в напряжении; блестящий диалог автора-режиссера постоянно нарастает, и ни на минуту не ослабевает внимание зрителя. Тема Ваша вечная, старая, но как ново она трактуется. Пьеса глубоко возвышенная, моральная и религиозная. Торжество духа над плотью. Бог есть любовь — что может быть прекраснее и вечнее этого и как оригинально эта старая истина истолкована Вами. Прежде я любил Вас нежно как режиссера самобытного, оригинального, потом я познакомился с Евреиновым — парадоксальным автором и увлекся им. Теперь я в Вас нахожу огромную глубину творчества мысли, соединенную с Вашим мастерством. Горжусь, что я Ваш современник, коллега и друг. Горжусь, что мне выпала честь показать эту пьесу перед русской публикой и на русском языке. Теперь я хочу Вам рассказать о тех муках, какие я имел при подготовке. Я начну немного издалека. 262 В прошлом году наши русские ежемесячные спектакли если и не давали дохода, то не проходили с материальным убытком. Ваша «Комедия счастья» дала один из лучших сборов. Затем нас спасали советские пьесы, которые вызывали у здешней антикультурной публики большой интерес. Теперь обстоятельства изменились. Появилась другая конкурирующая с нами труппа, играющая в Русском доме, вмещающем всего около 500 мест с совершенно примитивной сценой. Во главе этой труппы стоит Дуван-Торцов. Они провозгласили нас большевиками и еврейскими прислужниками; и в этом году сборы наши пали. Черносотенная русская колония воюет с нами. Русская ежедневная газета тоже против нас. Зато сербская печать и русская публика более либеральная с нами. 7-м спектаклем шла Ваша «Комедия счастья», а 14-м в этом сезоне «Любовь под микроскопом». На скромной сцене со скромными средствами я ставлю экспериментальные спектакли. Так, Ваша пьеса была разыграна нами под огромной трубкой микроскопа, свисающей с потолка и дающей определенный круг света (в микроскоп наверху был помещен прожектор) на действующих лиц. Все было сконцентрировано под микроскопом (в поле его освещения). Потом Фор стрелял в микроскоп, и он потухал. Освобождение от пут натурализма, пробуждение ревности-любви. Теперь дальше о моей работе. Актер, который мною был выбран для роли Фора, выбыл из строя, так как у него нашли туберкулезные палочки, но пьеса должна была идти во что бы то ни стало. Я тогда дал роль Фора актеру типа более характерного и стал роль строить на ученой чудаковатости, на отрешенности от жизни, на человеке чистой науки, ученом. И, представьте, после мук и скандалов у меня стало это выходить. Он отлично копировал меня, и я его учил чуть ли не с голоса. (Не забывайте, все мои артисты только здесь стали играть, исключение — моя жена и еще, может быть, один или два человека.) Получилось очень интересное исполнение роли и успех. Роль Ганны играла танцовщица наша из театра Марьяна Петровна Оленина420 (дочка Петра Оленина421, бывшего режиссера Большого театра в Москве и родная племянница К. С. Станиславского), играла прекрасно. Ольгу играла моя жена, и играла великолепно. Она сердилась, уча текст, который ей трудно давался. Но с ходом репетиций она увлекалась ролью все больше и больше. Зала, где мы играем, с отвратительной сценой, целые дни занята лекциями. На единственной репетиции на сцене накануне спектакля я не мог успеть пройти на сцене всю пьесу за недостатком времени и настоял на том, чтобы спектакль был отложен на неделю, хотя это и причиняло убыток. Спектакль прошел с большим успехом. Сбор был 7000 динар. Это, конечно, мало, но выглядел театр полным. Итак, сыграны Ваши две пьесы. За первый спектакль Вы пишете, что Вы не получили денег. Это вина Вашего общества. У нас имеются его расписки в уплате нами денег. На запрос нашего администратора там было дано знать, что задержка в уплате могла произойти потому, что г. Альбини, агент, умер в Загребе и что они примут меры к уплате Вам денег. Теперь за эту пьесу мы решили выслать Вам деньги сами с Марией Алексеевной Крыжановской422, которая будет у нас гастролировать в начале февраля. Посылаю Вам карточки с постановки. Все действующие лица на некоторых фотографиях скучены в одно место. Так нужно было для удобства фотографа. Сербские критики Вам переведут в нашем посольстве. Жена моя пишет Вам сама. 263 Я же надеюсь, что на 3-ю Вашу пьесу в будущем сезоне Вы приедете сами, соединю премьеру с циклом лекций Ваших в Белграде и Загребе. Об этом мы уже говорили с А. И. Ксюниным. Может быть, это устроит Вам наш Союз русских писателей и журналистов в Югославии. Итак, пьеса Ваша, дорогой Николай Николаевич, имела огромный успех. Есть план ее повторить.
Обнимаю Вас крепко и благодарю за художественную радость в работе над «Любовью под микроскопом».
Ваш Юрий Ракитин
Вашей супруге целую ручки.
Горячо Вас приветствую, дорогой Николай Николаевич. Радуюсь, что пьеса прошла с таким громадным художественным успехом. С любовью Вам вырезала рецензии. Пьеса шла вместо 9-го — 17 декабря. Привет супруге.
Ваша Юлия Ракитина
21
Н. Н. ЕВРЕИНОВ — Ю. Л. РАКИТИНУ
29 декабря 1933 года
Париж
Дорогой Юрий Львович,
Совершенно не нахожу слов, чтобы должным образом поблагодарить Вас за Вашу художественную работу над «Любовью под микроскопом», увенчавшуюся такой большой (сужу по газетам) победой! Горячо целую ручки глубокоуважаемой и дорогой Юлии Валентиновны за прекрасное воплощение роли Ольги Нордман и за постановку в руководимом ею театре двух моих пьес! Низкий поклон от всего сердца!..
Ваши добрые слова, дорогие друзья мои, о моем творчестве до слез меня взволновали: мне давно уже никто так тепло не писал о том, что — вот уже три десятилетия — составляет суть моей жизни. Да вознаградит вас обоих Бог за всю вашу доброту и великодушие ко мне, грешному: — грешному, потому что, ничем не заслужив столь лестного вашего внимания к себе, создал вам массу хлопот и забот!
Огромное спасибо за присылку афиши, программы, фотографий (чрезвычайно интересные гримы!), описания хода репетиционных работ и вырезок из газет (еще раз целую благодетельные ручки Юлии Валентиновны).
Меня крайне тронуло ваше желание увидеть меня в Югославии с лекциями. Я говорил об этом с г. Владеном Милошевичемн и некоторыми другими моими сербскими приятелями. Все они советуют горячо проехаться в вашу прекрасную страну на гастроли, суля успех художественный и материальный. В связи с этим мне пришел в голову следующий проект, который повергаю на ваше, обоих, обсуждение:
У меня имеются следующие лекции: 1) «Театрализация жизни» (на 50 минут, с диспутом, если угодно, потом), 2) «Об актере, игравшем роль Бога» (Тайна 264 «малеванца» Распутина), 3) О понимании искусства (= о всеобщем непонимании оного) и 4) Театр будущего.
Далее, имеются следующие легко разыгрываемые пьески (коих хватит на 2 вечера): 1) «Степик и Манюрочка»43*, 2) «Катарр души» («Такая женщина»), 3) «Веселая смерть», 4) «Хам против Ноя» (библейский гротеск), 5) «В кулисах души» (монодрама) и 6) «Школа этуалей». Мыслю, что их надо бы играть по-сербски; верно?
Организуется мое турне под управлением Юлии Валентиновны и при ее ближайшем артистическом участии. Города: Белград, Загреб, Сараево, Скопле, Ниш. В каждом городе одна или две моих лекции под покровительством «Союза русских писателей и журналистов» в Югославии (каковому Союзу отчисляется некоторый % с прибыли); затем один или два спектакля из моих пьесок, причем я лично могу выступить на спектакле в аранжированной мною (из I тома «Театра для себя») лекции вдвоем «Каждая минута — театр» (участвуют «автор» и «актриса»; я делал этот № с женой в Нью-Йорке — огромный успех: ново! лекция «в 4 [руки]»! Хотел бы видеть в роли «актрисы» Ю. В. Ракитину.)
Что вы на это скажете, друзья мои? Жду вашего ответа с вашими соображениями. Мне кажется, мы могли [бы] все и заработать на этом «предприятии», и достигнуть хорошего артистического успеха! Разумеется, если будет должная предварительная реклама («publicité») и тщательная (хоть и сосредоточенно-быстрая) подготовка.
Откладывать сие намерение не хотелось бы в долгий ящик: кто знает, что будет через год!.. а теперь ясно: я легко смогу перед весной или ранней весной проехать к вам и выгодно порезвиться: — заработал бы «Союз писателей», Юлия Валентиновна и ваш покорный слуга Евреинов.
А из Сербии хорошо бы в Болгарию пробраться с лекциями, — благо рядом страна с вашей находится и политические отношения теперь превосходнейшие (я ведь читаю газеты-с!).
Жить в Белграде «на гастролях» я бы хотел экономно-экономно (у кого-нибудь из наших общих знакомых).
Пишу вам об этом моем (и отчасти вашем) проекте заказным письмом, ибо сие важное дело, во 1-х, а во 2-х, с новогодней корреспонденцией всегда столько путаницы и опозданий бывает, что хочется застраховать письмо.
Да, отметьте мой новый адрес, пожалуйста:
Ms. N. Evreinoff
196 avenue de Versailles
(с/о A. Zabinsky)
Paris XVIe
Обо всех новостях нашей здешней жизни расскажу подробно при свидании. Мы живем в самой дорогой стране на свете: А. Лабинский только что из New-York’а (с С. Лифарем ездил — дирижировал423); так говорит — даже сравнить нельзя, насколько в Америке дешевле, чем во Франции. Очень трудно здесь стало жить в материальном отношении: приходится о побочных заработках думать.
Примите, дорогие и родные мне Юлия Валентиновна и Юрий Львович, самые лучшие и сердечнейшие пожелания к 1934 году.
265 Прошу передать мой поклон и привет дорогому Алексею Ивановичу Ксюнину. Любящий вас Н. Евреинов.
Жена моя Анна шлет вам обоим от всей души наилучшие пожелания с Новым годом! N. E.
22
Н. Н. ЕВРЕИНОВ — Ю. Л. РАКИТИНУ
8 марта 1934 года
Париж
Дорогой Юрий Львович,
Только что виделся с М. А. Крыжановской, которая в восторге от сербского гостеприимства, от Вас, Юлии Валентиновны и от успехов в театре у вас, на вашей новой родине!
Я ждал, что Вы мне ответите — с Крыжановскою — на мое письмо заказное, посланное еще в январе Вам, где я низко кланяюсь Вам и Юлии Валентиновне за одержанный вами обоими успех в Белграде моей пьесы «Любовь под микроскопом», но ответа от Вас так и не получил! А между тем я писал в этом заказном письме, как я буду рад, — откликаясь на Ваше желание, — приехать в Белград и прочесть ряд лекций, а также выступить на «театральных вечерах», составленных из моих одноактных пьес, инсценированной лекции и пр. Не получая ответа, я написал открыточку Юлии Валентиновне и тоже не удостоился строки в ответ! Виню во всем почту и Судьбу!
Спешу уведомить, что получил 19 января уведомление от агента Albini, что мне г-н Binicki (представитель Albini в Белграде) послал за «Комедию счастья», игранную 8.XII.32, сумму в 400 динаров. Очень Вам благодарен, дорогой Юрий Львович! (Хоть денег этих еще не получил, но пришло уведомление от Компенсационного банка, что мне эти деньги причитаются; зашел спросить — когда? сказали: месяца через четыре…)
Вы мне писали, что за «Любовь под микроскопом» пошлете с Крыжановской. Но она говорит, что об этом Вы ее не просили. Наверно, избрали другой путь, о котором при случае уведомите.
Здесь мы пережили много событий, о которых Вы, верно, знаете из газет. Месячная забастовка шоферов taxi страшно понизила сборы в театрах, а тут еще Альберт I424 скончался, и бельгийцы перестали посещать театры. Очень тяжелые здесь времена.
И, несмотря на это, только что в Сорбонне прошли с исключительным успехом «средневековые спектакли», под руководством знаменитого prof. Gustave Cohen425, где я консультировал по mise en scène и ставил танцы (sic!). Шли «Действо о Теофиле» и «Jeu de Robin et Marion», т. е. то, что мы с бар. Дризеном ставили еще в 1907 году426. Забавно?
Ужасно хочу получить от вас обоих хоть несколько строк, чтобы узнать хотя бы о том, получили ли вы своевременно мои письма (заказное и открытку).
Жена кланяется вам обоим. Целую ручки Юлии Валентиновны. Любящий вас
Н. Евреинов
266 23
Ю. Л. РАКИТИН — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
[Начало апреля] – 10 мая 1934 года
Белград
1-е письмо
Дорогой и милый Николай Николаевич,
Вы поступили бы несправедливо, если бы обвинили меня в нежелании отвечать Вам или в забывчивости, но целый ряд очень больших неприятностей обрушился на мою голову за это время, так что нельзя было даже подумать взяться за перо написать Вам. Мы горели на [огне] — и горе мучило нас и убивало. После гастролей Крыжановской, очень хорошей актрисы и милого человека (она здесь, к сожалению, совершенно не прошла), мы были огорчены возмутительной критикой сербской печати о ней. Когда она приезжала в группе Художественного театра, о ней писали восторги, теперь же — гадости. Причина — не вернулась в Советскую Россию. Здесь страшно усиливаются советские настроения. Только что уехала Крыжановская, как у нас в семье произошло огромное несчастье. По доносу, конечно, русских был арестован наш сын, ученик VI класса здешней русской гимназии. Он выразился в письме нелестно о Балканском полуострове и очень лестно о Ленине — глупый мальчишка. Письмо это нашли у одного кадета русского в провинции. Никиту арестовали, и он сидел около 2-х недель, пока дело не передали прокурору, который его выпустил и дело прекратил за отсутствием преступления. Но из гимназии его все же погнали.
Вы понимаете, как это было ужасно. Правые считают нас здесь большевиками за то, что у Ракитиной в русских спектаклях идут советские пьесы. Сербы в этом не разбираются. Только что эта история улеглась, как началась вторая. Я только что поставил на сербской сцене «Даму с камелиями»427, которую я в известных местах соединил с музыкой из «Травиаты». Музыка возникала очень тихо иногда как мелодраматический аккомпанемент. Против этого восстали почти все газеты, находя, что музыка эта банальна, пошла и что она убивает текст. (Ставил я пьесу в надлежащих костюмах и декорациях той эпохи.) Музыку Верди считаю гениальной и очень подходящей к стилю пьесы, ложно-приподнятому и сентиментально-романтичному. Другую музыку я не представляю себе для этой пьесы. Интересно было бы узнать и Ваше мнение как режиссера и музыканта по этому поводу. Далее через 2 недели я поставил по-сербски же пьесу Булгакова «Зойкину квартиру»428. Эту пьесу я готовил параллельно с «Дамой с камелиями». И вот премьера пьесы этой вызвала огромный скандал и возмущение. Партер был шокирован, что на сцене публичный дом, а галерея протестовала против «искажения» советской действительности. Говорят, что я поставил пьесу по-эмигрантски, по-белому, не выявив в пьесе настоящей правды советской, а сгустив белые тона. Понятно ли Вам это? Между тем я ставил пьесу по тексту, который мы получили из Риги429. Я был принужден сократить текст из-за длиннот, и ничего больше.
Теперь я в Белграде та мишень, в которую бьют все газеты, обвиняя меня в провале. Дирекция театра тоже зла на меня из-за неуспеха и провала. Враги Дирекции, сводя свои счеты с ней, бьют по мне, и бьют очень больно, находя меня 267 старым и неспособным уже к работе (мне будет в конце мая 52 года). Дирекция театра обвиняет меня в экспериментаторстве, находя, что я уже не смею экспериментировать, как старый режиссер. Критика пишет, что я вывел актеров к позорному столбу и т. д. Вы понимаете мое душевное состояние. За 14 лет моей здесь работы этого не было никогда. Меня обвиняют, как я смел истолковать пьесу по-белому. А иначе она не могла бы идти здесь в правительственном театре. Мне это напомнило, как когда-то обвиняли Мейерхольда за то, что он погубил Комиссаржевскую, и травили его, но он имел за своими плечами Теляковского430. Я же не имею никого, а одни враги. Русские травят меня за то, что я большевик (!), и сербы за то, что я искажаю в белом преломлении большевистские пьесы! Вот здесь великая трагедия. Что делать? Сейчас принесли вечерние газеты, и там опять разбор и пересуды. А поговорить и посоветоваться не с кем. Вот мое состояние, все это время и уже давно. Вот почему я не писал Вам, да и никому вообще, и чернила засохли.
Этот сезон один убыток от русских спектаклей, поэтому о Ваших гастролях возможно говорить только в будущем сезоне, если дела пойдут лучше. Налог здесь теперь огромный: 20 % плюс налог 5 % Союзу артистов и заработать на театре трудно. Напишите мне, если Вас задела моя художественная и моральная мука и страдания.
Целую Вас, дорогой и милый мастер, автор и коллега. Люблю Вас по-прежнему. Ах, как жаль старых российских времен и его театра. Ручки жены Вашей целую. Моя жена шлет Вам обоим свои приветы.
Нежно, верно и горячо Ваш
Юрий Ракитин
После 1 мая адрес мой будет новый, сообщу.
2-е письмо
14 апреля
Продолжаю Вам письмо мое, дорогой друг Николай Николаевич, потому что чувствую великую потребность говорить с человеком одной и той же профессии и культуры. Вы не можете себе представить, насколько горек мне «братский» сербский хлеб, который я ем здесь. Отнюдь не из милости, нет. Я сделал для здешнего театра слишком много, но из-за того, что я 14 лет не могу в тайниках души моей сродниться со всем, что происходит здесь. Последняя моя постановка «Зойкин стан» Булгакова провалилась с таким треском и с шумом, что еще и сейчас через две недели после постановки об этом пишут и шумят газеты, обвиняя всех, начиная с главного директора театра, затем директора драмы, а затем и режиссера — меня. А пьеса-то поставлена прекрасно. Я знаю, что я делаю, и отдаю себе полный отчет в своей работе. Нет, здесь вопрос политический, здесь не могут большевиствующие газетчики переварить моей белогвардейской постановки. А мог ли я ставить иначе, чем написал Булгаков, который довольно объективен в своих пьесах — и в «Белой гвардии», и здесь. Большевики в России исказили его пьесы, я же ставил их так, как писал их сам автор. Потому и пишу Вам, что Вы можете понять меня как художник. В театре у нас не актеры, а замученные, усталые представляльщики, которые играют по 14 раз в неделю и 268 выдерживают по 2 репетиции в день. Жалованье нам сведено до минимума и едва-едва хватает, чтобы прокормиться. От режиссера требуется выдумка, новизна, а всякая новость сопряжена с расходами, на которые дирекция театра идет туго и не дает денег до генеральной репетиции, последней. Всякий эксперимент требует репетиций на сцене, а мы их не имеем довольно. Всякая новость вызывает бешенство критики, которая ищет социального элемента и в пьесе, и [в] постановке. Всякая попытка вызывает критику, что это шарж, карикатура, утрировка. Боже, сколько я перетерпел из-за этого. Я все время упрекаем в каком-то гротеске, причем никто не знает, что такое буквально значит слово «гротеск». Все это я пишу Вам с превеликой горечью и обидой, потому что здесь некому сказать обо всем этом. Дорогой друг, какой ужас работа в такой молодой и требовательной стране, как наша, где еще сохранилось многое от турецкого ига и от австрийского провинциализма. Задняя прихожая Вены — вот чем был долгое время Балканский полуостров до войны, и теперь трудно очень пробивать стену русскому режиссеру. Вот почему я шлю Вам вопль души моей, зная, что Вы заняты Вашими спектаклями и Вам не до лирических чужих излияний. Сейчас я должен был бы ставить «Мертвые души» Гоголя в переделке и инсценировке Булгакова, но что-то замолчали об этом431. Да и в голове у меня нет ничего, что бы мог придумать интересного. Дорогой друг, если на будущий сезон у нас с русскими спектаклями дело пойдет хорошо, выпишем Вас, а в этом году один убыток, о чем Вам, наверное, говорила М. А. Крыжановская. Получили письма от М. А. Ведринской432, Чаровой433 с желанием прогастролировать здесь, а люди не понимают, какие огромные налоги надо платить со сбора, который не может быть полон. Русские старики не ходят в театр, а молодежь бедна и не интересуется старым в театре и вообще никаким театром. Я пришел к убеждению, что работать без базы, без своей земли нельзя, но о возвращении в Россию не может быть и речи, — я ненавижу теперешнюю власть и не помирюсь с ней, любя свою Родину. Не верю ни в какие достижения советской власти в театре. Все это блефф!!
Целую Вас крепко. Первый лист моего письма долго лежал не отправленный на почту и написал второй. Ах, как хотелось бы побывать в Европе, но… но вопрос матерьяльный самый главный и мучительный — нельзя. У Вас в Париже страшная дороговизна.
Целую Вас еще раз. Если будет возможность, припишу завтра еще несколько строк.
Юрий Ракитин
Письмо опять провалялось. За это время появилась заметка в «Возрождении»434 о том, что «Зойкина квартира» провалилась как советская пьеса435, как бы протест публики против советской литературы. На самом же деле дело было совсем обратное. Протестовали коммунисты и большевиствующие. Как не стыдно нашему корреспонденту. Настроение мое отчаянное. Жить в таком мраке и невежестве невозможно.
Милый друг, поймите мой вопль, мой стон, а уехать некуда, да и нельзя вычеркивать моей 14-летней работы здесь.
Поцелуйте за меня ручки Вашей супруги, а Вас обнимаю. Какие пьесы Вы играли и как прошли Ваши спектакли???
Очень интересно. Жена моя шлет вам обоим приветы!
269 3-е письмо
10 мая. Письмо мое валялось опять не посланное. Помешал переезд на другую квартиру. Затем собирался в Бесарабию на юбилей Муратова436, но не поехал — слишком дорого. Вот опять решил приписать еще несколько строк. Прежде всего, мой новый адрес, запомните: Цара Душана ул. д. 48. Затем надо думать о Вашем приезде к нам осенью, если здесь не будет голода (сейчас царит страшная засуха) или какого-нибудь несчастья или с нами, или в стране. Здесь страшно туго приходится: сокращают жалованье, а жен, которые служат вместе с мужьями, или гонят со службы, или платят так, что жить нельзя. А мы наняли в это время большую квартиру. Семья наша большая. Нас трое, племянник жены моей и одна дама старая, жена нашего умершего друга доктора.
Теперь о деле. Не привезете ли Вы с собой пьес из Вашего теперешнего театра в Париже437 и не поставите ли их здесь? Все, что нужно, я Вам подготовлю. Когда решится Ваш приезд, Вы можете прислать ноты, которые надо выучить заранее. Затем всю подготовку я произведу сам. Прошу Вас в конце лета или в начале осени написать Алексею Ивановичу Ксюнину о Вашем приезде и с ним решать о всей деловой части Ваших гастролей, лекций и всяческих выступлений как режиссера. Затем у меня к Вам огромная просьба, дорогой Николай Николаевич. Дело вот в чем. Здешняя сербская печать сейчас на меня в большинстве нападает. Русская печать438, из-за нашего конкурента некоего авантюриста Черепова439, поддерживаемого здешними русскими кругами, также травит, находя, что я проповедую большевизм. Здешний корреспондент «Возрождения» г. Цакони передергивает и замалчивает все, что здесь делается мною. Когда Голенищев-Кутузов, молодой доцент здешнего университета, написал обо всей истории с «Зойкиной квартирой» в «Возрождение», то все было вычеркнуто. Оставили только конец статьи, где описывалась пьеса нашего актера Хомицкого440 «Вилла вдовы Туляковой»441. Так вот я прошу Вас лично пойти в «Возрождение», есть там некий господин Долинский442, он был артистом, и в личном разговоре узнать, почему не была помещена статья Голенищева-Кутузова, почему против меня такое гонение. Прошу Вас объяснить им, что я не большевик, пьеса здесь провалилась из-за того, что считали меня белогвардейцем и т. д. Может быть, это постарался Дуван-Торцов, который здесь работал у Черепова. Человек совершенно опустившийся и неморальный. Узнайте все, милый, восстановите мою репутацию и напишите обо всем мне. Настроение мое продолжает быть отчаянным. Дорогой Николай Николаевич, как хорошо, что у Вас нет детей. Сейчас я страшно озабочен болезнью моего сына. Он только что перенес сухой плеврит. Ему надо заниматься перед экзаменами, так как из-за большевизма, в котором его обвиняли, его выгнали из гимназии. Страшные вещи делаются здесь в Белграде. В основе всего было то, что мы играли большевистские пьесы. Этого нам не могли здесь простить. А вот в Париже Павлов играет советские водевили443, и в него не бросают гнилых яблок и огурцов. Мечтаю увидеть Вас здесь, разговаривать с Вами, смотреть на Вашу работу, слушать Вас и мечтать.
Я написал недавно доклад о Гоголе и хотел его читать на гоголевских торжествах444, которые у нас предстоят в Союзе писателей, где я член правления. Нашлись люди, которые, еще не прочтя моего доклада, восстали против меня потому, что я объявил, что буду читать о мистике Гоголя. (Какая, подумаешь, 270 смелость! И новая тема!) А между тем, да, — это для Белграда новость и дерзновение — нужно по Белинскому. Какой ужас все это. Итак. До свиданья, дорогой. До Вашего ответа. Сделайте мне все в «Возрождении». «Последние новости» здесь запрещены. Обнимаю Вас крепко. Простите, что долго молчал. Жена моя шлет приветы. Целую Вас и ручки жены Вашей. У меня атрофирована воля. Состояние духа скверное. Сейчас ничего не делаю, думаю больше о прошлом и пишу, как генерал, мемуары. Ваш искренно и нежно
Юрий Ракитин
24
Ю. В. РАКИТИНА — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
2 сентября 1934 года
Белград
Дорогой Николай Николаевич,
Ваше письмо от 28/VIIн Юрий Львович получил по возвращении в Белград недавно только. Вот почему Вы не имели так долго от нас ответа.
Мы говорили с А. И. Ксюниным по поводу Вашего приезда, и я Вам спешу сообщить результат наших переговоров. А. И. Ксюнин предлагает, чтобы Вы выступили от Союза русских писателей и журналистов с рядом лекций. Это первое. Второе, чтобы Вы с нашими актерами поставили 2 программы или 1, как Вы пожелаете, «Бродячих комедиантов». Приезд Ваш желателен в ноябре или декабре, это самое удобное время. Вас очень прошу написать А. И. Ксюнину письмо с предложением прочесть лекции от Союза и темы перечислить, это письмо он прочтет на заседании правления, и Вам официально будет сообщено об условиях и т. д.
Постановки же Ваши имеют соприкосновение только со мной и Юрием Львовичем, так что никаких официальностей не требуется. Юрий Львович и я приглашаем Вас быть нашим гостем в Белграде. Квартира у нас довольно большая, и у Вас будет комната и все остальное. Постараемся окружить Вас как можно большим комфортом. Приезжайте (без труппы, это сопряжено будет с большими расходами). Ждем Вашего письма.
Юрий Львович Вас обнимает и благодарит за сердечное письмо.
Искренне Ваша
Юлия Ракитина
25
Ю. Л. РАКИТИН — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
3 сентября 1934 года
Белград
48, rue Dusanova (Царя Душана) Belgrade
Дорогой Николай Николаевич,
Вернулся больным с моря. Нет ли у Вас новой пьесы Вашей, которую я приготовил бы к Вашему приезду к нам. Ах, как хотелось видеть Е. Н. Рощину-Инсарову, но мы банкроты. Гастроли Крыжановской дали убыток. Нет худшей публики 271 на свете, чем у нас в Белграде. Черносотенцы в политике и в искусстве из Ростова-на-Дону или Новочеркасска. Приезду Вашему будем рады. Благодарю за Ваши разговоры обо мне в «Возрождении». Здешний корреспондент г. Цакони все валит на то, что его очень сокращают и вычеркивают.
Целую ручку Вашей жене.
Вас обнимаю Ваш
Юрий Ракитин
P. S. Нет ли какой-нибудь очень интересной французской комедии новой, чтобы мне сыграть? Посоветуйте.
Если позволят обстоятельства за время Вашего пребывания у нас, повторим «Любовь под микроскопом».
Будем Вас ждать с большим нетерпением.
Ваши друзья
Ракитины
26
Ю. В. РАКИТИНА — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
18 сентября 1934 года
Белград
Дорогой Николай Николаевич,
Простите, что сразу не ответила на Ваше письмон, но я заболела и со вчерашнего дня нахожусь в клинике, откуда и пишу Вам. Сегодня меня будут оперировать.
Вашего приезда ждем с нетерпением. Нам будет так приятно Вас видеть нашим гостем. Радуемся заранее. Я с Вами совершенно согласна, что нельзя Вам ставить «чужих» вещей — исключительно Ваши вещи. Будет большой успех и моральный, и материальный. Точно, конечно, не могу сказать цифры, но постараемся, чтобы Вы как можно больше заработали.
Есть еще виды на Загреб. Будем вести переговоры. Мне бы очень хотелось достать пьесу Моэма «La lettre»445. Напишите, дорогой, можно ли ее купить и вообще есть ли возможность ее достать. Жду Вашей весточки. Я сейчас очень слаба и потому кончаю свое послание. Сердечный привет Вашей супруге. Юрий Львович Вас обнимает и ждет.
Искренно Вам преданная
Юлия Ракитина
27
Ю. В. РАКИТИНА — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
22 октября 1934 года
Белград
Дорогой Николай Николаевич,
Давно получили Ваше письмо! Хотела ответить раньше, но смерть короля Александра446 все перевернула и помешала мне. Вы не можете себе представить, в каком угнетенном состоянии находится город и мы, все русские. Наш очередной 272 спектакль был отложен и неизвестно когда пойдет. Поэтому Ваш приезд должен быть отложен на декабрь. Вы понимаете, что наша главная цель, чтобы Вы заработали, а в ноябре месяце на это рассчитывать никак нельзя. Часть публики, конечно, пойдет, невзирая ни на что, но большинство будет придерживаться траура 6 недель. К декабрю уже все уляжется, и с новым рвением публика потянется в театр. Вашего приезда мы ждем с восторгом и счастливы, что Вы будете нашим дорогим гостем. Виза, и деньги, и билет будут Вам посланы своевременно. Спасибо Вам большое за пьесу «La lettre». Я ее прочла, и она мне очень понравилась. Роль для меня великолепная.
Программа «Бродячих комедиантов»447 мне очень нравится, и Ваш выбор надо зафиксировать. Одно меня только пугает, я не могу сейчас играть Коломбину. Не забывайте, что я ее играла 21 год тому назад, что мне было тогда 20 лет, я была худенькая, хорошо танцевала и недурно пела, ну а сейчас я просто боюсь быть смешной. Вы должны меня понять, дорогой Николай Николаевич. Я же отяжелела. У меня семнадцатилетний сын. Я готова играть все, что Вы захотите, и буду счастлива с Вами работать, но «Веселой смерти» я боюсь.
Ксения Грундт находится в Белграде и может быть нам очень полезной.
Я Вас очень прошу никаких подарков мне не привозить. Самый большой подарок — это Ваше присутствие среди нашей семьи.
Ведь мы дни считали, и убийца короля отдалил нашу встречу. Кажется, ответила на все Ваши вопросы.
Юрий Львович хандрит, и из этого состояния его выведет только Ваш приезд.
Жду Вашего письма. Не сердитесь, что так долго не писала Вам, но, право, никак не могла взяться за перо, очень уж тяжелые минуты мы все переживаем.
Шлем сердечный привет Вашей супруге.
Юрий Львович Вас горячо обнимает и благодарит за письмо.
Всего хорошего.
Преданная Вам
Юлия Ракитина
28
Н. Н. ЕВРЕИНОВ — Ю. Л. РАКИТИНУ
18 ноября 1937 года
Париж
Дорогой Юрий Львович, добро пожаловать448!
Буду рад повидать Вас у себя; от Вас это недалеко: около метро «Michel-Ange Auteuil».
Утром позвоните мне, пожалуйста, по телефону Auteuil 18-46, чтобы сговориться насчет «rendes-vous». Я до 12 1/2 всегда дома; но свидеться смогу или часов в 6, или вечером. Жена шлет привет. Душевно Ваш
Н. Евреинов
Быть может, в воскресенье вечером или часов в 6 Вам было бы удобно навестить меня? Я освобожу это время. Но непременно завтра или послезавтра позвоните по телефону.
Ваш N. E.
273 29
Н. Н. ЕВРЕИНОВ — Ю. Л. РАКИТИНУ
4 декабря 1937 года
Париж
Дорогой Юрий Львович,
Я Вас очень прошу не отказать мне в просьбе удерживать 20 % с авторских тантьем, причитающихся мне — в случае постановки Вами на сцене Национального театра Югославии — за пьесу «Любовь под микроскопом» со всех театров Югославии, где бы эта пьеса ни шла.
Сердечно преданный Вам поклонник Вашего таланта.
Н. Евреинов
30
Н. Н. Евреинов — Ю. В. И Ю. Л. РАКИТИНЫМ
19 декабря 1937 года
Париж
Дорогие друзья Юлия Валентиновна и Юрий Львович,
Сердечно поздравляем вас обоих с наступающим Р. Х. и 1938-м. Желаем вам счастья на сцене жизни и на сцене театра. Все мечтаю снова вас увидеть здесь или в Белграде, куда меня давно уже тянет. Особых новостей здесь со времени Вашего отъезда нет. Вышел театральный сборник «Отрыв», где моя пьеса «Корабль Праведных»449; надеюсь, что Вс. Хомицкий Вам уже преподнес сей сборник. Здешний Русский театр пробавляется стариной… Я засел за новую пьесу — очень оригинальную. Нам Вс. Хомицкий писал о Ваших впечатлениях от Парижа, и мы с женой вам обоим сердечно признательны за добрые слова о нас, грешных.
Ваш сын у меня не был без Вас, а я не знаю даже его адрес450. Безумно интересуюсь, удастся ли Вам выписать меня в Белград и поставить по-сербски «Любовь под микроскопом». А у меня целый план…
Целую ручки Юлии Валентиновны и крепко Вас обнимаю. Душевно ваш, друзья.
Н. Евреинов
31
Ю. Л. РАКИТИН — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
23 декабря 1937 года
Белград
Дорогой и милый Николай Николаевич,
Получил Вашу открытку с поздравлением. Я собирался сделать это, но позже. По приезде в Белград узнал о перемене нашей драматической дирекции. Веснич451 ушел. Его убрали. Поэтому я Ваше письмо передал Милачичу452, который читает пьесы и дает о них свое заключение. Я просил его передать Ваше письмо 274 Управляющему театром Войновичу (генеральный директор, над всем). Мы с ним в холодке. Но он сам ставил Вашу пьесу в Новом Саду («Самое Главное»). Я хорошо знаю нового директора Ранко Младеновича, но он еще не явился в театр. При первом же свидании с ним начну разговор о Ваших пьесах и гастролях. Если что-либо узнаю, напишу. Пьесу Вашу Хомицкий мне показал в сборнике, но у него только один экземпляр, и он мне даже не мог дать прочесть. Вспоминаю я наши встречи в Париже и милую и такую русскую Анну Александровну. Ах, какое счастье независимость и жизнь ударами, как у Вас. Чиновничество принижает и влачит по земле. Дорогой Николай Николаевич, а Надежда-то Александровна Тэффи453 форменно надула Вас, меня и белградский Союз артистов. Жуков454 уже объявил ее пьесу455 и объявлен чуть ли не второй спектакль, что в Белграде является большой редкостью. Наверное, то же будет и с пьесой Сирина456. Если бы Вы при встрече сказали бы ему, чтобы он не отдавал пьесы Жукову, а Союзу (кто будет там ставить, не знаю) или мне лично. Тогда бы я передал ее Союзу и дал бы ставить Хомицкому. Если Союзу не верит, то пусть он доверит мне, а я от себя отдам Хомицкому. Союз очень беден и оплатить крупного режиссера не может, но хоть бы эти акулы не ухватили бы себе барышей. Лично я за постановку беру 1500, 2000 динар. Это для Союза дорого и работаю над пьесой не менее 1 1/2 месяца. Жизнь в Белграде дорожает, а скука удваивается. Вот и живем мечтами приехать снова в Париж. С каким бы удовольствием бросил бы все и приехал бы в Париж. Режиссеров у нас около 10 человек. Ставят все и артисты. У меня отняли во время моего отсутствия «Идиота», которого я должен был ставить, и отдали гастролеру, директору драмы в Загребе Строцци457, взяв его переделку. Это сделано, чтобы дать ему заработать за постановку, игру (он изображает чтеца) и переделку.
Обнимаю Вас. Жена шлет привет Анне Александровне. Целую ручки.
Ваш Юрий Ракитин
32
Ю. Л. РАКИТИН — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
3 февраля 1938 года
Белград
Дорогой Николай Николаевич,
Хочу прежде всего выразить Вам свое положительно восхищение по поводу «Корабля Праведных». Мало сказать, что мне пьеса понравилась, мало сказать, что она настоящий театр в лучшем смысле этого слова. Пьеса прекрасна по своей идее, по коллизиям, по завязке, по типам. Пьеса никогда не умрет, а служит путеводной звездой будущему русскому театру, который придет и наступит. Теперь — как пьесу эту осуществить на сцене. Я немедленно дам ее прочесть нашей Дирекции в лице нового директора д-ра Ранко Младеновича. Он ее, вероятно, будет «читать» 3 – 4 месяца: «Любовь под микроскопом» еще не прочтена г. Милачичем, референтом по пьесам, которому я передал Вашу пьесу сейчас же по приезде. Очень прошу Вас лично немедленно написать госп[одину] докт[ору] Ранко Младеновичу, директору драмы нашей. Пишите по-русски, хотя [он] и по-русски и по-французски хорошо не знает. А г. Милачичу (тоже доктор!) напишите 275 по-французски — он кончил Сорбонну. В письме Вашем упомяните, что пьеса лежит у них вот уже 3-й месяц. Если они не прочтут и ответят Вам, то Вы сможете написать уже управителю театра. Он заставит их прочесть (д-р Бранко Войнович). Я бы хотел сейчас добиться постановки «Любви под микроскопом» на сербской сцене, а «Корабля» на русской, а потом и «Корабля» на сербской сцене. Делаю все, но пока выходит плохо. Прежде лучше выходило. Относительно пьесы Тэффи. Мне говорил Хомицкий, что Вы с горечью упоминаете, что она получила от Жукова 500 своих-то франков, а вы — 180 франков за «Любовь под микроскопом». Греч458 и Павлов459 — балаганщики, курбетисты, халтурщики во вкусе белградской русской публики — сделали с пьесой Тэффи полный сбор в Русском доме, но публика была недовольна спектаклем. Мы (т. е. жена моя) с «Любовью под микроскопом» полного сбора не сделали. Тогда Русского дома еще не было. Налоги и помещение — цена всего была другая, а главное, валюта. Теперь франк — 1 динар 45 пара, а тогда — 3 динара 60 пара. Затем Жуков — рекламист и делает это нарочно, пуская пыль в глаза. Ведь актерам он, кроме Павлова, Греч и Ведринской460, платит жалкие крохи. Мы в Зале Коларчева университета, где были наши спектакли, платили за помещение в вечер 1500 динар, а сколько платит Жуков за Русский дом? Ах милый Николай Николаевич, как бы я хотел видеть Вас здесь, чтобы Вы лично вошли в контакт с сербской дирекцией, затем чтобы видели русскую публику. Я слышал, что Вы называли Всеве461 пьесу Сирина «пиранделизмом». Как я хотел бы, чтобы она не попала Жукову. Помогите, если можете. Напишите сами дирекции нашей, чтобы ее подтолкнуть прочесть пьесу как можно скорее. Я пребываю в мерехлюндии. Ставлю глупую венгерскую комедию «Приходите первого»462. Неинтересно. Греч и Павлов в апогее денег и балагана. Поставили у сербов «Вассу Железнову» Горького463 без всякого успеха. Дала один сбор. На ученическом спектакле давали «Зеленое кольцо» Гиппиус. Скука, обывательщина. Они дают только то, что видели у других. Пьеса «Каэры» мне тоже понравилась, только она слабее «Бунчука» (лучше других акт на Север[ном] полюсе). Вот пока все. Обнимаю Вас крепко. И целую ручки Анне Александровне. Жена моя шлет привет вам обоим.
Ваш горячо
Юрий Ракитин
Еще раз, как прекрасен Ваш «Анахорет»464!!!
33
Н. Н. ЕВРЕИНОВ — Ю. Л. РАКИТИНУ
8 февраля 1938 года
Париж
Дорогой Юрий Львович,
Был бесконечно тронут Вашим добрым отзывом о моем «Корабле Праведных», каковую пьесу прямо мечтаю увидеть в Вашей, несомненно, мастерской постановке! Я тотчас же, как получил Ваше любезное письмо, напечатал послание г-ну Ранко Младеновичу, которое препровождаю Вам при сем, — вместе с французским письмом к г-ну Милачичу, — прося дать им (в случае Вашей апробации) должное назначение.
Ваш план — добиться сперва постановки на сербском языке «Любви под микроскопом» — вполне правилен! И если в то же время удалось бы — как Вы 276 этого хотите — поставить «Корабль Праведных» на русской сцене, то просто не знал бы, как Вас благодарить! Ей-богу! Клянусь!
Относительно пьесы Сирина здесь, в Русском Драматическом Театре465 царит легкое смущение. Пьеса, говорят, неактуальна и требует гротескной постановки, что к лицу Русского Драматического Театра, «как корове седло»466.
Пишу, вот уже 2-й месяц, новую пьесу, очень оригинальную и трудную для меня по замыслу (можно сказать — небывалому)467. Что-то выйдет?
Мне ужасно жаль, что мы так мало виделись в Париже: — осталось столько недоговоренного… А Никита Юрьевич и глаз ко мне не кажет: был ли он на моем балете («Les bronzés»468) — и того не знаю (хоть оставил ему «контрамарку»). Как бы Париж его не закрутил!
У нас тут сильно «предвоенное» настроеньице! И очень остыли к «советам». (Оно и понятно.)
Целую ручки Юлии Валентиновны. Жена обоим вам сердечно кланяется и, вместе со мной, ждет от Вас великих и богатых милостей в театре.
Горячо обнимаю Вас.
Ваш друг и поклонник
Н. Евреинов
34
Н. Н. ЕВРЕИНОВ — Ю. Л. РАКИТИНУ
3 июня 1938 года
Париж
Дорогой Юрий Львович,
Давно-давно от Вас нет вестей. Никита Юрьевич тоже совсем забыл меня. Единственно, от кого получаю вести о Вас — это от Вс. Хомицкого. Я ему написал недавно, прося его передать Вам мою нижайшую просьбу вернуть мне как можно скорее (заказ[ной] бандеролью) французский экземпляр «Любви под микроскопом» («L’amour sous le microscope»). Будьте другом — возьмите эту пьесу у директора, коему Вы ее дали, и пошлите мне: французский экземпляр мне экстренно нужен. Очень прошу Вас, дорогой Юрий Львович! Очень!
Если понадобится, я потом опять вышлю Ваш французский экземпляр. Прошу Вас передать глубокоуважаемой Юлии Валентиновне сердечный привет от моей жены и меня. Как поживаете? где думаете провести лето? пишите, пожалуйста! Я так люблю Ваши письма! Обнимаю Вас горячо. Душевно преданный Вам
Н. Евреинов
35
Ю. Л. РАКИТИН — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
25 июня 1938 года
Белград
Дорогой Николай Николаевич,
Спасибо за комплимент, что любите мои письма. Но они Вам не приносят радости и пользы. О пьесе Вашей: я ее уже недели две по просьбе Всевы взял из театра 277 и отдал ему для отправки Вам. Он обратился еще задолго до Вашего письма ко мне. В театре ее прочел Милачич, так называемый драматург (!), и сказал: «Чересчур тонко для нашей публики». Он — идиот, черногорец. (Это низшая раса, и на самом деле они невероятно глупы и лукавы.) Другую Вашу пьесу я дал директору новому — Младеновичу, который уверяет меня, что знает русский язык. На самом деле он знает его, как я французский. Это не знание, а чувствование и догадка. Одним словом, ерунда. Я это знал и знаю, что 17 лет провел, пробивая стену лбом, стена, как и была, крепка, а мой лоб разбит. Я пока ничего не ставлю, работает сербская молодежь — режиссеры (2 из них — мои ученики).
Мне избегают давать постановки. Находят, что я, по-видимому, стар. И громко критикую ихний репертуар. Если бы я не был в категории штатных актеров, меня бы давно прогнали бы. Сейчас на русских «не мода». Вот и Павлова и Греч уволили, хотя, по-моему, поделом. Их, как пишут здесь, мемуарные постановки Чехова и «Свадьбы Кречинского»469 (это с тупым-то сербским актерством, не имеющим понятия о сочности русского барства)… Г-жа Греч, кроме того, с голоса насвистыва[ет то], что видела, а он выкидывает кренделя и коленца. Прошло это все без успеха, а как от них ожидали многого. Матерьяльные дела мои убийственны из-за всяких экспериментов сына моего, который пожелал жить в Париже, сделал долг на поездку, который я выплачиваю, да моя поездка стоила, а жалованье правительство и театр платят нам неаккуратно. Правительство свою часть платит, а театр свою задерживает. Ах, милый и дорогой Николай Николаевич, если бы знали Вы, какой мрак у нас здесь и среди русских, и среди сербов. Я целый день лежу и читаю или скулю на судьбу.
Ни одной пьесы русской с русскими я не поставил. Они организовались в Союз и платят режиссеру 200 динар за постановку (немного больше 1000 франков). Голодные русские актеры режиссируют + сто динар за игру.
Ну, я, конечно, ставить за эти деньги не могу. После того, как Ксюнин прекратил субсидию русским спектаклям, я не смог ничего поставить. Павлов и Греч монополизировали это в свою пользу. Они поставили 4 спектакля при полных сборах470. А репертуар аховый. Ксюнин (читали, наверное, в газетах) застрелился. Он душевно был болен — ипохондрия, а может, и наследственность. Всева Хомицкий рассказывал, что Вам не понравилась пьеса Сирина471, и мне после первого чтения в рукописи [нрзб.], а потом я прочел ее вторично, и она мне понравилась. Ставить ее интересно, но она очень многоречивая и неумело сделана. Дорогой мой Николай Николаевич, как Вы счастливы, что нет над головой начальства хамского, что нет у Вас детей, что Вам не говорят, что Вы стары и т. д. Кончается жизнь, а ничего в ней не сделано. Я даже воспоминания свои безобидные, лирические не могу напечатать. Очень редко печатаюсь у сербов. Они платят гроши и вкус у них бр-бр…
Посылаю Вам свои горячие приветы, Вам и милой Анне Александровне. Не выхожу никуда, играю со щенком и читаю глупые книги. Вот и все. На будущий сезон пока получил «Мизантропа»472. Очень люблю Мольера, но «Мизантроп», как нарочно, скучно. Я почти всего его ставил здесь. Теперь они перевели «Мизантропа» в стихах, и вот пожалуйте. В «Мизантропе» ничего не выдумаешь. Как бы я хотел видеть Вас здесь. С этой мыслью я не хочу расстаться.
278 Еще раз целую Вас крепко. Жена шлет приветы. Если увидите моего блудливого сына, скажите ему, что его здесь ждут, иначе я не смогу его устроить на службу. Он захотел вернуться. Деньги ему на дорогу послали.
Ваш Юрий Ракитин
Павлова и Греч буквально прогнали. Они держали себя очень недостойно и унизительно. В газетах полемика!473
36
Н. Н. ЕВРЕИНОВ — Ю. Л. РАКИТИНУ
6 июля 1938 года
Париж
Дорогой друг Юрий Львович,
Бесконечно благодарен Вам за душевное письмо, которое я полностью оценил. Вы только напрасно ропщете на Судьбу: все Вас знают как выдающегося художника сцены, в историю которой Вы вписали отличные страницы, как в России, так и в Югославии. Мне здесь куда труднее, чем Вам, так как здесь драматургов и режиссеров, имевших маломальский успех, просто «не пущают» вперед.
Никиты Юрьевича давно не видел и не знаю даже его нового адреса. Кланяйтесь ему, когда вернется, и попрекните его за меня: чем заслужил я его забвение?
О новостях (всякой всячине) пишу Вс. Хомицкому, коему усердно прошу Вас, по прочтении моей писули, к нему препроводить ее ему, о чем, уповая на Вашу любезность, пишу Хомицкому.
Насчет «Мизантропа»… Здесь в «Ambassadeurs» он идет ежедневно с Alice Cocéa474, переиначившей mis’en scène (действие — в саду, она выезжает в «шарэтке»44* и т. п.). Пойдет все лето. Прошел уже 70 раз подряд — нечто неслыханное.
Сердечнейший привет от Анны и меня дорогой Юлии Валентиновне. Видит Бог, до чего мне хочется «гастрольнуть» в Белграде и часами в продолжение недели, по меньшей мере, беседовать с Вами обоими.
Крайне интересуюсь Вашими мемуарами и ужасно хотел бы заглянуть в них. Целую Вас крепко.
Ваш настоящий друг
Н. Евреинов
КОГДА ВЕСЬ
МИР — ЧУЖБИНА
Письма Рудольфа Унгерна Юрию Ракитину
1926 – 1938
Публикация, вступительный текст
и примечания В. В. Иванова
Имя Рудольфа Унгерна мало что говорит современному читателю. А между тем в театральном быту подразумевают его беспримерно часто всякий раз, как произносят 279 слово «вампука». Именно Унгерн был режиссером спектакля «Кривого зеркала» «Вампука — принцесса африканская» (1909). За этим фольклорным, безымянным увековечеванием скрывается большая театральная биография. Ограничимся пока только беглыми вехами.
Рудольф Унгерн принадлежал к древнему роду немецкого происхождения баронов Унгерн-Штернбергов. Мифологические корни генеалогического древа были описаны его родственником бароном Романом Федоровичем Унгерном, печально известным своей жесткостью в годы гражданской войны: «Семья баронов Унгерн-Штернбергов принадлежит роду, ведущему происхождение со времен Атгалы. В жилах моих предков течет кровь гуннов, германцев и венгров. Один из Унгернов сражался вместе с Ричардом Львиное Сердце и был убит под стенами Иерусалима. Даже трагический крестовый поход детей не обошелся без нашего участия: в нем погиб Ральф Унгерн, мальчик 11 лет. <…> Барон Ральф Унгерн был пиратом, грозой кораблей в Балтийском море. <…> В начале XVIII века был известен некий Вильгельм Унгерн, занимавшийся алхимией и прозванный за это “Братом Сатаны”»475. Согласно менее живописным, но достоверным историческим документам, род восходит к Гансу фон Унгерну, ставшему вассалом рижского архиепископа в 1269 г. Баронское достоинство было пожаловано этому роду в 1653 г. шведской королевой Христиной. Барон Карл Карлович (1730 – 1799) был генерал-адъютантом императора Петра III. Одна из линий получила в 1874 г. графское достоинство Российской империи. Согласно семейной традиции, быть полагалось если уж не пиратом, то либо военным, либо дипломатом. На этом фоне театр как призвание выглядел каким-то грехопадением рода.
Фамильное гнездо Унгернов находилось в Ревеле. Однако имение родителей располагалось в Беляевке Харьковской губернии, где и родился будущий режиссер 3 августа 1874 г. Впечатление о юности Унгерна можно составить по заметке, которую рижский репортер написал, основываясь на рассказе самого Унгерна, в 1938 г.: «Еще будучи воспитанником петербургского 2-го кадетского корпуса, Р. А. Унгерн в 7-м классе с успехом сыграл на корпусной сцене роль Хлестакова. На спектакле присутствовали В. Н. Давыдов и В. П. Далматов, и оба они очень сочувственно отнеслись к первому выступлению кадета-актера. Это благословение двух “столпов” Александринки укрепило молодого Р. А. Унгерна в его дальнейшем непреодолимом стремлении к театру.
Увлечение драматическим искусством проявлялось у Р. А. Унгерна и во время трехлетнего пребывания его в Михайловском артиллерийском училище, воспитанники которого устраивали спектакли своего летнего театра в Дудергофском лагере, играя по 2 – 3 спектакля в лето.
Первые робкие шаги на любительской сцене привели Р. А. Унгерна вскоре к руководству русским драматическим кружком в Варшаве, где он провел в качестве офицера 8 лет своей службы в лейб-гвардии 3-й артиллерийской бригаде. Это был серьезный кружок, своим внимательным и чутким отношением к искусству компенсировавший до некоторой степени отсутствие русского театра в Варшаве. В состав его входили как офицеры варшавского гарнизона, так и чиновники при варшавском генерал-губернаторе. Кружок ставил “Ревизора”, “Плоды просвещения”, “На бойком месте” и вообще вел линию серьезного театрального начинания. Многие из участников этого кружка сделали впоследствии хорошую театральную карьеру.
Большое влияние на перемену “рода оружия” в смысле перехода с военной службы на путь служения театральному искусству в жизни Унгерна сыграло творчество А. П. Чехова и в особенности его пьеса “Три сестры”, ставшая на всю жизнь для него самым любимым произведением драматической литературы. Расставшись с военной 280 службой в 1903 г., Унгерн свой первый театральный сезон провел в антрепризе Мейерхольда, причем первая сыгранная им роль была маленькая роль Кривого Зоба в горьковской пьесе “На дне”. Роль была не по индивидуальности молодого актера, и играл ее Унгерн, по его собственному выражению, “сквозь слезы”, что не помешало, впрочем, ему скоро выдвинуться, и уже в конце первого сезона он дублировал в ролях любовников и простаков самого Мейерхольда»476.
Итак, первые профессиональные шаги на новом поприще были сделаны в херсонском Товариществе новой драмы Вс. Мейерхольда (1903). После закрытия студии при Художественном театре Мейерхольд решает продолжать дело Товарищества. В январе 1906 г. он приезжает в Нижний Новгород и приглашает Унгерна, где тот впервые попробует свои силы в режиссуре. С 20 февраля по 23 марта 1906 г. Унгерн как режиссер и актер выступает в составе Товарищества новой драмы в Тифлисе. «Среди новых членов “Товарищества” выделялся занятный молодой человек, барон Рудольф Унгерн фон Штернберг, белобрысый, чопорный, суховатый, но, как вскоре выяснилось, дельный, работящий, готовый играть любые роли и педантично выполнять трудные обязанности помощника режиссера»477. Затем с апреля по июль труппа следует по гастрольному маршруту: Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Полтава. С отъездом Мейерхольда в Петербург для работы в Театре В. Ф. Комиссаржевской Унгерн возглавляет Товарищество новой драмы на протяжении зимнего сезона 1906/07 г. (Тифлис). Когда в конце этого сезона Театр на Офицерской покинула группа актеров (среди которых — А. Я. Таиров), несогласная с новым направлением театра, Мейерхольд пригласил своих товарищей по Тифлису. Среди них был и Р. А. Унгерн. Его обязанности «режиссера-репетитора» Мейерхольд так объяснял в письме А. А. Блоку: «Он будет заменять меня в те дни, когда я должен на время отойти от пьесы, чтобы не привыкать к своим ошибкам. На обязанностях его будет еще — проходить с “сотрудниками” общие сцены по моему указанию»478. Барон оказался не только надежным, но и преданным. Во время конфликта Мейерхольда и Комиссаржевской взял сторону первого. Был готов остаться в театре лишь с тем, чтобы, единолично возглавив его, продолжать линию Мейерхольда. Когда же стало ясно, что компромисс невозможен, покинул театр в знак солидарности с учителем (16 ноября 1907 г.). В начале 1908 г. группа актеров бывшего Товарищества новой драмы во главе с Мейерхольдом и Унгерном объединилась для короткого турне: Витебск, Минск. Эта часть биографии Унгерна прошла под знаком если не дружбы, то привязанности двух театральных русских немцев.
В 1908 г. Унгерн принял участие в создании петербургского театра «Кривое зеркало». В 1908 и в 1910 г. показал две версии «Женщин в народном собрании» Аристофана на подмостках Зала Тенишевского училища. Сезон 1912/13 г. служил режиссером в харьковской труппе Н. Н. Синельникова. Следующий сезон провел в Литейном интимном театре Б. С. Неволина.
В 1914 г. Унгерн заключил контракт с Суворинским театром, однако приступить к делу так и не смог. С началом мировой войны он вернулся в свою артиллерийскую бригаду. Был неоднократно ранен, контужен. В Петербурге даже прошел слух о его гибели. В боевых действиях проявил отвагу, за что был награжден орденами.
По словам Унгерна, он «при большевиках <…> был назначен в 1917 году режиссером передвижной труппы для обслуживания фабрично-заводского района Петрограда. Но после постановки сумбатовской “Измены”, где, как известно, в пасхальную ночь поют “Христосе воскресе”, театр был признан контрреволюционным и волею М. Ф. Андреевой упразднен»479. Затем был назначен главным режиссером Василеостровского коммунального театра (1918 – 1919). В «Театре художественной драмы» (б. Литейный 281 театр) показал «Севильского обольстителя» Тирсо де Молины (премьера — 6 октября 1918 г.; художник М. В. Добужинский). Принял участие в создание Еврейского Камерного театра и поставил «Уриэля Акосту» К. Гуцкова с Соломоном Михоэлсом в заглавной роли (премьера — 11 июля 1919 г.), репетировал «Нору» Г. Ибсена.
Унгерн, как и многие, бежал от «петербургской голодухи». Поначалу задержался в Витебске, где работал в городском театре (1920 – 1921; «Звезда Севильи» Лопе де Вега, «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого, «Дети солнца» М. Горького, а также «ряд новинок русских и западных драматургов»). Осенью 1921 г. руководил харьковским «Молодым театром», который просуществовал совсем недолго и был преобразован в труппу «Павильон муз», выступавшую в кинотеатре «Модерн». Унгерн успел поставить всего два спектакля, одним из которых («Игра в плаху» Ю. К. Олеши) отметил годовщину пролетарской революции. Премьера — 7 ноября 1921 г. В сезоне 1922/23 г. был главным режиссером и заведующим художественной частью харьковского Краснозаводского театра им. Раковского, возникшего на основе Народного дома и, соответственно, предназначавшегося для обслуживания «рабочей аудитории». К пролетарской публике Унгерн не приноравливался и утверждал в целом культурный репертуар («Эуген Несчастный» Э. Толлера, 1923, декабрь; «Человек воздуха» С. С. Юшкевича, 1922, 24 декабря; «Потонувший колокол» Г. Гауптмана, 1922, 30 декабря; «Воровка детей» Е. Гранж и Л. Тибу, 1923, 18 января; «Соломенная шляпка» Э. Лабиша, 1923, январь; «Мещанин во дворянстве» Ж.-Б. Мольера, 1923, март, и др.).
Унгерн сумел не только завоевать рабочую аудиторию, но и добиться признания харьковских культурных кругов. Так, профессор И. Туркельтауб писал: «Я давно уже не наблюдал в театре такого горения, такой напряженности, товарищеской спайки и преданности делу, как здесь. <…> Следя за тем, как подвижнически кладут камень за камнем в злосчастном Народном доме, над которым так много экспериментировали, лишний раз оцениваешь силу веры и воли. Этой верой и волей создать во что бы то ни стало хороший театр заряжены тут все, от вдохновенного художественного руководителя, талантливого Р. А. Унгерна <…> до выходного актера и монтировочного рабочего»480.
Но, возможно, прогнозы самого «вдохновенного художественного руководителя» были менее оптимистические. Следующий сезон он встретил уже в симферопольском Городском театре, поставив «Павла I» Д. С. Мережковского, затем показал: «Три вора» М. Я. Ирецкого по У. Нотари, «Мещанин во дворянстве», «Праздник крови» («Овод») Э.-Л. Войнич, «Казнь Сальва» С. С. Прокофьева, «Воздушный пирог» Б. С. Ромашова, «Заговор императрицы» А. Н. Толстого и П. Е. Щеголева, «Учитель Бубус» А. М. Файко. Попытки поставить уже опробованного «Эугена Несчастного» и «Потонувший колокол» были пресечены местным Реперткомом. Но в тяжбе с той же инстанцией по поводу «Уриэля Акосты» удача была на стороне режиссера. В сезоне 1925/26 г. Унгерн показал «Воздушный пирог», «Принцессу Турандот» К. Гоцци, «Виринею» Л. Н. Сейфулиной и В. П. Правдухина, «Шторм» В. Н. Билль-Белоцерковского и другие спектакли.
Советскую Россию Унгерн покинул в 1926 г., еще не зная, что навсегда. В первые рижские сезоны он не воспринимает свой отъезд как окончательный, приценивается к предложениям и приглашениям, поступающим из России. О том же свидетельствует и его обращение в Ленинградское общество драматических и музыкальных писателей (Драмсоюз) от 2 января 1928 г. с просьбой о членстве481. Но Великий перелом и все, что за ним последовало, превращало родину во все более далекую и чуждую. Ожесточается не только его отношение к советскому режиму, но и к советскому 282 театру. Достаточно сравнить письма 1926 и 1937 гг. Впрочем, все большее ожесточение вызывала и эмигрантская среда. От благодушия по поводу русского театра в Риге не остается и следа. Если в первом письме он списывает мрачность Юрия Ракитина, уже шесть лет к тому моменту работавшего в Белграде, на ипохондрию, то его собственные письма 30-х гг. дышат самым беспросветным отчаянием.
Первой постановкой Унгерна в Театре русской драмы стали «Три сестры» с М. А. Ведринской, Е. А. Полевицкой и Е. Т. Жихаревой в главных ролях, прошедшие с бурным успехом. Премьера состоялась 5 октября 1926 г.
Насколько мало сохранилось сведений об Унгерне, можно судить по тому, что в мейерхольдовской «Переписке. 1896 – 1939» (М., 1976. С. 451), над научным аппаратом которой трудились серьезные архивисты, его год смерти обозначен как 1924-й. Ошибка перекочевала и в более позднюю «Летопись жизни и творчества В. Ф. Комиссаржевской», составленную Ю. П. Рыбаковой (Л., 1994. С. 513). В последние годы в исторической литературе была принята обтекаемая формула: умер после 1940 г. Теперь появилась возможность ее конкретизировать. В русской нацистской газете «Новое слово» от 30 марта 1941 г. я обнаружил сначала сообщение, что из Риги в Германию прибыл барон Р. А. Унгерн482. В Германии стареющий режиссер отошел от театральной практики и сосредоточился на педагогике. По информации, пока документально не подтвержденной, преподавал театральное искусство в немецком университете. Затем все та же газета «Новое слово» донесла и последнее сообщение: «2 октября 1944 в Jordan-Neumark после продолжительной тяжелой болезни скончался полковник гвардейской артиллерии барон Рудольф Александрович Унгерн-Штернберг (по сцене Рудольф Унгерн), о чем в глубоком горе извещают жена, родные и друзья покойного»483.
Надо сказать, эмиграция окончательно русифицировала барона. Если до революции он по преимуществу пользовался своим отчеством «Адольфович», то с середины 20-х гг. окончательно сменил его на «Александрович». С этим отчеством и был похоронен в Германии.
На протяжении почти пятнадцати лет Унгерн руководил самым стабильным и устойчивым русским театром в эмиграции. Его положение многим казалось завидным (исключение не составил и его адресат — Ю. Л. Ракитин). Письма режиссера раскрывают весь драматизм этого блестящего положения.
Легендарным предкам Унгерна принадлежал весь мир, историческим предкам — Россия, по крайней мере, Прибалтика. У Рудольфа Унгерна не осталось ничего, даже эмиграции. Приняла его Германия, к тому же нацистская, с которой режиссера почти ничего не связывало.
Как и Ракитин, Унгерн был из первого поколения мейерхольдовцев. В этом заключен еще один дополнительный интерес к его фигуре. От Мейерхольда он взял отнюдь не художественный радикализм, но, скорее, интерес к непрямым поэтическим смыслам, удержать который в обстоятельствах провинциального театра, где большей частью ему доводилось работать, было все труднее.
Его отношения с Ракитиным завязались еще в мейерхольдовские провинциальные сезоны (Херсон, Тифлис и др.). Далее их пути разошлись. Ракитин был принят в труппу Московского Художественного театра (1907 – 1911), хотя видного актерского положения так и не добился, затем был актером и режиссером Александринского театра (1911 – 1918).
Письма публикуются по рукописным оригиналам, которые хранятся в фонде Ю. Л. Ракитина в Театральном музее автономного края Воеводина (Нови Сад). Выражаю сердечную признательность друзьям и коллегам, оказавшим содействие при составлении 283 научного аппарата: Алексею Арсеньеву и Луке Хайдуковичу (Нови Сад), Линн Малли (Ирвин, США), Татьяне Власовой (Рига).
1
16 октября 1926 года
Рига
Милый Юрий!
Наконец я узнал, где ты обретаешься! Слава Богу, что ты жив и здоров! А что хандришь и «жалуешься на судьбу свою» — это меня не так пугает: всегда тебя таким помню. Не обижайся — я, конечно же, верю, что тебе тяжко и скучно, но позволь надеяться — не настолько, как ты сам себя в этом очень искренно убеждаешь. Я потерял тебя из виду в 19-м году, когда я сам бежал от петербургской голодухи в Витебск (кажется, ты навострил лыжи раньше меня). Слышал, что ты осел где-то возле Гомеля (у твоего тестя). Приехав в Харьков, в 21-м году узнал, что ты был там до меня и работал в театре «Голубой глаз» (об этом мне сообщили мои бывшие харьковские ученики, участники этого самого «Глаза»484). О дальнейшей твоей судьбе, как ни старался, никто сообщить мне ничего не мог, и было даже предположение, что ты в свое время попал к «стенке»485 … Рад, что это не так и что ты «существуешь», хотя и в двух пустых и дорогих комнатах! — «Комнаты» изменятся, а жизнь не вернешь. Твоя же слишком молода, чтобы ее терять. Мария Андреевна486 передала мне твое письмо к ней с просьбой обстоятельно ответить тебе на твои вопросы. Рад исполнить ее просьбу услужить тебе, друг, но… ведь, в сущности, ты и вопросов-то никаких не задаешь. Платонически (сам пишешь «не для возвращения, а для информации») справляешься о стоимости доллара в СССР. Вот информация: доллар «казенно» расценивается очень твердо около двух рублей (так вывешено в Госбанке, так платят иностранцам при размене их валюты, конечно в неограниченном количестве, и так продают иностранную валюту, в крайне ограниченном количестве — не более как на 300 рублей на паспорт — при выезде за границу). Но купить (кроме указанного случая — выезда за границу — что (т. е. выезд) крайне затруднительно и очень дорого обходится) доллар «свободно» купить просто нельзя, на черной бирже можно достать рублей за 50 – 60, но если поймают, то и продавца, и покупателя за «спекуляцию валютой» ошарашат по-настоящему. Вот так «стабилизуется» рубль наш. Никакого «торгового» рубля более не существует, есть один «червонный» (червонец = 10 рублей). А что этот «червонный» рубль «за рубежом» ничего не стоит, это ты, надеюсь, знаешь не хуже меня. Но это важно для «внешнего» общения. Внутри же СССР это ощущается не так уж болезненно — «стабилизация» проводится твердая и «курс» старательно поддерживается, борьба с дороговизной и подъем производства проводится неустанно — плоды, конечно, в будущем еще! Жить, конечно, дорого, но не так, чтобы захлебываться. В Москве в хороших ресторанах обед (из двух блюд) — 1 р. 35 – 1 р. 50. Одеваться очень дорого, а главное — ничего хорошего не достанешь. Квартирный кризис захватывает все большие районы. Теперь во многих городах провинции положение почти такое же, как в Москве, т. е. — комнату достать почти невозможно (в Москве 284 только за очень большие отступные). Жилищная норма — 18 кв. аршин на «дыхание», но, конечно, и эта мизерная норма часто значительно уменьшается. В Москве я лично видел и знаю семьи в 4 – 5 человек, живущих в одной комнате небольшой, и так целая квартира, и так весь дом набит — ты представляешь, что это за существование?! А часто эти 4 – 5 человек не одной семьи, а принадлежат к 2 и 3 чужим между собой семьям, и разгорожены их «площади» хорошо если фанерой, а то чаще старыми портьерами или одеялами, понимаешь?! Что, по-твоему, лучше: такая «цыганщина», такой «табор» — или 2 твои комнаты? В Питере пока не так «плотно», но «уплотняется» и Питер — население растет, а «годных для жилья» домов все меньше… Нет, милый Юрий, не скорби о своем положении!
Но с другой стороны, ты не ошибаешься, заработки хорошо квалифицированных и режиссеров, и актеров довольно высоки. В Актеатрах (в Петербурге и в Москве) платят, положим, гроши (халтурой живут), а в провинции ставки высоки (все теперь по индивидуальным договорам служат, которые не исключают «коллективного» — на всю труппу один).
Так называемый Леф (левый фронт в искусстве)487 — это чепуха, и бояться его, разумеется, нечего. Ты, наверное, думаешь, что это «пропаганда» большевизма. «Лефы» пристегнулись к большевизму или, вернее, к коммунизму. Но «правительство» совсем не на их стороне, не говоря уже о Луначарском. Теперь «Леф» совершенно потерял свое «обаяние» (мода прошла и выдохлась «выдумка»), и «сам» Всеволод держит сейчас здорово «право руля» и протягивает руку Станиславскому (с Луначарским давно alliance возобновлен). Но и в расцвете своем «Леф» был не страшен и боролись с ним открыто и очень успешно. Я никогда «Лефа» не держался, а вел свою эволюционирующую линию — несмотря на это, моя популярность никогда не была еще так велика, как в эти годы.
И все же я с удовольствием принял приглашение в Ригу и уехал, отказавшись от очень и очень хороших и выгодных приглашений у нас. Не знаю, долго ли я пробуду за границей, или меня скоро потянет назад, но теперь пока я буквально отдыхаю в культурных условиях и жизни и работы.
Разумеется, «Леф» сделал свое дело — всколыхнул, взбудоражил, заставил многое пересмотреть и переоценить. Мы кипели как в котле. Работали, ругались и целовались — много достигли, многое, мне кажется, впереди… Во всяком случае — «наш театр» куда живее и интереснее здешних (европейских вообще) и по содержанию, и по оформлению (последнее выше)488.
Но если ты все же хотел бы возвращения в СССР (на «конец скорый», как ты пишешь, не надейся — он очень и очень не скоро придет, по-моему — никогда: будет «эволюция», но не «переворот») — это не так невозможно, я думаю.
Твоя деятельность и выступления, конечно, не столь памятна, о ней и вспоминать не будут. В свое время тебя, конечно, «поставили бы к стенке», но теперь — на нее не обратят внимания. Тебе с этим вопросом следует обратиться к Экскузовичу (ты ведь его знаешь) или к Ю. М. Юрьеву (директор б. Александринского Актеатра)489 и к нашему Председателю ЦК Рабиса Ювеналу Митрофановичу Славинскому (Москва, Дворец Труда)490. Расскажи им свою «историю» и попроси совета и содействия. Работу тебе, конечно, сейчас же дадут (в провинции легче) — режиссеров действительно не очень много. (Но без предложения 285 конкретного определенного — ехать не советую.) В Александринке (в составе) были большие перемены и пертурбации, но в конце концов — все по-старому. Коля Петер491 (вершитель режиссуры), Ю. М. Юрьев (директор), что-то Радлов492 куролесил и целая плеяда примазавшихся с маленьким Раппапортом493 во главе (главный режиссер Мариинской оперы — не шути с ним!). Вообще Питер в театральном отношении схудал окончательно, бездарен и худосочен. (Монахов494 в своем театре еще пытается что-то поднять — но неважно.)
Прощай, милый Юрочка, крепко тебя целую. Мой сердечный привет твоей супруге (а имя-отчество, извиняюсь, забыл — пусть простит старика). Если тебя еще что интересует — напиши — сообщу, что знаю. Напиши по адресу М. А. Ведринской для меня или на театр наш. (Рудольф Александрович Унгерн).
2
6 июня 1929 года
Рига
Дорогой Юрий,
Как видишь, в Польшу с труппой я не поехал495 — не впустили поляки. Разрешения на поездку добивались около двух месяцев. Наконец, получили, но с оговоркой — не больше двух советских паспортов. Конечно, пришлось отдать их актерам — Ведринской и Студенцову496. Мария Андреевна в последнюю минуту ехать отказалась — муж выписал экстренно в Париж (он пел у Кузнецовой)497. Сделали запрос, нельзя ли вместо М. А. Ведринской поместить в списки меня — разрешение не последовало, и я вынужден был остаться. Репертуар повезли легкий, старый, пошловатый, так что мое присутствие [не] так уж необходимо498, но мне самому досадно — во-первых, лишился заработка, во-вторых, хотелось побывать в Польше.
Вообще плохо жить с советским паспортом (с нансеновским499 хотя еще хуже) — никуда не впускают. Хотел провести лето на юге Франции, под Марселем — там у меня сестра. И вот уже третий месяц тянется дело о визе. В этой проволочке я подозреваю не только нелюбовь французов к советскому паспорту, но и влияние барона Н. В. Дризена (ты знаешь его по Петербургу — цензор и редактор «Ежегодника Императорских театров»), который любезно предложил нам с женой500 свои услуги по хлопотам о визе. Через некоторое время, после того как жена моя (я, к счастью, не вмешивался в это дело) с великой радостью приняла его дружеское предложение, он мне вручил свою пьесу. Пьеса дрянь и не пойдет (не хочешь ли порекомендовать ее белградским любителям? У них, я думаю, она могла бы иметь успех), но официально я могу сообщить ему об этом лишь в августе, когда опять заработает наш Совет. Он же нажимает и в каждом письме спрашивает — «как дело с пьесой» — ясно: проведи пьесу, а я тогда визу выхлопочу. Жалею, что поздно узнал об этом фокус-покусе: не хочу совсем такой ценой получать визы — во-первых, поздно искать новых ходатаев, почему во Францию не попаду и ограничусь волей-неволей Германией — во-вторых.
О Черепове. Личность во всех отношениях сомнительная, темная. Оговариваюсь — я его совсем не знаю, ни разу нигде не встречался за все мои три года здесь. Видел его один раз в дивертисменте в кино — ниже среднего. Все, что приходилось 286 слышать о нем (а слышал неоднократно и много) — только отрицательно. Никто положительно не отозвался ни разу. Аферист и мелкого сорта авантюрист. У нас появился после Ковно, откуда выгнан был за пьяные дебоши и какие-то темные делишки. Служил у Рощиной — потому было здесь тогда «безактерье» полное. Резонер по существу (и очень плохой актер вообще) претендует играть героев-любовников. К нам никогда не просился даже — слишком его хорошо все знают (кроме меня) и, разумеется, не приняли бы. Служил ли когда в МХТ — никто не знает, вернее — врет, хотя, может, и поболтался там немного. Своих педагогических и режиссерских способностей здесь никогда не применял, — чему сумеет научить белградских любителей и студийцев, сказать нетрудно, но едва ли чему путному. Общее здешнее мнение: денег и дела этому господину лучше не поручать. Добровольскомун (он тоже меня запросил о нем) я написал то же самое, но, конечно, значительно все мягче. Возможно, что говорят о нем хуже, чем он есть, или он теперь исправился; самое правильное — приглядеться бы к нему белградцам, а потом уже к делу подпускать, а сразу, пожалуй, и опасно, не вышло бы так, как в Праге со Стренковским501.
Я написал тебе, Юрий милый, все, как сам неоднократно слыхал, но повторяю, сам Черепова совсем не знаю, так что прошу тебя отнестись к этой суровой аттестации с большой осторожностью. Привет твоей супруге. Жму руку.
Твой Руд. Унгерн
3
19 августа 1932 года
Riga
Дорогой Юрий,
Спасибо тебе за письмо. Майкельн, вероятно, давал тебе читать мое первое (за лето) письмо к нему. Когда он вернется из поездки, он прочтет тебе и мое второе, в котором я излагаю все мои театральные невзгоды и горести и причины, их вызвавшие. Не буду поэтому распространяться обо всем этом. Ты пишешь: «… искусство вещь страшно деликатная, здесь обидеть может все…» — неоспоримо правильная мысль. Очень чувствую и понимаю все то, что могло обидеть и обижает тебя в твоем «сербском служении», потому что от обид, мне чинимых, сломалась душа моя, и я на старости лет готов клясть то, чему отдал половину моей жизни: мне опротивела сцена, мне осточертел театр!.. Это сделали пошлость, вранье и предательство, которые плотно угнездились в нашем театре и злобно подавляют всякую мысль, всякое желание хоть немного впустить снова свежего воздуха. Шесть лет, что я в этом театре, я провел в непрерывной борьбе. Три первых года победа, как будто, была на моей стороне, и мне удалось поднять театр на большую высоту. Затем поползли «недруги» и стали валить мое строение и вместе с ним и меня. На это ушли вторые три года. Театр — угробили. Сейчас мы — «бюро для постановок случайных спектаклей», без всякой физиономии, без какой-либо идеологии… Противно и стыдно, что дело все же еще связано с моим именем. Но уйти мне некуда. Ранней весной я послал призыв SOS во все пункты, где чаял найти спасение. Спасения нет — податься некуда. Не исключая Советской России: тут были очень хорошие предложения, 287 но мне не советовали возвращаться — и я этому верю. Будь я один — я рискнул бы, но вести на это ужасное испытание мою больную жену (а она все, что у меня осталось) я не смог. Три-четыре года назад можно было и должно было вернуться, срок пропущен — теперь невозможно. То же скажу о тебе — три-четыре года назад я ручался бы за твое благополучное возвращение (и я писал тебе об этом), теперь — нет. Но, вернувшись, ты глубоко разочаровался бы, дорогой друг: наша Россия умерла, и ты напрасно тоскуешь по ней — по мертвым тосковать бессмысленно и ходить смотреть на вагоны, бегущие на кладбище, кладбище к тому же разрушенное и зловонное, занятие более чем печальное… Когда-то я писал Майкелю и тебе, призывая вас к созданию Русского театра в Югославии. Вы ответили, что это невозможно. Я глубоко верю — найдись хотя бы даже и очень небольшие деньги, дело можно было бы сделать. Русский театр — единственный за рубежом — мы перенесли бы из Риги, где он ожидовился и превратился в вонючую мелочную лавку, в «бюро халтурных представлений всех видов и мастей», — в Славянские Земли, где ему быть надлежит… Теперь я снова высказал в письме к Мише мои робкие надежды все же перебраться к вам в Белград и получить работу в Доме русской культуры. Знаю, что и из этого ничего не выйдет — меня не позовут туда. Это лишь одна из попыток вырваться отсюда, где я задыхаюсь в мертвой петле… Если у меня к весне будут хоть самые мизерные деньги, брошу театр окончательно и уеду с женой куда-нибудь на юг, где будем торговать «с лотка» или чистить сапоги на улице. Студенцов прилагал неимоверные усилия, чтобы не возвращаться в Петербург. Пришлось уехать — он совершенно, совершенно «не прошел» здесь и делать ему положительно было нечего. О театрах петербургских сейчас мы ничего [не] знаем. Друг мой, поверь, знать нечего и завидовать, ей-богу, нечему. За это время видел многих актеров оттуда, проезжавших по тем или другим причинам Ригу (был Вивьен502, Вольф-Израэль503, в Ковно была труппа александринцев с Горин-Горяиновым504 во главе, проезжал драматург Замятин505, теперь у нас здесь Папазян506, на днях концерт Качалова507, в октябре ожидаем Глаголеву508, была недолго Белёвцева509 и т. д.) — громко не говорят ничего или фальшиво восторгаются, шепотом — нехорошо говорят…
До следующего письма, дорогой мой Юрочка. Мой сердечный привет Юлии Валентиновне. При случае, если тебя интересует, напишу тебе несколько слов о моей последней встрече с Колей Петером (Кострома. 20-й год)510.
Целую тебя. Твой Унгерн
Непременно на днях пошлю тебе все свои переделки — ожидаю возвращения экземпляров из Варшавы.
4
6 октября 1932 года
Рига
Дорогой Юрий!
Несмотря на то, что сейчас у меня голова окончательно пухнет от массы работы, я все же берусь за перо, с тем чтобы снова послать тебе, а через тебя и всем, так или иначе соприкасающимся с вопросом о Русском театре в Белграде, крик моей души, моего наболевшего сердца: «Не выпускайте дело организации 288 Русского театра из своих рук. Не бросайте деньги проходимцам (Черепов), рвачам, случайным гастролерам и прочим, а основывайте свое дело. Пусть совсем маленькое сначала, но так заложенное, на таком фундаменте, чтоб оно действительно могло разрастись в Театр». В моем последнем письме к Майкелю, на которое он мне еще не ответил, я подробно писал, как я себе представляю нашу первоначальную работу. Да, именно с такого «трудового коллектива» — Студии-Театра — следует начинать. Только так выросшее дело будет прочным и достойным делом. Юрий, очнись! Брось свое брюзжание, хандру и тоску по тому, чего нет, что умерло. Нет твоего «Александринского» театра — нет. Он умер и разрушен — пойми ты это! И неужели ты думаешь, что Театр, слопавший за милую душу Ю. М. Юрьева, — вплоть до ухода его из театра, — не говоря уже обо всех остальных, не слопал бы тебя?! — Какие там к черту актеры большевики… Полуголодные рабы они — пусть «заслуженные», а все же рабы и завидовать им — ей-богу же, даже просто нехорошо!
Наконец, что же или правильнее — кого ты любишь, Юрий? Александринский театр (и вне его не видишь больше жизни) или Русский театр вообще, независимо от места и помещения? Надеюсь, последний — и вот его я тебе предлагаю строить. Знаю, и ты, и Майкель очень пессимистически смотрите на возможность «строительства» именно в Югославии, в Белграде. Уверен, что Юлия Валентиновна иначе смотрит на дело, что она на моей стороне, и к ней обращаюсь с мольбой: поддержите, милая Юлия Валентиновна, меня. Подхлестните Ваших «старцев» — заставьте их понять всю важность и ценность моей идеи. Собирайте собрания, пропагандируйте, обратитесь ко всем влиятельным и сильным людям — выписывайте меня и давайте строить и растить Русский Театр за рубежом, хотя у меня еще нет латвийского паспорта (к весне будет), но я приложил бы все старания как-нибудь устроиться и, если мое присутствие теперь на пару дней было бы необходимо, вырвался бы на 3 – 4 дня из моего пекла и приехал бы в Белград. Но думаю, можно теперь и без этого обойтись. Почему я вдруг сейчас так сорвался и пишу свое, вероятно, немного сумбурное (очень спешу) письмо?! Да потому, что уже зашевелились «дружки» — Шмидт, как у нас говорят, уже предпринимает шаги в Белграде: ищет субсидий и льгот для устройства «базы» гастролей по славянским землям Полевицкой511. «Наши» завели переговоры со здешним посланником Югославии — нельзя ли (субсидии, льготы) устроить сначала гастроли, а потом «филиал»… Вы же понимаете, чем это пахнет? Будут гастроли, будут рвачи, но театра русского в Белграде не будет. Я же говорю: строим любовно Театр, и будут у нас и «гастролеры» и все прочее, но тогда, когда мы найдем это нужным и полезным для нашего дела. И не загадят тогда «гастролеры» и прочая братия самой идеи сохранения и развития Русского Театра в Славянских Землях. Понятно. Обсудите, главное, поймите и пишите возможно скорее и обстоятельнее. Не давайте уплывать «субсидиям».
Юлии Валентиновне целую ручки, тебя и Майкеля — в уста «сахарные».
Тебя искренне любящий
Твой Рудольф Унгерн
М. А. Ведринская с Третьяковым года два как разошлась. Кажется, он в Петрограде. За эти дни не видел ее. При встрече передам привет твой. Алекин, славный паренек и «утешительный» на сцене, шлет тебе очень теплый привет. О «Человеке с портфелем» у тебя информация не совсем точная: у Мейерхольда он 289 никогда не шел, а шел или в Театре Революции512, или в МГСПС. С большим успехом шел у нас два года. Но я каждую советскую пьесу «перелицовываю» — читаю, так сказать, автора «между строк», и получается «идеология» несколько иная: не классовая, а человеческая. Тогда они звучат иначе. Как только у меня будет свободный экземпляр — вышлю непременно «Чулки»513. Ох, опоздал-то я как! Бегу…
Целую, твой Унгерн
5
6 июня 1935 года
Riga
Дорогой Юрий!
На твое письмо, в котором ты просил меня о высылке тебе «Ведьмака»514, я ответил тебе дважды: первый раз я писал о том, что театр не может исполнить твоей просьбы до получения от тебя «Обрыва»515; второй раз — что «Обрыв» к нам прибыл, и потому мне обещано «Ведьмака» выслать тебе незамедлительно. Ты этих моих открыток не получил, видимо. По получении твоего последнего письма я навел справки в конторе театра — выслана ли тебе пьеса. Точной справки получить мне не удалось, потому что театр-то ведь наш закончил сезон к 1 мая и в конторе теперь работает, и то только периодически, крайне сокращенный штат. Курьер конторы, отправляющий обыкновенно всю театральную корреспонденцию, отсутствует совершенно, его нет в Риге теперь, оставшийся же курьер сцены этого дела не знает. Конторщик, ведающий библиотекой, появляется изредка. Но сейчас он болен. В книге отправлений значится — «Ведьмак» и твой адрес, который я тогда же дал конторщику, однако отметки об исполнении нет никакой. Выяснить это дело смогу только, когда увижу конторщика Демидова. Если он пьесы не выслал, а только отметил «к высылке», я прослежу, чтобы он это сделал немедленно. Однако от заключения с тобой какого-либо условия о регулярной высылке тебе нужных пьес совершенно отказываюсь. Если обратишься ко мне и я смогу поспособствовать и наблюсти, чтоб контора выслала (высылать ведь все равно можно только через контору, от театра) — я сделаю, разумеется, без всякого гонорара. Не смогу — не сделаю. Но брать на себя какую-либо ответственность не могу и не буду.
Должен прибавить, что театр наш перешел в другие руки. Коллектив наш (Товарищество) более не существует, и театром ведает некое Общество друзей русского театра516, так что каковы будут будущие порядки хотя бы и в вопросе отправки пьес в другие театры — мне пока неизвестно.
Мария Андреевна Ведринская просто по окончании весеннего нашего сезона уехала на гастроли. Вопрос об ее уходе из нашей труппы ни разу не возбуждался ни с ее стороны, ни со стороны театра. Думаю, осенью она все же будет опять в Риге — у вас, в Югославии, она не прошла, это уже совершенно ясно, ну а у нас, в Риге, она уже так давно не проходит, что к этому все привыкли, и она сама в том числе. Едва ли она оставит Ригу — она давно и очень разумно (внесла деньги за годы, когда не была еще латышской гражданкой) зачислилась по пенсионной кассе, так что уходить ей теперь отсюда, думаю, не очень выгодно. Еще несколько слов о пьесах, на которые ты указываешь в твоем письме.
290 В Художественном театре «Воскресение» шло в переделке Раскольникова (бывшего полпреда в Эстонии)517. Едва ли она подойдет Югославии — очень кощунственная. У нас шла моя инсценировка. Разумеется, попрошу выслать тебе требуемого Раскольникова. Моей не вышлю518. «Блоха» — пьеса Евг. Замятина519. Тоже надо сильно переделывать. Думаю, «Блоху» театр разрешит только перепечатать — своего экземпляра (у нас остался только один) не выдает — «Ночное» и «Помолвка»520 где-то у кого-то гуляют. На полках их нет. Спрошу конторщика. «Красный кабачок» — есть только у меня лично. Экземпляр, подаренный мне Юр. Беляевым521. Его я не вышлю — он мне слишком дорог. Могу отдать перепечатать. Перепечатка у нас обходится в 30 = 150 французских франков = 300 динар. Если тебя это устраивает, вышли мне 30 латов (французский франк, кажется, собирается шлепнуться, так что веди расчет на динары с переводом на латы). Я вышлю тебе копию моего экземпляра.
Вы понесли убытки на Крыжановской (чудесная артистка) в 12 000 динар = 1200 латов и очень жалуетесь. А наш театр мне одному за последние три сезона остался должен более 6000 лат = 60 000 динар. (Конечно, теперь уже я их никогда не получу — ведь считался одним [из] хозяев дела — коллективист.) Так представляешь себе общую задолженность и убытки нашего театра? (Долг мне самый большой, приблизительно 1/5 всей суммы задолженности.) Как же должен бедствовать наш театр, а я в частности?!! — «Делам гавнам — казан — горыть» — так телеграфировал некогда администратор Казанского театра, армянин, своему патрону-антрепренеру в Саратов.
С тем до свидания, дорогой друг. Мой сердечный привет Юлии Валентиновне. Тебя — целую — твой
Рудольф Унгерн
Я переезжаю на другую квартиру. Пиши на театр.
6
27 сентября 1935 года
Riga
Дорогой Юрий!
На днях вернулся я в Ригу и извлек из недр моего наружного почтового ящика в числе других и твое письмо. Вот причина, почему так долго не отвечаю на него. За это время я переменил квартиру, а затем отправился, больше по соображениям экономического характера, в деревенскую глушь, в некий рыбачий поселок, где и отсиживался, несмотря на холод и сырость (нехорошее лето было у нас), до начала моих работ в театре, и куда никаких газет, ни писем мне не переправляли по той простой причине, что почтовое сообщение с упомянутым рыбачим поселком налажено пока более чем скверно. — Вернемся к вопросу о посылке тебе нужных пьес. Ригу ты переоцениваешь — здесь тоже ничего достать нельзя, потому что ничего почти из старого русского репертуара не осталось. Выписка из Москвы — вещь чрезвычайно сложная. Тем более, что и там мало что осталось. Теперь так. Летом умер наш долголетний конторщик, контролер и библиотекарь С. М. Демидов. Теперь лежит при смерти наш старичок рассыльный Кирилов, который летом один и ведал, в сущности, всей нашей конторой и которому, уезжая, я поручил выяснить «дело» с «Ведьмаком», на полке не оказавшимся, и по выяснении отправить тебе эту пьесу. Успел он это сделать или нет — не 291 знаю! Если ты «Ведьмака» не получил — напиши — поиски его будут продолжены. Нужен [ли] тебе еще?
Теперь о других пьесах, тобою названных: «Воскресение», «Блоха», «Помолвка в Галерной гавани», «Красный кабачок» и музыка к «Л. Г. Синичкину»522. В театральной библиотеке из этого перечня есть только «Блоха» в единственном (режиссерском) экземпляре. Значит, надо перепечатывать, что будет стоить до lts. 30 (150 французских франков). «Воскресение» есть у меня — черновой экземпляр. Перепечатка, знаю по неоднократному уже опыту, обходится lts. 33 (165 французских франков). «Красный кабачок» — у меня (нигде в Риге достать нельзя) — авторизованный экземпляр — перепечатка его, думаю, не дороже lts. 20 (100 французских франков). «Ночное» и «Помолвку», возможно, можно будет найти в частной русской библиотеке Хванова или у кого-нибудь из здешних любителей. Значит, тоже перепечатывать — думаю, будет стоить от lts. 15 – 20 (75 – 100 французских франков) каждый экземпляр или еще дешевле — вещи-то ведь, кажется, очень небольшие. Теперь так: переписчику надо платить немедленно по изготовлении им заказа, иначе пьесы он не выдает. Я платить при всем моем желании не могу — у меня нет денег. Значит, я могу заказать перепечатку той или иной вещи, только получив от тебя нужные деньги. Так вот, милый Юрий, пересмотри внимательно еще раз перечень пьес, тебе нужных. Сообщи его мне, сообразуясь с вышеуказанным мною тарифом. Пьесы (если ты напишешь и о каких-либо других пьесах, не называвшихся раньше), которые мне позволят (повторяю, в Театре — новые хозяева) тебе выслать, я тебе вышлю немедленно. О пьесах, которые надо будет перепечатывать, я, найдя их, переговорю и условлюсь с переписчиком. Сообщу тебе стоимость и по получении денег от тебя немедленно закажу переписку. Согласен?
Теперь к тебе просьба, дорогой друг, по поручению моих новых директоров. Нам необходимо пополнить труппу, а актеров нет. Наслышаны мы о проживающем в Белграде — Миклашевском (как будто молодой, драматический любовник)523. Запрашивали о нем Ведринскую. Не ответила. Она осталась совсем у вас и порвала, видимо, с Ригой окончательно и до враждебности — в ее характере. Знаешь ли ты этого молодого актера? Какой отзыв дашь о нем? Можешь ли указать его адрес? Пожалуйста, не откажи сообщить все, что ты знаешь о нем — очень подробно и беспристрастно. Быть может, ты знаешь и еще актеров (пусть молодых, но способных и могущих играть и роли пожилых людей) — характерных резонеров, комиков характерных и просто характерных. А если есть молодой драматический любовник (тут-то и называется Миклашевский) — то его в первую очередь. Очень, очень прошу и передаю просьбу директоров, возможно скорее и подробнее мне обо всем этом отпиши.
Мой сердечный привет Юлии Валентиновне. А что, «Угар»524 мой не пригодился?
Обнимаю тебя
Твой Руд. Унгерн
Музыки «Л. Г. Синичкина» нет и достать не могу. «Манон Леско»525 нет и никогда не ставили.
Мой адрес:
Lacpleja iela 36 dz. 24
Riga Latvia
Можно и на театр — все равно.
292 7
2 октября 1935 года
Riga
Дорогой Юрий!
«Ведьмак» отыскался и тебе выслан — подтверди получение и, как только экземпляр тебе не будет нужен, вышли немедленно обратно. Чек на 165 fr. получил и обменял его на Its. 33, 34. Арифметику ты немного забыл, дорогой мой: 1 lts. = 5 (отбросим 34 сантима) fr. = 10 динарам. Что это так, можешь проверить хотя бы по почтовым отправлениям: заказное письмо за границу от нас стоит 75 сантимов, от вас — 7 1/2 динаров. Понятно? Откуда же ты набрал 530 динаров? 165 x 2 = 330. 200 динаров набежало лишку! Потом так: чем меньше расчетная денежная единица в стране, тем жизнь в той стране дешевле — это, думаю, тебе должно быть известно. У нас жизнь значительно, очень значительно дороже вашей, понятно, что и всякий труд оплачивается несколько, только несколько, дороже. И все же переписка на машинке экземпляра большой по количеству листов пьесы не может быть сделана за lts. 6. Думаю, и у вас ее не изготовят за 60 динар — бумага почти столько стоит. Разве ты проэксплуатировал совсем голодного человека. Пьесу «Воскресение» дам завтра переписчику. Через неделю вышлю. И счет приложу. Конечно, переписка одного экземпляра не обойдется 33 лата. Я взял ошибочно стоимость последней переписки «Воскресения» же — но там был изготовлен особый режиссерский экземпляр и четыре простых экземпляра. Останется еще много на «Блоху» — остальное дошлешь. А не трудны тебе будут эти постановки? Особенно «Блоха»? «Мария-Антуанетта» совсем не Цвейга и даже не «по Цвейгу». Ее написали два немца (фамилий сейчас не помню)526, но пьеса интересная. 12 картин. Не знаю, будет ли она у нас иметь успех — исполнительница Марии-Антуанетты слабовата очень527. Не знаю, о каких двух советских пьесах ты говоришь — идет у нас «Платон Кречет» Корнейчука528, а другой нет пока никакой. Ах, разве — «Счастливый брак» Тригера. Так ведь это старая пьеса — играна нами еще летом, положим, не в Риге529. Обе пьесы — чепуховые. Но без агитки и восхваления — второразрядная стряпня а ля Рышков, Потапенко530 (сегодня рецензия с моих слов), потому в СССР и имеют большой успех. Очень наивная, притянутая «психологичность». И все же при надлежащем исполнении (у нас «Кречет» идет не совсем хорошо, «Счастливый брак» пойдет, думаю, хорошо. Обе пьесы ставит Юровский531). Пьесы должны понравиться. Так мне кажется. Особенно «Кречет». «Антуанетта» сложна по внешнему оформлению (12 картин, очень быстро надо сменять) и масса народу (мелкие роли). «Кречет» и «Счастливый брак» — народу совсем мало и по обстановке очень просто: «Кречет» — 3 декорации (5 картин), «Брак» — 1 декорация (3 действия). Надеюсь, авторские [за] «Воскресенье» я получу — не правда ли? Про «Угар» я спрашивал совсем не потому, что не получил обратно экземпляр. Получил я его от Добровольскойн очень аккуратно. А просто справился, будешь ли ты его ставить, так как Миша мне писал, что постановка «Угара» отложена на «будущий» (то есть нынешний) сезон.
Мой привет Юлии Валентиновне. Будь здоров и не брюзжи так много — вредно для печени. Целую тебя
Твой Руд. Унгерн
Пиши, что надо печатать после «Блохи».
293 8
26 января 1936 года
Riga
Милый Юрий!
Хотя, по-видимому, ты за что-то рассердился на меня и не хочешь больше поддерживать нашей с тобой хотя и редкой, но всегда дружеской и очень ценной, для меня по крайней мере, переписки — я все же уверен, что отнесешься дружески внимательно к этому моему письму. Обращаюсь к тебе по очень важному, серьезному делу. Наш чудесный художник, Юрий Георгиевич Рыковский532, которого я чту, как и все его знающие, не только как выдающегося художника, но и как прекрасного человека, работника и товарища, вынужден по состоянию своего здоровья (болезнь легких) оставить нас и переселиться в страну с климатом более для него подходящим. Но каждому человеку для жизни нужен не только климат, но и работа. А ее-то, и не только ее, т. е. работы, но даже «право» на нее, в наше изумительное время социализма, уничтожения классовых перегородок, всяческих демократических завоеваний и «свобод» (?!) и всяких прочих «благ»… получить особенно трудно. Звучит парадоксально, но истинно!.. Но оставим горечь наших дней и вернемся к делу. Как ты скажешь, дорогой мой, если бы мой друг Рыковский захотел обосноваться в Белграде, мог бы он рассчитывать на получение этой самой работы по своей специальности? Он пойдет на самые минимальные условия, так как пока не устроится, семья его останется в Риге. Значит, надо прокормиться на первых порах только самому. Для театра это клад: он интереснейший художник-декоратор и изумительный знаток и создатель-стилист театрального костюма. Для нашего театра уход Рыковского огромная, незаменимая утрата. Если нет надежды устроиться на ту или иную работу в королевских театрах, то как по-твоему, можно ли рассчитывать на частные театры и вообще на ту или иную работу для художника вообще? Диапазон его обширен: он прекрасный живописец, график, портретист и, наконец, специалист по иконописи — здесь в Риге есть несколько его очень хороших работ по иконописи в храмах, также специалист по реставрации. Ну, вот все. Мне так искренно хотелось бы помочь этому милому человеку устроиться и сохранить тем самым свою молодую еще жизнь. Милый Юрий, ответь мне, очень прошу тебя, возможно скорее — это страшно важно. Напиши мне откровенно и обстоятельно все, что ты знаешь, все, что ты чувствуешь и что можешь посоветовать. Сделаешь? Хорошо? Как идет жизнь, Юрий? Судя по отрывочным газетным сведениям из материала, который я тебе выслал, ничем воспользоваться тебе не пришлось — или нет? Занялся как будто опереткой? Ведринской, кажется, не очень хорошо живется? Все это у меня только по слухам да по газетным заметкам. Может быть, черкнешь что-либо определенное и верное, если найдется желание и время. Мой сердечный привет Юлии Валентиновне.
Очень жду твоего ответа о Рыковском — сделай это, милый — и крепко целую тебя.
Твой Руд. Унгерн
Что с Мишей Добровольским? Он мне тоже не пишет. Почему?! Если увидишь, поцелуй от меня и спроси о причинах молчания.
294 9
15 июля 1937 года
Рига
Дорогой Юрий, милый мой, старый друг!
В конце твоего письма, — за которое, верь же мне, пожалуйста, я тебе несказанно благодарен и которым безгранично тронут, — стоит ядовитое P. S.: «Если ты не говоришь неправды, что тебя радуют письма, то ты мне немедленно ответишь». А я-то отвечаю через месяц. Значит, говорю неправду. Нет, все же, друг мой, я говорю правду, что письма моих старых друзей для меня большая и почти единственная радость. А не отвечал тебе так долго по трем причинам: 1) Твое письмо не застало уже меня в Риге: июнь мы проработали в Каунасе (кстати сказать, достаточно неудачно в матерьяльном отношении). 2) По возвращении из Каунаса — заболел и, в сущности говоря, болею еще до сих пор. Чем? А шут его разберет. Не то это — сердце и атеросклероз, не то — невралгия внутренних грудных мышц. Припадки. И боли тогда такие, что готов реветь коровой. Вчера меня водили в клинику и, уложив под какой-то сложный аппарат, снимали «жизнь» моего сердца. По полученной ленте врач надеется установить причину этих ужасных болей. В 5 часов сегодня узнаю результат. 3) На твое письмо, Юрий, так сразу не ответить: очень глубоко ты запускаешь в душевные склады руку и ворошишь достаточно сложные и болезненные вопросы. Если бы встретиться действительно — поговорить… ну тогда можно было бы и «ответить и спросить» по всем вопросам. А так, в письме, что скажешь?! Вот, например, ты восклицаешь: «Вот когда приходится плакать о России, что уехал оттуда, но не воротишь…» Конечно, нам тяжело здесь, в Зарубежье (и верь мне, что ты, Юрий, совсем не исключение — у всех у нас жизнь не сахар), но «плакать» о том, что не [в] Совдепии (кстати, не будем говорить в «России», нельзя хамово-разбойничье, во всех смыслах иносказательно и непосредственно, гнездо называть Россией. Пусть уж лучше Совдепия). Так вот, плакать о том, что мы не в Совдепии — ей-богу, не приходится. Да ты и сам, через страницу, говоришь, что для этого надо потерять совесть, выкинуть к чертовой матери все свои убеждения и «плевать (как это делают в Совдепии) на все, что не матерьяльно». Правильно, оскотинился там народ (положим, он «скотинится» повсюду — проблема мирового масштаба, но все же не до такого градуса, как в Совдепии) — до полного подобия скоту. Актеры, разумеется, не отстали от прочих и в упоении, видимо, чавкают свой достаточно теперь жирный харч — после долголетней голодовки оно и лестно как будто. Это — относительно актерского мира я вывожу из все же иногда получаемых мною оттуда писем и из того, что приходится читать в приходящих к нам оттуда журналах, главным же образом из речей многих маститых, когда-то высокоуважаемых актеров и актрис (последних значительно больше), когда они благодарят за дарование им званий — «народный», «заслуженный» и пр. Особенно поразили меня «излияния» — в газетах пропечатано было — Мичуриной533, Блюменталь-Тамариной534, Жихаревой535 (ну, эта последняя, положим, всегда была сволочью). Между прочим, знаешь, один из трюков, какими уснащена была постановка «Бесприданницы»? Огудалова — Мичурина, оставшись одна на сцене, вытащила из-под дивана сороковку и прямо из горлышка хлебнула 295 раза три водки, закусив огрызком огурца, который в бумажке находился тут же под диваном536. Красиво? А ты, Юрий, говоришь — «в Совдепии (это я вместо твоего “в России”) сейчас театр вернулся на настоящую дорогу». Нет, батюшка, еще много и долго будут «товарищи» стрелять и дружка дружку и просто народ стадный, пока жизнь русская, а с нею и театр русский выйдут на настоящую дорогу. Теперь же жизнь там похабная, и чем сам по себе человек похабнее, тем лучше ему там существовать… А что очередные российские Ерусланы одним махом, «без пересадки» через полюс из Москвы в Америку лупят — это, голубчик мой, особ статья. Это — Русь! Она-то, матушка, идет своей настоящей путь-дорогой и никаким большевикам и прочим сукиным сынам не сбить ее с этого пути-дороги. Всегда росли-гуляли на Руси богатыри Ерусланы и творили великое дело свое, не считаясь с окружением своим. Ермак с двумя-тремя десятками разбойничков полматерика «под нози покорил» — Чкалов — Громов Северный полюс537, о который веками какие люди себе лбы расшибали, к ногам человечества положили! Мало ли чудес было на Св. Руси, а дальше — впереди их еще мало ли будет!.. Но это, повторяю, особ статья, это Русь, а не Совдепия. И ничего Куприн особенно не дерзнул — от голода уехал, умирать на свою родную землю уехал538. (Именно — земля, именно земля, кусок земли, по которому первые шаги в жизни были — ребенком, и ничего больше.) И чего всполошились… Но это оставим, не то залезу в такие дебри, что никакое письмо и не выдержит.
Пришлось сделать перерыв в писании, так как время было идти к доктору. Определилась «жизнь» моего сердца: миокардит — гипотрофия чего-то — склероз артерио… Ну, господь с ним, с моим сердцем: одинаково, от чего умирать, поскореича б только. Ах, милый мой Юрий, ты вот пишешь «приезжай, мол, сюда… и т. д. если у тебя есть какие-либо сбережения». Голубчик мой, какие же у меня к черту сбережения, когда я вообще не знаю, что буду есть («есть» от «еда» — иногда все же новое правописание бывает не совсем удобно) начиная с сентября. До сентября я дотяну, а вот дальше… А поступлений в карман пока нэма! Не знаю, дошли ли до тебя слухи, что мы остались на предстоящий сезон без помещения? Так вот. Латышское общество, задумав перестраивать свое здание и в будущем его назначение и жизнь, нас выгнало. Разумеется, разговоры и предупреждения об этом шли давно. Но пока наши авоськи да небоськи скребли свои зады, мы очутились на улице539. Теперь что-то ищут, без конца разговаривают, заседают. Иногда пьют водку и закусывают, но «воз и ныне там», и мы сидим на мели. Что будет и как будет, а главное, когда будет — разве на Небесах кому-нибудь известно. А ведь от этого «когда» хоть надежда на «получку» зависит. Денег-то у наших «Друзей театра» нет ни копья, все хотят на «самоокупаемости» да на сокращении жалованья актерам. А будь оно все проклято: и хрюканье «знатоков» театра, какими они себя считают (ей-богу, так и говорит, подлец: «я — знаток театра»), и сам их театр! Какой же это театр?! И у тебя, Ракитин, и у меня одинаково, поверь мне, друг: хамство, беспросветное, циничное, наглое, брюхом вперед, хамство и пошлятина. От этого беспросветного хамства, а еще более от пошлости голова лопается и хочется бежать, бежать… а бежать некуда, цепью прикован к каторжной тачке — тащи, пока жила не лопнет. А не найдется больше говна, чтоб тачку наполнить, сиди на той же цепи и околевай с голоду, потому податься некуда и ничего делать больше тебе нельзя. Работать не дадут по массе 296 причин… — вот как, милый, обстоят мои дела, а ты говоришь «сбережения»!.. У меня сейчас одна мечта — боюсь, так она мечтой и останется. Надо иметь от роду 60 лет, состоять к этому времени в Пенсионной кассе и прослужить в Латвии не менее 10-ти лет и тогда можно хлопотать о незначительной пенсии. Все условия у меня выполнены, кроме «прослужить 10 лет». Я живу в Латвии уже 12 лет, но служу, т. е. получаю жалованье, благодаря тому, что летние месяцы мы не работаем, значительно меньше. Не хватает мне до 10 лет месяцев 20 с лишним. Вот если бы я с 1 сентября (как обычно) стал бы опять получать жалованье хотя [бы] какое-нибудь, да сезон у нас протянулся бы до 1 мая, тогда осталось бы мне нехватки месяцев 12. За них можно внести в Пенсионную кассу, и тогда засчитают, как за прошлые месяцы. Сумма порядочная, но собрать я бы, думаю, таковую мог. Часть, возможно, можно бы получить заимообразно в фамильном фонде баронов Унгернов — Штернбергов, хоть и в очень мизерных размерах, но все равно таковой сохранился в Ревеле, ну а оставшееся занял бы, полагаю, у доброжелателей знакомых. Вот тогда бы я «отряхнул прах» и поселился бы в Креславке доживать свой век. Там и красиво, и дешево, и край более русский. И о так называемом театре я думать бы забыл. Однако сие мечты и мечтами, видимо, останется. Да, Юрий, это мое убеждение — не нужен никому наш современный театр и театр он только «так называемый» и сущность свою утратил. А сущность утратил, потому что форма нашего театра несозвучна эпохе — другое что-то нужно, а что — кто ответит?! У тебя актеры чиновниками стали, у меня — прихлебателями, нахлебниками богатых евреев (русских богатеев у нас раз-два и обчелся). Недаром так держатся за бенефисы. 12 лет борюсь с этим ужасом лакейским, так и не победил. Было лучше, приличнее, кстати, теперь опять совсем похабно. На бенефисе этом самом богатый знакомый тебе всяких подарков натаскивает: носки, подштанники, смотришь, «отрез на костюм» кто-нибудь пожалует и всякое прочее благополучие, ну и денег немного подадут. «Они ведь бедные, а очень приятные — ну вот и подаем им понемногу» — так, вероятно, говорят о наших актерах богатые жиды-благодетели. О, черт, мерзость какая. Майкель тебе сказал, что у меня на Пушкинских торжествах все хорошо было540. Да, хорошо, но чего это стоило! Ведь ни одна собака (Боже сохрани, не об актерах я говорю — актеры работали чудесно, и только актеры и вывезли) палец о палец ударить для наших спектаклей не хотела (результат местничества, раздоров и ссор); ведь гроши, которые мне нужны были на постановку, я чуть не силой, криком, письмами и угрозами вытаскивал. Да чего яснее: «бал в Самборе». Месяц прошу — дайте, найдите, черт вас возьми, 12, только 12 пар балета для «польского». Ни одной не достали — это в Риге, в Риге, полной балетных студий… и что же? Назло, в отчаянии — я на первом спектакле (до самого спектакля меня все утешали и обнадеживали — будет! О, скоты!!) оставил картину — топтались скауты и гайды в польских костюмах. Позорное зрелище! Со 2-го спектакля убрал лучшую по краскам и движению и единственную во всей трагедии музыкальную картину. Ах, как мне было больно, Юрий. Хорошо была задумана картина! Юрий, по совести и чести скажу тебе: «Борис Годунов» — моя самая серьезная, моя самая лучшая, продуманная до конца, идейная постановка. Я думал и мечтал о ней давно, так что был подготовлен основательно. Видишь ли, я считал, что «Бориса» вообще всегда ставили неправильно (не тот подход, 297 не то толкование — почему так, в письме изложить моих мыслей на этот счет не берусь — сложно и длинно), даже Художественный театр541, и потому никогда не было надлежащего успеха. Большевики подошли к трагедии с «марксистской» точки зрения — трагедия народа, назревающая историческая революция. Быть может, это и интересно, но, по-моему, глубоко неверно. «Борис» — трагедия личности, трагедия героя. Эдип, Макбет, Каин, Борис — понимаешь меня? Вот это мое убеждение, мое художественное кредо я и провел в моей постановке. И с гордостью утверждаю — это было ценно, это было интересно, это было хорошо. Во многом мне подговняли — очень нужная картина «бал в Самборе» пропала, художник не всегда был на должной высоте. Но идея-то, но план-то, но толкование-то, но архитектоника пьесы-то, но исполнение-то ведь остались, и все это было оригинально. И что же ты думаешь, это было хоть несколько оценено, хоть кто-нибудь об этом писал или говорил? Хоть кто-нибудь задумался (из господ к литературе и к теории драмы причастных), почему «Борис Годунов» на императорских сценах, в Московском Художественном театре, при больших затратах на обстановку, при первоклассных актерах и режиссуре никогда особым успехом не пользовался, а у меня, в мизерной, гроши стоящей обстановке (относительно, конечно), на маленькой, плохо оборудованной (опять относительно) сцене делает 12 хороших спектаклей (это в Риге-то — «Борис Годунов»), с большим художественным успехом, настоящим успехом (провинция затрачивалась на большие расходы: «Только привезите “Бориса” целиком, как он идет, у вас, в Риге. Со всеми картинами “народа”». (Пролог и эпилог у меня — 8 картин). Хоть кто-нибудь задумался над этим? А ведь в данном случае я не имел дело с Просветительским Обществом, с Академическим Обществом. Или эти вопросы не касаются этих Обществ? А ведь я и писал, и докладывал о том, как буду ставить «Бориса Годунова» А. С. Пушкина. Пошлые хвалебные рецензии после 1-го спектакля542… Голубчик Юрий, как все это тошно, как все противно… Прости, что я тебе все это высказываю. Я понял тебя, дорогой друг, в твоем письме и, поверь, очень тебе сочувствую. Посочувствуй и ты мне немного. Мы с тобой разные характеры и индивидуальности, но мировоззрение у нас одинаково — не правда ли? И болеем мы общими болями. Хотя письмо несвязно, высказался перед тобой и легче как-то стало. Здесь мне не с кем говорить. Удивительно ли, что «жизнь» моего сердца стала давать перебои!
Теперь еще два деловых вопроса. Точнее, один ответ и один вопрос — и бестолковая, скучная «летопись окончена моя». Относительно «Розовой паутины»543. Это перевод с украинского. Переведено очень хорошо (переводил здесь некий белорус544, славный парень), но с выпуском двух картин. По-моему, картины довольно ценные. Выпустили картины бенефицианты (они там не участвуют), они же нашли пьесу и они же заказывали перевод. К тому же спектакль шел уже вне сезона, так что спорить не приходилось. Но и без этих картин спектакль получился достаточно забавный. Но только забавно. Хорошая, легкая комедия, без каких-либо глубин, рассуждений, мыслей и пр. Можно играть комедией быта, что ли, можно и до фарса докатиться. Я играл комедией образов. Так вот: сейчас лишен возможности переслать тебе что-либо — нас выселили, и выселили, разумеется, вместе всю библиотеку. Сейчас она в комнатушке при чьей-то конторе, сложена на полу и добраться до чего-либо мне нет никакой возможности. Все надо 298 отложить на сентябрь, когда «Друзья» будут приводить все в порядок. В сентябре могу: 1) выслать тебе украинский экземпляр, если найду белоруса (думаю, что найду); это его собственность; 2) выслать тебе наш экземпляр (потом его вернешь) и приложить перевод белоруса недостающих двух картин (будет стоить сколько перевод, не знаю, думаю — немного); 3) выслать тебе только наш экземпляр (потом вернешь нам), без приложения перевода недостающих картин. Напиши, какой вариант тебе наиболее подходит.
Вот. Теперь новый вопрос, на который, милый Юрий, очень прошу тебя ответить сейчас же, как говорится, с обратной почтой. Об этом я пишу по просьбе В. И. Снегирева545, управляющего (от «Друзей») нашего театра. М. А. Ведринская (как замечательно верно и точно ты ее охарактеризовал!) усиленно и весьма красноречиво рекомендует ему начинающего актера, красивого молодого человека, с прекрасными данными, воспитанного и хорошей русской речью — Михаила Владимировича Духовского546. Снегирев просил меня очень обратиться к тебе — что ты знаешь об этом молодом человеке, какого ты мнения о его пригодности для сцены и все остальное, что сам найдешь нужным. Пожалуйста, дорогой друг, не откажи в этой моей просьбе и ответь возможно скорее. А затем прости, что утомил тебя своим бесконечным письмом. Сейчас глубокая ночь — пора на покой. Мой сердечный привет Юлии Валентиновне. Храни тебя Господь, милый Юрий, будь благополучен во всех твоих делах и начинаниях.
«Не переставай быть спокойным в чередованиях горя и радости, оторви свои чувства от вкуса к ним» — так учит Кришна.
Пожалуйста, ответь насчет Духовского.
Целую тебя.
Твой старый «барон» Руд. Унгерн
Майкель напишет на днях.
10
[Осень 1937 г.]
Дорогой Юрий!
Вчера встретился в театре с г-ном Пигулевским (переводчик с украинского «Розовой паутины») и только тогда вспомнил, какую непростительную гадость я сделал по отношению этого человека. Больше двух недель лежит у меня его письмо к директору югославского театра, которое я обещал ему переслать тебе (так как ты мне об этом писал летом) — и о котором я совершенно забыл. Забыл в суматохе по открытию театра, забыл, всецело поглощенный работой, хлопотами, огорчениями разного рода и неприятностями без конца! Спешу отправить тебе это злосчастное письмо. Уж ты не выдавай меня, друг, что я так долго держал у себя. Забыл, что же поделаешь. Скажу еще раз: пьесу мы ставили весной только один раз — после сезона, это был уже неплановый спектакль трех актеров, спектакль за их страх и совесть, но, разумеется, под контролем театра (моя постановка, иначе говоря). В этом сезоне мы хотели было ее возобновить, но… раздумали, хотя произошло это отнюдь не по вине, так сказать, пьесы, но все же не является и доказательством того, чтобы театр считал ее очень ценной. Занятна — да, но грубовата… На этом я должен был бы закончить мое сегодняшнее 299 письмо к тебе — очень ждет меня срочная работа. Но не могу удержаться, чтобы не попечаловаться по поводу моего теперешнего положения, которое ты видишь таким блестящим. Кратко два примера: 1) в 1938 году — 35-летие моей сценической деятельности547. Подаю заявление в Правление «Друзей». — «Так, мол, и так, хотелось бы отметить». Ответ после долгого промежутка — обсуждали! «Мы согласны уступить вам вечер под ваш спектакль. Но вот как насчет условий? Мы могли бы вам отдать театр под ваш спектакль только за наш вечеровой расход (сумма названная значительно превышает действительный вечеровой расход), да боимся — не будут ли в претензии бенефицианты, которым мы отдаем театр дороже…». Понимаешь, Юрий? Чувствуешь аромат этой торговли? и затем: «Ну, ладно — устраивайте ваш юбилей…» А я-то, наивный, до сего времени считал, что юбиляру устраивают, а не сам он себе!.. 2) Три сезона назад, когда мы, Товарищество актеров, окончательно обессилили (лично я потерял 4591 лат недополученным жалованьем — переведи это на динары! На что же я жил?! Я продал всю свою обстановку, все вещи — мои и жены — даже арфу моей жены мы съели!!). К нам «на помощь» явилась русская общественность в лице «Общества друзей Русского театра»548. Нам всем скостили на половину уже сокращенное, благодаря общему кризису, жалованье. Долг театра нам, бывшим членам Товарищества, в размере 17 000 латов сбросили со счета навсегда. У нас были еще долги, которые, однако, с лихвой покрывались нашим имуществом. «Друзья» взяли имущество с обязательством выплачивать ежемесячно известную сумму на погашение долгов. Первый сезон — не отдали. Второй — сняли свою гарантию по уплате нам, актерам, ежемесячного жалованья и выплату по нашим долгам стали производить в зависимости от кассы. Все же была приготовлена сумма, очень солидная, для уплаты долга больничной кассе. «Друзья» взяли эти деньги на погашение своих векселей, нам же вновь подтвердили: «насчет больничной кассы не беспокойтесь — мы сами урегулируем этот вопрос!» Сегодня передо мной лежит бумажка от больничной кассы (такую же получили еще двое из нас): «Если в течение 7 дней Вы не урегулируете вопроса о долге Товарищества, то долг этот будет обращен лично на Вас и кассой будет наложен арест на Ваше личное жалованье и имущество!» — Дожили. Доведенные до отчаяния, мы завтра ставим «Друзьям» ультиматум: «Если в течение 7 дней вопрос не будет окончательно урегулирован, в смысле снятия с нас всякой ответственности, мы прекращаем работу», я же настаиваю на возбуждении судебного дела… Поработай в таких условиях. Трудно тебе с сербами, но и мне с сородичами-купцами «Друзьями театра» — не сахар!
Привет твоей жене.
Целую, твой Руд. Унгерн
11
23 мая 1938
Riga
Не брани уж слишком сильно, милый старый друг, за то, что только теперь собрался писать к тебе. Поругай слегка, поворчи и — прости. И прими мою горячую благодарность, поздно высказанную, но все это время бившуюся с нежной 300 любовью к тебе в глубинах моего сердца. Спасибо, Юрий дорогой мой, за твое чудесное письмо!.. Много раз перечитал я его, много дорогих картин прекрасного прошлого проходило в памяти моей — весь совместный с тобой пройденный Путь (красиво было, друг — а?!) — и многое, многое… Да, все в прошлом — Путь пройден. Ах, если бы сбылось твое пожелание — «… и да приготовиться к работе на нашей дорогой родине…», и как искренно желаю я и Тебе, родной, еще раз пережить это счастье: ступать по родной земле, работать на ней, иметь возможность прильнуть к ней, плакать от счастья и радости неземной и тогда — умереть!.. Но думаю, Юрий, нам с тобой этого счастья уже не получить — не доживем — пройден наш Путь… Хотя за тебя я ведь говорю с твоих слов только, а сам не очень этому верю. Я — стар, а ты какой же старик? Ты сам себя старишь, Юрий. Доживи до моих лет, тогда и говори о старости. А пока доживешь, действительно может многое случиться — глядишь и впрямь откроются Врата Царские!.. Вон Милюков549 мечтает о том, что Сталин призовет обратно специалистов самых разных цехов и толков (своих передушил, что ли?) — ну, мы с тобой на сталинский призыв не откликнулись бы, если бы таковой и осуществился бы… Это я написал, потому что очень этот самый г-н Милюков мне много крови испортил своими «мечтаниями», о которых прочел я недавно в нашей жидовской газетке «Сегодня»550. Он, видишь ли, «готов все простить Сталину…», хорош, сукин сын?! Не хочу больше и говорить об этом — противно и очень больно. Больно от сознания, что таких «Милюковых и иже с ним» все больше и больше. Того и жди «поклонимся и припадем». Ты когда-то писал: «… эмиграция наша — идейное, святое дело…» и осуждал «бегство» Куприна. Как будто рассуждения Милюкова не совсем вяжутся с «идейностью» и «святостью» эмиграции…
А вот еще маленькая картина на эту же тему. Года два назад нам возвещали здесь приезд нобелевского лауреата, первого русского писателя вообще, Русского Зарубежья особенно. Два года приезд его почему-то все откладывался — интерес вырос до головокружения — «вот приедет барин (властитель дум, духовный водитель и т. д. и т. д.) — барин нас рассудит»… Наконец барин пожаловал. Девицы заготовили роли и периодические вопли, молодые люди — больше физкультуру, но и кое-что по тезису «пойдем в авангарде», отцы приготовили много банкетов, еще больше пылких речей и на темы политические, и на общелитературные, и нравственно-воспитательные, девиз: «Вы — наш отец, мы — ваши дети. Куда вы — туда и мы». Словом, готовились и рыдали от восторга перед грядущим событием. (Я был болен и не был свидетелем «великого позора г-на Бунина»551, — говорю со слов очевидцев самого разного положения и класса — они это мне лично говорили. Вообще же об этом все воробьи и извозчичьи лошади у нас осведомились.) А г-н лауреат, первый русский писатель Бунин, как вышел из вагона, так и объявил — он-де, Бунин, никогда политикой не занимался, а потому ни на какие такие «темы» разговоров вести не желает и не может, тем более ставить какие-либо прогнозы о делах российских. Выходило так: «Сталин ли сидит на московском престоле, другой ли какой мордастый бугай — один черт, а ему, Бунину, и в Париже хорошо и на остальных плевать». И кроме «благодарю вас, господа, за прием», больше от него ничего на все речи, призывы и тосты никто не слыхал. Вот еще в частных беседах очень критиковал и сводил «на нет» 301 всех русских писателей, начиная с Горького и Андреева и кончая нынешними, и зарубежных, и советских, и очень восхвалял себя. Выходило так: ну, там раньше конечно, были писатели, а как появился он, Бунин, то только и было — Лев Толстой и Бунин, остальные — «шантрапа на козьих ножках». Собрались люди лекцию г-на лауреата послушать. Цены шаляпинские (милый ты мой, а ведь Федора Великого-то больше и нет у нас. Голубчики мои, да ведь все уходят, все… и скоро, если уже не теперь, «будет земля наша пуста!..»), так цены «огромадные», а яблоку упасть негде. Стал Бунин читать о своих встречах с большими людьми его современности. Все было очень бледно и язвительно бездарно. О своем близком (сам говорил) друге, только что умершем Ф. И. Шаляпине, только и нашел сказать, что здорово он всюду водку хорошо пил, а отец его-де совсем не тот маленький пролетарий был, за какого его Ф. И. всегда выдавал, а «членом Земской управы» — «мне-де Ф. И. сам карточки своего отца показывал — там он в прекрасной енотовой шубе сидит» (?!?!). Наконец дошла очередь до Айседоры Дункан. Ну, тут лектор понес такую похабщину, что матери стали уводить своих дочерей. (Одна такая мамаша написала Бунину по этому поводу возмущенное письмо, о чем он сам рассказывал одному нашему актеру, который сопровождал его в Двинск552. И рассказывая, хихикал и недоумевал.) А многие девицы, да и вообще некоторая часть публики, и сами поспешили оставить зал. А лауреат смаковал, как Айседора рассказывала кому-то или в своих мемуарах пишет, этого уже не знаю, не разобрал, как ей было больно, когда ее невинности лишал первый любовник, как Есенин бил в разных домах и местах и многое другое прочее — поучительное и назидательное… Хорош первый русский писатель, властитель дум и мечтаний?! Ерник, выпивоха, пустой, самовлюбленный человек, которому сказать буквально нечего — вот что такое Бунин… Нет, я не смею осудить Куприна, бежавшего умирать в родную ему Гатчину с ее тихими русскими березками, предпочетшего это предсмертное окружение окружению из Буниных, Милюковых, Керенских. Опять зачитал лекции, опять огребает денежки на «о России»… и слушают этого болтуна, тщеславного паяца, бездарнейшего и наглейшего лакея-белоподкладочника из бездарных и злых лакействующих социалистов. Горько, обидно и очень стыдно на душе от всего, что делается в Зарубежье нашем и во что мы превращаемся. В заключение моего невеселого к тебе, милый Юрий, послания скажу несколько слов о твоем протеже — Духовском. Мне кажется, ты в нем очень ошибся. Мой вывод из опыта этого сезона: он очень неталантлив, чтоб не сказать больше. Он не хочет работать и учиться — он самонадеян, самовлюблен и только наружно застенчив и скромен. Он много пьет и часто даже на утренние репетиции приходит под сильной мухой. Вначале я очень занялся им (кстати, любовник он, во всяком случае, никакой, резонер — еще куда ни шло, может быть при работе и желании — характерный). И первую роль мы (я и Бунчук553, наша 1-я актриса) «насвистали» ему. Это было для непосвященного зрителя — недурно («Неизвестная»)554. Он все приписал, видимо, себе и возгордился. На репетиции следующей пьесы он, случалось, не приходил — «голова болела и вообще эта роль мне не нравится» — хорош мальчик? Он последним приходит в театр (на репетицию ли, на спектакль) и первым из него уходит. Я дал ему дублировать Алешу в «Дети Ванюшина»555. Опять много сравнительно занимался с ним. Играл он очень плохо. Но это бы еще ничего. Во время 4-го действия 302 (Алексей кончает в 3-м) я хотел с ним побеседовать, ободрить, пошел в уборную — а его и след простыл: удрал с какими-то девчонками. А вот на днях так, видимо, насвистался, что опять не мог прийти на репетицию и кто-то сообщил по телефону, что Духовской-[де] не придет на репетицию, [потому] что уехал на рыбную ловлю. Нет, друг, ничего из него не выйдет. Но у него, видимо, есть здесь «рука» — его оставят на будущий сезон, и рецензент наш Пастухов556 всегда о нем очень идиотски хорошо пишет, и Духовской горд, доволен и в ус не дует. На этом я закончу.
Прощай, Юрий. Крепко тебя обнимаю и целую. Сердечный привет Юлии Валентиновне. Храни вас обоих Господь. Твой сердечно старый
Рудольф
ТУДА И ОБРАТНО
Письма Евгения Студенцова Юрию Ракитину
1929 – 1930
Публикация, вступительный текст
и примечания В. В. Иванова и А. А. Чепурова
Евгений Павлович Студенцов (1890 – 1943) — ученик Ю. М. Юрьева и Н. Н. Арбатова по Школе драматического искусства. В 1908 – 1911 гг. работал в Суворинском театре. В 1911 г. был принят в Александринский театр, где на протяжении 10-х – начала 20-х гг. занял видное положение. В ту пору отлучился из него лишь для «Театра Трагедии» Ю. М. Юрьева (1918). Вместе со своей женой Н. М. Железновой покинул театр после назначения в 1928 г. Н. В. Петрова директором и художественным руководителем. По свидетельству самого Петрова, «в труппе их уход произвел большой переполох<…>»557. Обещание, почти клятву, которую дал артист, не возвращаться в Александринский театр пока в нем работает Петров, он исполнил. Порог театра Студенцов переступил только в 1937 г., проработал до 1941 г. и, оставшись в блокадном Ленинграде, умер в апреле 1943-го. После рижских сезонов (1929 – 1930) он, последовав примеру Юрьева, недолго пробыл в Малом театре (1932 – 1934). С 1934 по 1937 г. Студенцов скитался по провинциальным сценам.
Положение Н. М. Железновой было также достаточно сложным. На александринскую сцену она больше не вернулась, выступала эпизодически, в основном с чтецкими программами. Приняла участие в концертном исполнении «Маскарада», которое прозвучало уже в Зале Ленинградской филармонии в юбилей Юрьева. (Железнова фактически спасла архив Юрьева, вывезя, с помощью Л. И. Гительмана, самое ценное из его квартиры в момент похорон артиста, так как квартира Юрьева была сразу же опечатана органами, а его наследник арестован. Железнова долгие годы хранила вещи и архив Юрьева у себя на квартире, откуда затем они были возвращены наследнику.)
Отметим, что в актерском искусстве и Студенцова, и Железновой долго и тщательно сохранялась юрьевско-мейерхольдовская нота. Так, Железнова стала играть 303 Нину в «Маскараде» с 1920-х гг., после отъезда Е. Н. Рощиной-Инсаровой, Н. Г. Коваленской и М. А. Ведринской. До своего ухода из б. Александринского театра она была фактически единственной исполнительницей этой роли. Студенцов до самой смерти играл роль князя Звездича (с вынужденными перерывами), стараясь никому не уступить здесь первенства.
Письма Студенцова интересны в нескольких аспектах. Прежде всего они показывают, что на протяжении 20-х гг. актеры были довольно свободны в передвижении. Индивидуально и небольшими группами они регулярно ездили за границу, могли заключать контракты с зарубежными театрами. Работая в рижском Театре русской драмы, Студенцов зондирует возможности перебраться в Югославию, присоединиться к Пражской группе, рассматривает варианты трудоустройства в России. Однако ситуация менялась на глазах. Актер все больше ощущал на себе давление: «Союз меня усиленно вызывает туда, считая даже неудобным мое пребывание здесь». Выбор принимал формы ультимативные.
Другой интерес писем связан с теми процессами, которые происходили в бывшей Александринке. Решающие события в «советизации» императорского театра связаны с именем Н. В. Петрова и его ближайших сподвижников, наиболее решительных проводников советской драматургии и идеологии. Естественно, что его точка зрения восторжествовала в истории советского театра. Только его описания тогдашних событий и могли быть опубликованы в советской историографии558. Письма Студенцова позволяют раскрыть оппонирующую сторону, которой так и не предоставили возможности публичного высказывания.
Оценки артиста резки, откровенны и подчас слишком субъективны. Нескрываемое раздражение управляет отбором фактов. Однако нельзя не отдать должное его проницательности. Так, резко отзываясь о деятельности Петрова и превращении театра в агитку, он вместе с тем предполагает затяжной характер сложившейся ситуации, бесперспективность на данном этапе усилий Л. С. Вивьена взять иную линию руководства. На страницах этих писем подспудно возникает и другая важная для Госакдрамы проблема — вопрос о преимуществах нового типа героя (а в особенности героини) в новом репертуаре. Студенцов видит в отсутствии Железновой неизбежность первенства Н. С. Рашевской перед Е. М. Вольф-Израэль. Он указывает и на то, как некоторые актеры старой школы постепенно переходят с амплуа героев на характерные роли в советских пьесах.
Студенцов и Железнова в неприятии нового курса театра были наиболее последовательными. Если ушедший одновременно с ними Н. Н. Ходотов в записках «Близкое-далекое» писал с некоторым сожалением о своем расхождении с новым репертуаром, если Г. Г. Ге, по словам Петрова, стал поддерживать его линию, если Е. И. Тиме стремилась «освоить» образы новых героинь… то Студенцов и Железнова не пошли на сотрудничество с «новым курсом», и внутренняя эмиграция привела к тому, что они стали театральными аутсайдерами.
Сам Петров причислял Студенцова и Железнову к своим активным противникам. Он писал: «Что делают актеры, становящиеся на такой путь? Если они довольно плотно заняты в репертуаре, они неожиданно подают заявления с просьбой отпустить их из театра. Именно так поступили Студенцов и Железнова. Правда, эти актеры не учли того, что они плотно заняты в старом репертуаре, постепенно вытесняемом новыми премьерами, и их незаменимость уменьшалась с каждым днем. Я решил принять заявление, не вдаваясь в мотивы ухода, и расставание наше внешне носило даже очень вежливый характер»559.
304 Действительно, репертуар б. Александринского театра в течение сезона 1929/30 г. неузнаваемо преобразился. Доминировать стали советские пьесы, классика почти исчезла. Сам репертуар сократился до 8 – 9 названий… «Мятеж», «Ярость», «Страх» — вот основные названия на афише театра рубежа 20 – 30-х гг.
Следует отметить и то, что «советизация», столь персонифицированная в письмах Студенцова, была явлением повсеместным, хоть и неравномерным, и коснулась не только б. Александринского, но практически всех театров Советского Союза, а первых театров — в первую очередь. Потому безрезультатны оказались попытки Юрьева и Студенцова найти убежище в Малом театре.
Студенцов видит в переменах лишь интриги Петрова и Рашевской и не жалеет для них убийственных слов, но оставляет без внимания тот факт, что Петров занимается не только советизацией, но и модернизацией александринской сцены, что с помощью новой драматургии режиссер ищет пути к зрительному залу, который существенно изменился и по составу, и по мироощущению, что его спектакли принимаются публикой с воодушевлением.
Публикация писем Студенцова лишь приоткрывает завесу над многими острейшими коллизиями, которыми богата история старейшего российского театра. Своей публикации ждут еще многие доселе неопубликованные документы.
Письма Е. П. Студенцова хранятся в фонде Ю. Л. Ракитина в Театральном музее автономного края Воеводина (Нови Сад). Публикаторы почитают приятным долгом поблагодарить историков А. Н. Боханова и Е. В. Пчелова за предоставленные сведения.
1
15 января 1929 года
Рига
Милый Юрий Львович,
Сейчас Унгерн читал мне Ваше письмо в части, касающейся меня, и я был страшно обрадован, что Вы прекрасно устроены, отец, счастливый муж, главный режиссер, — и все-таки тоскуете по России и помните бедных александринцев, попавших под кривую провокаторскую лапу Петрова — Рашевской560, ставших волею гнусностей и полного падения вкуса во главе когда-то прекрасного театра. Да, директором-конферансье «Балаганчика»561, содиректором Яша Курганов562 — он же Гишплинг, он же вольнопер Дикой дивизии, георгиевский кавалер, он же коммунист и дурак, да еще сентиментальный. Экскузович563 и Юрьев564 принуждены были подать в отставку под давлением объявленной театру улицей — гражданской войны. «Самокритика», «общественность» хлынули на театр, признали классический репертуар устаревшим, буржуазным и никому не нужным. «Дорогу современности» — и под этим лозунгом прошли в этом году безграмотные пьесы. Юрьев и служит, и не служит, играет пока одного «Идеального мужа»565, который перешел от прошлого сезона, контракт он не подписывал. Н. М. Железнова566, как человек прямой и честный, не смогла вынести диктатуры Петрова — Рашевской, летом живущих на иждивении Великого Князя Бориса567, а зимой поющих «Интернационал», и, наговорив приятных слов, ушла в театр Грановской568, где идут пьесы западного современного репертуара и классические с превосходным актером Папазяном, играющим на французском и итальянском языках — Гамлета, Отелло, Дон Жуана569. 305 Пока она не жалеет и довольна. Я уехал в Ригу по приглашению Театра русской драмы пока на два месяца. Формально я с театром не рвал, — я в отпуску, — но внутренне, пока он в руках этих господ, все порвано.
Здесь меня встретили очень ласково и мило. Сыграл «Дельца» Газенклевера в переделке Толстого570, успех был хороший, много цветов, прекрасная пресса. Буду играть «Идеальную жену» Праги571 (помните, Вы ставили с Тиме572 и Рыбниковым573), «Человека с портфелем»574 и Чацкого в 100-летие Грибоедова575. Предполагаю быть до марта, а если к этому времени что-нибудь выяснится или представится возможность работы в других городах или странах, — задержусь и пережду, когда кончится гнусность в Александринском театре.
Как Петров попал, трудно Вам — непосвященному в наши мерзости — объяснить, типичным провокаторским вольтом, — надолго ли — покажет будущее, но не менее, как на два года.
Вас интересует, сколько он получает официально — 500 р. (250 долларов), а неофициально — не знаю. Режиссерский оклад у нас — 300 р. в месяц. Усачев576 жив и, одним из немногих, сохранил свою честность и порядочность.
Может быть, можно устроить ряд спектаклей классического репертуара, уже названного мною с добавлением «Маскарада», «Коварства и любви» и др. с Папазяном, Железновой, мною и добавить еще? Или это трудно? Или невозможно. Я еще не успел сориентироваться. Времени ни на что не хватает. Летом мы дали 10 спектаклей [в] Ковно577, успех был большой, сборы прекрасные. Мы были небольшой группой: Корчагина-Александровская578, Горин-Горяинов, Железнова, Воронов579 и я. Потом мы поехали посмотреть мир как туристы. Были в Германии, Франции, Италии. Устали и вернулись домой, а дома нас ждала такая неприятность.
Пишите сюда, спрашивайте, что хотите, я с удовольствием Вам расскажу, что знаю и что Вас интересует. Пишите не откладывая, пока я здесь, если уеду домой, туда уже не надо, а здесь — можно сколько угодно.
Мой адрес: Riga, Елизаветинская 19, кв. 3. Наверное, пробуду до 1/III, а дальше не знаю.
Напишите, что знаете о возможности работать за границей. О Папазяне напишу особо, если Вас заинтересует.
Привет Вашей очаровательной супруге, если она меня еще помнит. Буду рад восстановить хоть на время наши добрые отношения, — ведь не правда ли, они были такими? Я все тот же, мне меняться было не к лицу и не к возрасту, я рано сложился.
Сердечно обнимаю и целую
Ваш Евгений Студенцов
2
16 февраля 1930 года
Рига
Дорогой Юрий Львович,
Обещали писать и опять замолчали, Вы все такой же, как были, а я, должно быть, кажусь Вам приставучим, Вы не отвечаете, а я все-таки пишу. После 306 отъезда Гзовской580, на спектаклях которой я отдохнул и морально, и физически, т. к. играть с ней и физически так легко, так приятно, — наступили опять в Русской драме скучные сумерки. Сейчас началась пора бенефисов, мой по жребию 4/III, буду ставить «Старый Гейдельберг»581. Из дому получаю все неприятные и тревожные известия. К Нине Михайловне582 глупо и гнусно придираются в Тифлисе за букву «ять», за крест на теле, за образок в гриме и т. д., травят этим в газетах и отравляют без того несладкую жизнь. Не могу сейчас исполнить желания Вашего о пьесах, т. к. Ниночка далеко, а домашние боятся переписки с заграницей. На днях Ригу проезжала сестра Германовой, бездарная, но милая — актриса Николаева583, она несколько лет служила в Большом Драматическом театре, где Лаврентьев584. Рассказывала, что «Тартюф»585 отвратителен, что Лаврентьев окончательно спился, что Сокова586 и Минаева587 разбил паралич, что Надеждин588 арестован.
Вот я не был дома всего 14 месяцев, а каждый день узнаю столько неприятных перемен, Вы бы, конечно, ничего и никого не узнали бы. Получил письмо от Юр. Корвин-Круковского589, он все еще во что-то верит и все еще хочет играть и жалуется, что его перевели на грошовую пенсию. Изредка переписываюсь с Евг. Ивановной Залесской, она в Париже — couture45* — пишет всегда милые письма. В этой Русской драме все грызутся, подставляют ножку друг другу и убеждены, что двигают куда-то русский театр, но куда, если двигают. Снова подходит конец моего договора, снова встает вопрос о возвращении, это так волнует и угнетает. Если бы Ниночка была бы здесь, я готов был бы мести улицы, только бы не ехать туда. До апреля я пока [твердо] здесь, потом — все в Руках Божьих. Я столько за этот год передумал и перечувствовал за все и за всех, что мне кажется 1000 лет прожил — я так стар. Вивьен590, Лешков591 и Смолич592 — все очень приспособились, больше всех было выиграл Смолич, но с уходом Экскузовича и его [ушибло], был он в Мюзик-холле советском, но стали его очень трепать. Вивьен женился на Вольф-Израэль, обманывает ее с каждой ученицей, но никак в «дамки» пройти не может, Петров не пускает, но у того сила в Рашевской большая и делать пакости и вредительствовать он может много и, кажется, надолго593. Лешков страшно постарел, растолстел, потерял зубы и перешел на характерные роли советских типов.
Мой горячий привет Вашей очаровательной супруге. Пишите, что и кто Вас интересует. Скажите адрес Татьяны Павловой. Мой Riga, Veruieba 3, dz. 3.
Крепко целую
Ваш Евгений Студенцов
3
15 марта 1930 года
Рига
Дорогой Юрий Львович,
Ваше письмо получил, но сразу не мог ответить, т. к. был занят постановкой «Гейдельберга», который и играл. Нужно было еще возиться с портными и пр., 307 с хором и оркестром, все это нужно было сделать в четыре репетиции, да тут еще эти спекулянты — «актеры»-евреи устраивали блины, думая еще заработать как половые, повара и лакеи местной «буржуазии», так что два дня пропало на это. Спектакль был удачный, но многим я очень расстроен. Спасибо за совет, но ведь им воспользоваться нельзя, так как они уже все переругались и все рухнуло. Ваша просьба о «секрете» меня чуть-чуть [развеселила] — не сердитесь — два месяца тому назад все то, о чем Вы написали мне, было в газете «Сегодня». И о [постоянном] театре, и о подготовке (с платой жалованья труппе) репертуара594, но у Яковлева таковы сведения, что Хмара с Павловым поругались595, Хмара просится «в Ригу», а театр провалился. Я, конечно, ни звука никому не сказал, да и некому, я только слушаю. Лаврентьев служил и служит в театре (б. Суворина на Фонтанке), основанном М. Ф. Андреевой и Ю. М. Юрьевым — называется он Большой драматический театр596. Три года этот театр был классически-романтическим, потом все и всех взял в руки опереточный Монахов597, и сейчас это агит-театр. Экскузович никогда не был лакеем большевиков, это светлая, обаятельная, умная личность, пока он был во главе, театры не разграбили и они иметь могли хоть на 3/4 свою физиономию и сохраняли свой состав. И Экскузовича, и театры предали действительные прохвосты и лакеи — Петровы, Смоличи и Раппапорта598, которые с уходом Экскузовича сами, кроме Петрова, вылетели. Смолича сделал Экскузович. Теперь Смолич ищет, где больше платят, но, не имея базы б. Императорского театра, быстро сошел и вышел из моды, перейдя в советское revue. Сейчас его звали в Студию Немировича-Данченко в Москву, но он медлит согласием, она без дотации и насчет денег там плоховато. Он было бросил свою жену, которая выхаживала его туберкулезные кишки, сошелся с какой-то балетной девушкой, но, по слухам, опять вернулся. Это очень эгоистическая и подленькая личность, умеющая ловить рыбку в мутной водице. Лаврентьев, по слухам, спился. Женился на какой-то кувалде, у него был ребенок. Перед своим отъездом в Ригу я виделся с ним, просил у него пьесу Булгакова «Бег», но он, боясь репрессий, не дал. Как режиссер, он давно испугался контроля «коммунистической общественности» и перестал ставить, и там, среди бездарнейшего состава, стал заметным актером. Он «заслуженный», но влияние потерял из-за того, что начал шибко пить.
Меня он все взволнованно расспрашивал, отразится ли на сыне его пристрастие к алкоголю. Когда наступила революция и я мог обозреть его рапорты и доносы Теляковскому, я документально убедился, сколько гадостей он делал мне в Императорских театрах. Он влюбился в Павлову599 — она же Марианна Зарнекау — Пистолькорс — Гогенфельзен, и они с Гришиным600 удрали за границу, потом он «раскаялся», вернулся, разошелся с Марианной, женился и т. д. Александринский театр Петровым и Ко превращен в агит-театр601. Идут массовые советские пьесы, и все ставит Петров вместе с онанистом Соловьевым602, помните, около Мейерхольда был такой. Они ставили «Тартюф», говорят, зрелище интересное, но Мольера и в помине нет. Это сейчас в России так надо, с легкой руки Мейерхольда, который поиздевался над «Ревизором», «Горе от ума» и «Лесом». Но у Мейерхольда рядом с издевкой и лакейством — все же многое очень талантливо, а у этих — одна издевка и лакейство. Все, кто умеет подлизываться и бояться за свою шкуру, остались на милость Петрова. Вивьен — сума 308 переметная — все хочет прыгнуть выше головы и не удается. Пробовал делать карьеру на Вольф-Израэли, но и та завяла, а он ищет других путей. Пути он-то найдет, а в дамки не попадет, упустил время.
Залесская вышла замуж за дирижера и музыканта Эйхенвальда, который поехал на сезон куда-то в Россию, и его теперь не выпускают, она в Париже, живет couture’ом, бьется, но живет, была со своими нарядами в Варшаве — недавно, мы изредка мило переписываемся. Да, Смолич в Александринском театре поцарствовал несколько месяцев, потом уехал в Харбин, а карьеру он сделал в Михайловском театре как опереточный режиссер и отчасти — оперный. Это особенно смешно, ведь он ни одной ноты не знает, как она выглядит. Сокова и Минаева разбил паралич, но теперь они выправляются. Усачев остался — один из очень немногих — честным и порядочным. Юрьев в Московском Малом театре. Тиме стареет, мало играет, подыгрывает Петрову, но безуспешно и удалилась в «союзную общественность» и преподавание. Сильно портя молодежь. Ее странная болезнь почек и малярия очень отразились на ней. Синельников еще жив, бодр, несмотря на 57-летний юбилей сценической деятельности603, но его травят и обвиняют в «психологизме», а это — преступление. Павлову попытаюсь написать. До 14/IV я тут, что дальше, не знаю. Домой не тянет, но без Нины Михайловны больше не имею права здесь быть. Гзовская все наврала — она страшная лгунья. Письмо Павлову вложу в Ваш конверт, т. к. адреса никакого Вы не написали, пусть кто-нибудь надпишет адрес и перешлет, чтоб [тень] на Вас не упала. Пишите, пока я здесь. Поцелуйте ручки Вашей очаровательной супруге. Ниночка шлет Вам обоим свой сердечный привет…
Евгений Студенцов
4
5 апреля 1930 года
Рига
Дорогой Юрий Львович,
Спасибо за Ваше милое письмо, спасибо за Ваши заботы обо мне, спасибо за передачу письма Павлову, от него еще ничего не получил. Не смог ответить Вам сразу, так как занят был подготовкой очередной премьеры «Дело Дрейфуса»604 — отвратительная мешанина из журнальных отчетов, из статей Золя с юдофильской прослойкой, там я играл для бенефиса роль Эстергази. Получил предложение во время спектакля от местной Дирекции поставить и играть Годца в «Казни» Вашего друга Ге605, — с возмущением отклонил все, т. к. на следующее утро нужно было «ставить» пьесу и репетировать самому. Вот Вам милый образчик «работы» этого «очага русской культуры» за рубежом. Четвертый день болен, простудился, страшнейший lumbago, но завтра буду играть. Бедный барон Унгерн — единственный чистый человек в этом деле. Но он под пятой у скрытого директора Яковлева606, хитрого еврея из Одессы с греческим паспортом. Гришин у него на побегушках. С 20/IV должен по договору с этим театром поехать на гастроли в Ревель, а с 1/V буду здесь. Если за это время не [выгорит] ни одно дело, принужден буду, к величайшему сожалению, уехать в Петербург. Нина Михайловна сейчас начала с театром поездку по Кавказу. Мне безумно тяжело, что мы 309 врозь, но здесь старушка Ведринская607 глубоко пустила корни и актрис не пускает. Бедная Жданова608 совсем не актриса, ей можно было приехать. Залесская уверяла меня, что ее муж немец Эйхенвальд, а не еврей Айхенвальд. На днях проехал Ригу Мейерхольд со своим театром в Германию609. Я его не видал, лежал дома. У него была в труппе прелестная актриса Бабанова610, но ее выставила теперешняя жена Всеволода — Райх, б. жена Есенина611 — бездарная еврейка, она играет там все — и Софью в «Горе от ума», и городничиху в «Ревизоре», — одинаково нагло и плохо, но Всеволод под башмаком. В Ревеле я играю «Бабушку» — Кайе (помните?)612, «Гейдельберг», «Любовь — книга золотая» и новую советскую пьесу «Шулер»613. Мечтаю о самостоятельной поездке по Польше, где в прошлом году так ласково и чудно меня принимали614. Мой горячий привет Вашей супруге. Неужели мы никогда не увидимся, — если уеду в Россию, конечно, никогда. Пишите, пока я еще здесь, хоть немного встает милое, чудное прошлое с красивой жизнью, с настоящим театром, с прекрасными желаниями. Поторопите Павлова, если он не раздумал.
Любящий Вас Евгений Студенцов
Помните, как m-me Теляковская615 рисовала костюм для меня в «Лукреции»616, я до сих пор помню первые слова роли «Верни этот ключ и ступай в галерею Нумы»… А помните «Нахлебника», прелестную декорацию второго акта, Давыдова617? Боже мой! Все прошло, все умерло.
5
[Середина июня – начало июля 1930 года]
Рига
Дорогой Юрий Львович,
Вот Вы и оборвали с таким трудом протянутую между нами нить, замолкли и опять ушли — для меня — в свою раковину. За это время я успел побывать со спектаклями по всем городам Латвии, Литвы, Эстонии и Польши618, всюду принимали замечательно хорошо, всюду прекрасные сборы. Меня лично особенно обласкала Польша и зовет усиленно опять приехать и «показать польским актерам, как надо играть». Не подумайте, ради Бога, что я вдруг стал самовлюбленным и самоуверенным, что так пишу, это подлинные слова польских рецензий. Пражская группа имела моральный успех в Польше, но материального не имела. Имел успех принцип Художественного театра, кстати, они назывались гордо театром и «Художественным», и «Станиславского», но и пресса, и публика единодушно отмечали отсутствие хороших актеров и каких-либо единиц. Сейчас я на перепутье. Усиленно вызывают меня домой в Ленинград, где Ваш друг Петров все еще продолжает гадить и разрушать в Александринском театре. Юрьев ушел оттуда в Московский Малый619, а Петров усиленно проводит коммунистические тенденции на великокняжеских дрожжах. Горин-Горяинов, Вивьен и многие другие ловят рыбку в этой мутной водице и лебезят перед Петровым, т. к. пока он сила, которая зиждется на самом страшном, что есть в бедной России. Я на перепутье — и вот почему. Домой мне вернуться надо, там Нина Михайловна, которую в этом году не пустили сюда, очевидно, боясь, что оба мы уж наверное не вернемся, там наша квартира, наши вещи, там миллион неприятностей, которые я должен поделить с Ниной Михайловной.
310 В конце августа она уезжает работать в Тифлис, где директором театра назначен Любош620. Я не останусь в Александринском театре. Никогда не думал, что не только о нем не пожалею, но и не захочу быть там. Не хочу. Мой контракт кончается в октябре. Союз меня усиленно вызывает туда, считая даже неудобным мое пребывание здесь. Зовут в Москву, Краснодар и Самару. В Ленинграде открывается новое дело Драмы. Во всяком случае, думаю пробыть здесь до 25 – 30/VII. Если захотите черкнуть, если Вас что-либо еще интересует дома, [нрзб.], все, что в силах, — исполню. Скажите, что делает Вронский621 в Румынии, что делает Муратов622 кроме перевоза Пражской группы. Читал в газете «Сегодня», что Вы с большим успехом поставили Русскую оперу. Что Каракаш и Попова623? Вместе ли они или порознь? Как их голоса? Где они поют? Почему никто из них не упомянут ни в Парижской опере Кузнецовой, ни в Барселоне у князя Церетелли624. В каком-то русско-французском журнале я прочел адрес Каракаша. Из [нрзб.] сведения, что несколько поездок играют пьесу «Ложь», или «Господин Ламбертье», Радин с Шатровой625, Горин-Горяинов с какой-то фифкой, Рыбников с Розенель-Луначарской626. В Риге эту пьесу играл Хмара с Астой Нильсен, по-немецки, было очень плохо627.
Итак, если еще не забыли и что-либо вспомните, то скорей напишите, пока я еще здесь. Из Баку переписываться невозможно. Тогда до следующего переезда границы, если Бог даст жизни и возможности. Привет Вашей супруге и Вам от Нины Михайловны и от меня, всего-всего лучшего.
Искренне преданный Вам
Евгений Студенцов
6
7 августа 1930 года
Рига
Дорогой Юрий Львович,
Вы опять замолкли, не ответили на два письма, замолкли на том месте, когда хотели выяснить с Павловым возможность привлечения меня в работу Пражской группы. От Павлова я ничего не получил. Знаю только, что он вел переговоры с Орловым628 и со Ждановой, что Орлов уклонился от роли Хлестакова и от поездки туда, так как боится перерыва в жительстве в Латвии, готовясь стать латвийским гражданином, — Жданова собирается поехать, но еще что-то выясняет. Я опять между двух стульев — пытаться ли устроиться здесь — за границей или же опять собираться восвояси. А что это за дело в Париже с Аслановым во главе629? Я только что вернулся из поездки по Польше и Литве. В Польше экономический кризис и дела были много хуже прошлогодних, в Литве лучше, но она уж очень мала. Отвечайте, дорогой Юрий Львович, отвечайте категорически и скоро — мне нельзя больше раздумывать, надо решать. Русская драма страшно села со своими гастролями в Польше, меня это совсем не интересует. Нина Михайловна требует моего присутствия дома или же вызова сюда. Привет супруге. Отвечайте — и скоро. Целую крепко.
Ваш Евгений Студенцов
311 ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОЛЕМИКИ
Переписка Юлии Сазоновой с Николаем и Анной Евреиновыми
1937 – 1954
Публикация, вступительный текст
и примечания К. Триббла630
Активное присутствие Николая Евреинова в русском театре первой трети XX в. является несомненным. Однако, хотя в последние десятилетия появилось немало исследований, посвященных наследию Евреинова631, его место в истории русского театра остается непроясненным. Тому есть много причин, анализ которых увел бы нас слишком далеко.
Здесь мы лишь скажем, что лучшим защитником евреиновских приоритетов является сам Евреинов. В предлагаемой переписке он продолжает то яростное сражение за место под солнцем, которому так дивился Петербург 10-х гг. Нам представляется, что в скромных масштабах частной переписки ему удалось энергично и сжато сформулировать свой символ веры и дать портрет верящего.
Евреинов обходится с Юлией Сазоновой издевательски, но при этом как бы и не очень видит ее, ведет публичную полемику, не замечая того, что сменились эпохи и страны и что публики не осталось. Он обращается к «городу и миру» словно поверх корреспондента, а между тем пути наших персонажей нередко пересекались или пролегали совсем неподалеку друг от друга. О первой встрече Юлии Леонидовны Сазоновой (урожд. Слонимской; 1884 – 1957) с Евреиновым говорит ее недатированное письмо к И. А. Венгеровой: «У Сологуба я познакомилась с Евреиновым, и он оказался таким “ага”, что даже тетка632 спасовала»633. Воспоминания ее мужа режиссера П. П. Сазонова помогают датировать письмо приблизительно 1908 г.: «Надо сказать, что в 1908 г. я женился на Юлии Леонидовне Слонимской и благодаря этому вошел в круг людей, имеющих отношение к журналистам, так как она сотрудничала в журнале “Аполлон” и в газете [“Речь”. — К. Т.] <…> Мы с ней бывали у писателя Федора Сологуба, у которого были очень интересные вечера, на которых собиралась литературная и театральная публика. Так, у него бывал и Алексей Николаевич Толстой, писательница Тэффи, Александр Блок, Бальмонт, театральные критики, такие как Арабажин634. Мне вспоминается один вечер, на котором Александр Блок читал свои стихи <…>»635.
Сазонов познакомился с будущей женой в труппе театра Яворской, куда он вступил актером в 1903 г., а Слонимская — в 1905-м. Их сблизила совместная работа в спектакле по пьесе Чирикова «Евреи» (1906), в котором Слонимская исполняла главную роль, а Сазонов — ее возлюбленного.
Евреинов также поступил в антрепризу Яворской (1903) в качестве актера, но скоро понял, что у него нет актерского таланта. Яворская же, впервые поставившая пьесу Евреинова «Война» (1906), состояла в дружеских отношениях с тетей Слонимской, известной переводчицей Зинаидой Венгеровой, переводившей британскую драматургию для этого театра. Позже в театре шли пьесы Шоу в переводе Венгеровой в постановке Сазонова. Со своей стороны, Евреинов поставил пьесу в переводе Венгеровой в театре «Кривое зеркало».
В 1907 г. Евреинов с бароном Дризеном основали в Петербурге «Старинный театр». Петр Сазонов входил в труппу, о чем свидетельствует фотография Сазонова и 312 Евреинова, сидящих на диване среди актеров труппы636. Но Сазонов заболел и в представлениях «Старинного театра» не участвовал.
Замыслы, лежавшие в основе «Старинного театра», понятые на религиозный лад, Слонимскую взволновали, и она написала серию статей об источнике пантомимы в древних ритуалах эллинов. Во время подготовки этих статей они с мужем собрали много сведений о происхождении театра марионеток с античности до наших дней. В 1912 г. чета Сазоновых отправилась в Италию, чтобы изучать историю театра марионеток. К этому времени Дризен с Евреиновым приготовили второй сезон «Старинного театра» (1911/12), посвященный золотому веку испанской драматургии. Вместе с Константином Миклашевским ими готовился и третий сезон, посвященный театру эпохи Возрождения в стиле комедии дель арте. Сазоновы обратились к Дризену (Слонимская работала тогда у него в «Ежегоднике Императорских театров») с предложением устроить сезон театра марионеток эпохи Возрождения. Дирекция нашла этот план созвучным своим намерениям. Но планы ни к чему не привели. Слонимская, тесно связанная по работе с Дризеном, приняла его сторону в конфликте с Евреиновым. Театр марионеток Сазонова и Слонимской реализовался лишь в 1916 г., когда был показан спектакль «Силы любви и волшебства». Здесь, как и в постановках «Старинного театра», речь шла о реконструкции театрального прошлого, а именно: французского ярмарочного театра XVII в. В другом планировавшемся Сазоновым вместе с Добужинским спектакле по французскому фарсу «Адвокат Пателен» предполагалось воссоздать тип придворного марионеточного театра эпохи классицизма. Среди элитарной публики, присутствовавшей на первом представлении пьесы «Силы любви и волшебства», сидел Николай Евреинов. Впоследствии он отрицательно отзывался о постановке: «Впечатление кунсткамеры — я вынес в 1916 году и от петербургской затеи Сазонова и Слонимской»637. Характерно, что именно такие упреки бросали в 1907 – 1912 гг. и в адрес самого Евреинова.
Сазонова эмигрировала в 1920 г., а Евреинов — в 1925-м. Ниже опубликованная переписка свидетельствует, что они редко встречались в Париже. Тем не менее тот факт, что адрес и телефон Евреинова находятся в записной книжке Сазоновой парижского периода, говорит о том, что он остался в кругу знакомых638.
Поводом для настоящей переписки являлась публикация в 1937 г. фельетона Сазоновой «Уличный театр», где автор замечает, что в уличном оборванце, баске, продавце на рынке иногда уловим тот театральный инстинкт, которого нет в добросовестном, но бездарном актере. Однако только театр «сгущает, преображает и придает отчетливо улавливаемый смысл всему тому, что разыгрывается перед нами в ежедневной действительности и чему, без помощи артиста и поэта, мы не могли бы найти одухотворяющего толкования»639. Такая апология театра как искусства противоположна тому пониманию, которое вытекает из евреиновского «театра для себя», ориентированного на импровизационную природу театрального инстинкта, присущего всем и каждому.
Таким образом, Юлия Сазонова прикоснулась к той сфере, которую Евреинов почитал своей исключительной собственностью. Однако Сазонова, скорее всего, не была знакома с трудами Евреинова, опубликованными в Советской России начала 20-х гг., и простодушно приписывала происхождение понятия театральности отдаленной древности. Суть дела, возможно, в оправданном утверждении Евреинова, что буквальное словосочетание «театральный инстинкт» не использовался до него. Однако, как доказывает Сазонова, этот юридический подход игнорирует тот факт, что в течение тысячелетий подобные мысли уже высказывались, может быть, без 313 употребления именно термина «театральный инстинкт». Годы, проведенные в Императорском училище правоведения, не прошли для Евреинова бесследно. Юридический взгляд на мир, граничивший с сутяжничеством, стал характерной чертой его пестрой личности. Юридически драпированы были такие его громкие акции, как обвинение Мейерхольда в плагиате или вызов на третейский суд барона Дризена. Последний из вышеназванных процессов, на который ссылается Евреинов в публикуемой переписке, кончился решением в пользу Евреинова. Хотя надо признать, что в целом юридическая тенденция в подходе Евреинова к театральной профессии сыграла положительную роль в процессе признания прав режиссера как автора своих постановок, который не закончился и по сей день.
Между Евреиновым и Сазоновой существует разница и в театральных предпочтениях. Она получила профессиональное театральное образование на Драматических курсах Петербургского театрального училища (педагог В. Н. Давыдов) в 1903 – 1905 гг., четыре года зарабатывала на жизнь, работая актрисой, а потом, став театральным критиком, часто выступала в печати в защиту искусства актеров, как, например, в статьях «Актриса» (1913)640 и «Актеры» (1934)641. А Евреинов рано бросил актерское дело, посвятив себя режиссуре. Об этом различии писала Сазонова: «Евреинова гораздо более должны интересовать театры режиссера, как Московский Художественный, театры Мейерхольда, Таирова, Вахтангова, — чем театры, в которых актер занимал первенствующее место»642. Различие взглядов заключалось и в том, что статьи Сазоновой часто акцентируют религиозные источники театра, тогда как Евреиновым (атеистом по преимуществу) религия всегда секуляризировалась. Для нее сущность театра внутренняя и вечная, а для него выражается внешними парадоксальными проявлениями. Для Евреинова театральный инстинкт присущ всем, а для Сазоновой он украшает «только избранников»643.
С Евреиновым жизнь снова свела Сазонову в 1949 г., когда на страницах журнала «Новоселье» (Париж) она опубликовала рецензию на франкоязычную «Историю русского театра» Евреинова. Сазонова укоряла Евреинова в некритическом принятии сумароковской теории заимствования в России XVIII в. французской драматургии. Надо иметь в виду, что в эти годы Сазонова под руководством Романа Якобсона и Эрнеста Симмонса писала в Колумбийском университете докторскую диссертацию о Сумарокове, где, в отличие от Евреинова, подчеркивала оригинальный и чисто русский характер его драматургии. Но в «Истории русского театра» автора меньше всего интересовала собственно история: «Евреинов… спешит перейти к наиболее волнующей его теме: театра современного. Эта часть книги написана с неослабевающей страстностью»644.
После ее отъезда из Лиссабона в Америку в 1942 г. Евреинову и Сазоновой не суждено было больше встретиться. Финансовые стеснения и длительная работа над двухтомником заставляли Сазонову откладывать желанную поездку в Париж, которую она сумела совершить только через два года после смерти Евреинова. В 1955 г. она поехала в Париж по приглашению Сергея Лифаря для написания его биографии. Поездка, которая должна была длиться три месяца, превратилась в ее последний путь. Кроме написания тома о Лифаре она занялась в это время редактированием мемуаров Матильды Кшесинской. На эту редакторскую деятельность Сазонова ссылается в одном из писем А. А. Кашиной-Евреиновой645. Однако Сазонова неожиданно заболела во время работы над книгой о Лифаре, которую она спешила закончить. После долгой и мучительной болезни, 18 ноября 1957 г. она умерла. Теперь Евреинов и Сазонова 314 мирно покоятся недалеко друг от друга на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.
Письма Н. Н. Евреинова к Ю. Л. Сазоновой публикуются по машинописным копиям, содержащим рукописные вставки черными чернилами на иностранных языках, хранящимся в Отделе зрелищных искусств Национальной библиотеки Франции (Fonds Evreinoff, Bibliothèque nationale, Département des arts du spectacle). Письмо Евреинова от 24 мая 1937 г. не подписано, тогда как письмо от 3 июня 1937 г. подписано. Письма Сазоновой к Евреинову публикуются по машинописным подписанным оригиналам, находящимся в РГАЛИ (Ф. 982. Оп. 1. Ед. хр. 249). Письма Сазоновой к Кашиной-Евреиновой печатаются по рукописным оригиналам, которые хранятся там же (Ф. 982. Оп. 1. Ед. хр. 454). Письма Евреинова публикуются с любезного разрешения г-на Кристофера Коллинза.
Для того чтобы читателю был ясен предмет полемики, мы открываем подборку документов статьей Ю. Л. Сазоновой «Уличный театр», опубликованной в «Последних новостях» (Париж, 1937).
Юлия Сазонова
УЛИЧНЫЙ ТЕАТР
Поздний вечерний час. Пустынный бульвар: кафе и рестораны уже поглотили своих посетителей, а замкнутые пасти кинематографов и театров еще не выбросили на панель новые толпы. Задумчивый, одинокий оборванец, неуверенно покачиваясь, всматривался в темноту, откуда неслись фонари далекого автомобиля. С противоположного тротуара, из открытых дверей кафе, доносились звонкие голоса гитар и кастаньет. Оборванец нагнулся вперед, на мгновение замер, впитывая всем телом несшуюся к нему мелодию; вдруг весь он был будто подхвачен ветром. Изгибаясь, вычерчивая замысловатые па, как бы лавируя между воображаемыми экипажами, он медленно подвигался вперед, вдруг останавливаясь на месте и лукаво, китайским движением поднятых пальцев грозил приближавшемуся автомобилю. Слегка приседал в комически разыгранном испуге и снова, приплясывая, пускался вперед, как зыбкая, играющая в ночном тумане веселая тень. Музыка управляла каждым его движением, и он был так увлечен своей импровизацией, что казалось, даже реальная угроза автомобиля не заставила бы остановиться его ноги, вычерчивавшие сложный плясовой рисунок. Можно было бы назвать это «пляской пешехода», тема же «перехода через улицу» была разработана с неистощимой фантазией природного артиста. Присутствие сочувствующей толпы разжигало его вдохновение, и долго еще можно было видеть добравшуюся наконец до панели фигурку, приседающую и скользящую среди плотной толпы остановившихся полюбоваться им прохожих.
Я возвращалась с неудачного спектакля, где пытались нам показать «танцевальную пантомиму», — ту самую, что с такой удачей воплощал теперь подвыпивший оборванец, никогда, конечно, не помышлявший о «проблемах театра». Но он принадлежал, по-видимому, к той породе людей театрального темперамента, которые когда-то импровизировали на площадях фарсы, ставшие источником сценических вдохновений на долгие века, изобретали новые маски итальянской 315 комедии или в самодельных бараках создавали новые зрелища, потом входившие в театральный обиход.
На деревенских праздниках такие люди восхищают односельчан неожиданными выдумками, остроумными сценками, новыми движениями пляски. Вспомнилась, вместо парижского бульвара с пляшущим оборванцем, старинная деревенская площадь на фоне высоких гор, ларьки с гостинцами, звонкие дудки ребят, пронзительная музыка трубачей, после каждого номера отправлявшихся «искать новые ноты» в соседний кабачок, затяжная пляска под вековыми деревьями, отбившиеся одинокие парочки в тумане бурной речки, весь ритуал народного гулянья. Вдруг старый баск, задумавшийся в кругу подвыпивших фермеров, с шумом отставил свою кружку пива и, переплетая ноги в лихой пляске, устремился через всю площадь к цепи танцующих; разорвав цепь, раздвинув всех, он кружил, приседая и подскакивая, вокруг застыдившейся молодой крестьянки, всех вызывая на состязание. Все сразу изменилось, все подхвачено смехом, песнею, пляской, все закрутилось, завертелось, будто пущенное новым заводом, а тесная толпа, бросив кабачки и гулянье, стеною обступила угол площади, где неутомимый старик, неистощимый на выдумки, своей ловкостью и фантазией побеждал молодых парней.
В таких людей вложен подлинный инстинкт театра, и именно они поддерживают неустанное веселое брожение в гуляющих толпах. Они редко выносят свет большой театральной рампы. Даже знаменитый Дебюро646, смотреть которого в его балаганчик съезжались знаменитейшие люди Парижа, не мог расстаться со своей привычной публикой «в четыре су», со своей поросшей грибами сырою уборной, со сколоченным наскоро балаганчиком, где он почти не чувствовал себя отделенным от улицы и где мог не стеснять своей вольной фантазии. Во время благотворительного парадного спектакля, в котором его уговорили участвовать, он почувствовал себя затерянным, несчастным и, еле докончив свою пантомиму, уже никогда более не возобновлял мучительного опыта. Он остался до конца связанным с породившей его народной толпой. Чувствуя приближение смерти, Дебюро в последний раз явился в образе созданного им Пьеро и на прощанье сплясал безумную джигу под восторженные и сочувствующие вопли зрителей, знавших, что неизбежная близкая гибель навеки разлучит их с любимым Гаспаром.
Связь между действительностью и театром — теснее всего в этих маленьких театриках, еле отгороженных дощатой стеной от кипящей вокруг них улицы. Все элементы театра слиты в современной улице, иногда посылающей на сцену своих блистательных представителей, как это было с Мистангетт647. На парижской улице не прекращается вечное представление. Торговец овощами, стоя на высокой площадке, точно на сцене, выкрикивает над зеленой грудою хлесткие фразы тоном Полишинеля в гиньоле, и успех его продажи зависит не столько от качества овощей, сколько от театрального искусства продавца. Какими только тембрами, какими прибаутками ни заманивают прохожих продавцы на ларьках! Товары раскладываются по тому же принципу, каким руководствуются постановщики в театре: красота должна сочетаться с эффектностью. Почти на каждом углу прохожему уготовлен новый сценический эффект: каждая витрина стремится покорить своей театральностью, и молодые люди наиболее «привлекательных» типов должны своими великолепно развязными, театральными позами заманивать покупателей 316 в магазин: эти театральные фигуры, недвижно разыгрывающие в витринах магазинов свои сценки, сменили на наших глазах былых невыразительных кукол, и «типы» манекенов дадут будущим историкам интереснейший материал для изучения психологии толпы, ибо большинство этих заманчивых манекенов носит откровенные черты будущих героев уголовной хроники, и приданное им развязное и жадное к жизни выражение весьма красноречиво.
Прохожие двигаются между витринами-сценами, под несущуюся отовсюду музыку, — сами они должны носить костюм, выполнять движения, строго указанные общим режиссером: боже сохрани оказаться не в той шляпке, не в том платье, какие помечены в роли для сегодня идущего акта. С уверенностью заправских актеров повторяют подсказанные реплики, и всякие «как я счастлива» или «Боже, какой ужас!» звучат почти искренно. А как безупречно разыгрываются «массовые» сцены приемов, проводов, чествований, домашних встреч, радостных и печальных церемоний: для всего разработаны и мизансцены, и костюм, выработаны улыбки, поклоны и интонации, надо только уметь все это выполнять с должным старанием.
Все сплетено в уличном театре ежедневной жизни: толпа движется между огнями рамп, с верхних «колосников» домов сверкают меняющиеся цвета огней и, как в настоящем театре, прожекторы освещают случайных ведетт46*. Когда весною в толпе появляются белые куколки — причастницы в подвенечных вуалях, с торжественными и доверчивыми детскими лицами, в балаганный стиль толпы вносится струя очаровательного лиризма. Иногда бывают трагические интермеццо: помню длинную речку крови, ведшую от места автомобильной катастрофы к ближайшей аптеке.
Лишь недавно профессиональный театр усвоил те постановочные эффекты, какими всегда располагала улица: вспыхивавшее светом окно, силуэт незнакомой фигуры, чья-то мелькнувшая в глубине комнаты тень всегда волновали воображение. В самую жуткую минуту выброшенности, в Константинополе, в первые дни революции, какими красноречивыми были для нас спокойные огни ламп в домах, видная через окно фигура женщины за рукоделием близ накрытого стола, вся обстановка мирной домашней жизни, из которой нас тогда так внезапно выбросило на улицу: мы всматривались в эти чужие огни, как в воспоминания только что зачеркнутых годов нашей собственной жизни. Какой изумительный спектакль вечером все эти раскрытые парижские окна с разнообразием открывающейся за ними жизни! Каждая комната, каждая подробность обстановки открывают внимательному глазу целый человеческий мир, и никакой современный режиссер, старательно обставляя сценическую жизнь своего героя, не сможет создать той выразительной «патины», какою естественно покрываются вещи от постоянного сожительства с пользующимися ими людьми. В этой обстановке, отражающей личности хозяев, разыгрывается повседневный театр их жизни с выработанными словами и жестами, с встречами и приемами гостей, со всем тем обязательным обиходом, который заполняет все промежутки подлинной игры чувств. «Воспитание» подготовляет детей к приличному выполнению возложенных на них ролей.
317 Иногда назначается небывалое гала, на которое съезжаются гости со всего света. Тогда на сцену выезжают золотые кареты, вытаскиваются необычайные аксессуары и выступают ведетты, обычно на уличной сцене не появляющиеся. Для успеха такого представления нужна грандиозная постановка былых пантомим эпохи римских императоров: тут необходимы пышные кавалькады, много парчи, золота, драгоценных камней, звон колоколов, все театральные эффекты, без которых даже самое возвышенное национальное торжество не могло бы привлечь миллионы зрителей, готовых отказаться от сна и пищи.
Театр и действительность так сплетены друг с другом, что их чрезвычайно трудно отличить. Кто кому подражает? Жизнь театру или театр заимствует свои эффекты у жизни? Театр, во всяком случае, проникает повсюду, и именно театральное чувство подсказывает многие формы нашей повседневной жизни. Во всех искусствах легко установить грань между ним и всем, его окружающим. Для всякого, даже чуждого искусству человека самый характер материала определяет, что такое живопись, скульптура, архитектура. Но в театре материалом служит сам человек: актер пользуется на сцене тем же голосом, той же игрой лица, что и в жизни. Он смеется и плачет, любит и умирает, как все люди; только на сцене он вкладывает в эти обычные проявления жизни определенный художественный смысл. Иногда актер, благодаря этому, может в сценической игре найти утоление личным печалям. Достаточно вспомнить биографию Комиссаржевской, ушедшей на сцену после крушения своей личной жизни и привлекавшей общую любовь именно этой, скрытой за каждым сценическим образом, живою, страдающей и не могущей найти успокоения ее собственной душою. Известно, как в наиболее, казалось бы, скованном правилами греческом театре трагический актер в роли Антигоны вынес на сцену урну с реальным прахом своего только что умершего сына и своим плачем и стенаниями вызвал бурное сочувствие взволнованных трагедией зрителей, не подозревавших, что участвуют в личной скорби артиста над прахом сына.
Актерам трудно отрешиться от театра, когда они возвращаются в обычную жизнь. Комические актеры часто продолжали играть вне сцены. Известный петербургский актер Мальский648 любил смущать хозяев ресторана: стоило ему прикоснуться ножом к котлете, как она начинала громко мяукать, к смущению метрдотеля, клятвенно заверявшего укоризненно глядевшего на него актера, что кошачьего мяса в их ресторане никогда не подают. Или, проходя мимо чужой дачи, начинал заливаться собачьим лаем, от болонки до волкодава, и потом с гневом требовал от озадаченных хозяев, чтобы они «сдержали свою свору». Все шутки Жемчужниковых и Алексея Константиновича Толстого, составлявших собирательную фигуру Козьмы Пруткова, были маленькими импровизированными театральными сценками. Алексей Толстой являлся к людям, вызывавшим по объявлению студента на кондиции47*, и, подробно расспросив их об условиях, рассыпался в извинениях, что он, при всем желании, не может ехать на кондиции, так как дела привязывают его к городу. Или останавливался на улице, закинув голову кверху, собирая толпу, начинавшую тоже разглядывать небо. Если бы из повседневной жизни вынуть все, что вносит в нее театральный инстинкт, 318 присущий почти всем людям, то исчезли бы ее краски, и мы не узнали бы привычного нам мира: ибо всюду и во всем заложена легкая искра театра, сопровождающая человека и в радостные, и в трагические минуты.
Театр сгущает, преображает и придает отчетливо улавливаемый смысл всему тому, что разыгрывается перед нами в ежедневной действительности и чему, без помощи артиста и поэта, мы не могли бы найти одухотворяющего толкования.
1
Н. Н. ЕВРЕИНОВ — Ю. Л. САЗОНОВОЙ
24 мая 1937 года
Париж
Дорогая Юлия Леонидовна,
Очень обрадовался Вашему фельетону «Уличный театр», т. к. он показал мне воочию, какие мы стали с Вами «единомышленники» через 20 – 25 лет после выхода моих книг «Театр как таковой», трех книг «Театра для себя» и — позднее вышедшей — «Театр у животных»649.
Очень смутила меня только фраза Ваша о «жуткой минуте выброшенности в Константинополе, в первые дни революции»650. А вдруг (сказал я себе) Ю. Л. Сазонова и не читала вовсе ни вышеназванных книг об инстинкте театральности в жизни и «Le Théâtre dans la vie», вышедшей здесь в Париже, в 1930 г., ни монографий, посвященных моей философии «театра в жизни» (проф. Б. В. Казанского, поэта Василия Каменского, Евг. Сверчевского, Я. Б. Бруксона651), ни даже фельетонов в «Последних новостях» князя Сергея Волконского обо мне — «Театр в жизни» (3 апреля 1930 г.) и «Евреинов в иностранном репертуаре» (20 апреля 1929 г.)652, где автор, ссылаясь на впервые раскрытые мною и освещенные факты «театра в жизни» людей, животных и даже растений, говорит: «Основная мысль Евреинова — что театр вовсе не есть то единичное замкнутое, что осуществляется в зданиях, именуемых “театр”. А театр везде, во всем, в жизни, в отношениях людей друг к другу, в каждом человеке, ибо театр есть инстинкт. Инстинкт театральности живет в каждом из нас, и не с меньшей напряженностью, чем инстинкт самосохранения, питания, половой».
Вы знаете, дорогая Юлия Леонидовна, как я сердечно отношусь и к Вам, и ко всей Вашей деятельности, а потому никак не заподозрите меня в желании поставить Вам в вину «повторение задов» моего театрального учения без всяких ссылок на его автора. — Но те читатели Ваши, коим, может быть, остались памятны — рядом с данными Вашего фельетона «Уличный театр» — и такие главы из моего «Театра для себя», как «Режиссура жизни», «Каждая минута — театр» и др. (где «воспитанье» мной трактуется как «подготовка к роли» в жизни, «уличные сцены» как «жизнь, обращенная в театр» и прочее), могут, чего доброго, ущербно, для Вашего «эссеизма», усомниться в свежести Вашей наблюдательной мысли, в оригинальности Ваших некоторых выводов и в щепетильности 319 к «источникам» Ваших высказываний, которые так «чудесно» совпадают с евреиновскими, опаздывая лишь на… два десятилетия!
Возможно (того гляди!) горшее: читатели могут сделать сравнение между нашими «высказываниями» и по их существу!.. а тогда окажется, что в то время как Вы уделяете «театру в жизни» лишь несколько, ни к чему не обязывающих, беглых строк, Ваш старший друг Евреинов уделил этому спасительному «театру» (одна проблема мимикрии, «покровительственного сходства» и «драматических навыков» у животных чего стоит!) целые томы детального исследования, переведя чисто поэтические сравнения Шекспира и др. («весь мир это театр» и т. п.) на рельсы научного изыскания. (Вы, конечно, знаете цену шекспировскому сравнению, если помните явно противоречащее ему напутствие Гамлета 1-му актеру. Точно так же Вы, конечно, ощущаете разницу между Вашим неуверенным замечанием, что «театральное чувство подсказывает многие формы нашей повседневной жизни» и моим учением, что «в природе столько же театра, сколько в театре природы». См. «Театр у животных» (Изд. «Книга». Ленинград, 1924 г., стр. 28).
Горюя, что, по соображениям политического характера, я принужден был отказаться от сотрудничества в такой интересной газете, как «Последние новости», я радуюсь, что обрел в Вашем лице столь талантливую выразительницу моих взглядов на «театр в жизни», и нахожу, в данном случае, что быть моей последовательницей куда достойнее, нежели последовательницей Шопенгауэра, изрекшего «pereant qui ante nos nostra dixerunt» (т. е. «да погибнут те, кто до нас сказали наше»).
Кроме шуток: не хорошо меня забывать! — ведь ежели инстинкт театра, проявляемый в жизни, явился для Вас возможной темой газетной статьи, то это, может быть, лишь потому, что Ваш друг Евреинов вот уже столько лет как проповедует это и в книгах, и в своих лекциях, и в своих пьесах. Подумайте только, что еще в 1915 г. те же взгляды мои на «театр в жизни» «правдо»-любивая Любовь Гуревич653 подняла на смех, как вздорную выдумку, в «Речи» (редактировавшейся тем же Павлом Николаевичем Милюковым)! и это — после похвального фельетона, в той же «Речи», Александра Бенуа («Речь Арлекина»)654 о моей проповеди театрализации жизни655, сыгравшей потом столь огромную роль в укладе жизни СССР и других стран.
Если я крайне благодарен Вам за пропаганду моих мыслей в зарубежной печати, будьте и Вы хоть чуточку благодарны тому, кто подготовил для этого почву ценою «критических терний», выпадающих на долю новаторов. Не забудьте меня! — это Самое Главное656! и — во избежание новых недоразумений (имея в виду Вашу театрально-критическую деятельность) — перечтите хотя бы «Le Théâtre dans la Vie» (Editions «Stock»). А то хотите (это тоже будет Вам очень полезно!) я пошлю Вам монографию известного проф. Б. В. Казанского «Анализ системы Н. Н. Евреинова» (Изд. «Academia» 1925 г.).
Всегда, как и раньше, рад служить чем могу. Очень хотелось бы повидаться с Вами и просто «поболтать» о том, что никак не умещается на страницах письма. Черкните мне, пожалуйста, два слова о получении сего «послания» (а то как-то раз мое письмо у вас в редакции затерялось).
Душевно Ваш657.
320 2
Ю. Л. САЗОНОВА — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
28 мая 1937 года
Париж
Николай Николаевич,
Получила Ваше письмо и пользуюсь тем, что оно отпечатано на машинке, чтобы ответить так же: это проще и легче. На Ваше письмо, в котором оскорбления еле прикрыты насмешечками, я могла бы ответить так же резко, но хочется по существу возразить Вам, ибо чувствую, что Вы, кажется, всерьез волнуетесь и впрямь чувствуете себя всеми «обворованным». Если вся СССР живет теперь Вашими идеями театрализации и Сталин применяет их к своим парадам, то с тем же правом Вы могли бы сказать то же о католической церкви, о древних жрецах, о недавней коронации, хоть ритуал ее выдуман много веков назад. Театрализация жизни насчитывает тысячелетия, и о ней говорит каждый учебник: как иначе объяснить действия Нерона, как рассказать рождение греческой трагедии из театральных элементов первых вольных импровизаций? Если в моей статье Вы усмотрели «зады», то им не 25 лет, а несколько тысяч: в «Диалоге Танца» о том же писал Лукиан, говоря, что мир рожден вместе с театральным танцем, и, сравнивая актера с Протеем, с рекою и облаками658, как видите, он шел дальше Вас и театрализировал даже природу. До него об этом же говорили древние поэты и мифы всех народов. Все учебники, все историки вынуждены говорить о близости театра и жизни, ибо иначе нельзя объяснить ни одного театрального явления — ни средневековых фарсов, ни итальянской комедии, ни французских ярмарочных театров. Я об этом в 1911 году писала по поводу зарождения пантомимы659 — то есть более 25 лет тому назад и раньше Ваших книг. Мысль эта у всех получает иное выражение, хотя родилась она вместе с театром, много веков назад. Девочка, играющая в мать, известна была всегда и приводилась постоянно, но Вы в своем «театре для самого себя» дали ей новое выражение. Увлеченный мыслью о якобы допущенном «плагиате», Вы не заметили основной мысли моей статьи. Я не считаю театральный инстинкт присущим всем, как это думаете Вы. Его нет даже у многих профессионалов. Как всякий творческий дар, он украшает лишь избранников. Что касается повседневного «театра для самого себя», то тут я не с Вами: Вы им увлечены, а я очень не люблю его и предпочла бы освободить от этой обязательной повседневной комедии нашу и без того скучную жизнь. Предпочла бы освободить ее и от ненужных споров, бесцельной враждебности, взаимных перекоров и свар. Скучно ссориться и возмущаться чужой душевной грубостью, когда вокруг столько настоящего зла и когда смерть вынимает людей одного за другим, будто бирюльки, из эмигрантской кучки. Если хотите, принесите мне извинения за недопустимое оскорбительное обвинение, но я даже этого от Вас не требую.
Ю. Сазонова
321 3
Н. Н. ЕВРЕИНОВ — Ю. Л. САЗОНОВОЙ
3 июня 1937 года
Париж
Многоуважаемая Юлия Леонидовна,
Будьте логичны: если сравнение «жизни» с «театром» — такие уж «старые новости», зачем же тогда Вы печатаете о них в «Последних (т. е. в “свежих”) новостях»?.. Другое дело, если «театр в жизни» (точнее — осознание «театра» в явлениях жизни) — отнюдь не всем известное явление! Тогда, приводя примеры такового за своей подписью, есть шанс блеснуть, перед непросвещенным читателем, своим смелым и оригинальным взглядом! (благо такому читателю невдомек, что «оригинальность», быть может, тут приобретается «за чужой счет»660).
Если бы о «театрализации жизни» «говорил каждый учебник» (?) — как Вы опрометчиво пишете в письме ко мне от 28 мая с. г., — не стоило бы ни мне писать книги о ней, ни моим критикам монографии обо мне, как авторе этой доктрины, и было бы неразумным и для издательства «Brentano» в Соединенных Штатах, и для George Harrap в Англии, и для «Alpes» в Италии, и для «Stock» во Франции (не говоря уже о русских издательствах)661 тратиться на обнародование моей книги «Театр в жизни» (посвященной «театрализации жизни»), преподнося ее как «последнюю новинку» (да еще — как «Stock», например — в «серии современных мыслителей» Ганди, Кайзерлинга, Ромена Роллана, Ст. Цвейга и другие)!
Тут у Вас, видимо, какой-то пробел в понимании проблемы, коей я посвятил столько книг!
Самое выражение «театрализация жизни», равно как и анализ этого понятия, не только не встречается в «каждом учебнике», но вообще нигде и никогда — ни в художественной, ни в научной литературе — до меня не имели места. И я готов прозакладывать все свое состояние, если — рядом с опровержением этого моего заявления — Вы укажете, где вообще понятие «театральность» употреблено до меня в положительном и, более того, в апологетическом смысле. Могу Вас заверить, с одинаковой страховкой, что ни история, ни психология, ни этнология, ни эстетика никогда не называли до меня инстинкта преображения (спасительным, для всего живущего) «театральным инстинктом». Самое понятие «театр» приобрело, на базе моего учения о «театральности», другой (эвтелистически48*-углубленный), по сравнению с прежним, смысл в истории театроведения — тот приблизительно смысл, в котором и Вы его (несколько дилетантски) употребляете в своей статье «Уличный театр».
«“Театральность”, анализом которой мы обязаны Н. Н. Евреинову, предвосхитившему идеи, ныне раскрываемые в жизненных театральных течениях… — пишет советский критик Я. Бруксон в книге “Театр Мейерхольда” (Издательство “Книга”, Ленинград 1925 г., стр. 94), — явление психологического порядка»… «По 322 Евреинову, театральность есть логика суждения о жизненно важном для человека, об исключительно ценном для него с точки зрения его инстинкта самосохранения. Поэтому, рассматривая проблему о театре в ее развертывании, нельзя не отметить, что идейно корни ее в евреиновской теории. Она в дальнейшем развивалась, утончалась и углублялась. Но из евреиновской формы вышла. Это должно быть отмечено, когда к вопросу подходишь генетически» (стр. 118). Слышите?
Того же мнения держится и известный профессор Б. В. Казанский в книге «Метод театра» (стр. 96, 98 – 99): «Евреинов не только бросает лозунг борьбы за специфичность театра, которую теперь признают, кажется, все — может быть, так же необдуманно, как прежде отрицали, — но и кладет основание будущей системы театра. Принцип театральности, как специфической стихии театра, как отличительной формы явления сценического факта, становится отныне краеугольным в построении театропонимания вообще. <…> Его (Евреинова) роль в России <…> параллельна роли Г. Крэга, Г. Фукса и М. Рейнхардта, основоположников и вождей “искусства театра”, ибо он первый смело указал путь, которым шли в созидании новой сцены Мейерхольд, Таиров, Петров и все остальные деятели современного русского театра».
Если бы Вы дали себе труд перелистать главу «Театрализация жизни», в моем «Театре как таковом», или главу «Театрократия», в «Театре для себя» (т. 1), где приводится почти все, что было сказано до меня об аналогии театра с жизнью, Вы бы избавили себя от труда сообщать мне (как новость?), что «театрализация жизни насчитывает тысячелетия» и что многие уже в древности находили, подобно мне, сходство между театром и жизнью.
Жалею, что Вы не проштудировали мою доктрину: — Вы тогда не стали бы жертвой «поэтических метафор», невольно путая их с научно обоснованными аналогиями моей «философии театра». (Ведь суть здесь не в упоминании известных аналогий, а в сравнительном анализе их и освещении, в раскрытии их сущности, в выводе из них законов театрократии и пр.) Я Вас уж раз предостерег — шекспировским примером («весь мир это театр») — от беды «попасть впросак» ничем не доказанных сравнений («актера» с «облаками» и т. п.), но Вы, увы, не вняли голосу Вашего друга — всепризнанного, в данной области, авторитета!
Недаром Ю. И. Айхенвальд, в своем «Отрицании театра» — см. сборник «В спорах о театре»662, — ополчается главным образом на меня, с диалектическим аппетитом цитируя автора «Театрализации жизни»: «Жизнь не только не театрализуется, как об этом мечтает Евреинов [курсив мой. — Н. Е.], но и, наоборот, делается все более и более естественной». И т. д. (стр. 33 – 34).
Как видите, «не все историки вынуждены говорить о близости театра и жизни» (о чем Вы пишете, в письме ко мне, ущербляя мое право на оригинальность!). Да и Вы как будто сами разделяете мнение Ю. И. Айхенвальда, говоря, в том же письме: «я не считаю театральный инстинкт присущим всем». Откуда же взялась тогда такая прыть у Вас, чтоб утверждать в «Последних новостях», за своей подписью, что «театр во всяком случае (sic!) проникает повсюду» (значит, и в природу человека!), что «воспитание подготовляет детей к приличному выполнению возложенных на них ролей» и прочее (явные «реминисценции» моего учения!).
Или, может быть, тут нет противоречия? В таком случае хотел бы получить от Вас успокоительные разъяснения, а заодно и разъяснение Вашей фразы: «Я 323 об этом (о “близости театра и жизни”) в 1911 [году] писала, по поводу зарождения пантомимы, то есть более 25 лет назад и раньше Ваших книг».
Не может быть! т. к. о театральности («вдали от здания театра») я поместил статью «Апология театральности» (=декларативное credo перед труппой Драматического театра В. Ф. Комиссаржевской, при вступлении в нее режиссером, после Мейерхольда) на страницах петербургского «Утра» И. М. Василевского (Не-Буквы)663 еще в 1908 году, 8 сентября664. Статья же моя «Театрализация жизни» напечатана в ряде №№ «Против течения» (Фомы Райляна)665 еще в 1911 г.
Эти данные ясно показывают, как Вам трудно, в настоящем вопросе, полагаться на свою память и на свои знания, которые «подводят» Вас даже в таких мелочах, как смешки насчет того, что СССР, по-видимому, «живет теперь» моими «идеями театрализации и Сталин применяет их к своим парадам».
Вот что говорится (в ответ Вам) об инсценировке и параде в 1920 г. «Взятие Зимнего Дворца»666 (под моей личной режиссурой и командой всей постановочной частью) в 1-м томе «Истории Советского Театра» (Изд. Лен-ГИХЛ. 1933 г., стр. 280, 279): «Интереснейшею особенностью “Взятия” было, конечно, включение в действие реального Зимнего дворца. Совершенно несомненно, что перед нами здесь отражение центральных для Евреинова идей о “театре как факторе внехудожественного воздействия” <…> Это вводило в инсценировку момент внехудожественной реальности, трактованной, как увидим дальше, глубоко характерно для мировоззрения Н. Н. Евреинова, идеолога “театрализации жизни”».
Об огромном резонансе этой постановки (с участием крейсера «Авроры», 8000 деятелей искусства, красноармейцев и других) — постановки, сопровождавшейся моими публичными речами и статьями о театрализации жизни, можно судить по обширной литературе того времени. И когда «сам» Вл. Маяковский попробовал в «Лефе» № 2 (за 1923 г.) призывать режиссеров к «организации действительной жизни» и «стать планировщиками шествия революции»667, К. М. Миклашевский, в «Гипертрофии искусства», предъявил требование к «Лефу»: «почтительнейше сослаться на Н. Евреинова, предлагавшего то же лет 12 тому назад»668. Тогда Б. Арватов669, друг Маяковского и член ВКП (б), ответил статьею «Евреинов и мы»670 (статья вошла в его книгу, под названием «Евреинов и производственники», — «об агит- и прол. искусстве») где, споря со мной, принужден был все же отметить, что «начинающееся производственное движение воспринимается публикой под соусом хорошо ей знакомой и понятной евреиновщины» (стр. 162).
Если Вы примите во внимание, что Владимир Маяковский (высказывавший, вслед за мною, ту же идею «театрализации жизни») был признан потом Сталиным достойнейшим поэтом Советской России («Триумфальная площадь» в Москве ныне «Площадь Вл. Маяковского»), Вы, может быть, согласитесь, что Ваша ирония насчет сталинской «театрализации жизни» по Евреинову (т. е. сознательно осуществляемой и режиссерски организованной) не так уж уместна, пожалуй, как Вам, может быть, показалось!
Почему я все это Вам сообщаю с такими подробностями? — Потому что Вы заведуете театральным отделом в единственной здесь ежедневной русской газете671 и Ваши читатели вправе требовать от Вас полной осведомленности в вопросах, подымаемых Вами на ее страницах! Особенно же в таком актуальном, за последние четверть века, вопросе, как вопрос перестройки идеологической базы «театра», 324 начатой мною в России еще до революции и продолжаемой ныне во многих странах адептами моей теории672.
Откуда Вы взяли, что я клоню к ссоре с Вами? Наоборот: я пытаюсь всячески примирить Вас не только с моим учением, но и с собою, как с подлинным автором многих Ваших высказываний. Лично же мы никак с Вами не можем поссориться, ибо, живя в одном городе больше 10 лет, Вы ни разу не захотели со мной побеседовать на близкие нам темы. Вы пишете: «… смерть вынимает людей одного за другим, будто бирюльки, из эмигрантской кучки». Гм… Не только смерть! Но и некоторые из наших друзей («пример заразителен»!), по крайней мере, за эти 10 лет. Вы меня и впрямь «третировали» как мертвого!.. Но я, увы, жив еще! и даже готов предложить Вам род келейного «третейского разбирательства»: кто из нас, в самом деле, прав, споря о «театре в жизни» (ибо никто в конце концов «не судья в своем деле!»). В частности, я был бы счастлив, если бы тот же Павел Николаевич Милюков (покажите ему оба мои письма!) вновь оказался суперарбитром разбирательства, как это было в 1912 г., в суде моем с бароном Н. В. Дризеном о «Старинном театре». (Покойник тоже думал, что раз такая вещь, как «старинный театр», существовала в старину, задолго до Евреинова, значит, последний никаких на него прав не имеет.)
Ваш отказ от такого «разбирательства» разрешите счесть за доказательство, что не все из приводимых мною доводов здесь отбрасываются Вами в качестве несостоятельных? Хорошо?.. А главное, не думайте, что я, полемизируя с Вами как с уважаемым (хоть и неблагодарным) критиком, пытаюсь хоть в малейшей степени задеть Ваше светское достоинство! Такого подозрения (в нерыцарском отношении к даме) я никому, как джентльмен, не позволю, не исключая и Вашей милости, к коей питаю чувство глубокого уважения и совершенного почтения.
Н. Евреинов
4
Ю. Л. САЗОНОВА — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
4 июня 1937 года
Париж
Милостивый государь Николай Николаевич!
Получила Ваше письмо, заказное, на пишущей машинке, т. е. с оставлением копии, вообще все, как полагается. Вспомнила гоголевское «скучно на этом свете, господа», но все же спешу ответить. Удивилась, что Вы могли так отнестись к моему замечанию о смерти. На мои возражения Вы не ответили, но многое, как и в моей статье, поняли превратно. Попытаюсь восстановить то, что говорила на самом деле. Об оригинальности Ваших мыслей и Ваших книг я не могла говорить, так как книг этих не читала (у меня их нет, ибо Вы их мне при выпуске не посылали) и, следственно, не имею права судить. Я говорила о той мысли об «инстинкте театра», о которой упоминаю в моей статье. Мысль эта действительно тысячелетняя, что легко доказать, и если я снова говорю о ней, то 325 только потому, что даю ей свое выражение и подтверждаю собственными личными впечатлениями. Вы не можете считать самое слово «инстинкт театра» Вашим и требующим в каждом случае ссылки на Вас. Этому понятию «инстинкт театра» Вы дали собственное выражение и распространительное толкование и применили его к режиссерской своей деятельности. Оригинальность Вашего толкования, насколько я знаю, заключается в том, что театральный инстинкт приравнивается к необходимым животным инстинктам самосохранения, размножения и прочего, и в доказательство Вы ссылаетесь на мимикрию. Об оригинальности этого распространительного толкования и подтверждающих его исследований Ваших я не спорю. Но в моей статье ничего подобного нет, и если бы Вы внимательно ее прочли, то между нами никакого недоразумения не было бы. Пользоваться чужими мыслями не в моих правилах, и если я даю Вам вторично такие подробные объяснения, то потому, что верю искренности Вашего волнения: Вы ведь меня, несмотря на давность знакомства, знаете очень мало, потому и пишете мне в таком тоне, который я сочла бы обидным, если бы Вы лучше меня знали.
Мысль моей статьи противоположна Вашему толкованию инстинкта театра: я говорю об исключительности этого дара как дара поэзии и привожу примеры старого баска и оборванца, которые были прирожденными актерами, в то время как многие профессионалы не являются таковыми. Без баска толпа могла лишь повторять старые навыки, и он один внес творческий элемент. Я тут как бы индивидуализирую даже признанное народное коллективное творчество, ибо по поводу баска говорю, что такие люди (то есть отдельные актерские таланты) создали французские фарсы, итальянскую комедию и прочее. Все мои примеры взяты индивидуальные, и привожу я только актеров (Комиссаржевскую673, Дебюро, греческого трагика, Мальского), то есть суживаю театральный инстинкт, относя его лишь к выдающимся индивидуальностям. Инстинкт театра тут равносилен инстинкту поэзии, который бывает присущ одаренным натурам независимо от их общественного положения. Где же тут Ваши мысли об общей «театрализации жизни»? О «воспитании детей» (у Вас они театральны от природы, и воспитывать их в этом направлении не нужно) я говорю обличительно, и тут театральность толкуется как навыки лицемерия и притворства. Сказано это отчетливо, и если бы Вы прочли без предвзятого чувства, Вы бы поняли правильно.
Повторяю, Ваши исследования о театрализации жизни относятся совсем к другому, я их ни в какой мере не касалась. Что касается происхождения театра из жизни, о котором я говорю, то тут сходятся все историки: комедия дель арте была уличным театром, вышедшим из импровизации, и иначе ее толковать нельзя. В истории марионеточного театра найденные при раскопках детские куклы рассматриваются как театральные указания — и так во всех театральных отраслях. Но Вы, насколько я знаю, говорили не о происхождении театра, а об его постоянном состоянии смешения с жизнью, тогда как я отчетливо говорю об «элементах театра», которые настоящий театр может, подобно поэзии, почерпнуть из жизни. Надеюсь, что наша переписка на этом закончится, ибо тема ее исчерпана. Что касается ценности Ваших сочинений и отзывов, которые Вы приводите, то тут я, конечно, вполне с Вами согласна, вполне доверяя компетентности приведенных Вами мнений критиков. Вообще я ни в какой мере не собиралась 326 несправедливо умалять Ваши театральные заслуги, тому доказательством служит моя недавняя ссылка на Вашу постановку «L’Ours et le Pacha» в рецензии о «Скарамуше»674.
Ю. Сазонова
P. S. То, что Вы считаете меня некомпетентной в вопросах театра и недостойной занимать мой пост, я оставлю без ответа.
5
Ю. Л. САЗОНОВА — Н. Н. ЕВРЕИНОВУ
31 августа 1953 года
Нью-Йорк
Дорогой Николай Николаевич,
Я узнала, что Вы нездоровы, и спешу написать Вам, чтобы от души пожелать Вам выздоровления и сказать, как беспокоюсь о Вас и как нежно думаю о Вас. Дружба наша давняя, с петербургских времен, и годы разлуки ничего не могли изменить в ней. Я помню Вас всегда и знаю, сколько радости доставляли Вы и своим изумительным творчеством, и очарованием личного общения. О Вас вспоминала и вспоминаю часто, а писала редко, — трудно было писать так, без того, чтобы был повод, так как все время собиралась в Париж, чтобы лично повидать Вас и Вашу милую жену, с которой мы завели дружбу здесь во время ее приезда675. Вам, вероятно, Софья Юльевна676 передавала мои постоянные приветы и пожелания. Я часто говорила ей, как храню в душе верную мою с Вами дружбу и как хочу Вас обоих повидать.
Желаю Вам сил и бодрости для выздоровления и шлю сердечный привет Вашей жене. С искренней глубокой дружбой
Ваша Ю. Сазонова
6
Ю. Л. САЗОНОВА — А. А. КАШИНОЙ-ЕВРЕИНОВОЙ
[После 30 октября 1953 года]
Дорогая Анна Александровна,
Только теперь пишу Вам о постигшем нас всех горе, трудно было высказать в словах то, что чувствую. Весть об уходе Николая Николаевича потрясла меня своей неожиданностью, как ни предупреждали меня об его болезни. Я говорила о Николае Николаевиче на лекции по случаю 250-летия С.-Петербурга677, но говорила, как о живом. Иначе я его не могу чувствовать. Я вижу его всегда живым, молодым, исполненным вдохновенных мыслей, и таким он навсегда останется в моем сердце. Сердечное Вам спасибо за письмо.
Целую Вас и желаю сил.
Ваша всей душой Ю. Сазонова
327 7
Ю. Л. САЗОНОВА — А. А. КАШИНОЙ-ЕВРЕИНОВОЙ
[Поздняя осень 1953 г.]
Нью-Йорк
Дорогая Анна Александровна,
Простите, что не сразу ответила на Ваше письмо и приглашение. Я все надеялась, что смогу полететь навстречу Вашему приглашению, но оказалась прикованной к месту тяжелым грузом срочной рукописи, с которой развяжусь только в начале января, когда уже будет поздно. Мне очень хотелось бы помочь Вам в разборке литературного наследия Николая Николаевича. Я уверена, что, во всяком случае, можно было бы его отдать Колумбийскому университету, а может быть, в Публичную библиотеку, где хранятся рукописи. Профессор, о котором Вы думаете, глава Славянского отделения, автор книг о Толстом и Пушкине678. Он говорил, со ссылкой на меня, о Николае Николаевиче на своей лекции о театре русском, — я присутствовала в классе и перед лекцией успела напомнить ему некоторые данные. Он, конечно, с радостью взял бы часть наследства или все, в Колумбийский архив, но там вряд ли покупают рукописи679. В Публичной библиотеке, может быть, покупают, я этого не знаю. Не знаю также, хотите ли Вы просто отдать. Мне кажется, что Чеховскому издательству можно было бы предложить неизданные произведения680. Их адрес: 387 Fourth Avenue, NYC, редактор Вера Александровна Александрова681 — Chekhov’s Publishing House. Вы пишете, что не сдадите комнату до февраля, и значит, комната будет до февраля свободна. Сдадите ли потом квартиру или просто комнату? В последнем случае, может быть, можно было бы перенести на весну, но уже на других началах. Я страстно собираюсь в Париж, именно страстно. Почти «в Москву!» чеховских сестер. Но в эту весну как будто есть возможность, будь у меня обеспечена комната, хоть и не даровая, в Париже682. Сейчас я как раз занята рукописью двухтомника для Чеховского издательства683, потом будет еще срочная работа и к началу весны просвет.
Вы спрашиваете, что я говорила на лекции. Я говорила, почти не пользуясь подстрочником, у меня были только заглавия записаны на всякий случай и потому не могу передать точно. А смысл был тот, что Вы знаете, по-моему, отношение к творчеству Николая Николаевича: об его Старинном театре684, об его коротких пьесках, которыми когда-то восхищались в «Кривом зеркале»685, вспомнила даже его «Le monde à l’envers»686 (мне запомнилась с полной отчетливостью мизансцены и даже костюмы — Холмская687 в костюме женщины-адвоката, муж в передничке и в брюках с воланчиками сверху донизу!), — говорила об его пьесах, об его книгах и о нем самом, который всегда приносил необычный заряд мыслей, вдохновений, как я помню его в нашей петербургской столовой — так ясно, что будто и сейчас вижу его и слышу даже молодой его голос. Это странная игра памяти, которая сохраняет с полной отчетливостью будто фильма, делая свой монтаж. И у меня не все подряд, а отдельные снимки памяти — в санкт-петербургском театре на репетиции (но не на сцене), а в зале его вижу в возбужденном разговоре или у нас расхаживающим и особенно отчетливо, как он стоит, 328 сверкая глазами, объясняя свои замыслы, — а ведь было это так давно. И вот по этим отчетливым фильмам памяти я и старалась передать его вечно молодой образ, его заряд вдохновения и как он остался нетронутым еще в Париже. Таким и сейчас его вижу, когда пишу Вам, с веселыми кудрями, сверканием глаз, возбужденной речью, и какой неисчерпаемый запас нового, творческого. Вот об этом по мере сил и старалась сказать.
Крепко Вас целую и благодарю за приглашение. Верю в Вашу бодрость и силу.
Всего Вам лучшего.
Ваша Ю. Сазонова
Поздравляю с праздником и желаю сердечные пожелания.
8
Ю. Л. САЗОНОВА — А. А. КАШИНОЙ-ЕВРЕИНОВОЙ
25 января 1954 года
Нью-Йорк
Дорогая Анна Александровна,
Спасибо за письмо и за согласие иметь меня в качестве платного гостя. Я могу приехать не раньше апреля, но сейчас еще не могу точно установить времени. Во всяком случае, июль и август для меня время неподходящее, так как я хочу повидать всех, пока Париж еще не опустел на летнее время. Мне необходимо знать цену комнаты, так как денег у меня на поездку будет мало, и я должна платить [за] квартиру здесь. Я не живу больше в отеле, а снимаю годовую квартиру, а сдать ее на время моего отсутствия не могу, так что должна буду оплатить полностью мою здешнюю квартиру. Поэтому мне важно знать, сколько будет мне стоить жизнь в Париже, и я очень Вам благодарна за Ваши сведения о стоимости домашнего стола. Остается узнать стоимость комнаты, чтобы сделать расчет, могу ли я это предпринять весною.
Я говорила с главою Славянского отдела относительно театральной (и иной) библиотеки Николая Николаевича и относительно его рукописей. Русские рукописи, по его словам, не котируются, но он был бы счастлив хранить их в Архиве университета и просил передать, что они будут, таким образом, навсегда в сохранности, об их хранении в хорошем виде будут заботиться и их будут изучать. Театральную и иную библиотеку он готов купить для университета и просит лишь составить полный указатель книг по всем вопросам. Я предполагаю, что Николай Николаевич собирал не только театральные книги, но и другие. Только по получении полного списка книг университет может определить цену библиотеки. Если такой указатель у Вас есть, пришлите его мне, и я тотчас передам. Я теперь буду бывать ежедневно в университете и мне это нетрудно, а желание, чтобы библиотека была с почетом водворена в университет, у меня большое. С удовольствием буду исполнять службу связи. Если я приеду весною, я охотно помогу Вам в разборке библиотеки и рукописей и смогу увезти с собою все, что должно быть передано университету. Думаю, что это наилучший выход. Не сомневаюсь, что при передаче рукописей и книг можно будет устроить маленькое 329 торжество и что будут прочтены лекции о деятельности Николая Николаевича. Ответьте насчет этого, пожалуйста, поскорее.
Мой план поездки зависит от ее стоимости. Я на всякий случай начинаю хлопоты о заграничном паспорте, чтобы быть наготове. С поездкой связаны у меня литературные дела и желание повидать друзей. Работу над книгой я кончила и рукопись сдала, так что до осени, когда придут корректуры, я свободна. Другая книга, которая должна выйти почти одновременно688, тоже, вероятно, будет закончена и сдана в начале февраля, так что я буду свободна. Вопрос, значит, только в стоимости поездки и парижской жизни.
Еще раз спасибо за письмо и за предложение. Мечтаю страстно о поездке весною на 2 – 3 месяца — к ранней осени надо быть здесь для корректуры, а летом Париж пуст. Сердечный привет. Жду ответа.
Ваша Ю. Сазонова
P. S. Я нарочно отделила всю деловую часть, касающуюся поездки, для того чтобы все было ясно. Так же и насчет рукописей и библиотеки. А насчет того, каково будет мое чувство при встрече с Вами и как я встречусь с литературным и театральным наследством Николая Николаевича, Вы, конечно, знаете без моих слов.
Желаю Вам бодрости и сил.
Ваша ЮС
9
Ю. Л. САЗОНОВА — А. А. КАШИНОЙ-ЕВРЕИНОВОЙ
11 апреля 1954 года
Нью-Йорк
640 W. 231 Street
Bronx 63
New York
Дорогая Анна Александровна,
Шлю сердечный привет с наступающим праздником и желаю встретить его с друзьями. Увы! меня не будет в Париже, и я горюю об этом особенно остро, потому что на этот раз я почти занесла ногу на палубу парохода. Внешние препятствия оказались устранимы, но оказалось, что книга, которая должна была выйти только поздней осенью, передвинута на сентябрь и скоро [сдавать] рукопись в типографию. Так как в двухтомнике моем множество имен, дат и цитат на древнерусском языке, то корректура будет трудная и мне необходимо быть здесь, чтобы не вышло беды. Когда я сказала, что остаюсь, в издательстве почувствовали облегчение. Но как могла я уехать, бросив книгу? И вот остаюсь. В сентябре, когда выйдет русская книга, начнется возня с английской, которая тоже выйдет в этом году, — и значит, все опять откладывается на будущий год. Si cette histoire vous embete49*… Я писала Вам в начале марта, что вряд ли выберусь в апреле, и объяснила затруднения, но я не ожидала такого force majeure50*.
330 Я очень подавлена этим. У меня чувство, что мне не суждено увидать Париж, встретиться с моими друзьями и что только прах мой будет переслан через океан, а душа полетит вслед за кораблем. В этом году я так твердо была уверена, что даже начала хлопоты о сдаче квартиры и многих известила о приезде.
Я рада, что написала Вам в марте, и все же боюсь, что у Вас могли быть другие планы и что я им помешала. Если это так, то я страшно виновата перед Вами и прошу простить. Мне твердо сказали, что книга выйдет позже, и я рассчитывала вернуться к тому времени. На мое мартовское письмо я не получила от Вас ответа — сердитесь? Но я очень прошу Вас не сердиться, так как я наказана сама. Я так мечтала пожить у Вас!
Мне хочется знать о Вас. Еще раз прошу меня простить. Все это случилось только теперь, и я не могла предвидеть. Простите меня за невольную путаницу и напишите мне.
Я видела на днях в «Портретах» Ю. Анненкова689 живого Николая Николаевича с его выражением глаз и улыбкой и так ярко его вспоминаю, так затосковала о нем.
Целую Вас крепко
Ваша Ю. Сазонова
«БЕГУ ВСЕГДА К
СТЕНКЕ, С КОТОРОЙ СТРЕЛЯЮТ»
Письма Всеволода Хомицкого Николаю Евреинову
1942 – 1943
Публикация, вступительный текст
и примечания В. В. Иванова
В тринадцати письмах Всеволода Хомицкого — проект создания в Третьем рейхе при Министерстве восточных земель передвижной русской труппы, которая давала бы спектакли на оккупированных землях России (по терминологии нацистов — «освобожденных»). Театру под названием «Щелчок» было назначено стать театром политической сатиры. Если первое письмо Хомицкий пишет в надежде привлечь Николая Евреинова к участию в новом деле, то последующие свидетельствуют о том, что согласием парижского коллеги он заручился и речь идет об осуществлении общего проекта, в котором Евреинову предуготована ведущая роль.
Как писал Хомицкий: «Идея театра — идея Вашего “Кривого зеркала”, но только поставленного перед страшными рожами современности». Мне так и не удалось разыскать в московских хранилищах ни одного выпуска того журнала «Щелчок», который навел Хомицкого на идею нового театрального предприятия. А ведь по нему можно было бы составить некоторое мнение о предполагаемых спектаклях. Как бы то ни было, чтобы представить традицию элитарного искусства «скепсиса и отрицания» на службе у свастики, требуется немалая работа извращенного воображения.
331 Многие подробности функционирования театра Хомицкий обходит. Но именно в них-то все дело. Скажем, проблема зрителя и посещаемости, в данном случае весьма специфическая. Легко представить в роли зрителей лишь участников власовской армии. А «исковерканный русский народ» в массе своей никак не хотел видеть в немцах «освободителей». И какая сила могла привести его на спектакль оккупационного политического и сатирического театра, даже если билеты не продавать, а распределять?.. Скорее всего, зрителей, если бы дело дошло до спектаклей, в упрощенном порядке сгоняли бы на площадь немцы и полицаи, как и в случае карательных акций. Хомицкий об этой стороне дела не задумывается, возможно, доверяя пропагандистским реляциям о той радости, с которой встречают немцев жители «освобожденных областей».
По поводу репертуара ясно лишь то, что евреиновские наметки были встречены с воодушевлением. Без ответа остается, например, вопрос о том, как Евреинов мыслил еврейскую тему в «Щелчке». А не мыслить ее он просто не мог. Ведь ведомство Розенберга было озабочено проблемой не досуга, а обработки сознания. Достаточно сказать, что в русской газете «Новый голос», которая поминается в письмах, победные сообщения об «окончательном решении еврейского вопроса» на оккупированных территориях занимали до двух третей общей площади. Вероятно, акцент, традиционная одежда, быт, национальные черты характера и т. д. вполне могли быть рассмотрены как благодарный материал для убийственной театральной сатиры. Берясь вразумлять «исковерканный русский народ», создатели «Щелчка» ничуть не сомневались в себе, в собственном праве и правоте. Предполагая держать зеркало перед «страшными рожами современности», себя к ним никак не относили. Традиция просветительства здесь принимает гротесковые формы. Бросается в глаза и какая-то энтузиастическая недальновидность авторов «Щелчка», видящих себя в перспективе «пионерами возрождения русского театра». Как будто при «новом порядке» допустим великий театр «второсортной расы».
Что буквально отвечал Евреинов, мы уже никогда не узнаем. В ноябре 1943 г. во время воздушного налета берлинская квартира Хомицкого (Bayerischer Platz 12, bei Bujak Berlin-Schöneberg) сгорела вместе с его литературно-театральным архивом. Но увлеченность Евреинова «Щелчком» без труда вычитывается из публикуемых писем.
Тема коллаборационизма в последние годы оказалась вовсе не популярна, как и все другие, что не вписывались в иконографию подвижнической святой участи русских эмигрантов. Миф, созданный теми, кто бежал из России еще в 20-е гг., в 90-е захватил и Россию. Согласно ему, покинули страну все самые талантливые, самые честные, самые совестливые. Именно они где-то вдалеке от родины и сохраняли подлинную русскую культуру. Но коллективных добродетелей не бывает, как и коллективных пороков. В этом отношении мифология эмигрантская зеркально совпадает с советской. Можно принять формулу Нины Берберовой «Мы не в изгнании. / Мы в послании», которая стала парадигмой эмигрантской культуры, с той оговоркой, что послание должно быть прочитано без купюр и умолчаний.
Необходимо сказать несколько слов об авторе писем. Способный актер, талантливый драматург Всеволод Вячеславович Хомицкий родился 5 февраля 1902 г. в Петербурге, умер в ноябре 1980 г. в городе Глен Ков, близ Нью-Йорка. На протяжении 30-х гг. жил в Белграде. Достоверных фактов о нем известно немного. Поэтому приведем ту небольшую автобиографию, которую он набросал в одном из писем: «Отец — генерал, военный юрист, коренной москвич, — мать из орловской помещичьей семьи (Ливенского уезда), где я провел детство. Среднее образование успел 332 окончить еще в России, в Киеве. Бог миловал — до сих пор не воевал, а служил в Добровольческой армии переводчиком в Английской миссии. Потом Лемнос, Константинополь. Основной своей профессией, вопреки всякой очевидности, считаю театр и с 1925-го непрерывно играю на сцене. Ни одна русская театральная организация в Белграде — любительская, полулюбительская и профессиональная — не обходится без моего участия. Сейчас состою актером в Русском драматическом театре в Белграде, играю по преимуществу любовников, но иногда (причем очень их люблю) и характерные роли. Сыграл за все эти годы не меньше 100 крупных ролей и, не будь дело в эмиграции, конечно, целиком посвятил бы себя Театру. Также приходится служить <…> Днем, когда бывает время, — пишу пьесы, а по вечерам хожу на репетиции и играю на сцене. С детства писал стихи, а к театру пристрастился с 15-ти. До первой пущенной в свет пьесы написал 5 – 6 вещей (проба пера), которые уничтожил. Сейчас гуляют по свету 5 моих пьес-комедий (“Эмигрант Бунчук”, “Крылья Федора Ивановича”, “Вилла вдовы Туляковой”, “Витамин”, “Ванька-Встанька”). Иная из этих пьес шла не в одной десятке городов и городишек — и в разных странах (Франции, Югославии, Чехословакии, Болгарии, Польше). <…> Представляет мои драматургические интересы Н. Н. Евреинов, который и явился моим опекуном в деле распространения моих пьес»690.
По части актерской стези, упомянутой лишь в целом, кое-что можно добавить. Часто пользовался сценическим псевдонимом «В. Вячеславский». Принимал участие в спектаклях полулюбительской русской труппы, руководимой Юлией Ракитиной, где сыграл крупные роли в пьесах Евреинова «Самое Главное» (1932) и «Любовь под микроскопом» (1933), а также Глумова («На всякого мудреца довольно простоты», 1936). В гастроль Поликарпа Павлова и Веры Греч (1936) сыграл Карандышева («Бесприданница»), Барона («На дне») и Анучкина («Женитьба»). В антрепризе журналиста Евгения Жукова успешно выступил в роли Трощейкина («Событие» В. В. Набокова, 1939).
В 1934 г. Илья Голенищев-Кутузов, тогда живший в Белграде, обратился к Евреинову с протекцией насчет молодого драматурга Хомицкого. Евреинов живо откликнулся, взял на себя обязанности театрального агента и предпринял энергичные действия, чтобы продвинуть приглянувшуюся ему комедию из быта русских эмигрантов «Эмигрант Бунчук», которая была поставлена в Русском драматическом театре (Париж, 1936), затем в русских театрах Белграда, Праги и многих других. Позже включил ее в сборник эмигрантских пьес «Отрыв» (Берлин: Петрополис, 1938), куда вошла и пьеса самого Евреинова «Корабль Праведных». По свидетельству Евреинова, Хомицкому удалось «“выцедить” из русской эмигрантской гущи неизвестный дотоле тип <…> самое имя (Бунчук) стало в некоторых кругах русского общества нарицательным и знаменательным для новой формации “деловых людей”»691. После окончания войны Хомицкий оказался в американской зоне в лагере для перемещенных лиц, где собрал группу артистов, выступавших там с концертами. В 1951 г. приехал в Нью-Йорк, где в 1957 г. организовал Передвижной русский театр, объездивший все города русского рассеяния в США. Театр просуществовал 18 лет. Можно сказать, что идее мобильной странствующей труппы, возникшей в 1942 г., Хомицкий был предан всю оставшуюся жизнь.
В издательстве Передвижного русского театра (Нью-Йорк) литографированным способом были напечатаны три сборника Хомицкого: «Пятнадцать избранных одноактных пьес» (1964); «Вторая книга пьес» (1973); «Третья книга пьес: “Эмигрант Бунчук” и другие комедии» (1975).
Сам Евреинов в первые годы оккупации был лишен сколько-нибудь регулярной театральной практики. Его переписка с Н. И. Бутковской692 свидетельствует, что в эти 333 годы он едва сводил концы с концами и часто бедствовал. Лишь Ксения Питоева (Коралли) пригласила его поставить «Женитьбу Белугина» в своем Русском драматическом театре в сентябре 1941 г. И все же сетования Евреинова на притеснения, которые ему пришлось претерпеть в оккупированном Париже как масону, вероятно, несколько преувеличены. По свидетельству Хомицкого, кандидатура Евреинова как одного из руководителей «Щелчка» была встречена берлинским начальством «с восторгом». А уж оно-то не могло быть не в курсе порочащих масонских связей. Чуть позже, в 1943 г., после того как фиаско «Щелчка» стало очевидным, Евреинов вместе с Е. Н. Рощиной-Инсаровой принял участие в организации Театра русской драмы, которому покровительствовал Ю. С. Жеребков, тесно связанный с гестапо и поставленный немцами во главе русской эмиграции во Франции. И здесь масонство, как ни странно, не помешало.
Письма публикуются по рукописным и машинописным оригиналам, которые хранятся в Бахметьевском архиве русской и восточноевропейской истории и культуры (Колумбийский университет г. Нью-Йорка; BAR: Evreinov’s Papers. Box 2). В порядке предваряющей публикации эти письма были опубликованы мною в журнале «Театр» (М., 2001. № 3. С. 148 – 159).
1
30 января 1942 года
Берлин
Дорогой Николай Николаевич,
Уже неделя, как я в Берлине, и опять есть возможность снестись с Вами. Знал из «Нового слова»693 по объявлениям о спектаклях, что Вы живы и даже работаете694, но написать из Белграда было немыслимо. Нам пришлось пережить там немало, мне даже немного «повоевать», а потом я устроился автором и редактором в радиоотдел пропаганды. Закончилось это тем, что меня пригласили приехать сюда. Мечтаю о том, чтобы перетащить в Берлин жену и родителей, но всего сразу не сделаешь. В Белграде жизнь усложняется неумолимо.
Хочу повидать здесь Б. Н. Плаксина695, о котором Вы мне писали еще в Белград. Уже получил его адрес и телефон. Здесь назревают кое-какие театральные планы, пока достаточно беспочвенные. Проявляет деятельность, т. е. мечтает ее проявить, приехавший сюда Блюменталь-Тамарин696.
Напишите о себе. Сердечный привет Анне Александровне.
Ваш Вс. Хомицкий
2
1 июня 1942 года
Берлин
Дорогой Николай Николаевич,
Уже несколько месяцев меня ежедневно мучает совесть из-за собственного молчания. Будь мое отношение к Вам более поверхностным и интерес, связывающий с Вами, менее значительным, — я бы Вам, вероятно, давно уже написал. 334 Но хотелось сказать так много, что откладывал письмо со дня на день, стараясь собраться с мыслями, а кроме того, дожидался реализации одного моего плана, только теперь осуществившегося.
Буду прыгать через события, чтобы поскорее дойти до сути. Итак, я, как Вы уже знаете, приехал в Берлин по приглашению Министерства иностранных дел на роль редактора в русском радио-пропагандном отделе. Приехал один, оставив и жену, и родителей в Белграде. Поводом для приглашения послужила не совсем обычная моя деятельность в Белграде, а именно, с 22 июня я оказался в роли сатирического поэта при русском же отделе белградского радио (одно время и спикером) — так себя в этом авторстве зарекомендовал, что меня пожелали иметь в центре. Здесь на меня взвалили все решительно: и сатирическую поэзию, и фельетоны, и идейные статьи, и все остальное. Я сбился с ног и спал с лица, пока не втянулся в это дело и не оперился. Тогда, выписав жену из Белграда, я стал захаживать и в другие учреждения, где был спрос на мою музу и, в результате, оказался на службе в четырех учреждениях, но главным образом, в моем основном и в Восточном министерстве. В Восточном министерстве пожелали издавать юмористический журнал для «освобожденных областей» — и я сделался членом редакции этого издания и… единственным автором первых 5-ти номеров журнала. Журнал пока имеет вид складного плаката, изобилует карикатурами и моими стихотворными текстами. Называется этот журнал, по моему предложению, «Щелчок». Отсутствие конкуренции в моем жанре (я не изобрел, но приспособил несколько своеобразную форму стихотворного политического диалога и монолога) привело к тому, что цена на мои вещи стала заметно возрастать, и я сделался, что называется, автором нарасхват. Сейчас одно из министерств издает сборник моих политических сатир, а параллельно с этим (при Восточном министерстве) возник и уже родился (хотя еще не крещен) — Театр. Это и есть тот план, с которым я носился со дня моего приезда в Берлин.
Я неправильно выразился, сказав, что Театр «родился». Он не родился, а «зародился» и, не родившись, «крещен», так как получил то же имя, что и журнал: «Щелчок».
Это имя сразу же объясняет многое. Это — театр сатиры, преимущественно политической. Идея театра — идея Вашего «Кривого зеркала», но только поставленного перед страшными рожами современности. «Щелчок» — тактика этого театра, которому надлежит быть острым, метким и пр. и пр. и вместе с тем веселым, радостным зрелищем. Аудитория — исковерканный русский народ, который — нам еще не очень хорошо известно — над чем плачет и над чем смеется. Так или иначе, для этой аудитории нужно создать совершенно новую программу (которой не могло быть при большевиках и о которой не позаботилась заранее эмиграция). Задача увлекательная, но необычайно трудная.
И однако дело обстоит так: я уже принят на должность по организации этого театра и мне поручено такую программу создать. К 1 – 15 августа программа должна быть готова, а с 15 августа предположено приступить к репетициям с тем, чтобы к 15 сентября театр уже выехал на «Восток». С 1 августа нужный актерский и технический персонал будет уже получать жалованье от Министерства и должен собраться в Берлине для начала работы. Подобрать весь нужный состав поручено 335 мне же, с указанием, что вся труппа должна насчитывать не больше 20-ти человек (включая и небольшой оркестр, художника и пр.). У меня есть на примете великолепный художник-декоратор, с богатейшей фантазией и тонким вкусом. У него — золотая медаль Парижской Академии художеств и богатый театральный опыт. Он же и блестящий бутафор. Есть и отличная музыкантша-композиторша, которая уже написала музыку на некоторые мои вещи и обладает редкой способностью с налета угадывать стиль. Есть и подходящий актер на амплуа конферансье (чей образ я уже задумал и расскажу Вам о нем в следующем письме). Есть и несколько актеров на примете, но, может быть, можно было бы подыскать и лучших.
Одним словом, горячка началась. На днях я получаю командировку в Белград, чтобы переговорить с белградскими кандидатами в состав труппы «Щелчка» (поеду всего лишь на одну неделю), а одновременно с этим прошу Вас указать мне, кто из парижских актеров подходит и стремится к такому делу (я сразу же подумал о Загребельском697 и Чернявском698, которые были в «Летучей мыши»)699.
Но что мне было особенно дорого и нужно, это Ваше личное участие в этом деле. Ездить с бродячей труппой из одного полуразрушенного города в другой Вас, конечно, не может особенно увлекать (я, кстати, и сам не думаю кататься), но ведь самое сложное и ответственное, это создавать программу такого театра, и вот в чем Вы можете принять, заинтересуй Вас это дело, самое живое участие. О режиссуре я пока не говорю, так как, по-видимому, и режиссеру «Щелчка» придется разделить кочевой образ жизни труппы (о возможности Вашего приезда сюда на срок, для подготовки ряда номеров я не хочу поднимать вопроса преждевременно, чтобы случайно не повторить белградской истории с Вашим так и несостоявшимся приездом700. Впрочем, теперь и горизонты и возможности совсем иные! Во всяком случае, Вы мне напишите, Николай Николаевич, о Вашем взгляде на все это! Но что уже сейчас является полнейшей реальностью, это Ваше авторское участие в таком деле! Я весьма надеюсь, что Вы на мое предложение откликнетесь и обогатите программу «Щелчка» Вашими вещами. Я уже и не говорю о тех советах, которые Вы мне можете в этом деле дать и на которые я очень рассчитываю. В зависимости от Вашего ответа я постараюсь получить коротенькую командировку и в Париж. Ведь когда театральная работа закипит, я брошу все мои остальные службы и всецело займусь театром.
Ни о чем другом пока не пишу. Б. Н. Плаксина я повидал один раз, но вторично так до сих пор и не собрался. Ни на что не хватает времени!
Очень хотелось бы рассказать Вам еще о многом, но и сейчас ждут меня другие дела.
Кстати, Ваше авторское участие в «Щелчке» будет оплачиваться в весьма заманчивых цифрах.
Мой сердечный поклон Анне Александровне. Жена кланяется.
Всегда Ваш
Вс. Хомицкий
На всякий случай, мой берлинский телефон: 26.55.18.
336 3
13 июня 1942 года
Берлин
Дорогой Николай Николаевич,
Я страшно счастлив, что Вы так горячо отозвались на мое предложение принять участие в работе «Щелчка». Теперь у меня есть полная уверенность, что дело это удастся осуществить по-настоящему, в широком масштабе, и, может быть, мы окажемся пионерами возрождения русского театра, столь исковерканного большевиками. Что большевики театр исковеркали несмотря на то, что исключительно к нему благоволили, свидетельствуют бывшие советские жители, с которыми мне ежедневно приходится встречаться. Среди них есть художники, музыканты и др., рассказавшие мне много интересного.
«Щелчок» задуман широко. Заметьте, что право на организацию такого театра выдано мне одному и при этом непосредственно из Восточного министерства. Театру будут предоставлены все нужные средства; организаторам этого дела хочется, чтобы «Щелчок» оказался образцовым театром в своем жанре и был бы назидательным примером для всех театров и театриков, возникающих на самой территории освобожденных областей. Основная труппа «Щелчка» должна породить, по их мнению, ряд отделений «Щелчка», которые будут также разъезжать по разным городам и исполнять «нашу» программу на украинском, эстонском и других языках. Центром всего должен быть наш основной «Щелчок».
Как раз сегодня я был у высшего моего начальства, и мы выясняли многие подробности организации. Я упомянул о Вас (хотя Вашей открытки у меня еще не было; я получил ее днем) — и мое предложение привлечь Вас к работе было встречено с восторгом. Думаю, что Ваш приезд сюда или мой к Вам, в Париж, мог бы состояться в самом ударном порядке, если бы я сейчас не ехал в Белград. Я немного задержался с этим отъездом, но сейчас почти все готово, и я выеду в середине или, в крайнем случае, в конце следующей недели. В Белграде пробуду неделю, так что вся поездка (с дорогой) займет дней десять. Немедленно по возвращении я приеду к Вам, или Министерство пригласит Вас сюда. Когда мы с Вами обо всем договоримся, Вам, я думаю, будет предложено переехать в Берлин, то есть Вы будете уже получать от Министерства жалованье и сможете всецело посвятить себя «Щелчку». Подробности Вашего переезда мы обсудим позже, но Вы, на всякий случай, сообщите мне все Ваши пожелания (т. е. хотите ли Вы ликвидировать Вашу парижскую квартиру и переехать сюда сразу же с Анной Александровной; связаны ли Вы в данное время какой-нибудь другой работой и т. д.). Что касается матерьяльного Вашего вознаграждения, то решение этого вопроса предоставьте мне (мы поговорим с Вами об этом при встрече). Думаю, что мне безо всякого труда удастся выхлопотать для Вас условия, соответствующие Вашему имени и Вашей ценности для дела. Во всяком случае, тут за основание должно быть взято то же положение, как и у меня, а именно, я получаю месячное жалованье, но каждая написанная мною вещь оплачивается гонорарно.
Итак, дорогой Николай Николаевич, мне никогда еще ни один из моих планов не представлялся столь реальным, как этот. Помешать ему могут лишь общие «сдвиги» и мировые события.
337 Теперь еще несколько подробностей о «Щелчке». Я командируюсь в Белград для предварительных переговоров с кандидатами в труппу, но разговоры эти не будут окончательными. Ангажировать актеров можно будет лишь тогда, когда программа будет составлена и мы с Вами обсудим, кто нужен. Но художник и композитор понадобятся раньше. Одним словом, первое и главное дело — это составить программу. Я страшно обрадовался, узнав, что кое-какой матерьял Вы уже заготовили. У меня тоже есть уже несколько набросков, но редакторская работа в Министерстве иностранных дел страшно меня отвлекает и мешает театральной подготовке. Я делаю ее, однако, все свободное время. Кстати, в Белграде повидаю Ю. Л. Ракитина, который умоляет вырвать его оттуда и стремится принять участие в какой-либо театральной работе. Из разговоров с ним увижу, в какой мере это может быть осуществлено. Очень хотелось бы вызволить Юрия Львовича из тяжелого положения, в которое он теперь попал, но не знаю, будет ли он физически в состоянии взвалить на себя новый груз701. Он ведь недавно был сильно болен и едва выжил. О сыне его ни слуху ни духу.
Возвращаюсь к «Щелчку». Сегодня шел разговор еще и о том, что для труппы может быть предоставлен отдельный автобус, в котором и можно будет совершать переезды со всеми декорациями и инвентарем. Впрочем, пока это всего лишь проект, да и годятся ли там для этого дороги!..
Следующее письмо напишу Вам по возвращении из Белграда, значит, в начале июля. Вероятно, к этому времени придет и Ваш ответ на это письмо.
Чуть не позабыл сказать Вам о конферансье!
Я задумал фигуру вроде Остапа Бендера, но не в чистом виде. Я уже делал ряд номеров для Радио от имени некоего Степана Октябрева… Это сатира на большевика, собирательный тип теоретического путаника, рвача и ловкача, но в комическом плане. У меня есть актер, чрезвычайно к такому образу подходящий, умеющий легко брать интимный тон и прирожденный комик. Как Вам нравится такой замысел? Этот тип следует, конечно, разработать подробнее, снабдить его подходящими текстами и придумать для него и костюм, и грим.
Кстати, мое начальство согласно со мной, что угощать публику сплошной политикой не следует… Какой-то процент остро политических вещей вполне оправдывает дело, а попутно можно отражать в «Кривом зеркале» и «щелкать» любые стороны жизни.
В Белграде буду разговаривать с П. А. Павловым и В. М. Греч702. Мне кажется, что было бы неплохо привлечь их к делу. Но, повторяю, что в Белграде буду вести лишь предварительные разговоры, ни с кем не договариваясь окончательно, кроме, пожалуй, художника, который мне представляется незаменимым.
Передайте мой сердечный привет Анне Александровне. Жена жаждет поскорее с Вами познакомиться.
В надежде на скорую встречу
Сердечно Ваш
Вс. Хомицкий
338 4
28 июня 1942 года
Берлин
Дорогой Николай Николаевич,
Ваше письмо застало меня не «уже», а «еще» в Берлине. По военному времени на все уходит несколько больше хлопот, чем рассчитываешь; только вчера получил последние визы и выезжаю в Белград завтра-послезавтра. Если окажется место на аэроплане, которое начальство пожелало для меня задержать, то полечу. Это было бы чудесно! так как по железной дороге путешествие длится день и две ночи.
Кстати, как задержалось дело с моей командировкой в Белград, так же мы сможем в свое время растянуть и подготовку к спектаклям. Гнать нас, во всяком случае, никто не будет. Сроки назначены для порядка, но торопиться с выездом на «Восток» нас, конечно, не заставят. Впрочем, мой отъезд оттянулся не по вине моего начальства, а из-за множества формальностей и, представьте, из-за получения транзитных виз через Венгрию и Хорватию. Эти маленькие страны развели невообразимые строгости, а хорваты, в частности, напоминают зазнавшихся лакеев. Не вмешайся в это дело мое Министерство, я бы до сих пор сидел без этих виз.
Итак, я еду в Белград лишь для предварительных разговоров и до свидания с Вами ни с кем договоров подписывать не буду (т. е. не предложу это сделать Министерству). Все Ваши соображения о Ракитине, Павлове, Греч703 — более чем справедливы и обо всем этом надо будет еще подумать. В частности, я слишком большое значение придаю Вашему авторитету, чтобы решать эти вопросы без Вас. Вы несколько раз говорите «Ваш театр». Но ведь он будет в такой же мере и Ваш. Мало того, Ваш опыт в таком деле настолько велик, а мой настолько незначителен, что я с восторгом встану под Ваше крыло.
Могу Вас порадовать, что Министерство делом нашего театра увлекается с каждым днем все больше и больше. Уже ищут для нас помещение; хотят отдать в наше распоряжение театр на Курфюрстендам, в котором играла «Синяя птица»704. Уже беспокоятся о матерьялах для костюмов, декораций и пр.
Я положительно пришел в восторг, прочтя репертуар, который Вы приводите в Вашем письме. О том, что нам предстоит выступить перед совсем особой публикой, и о том, что нашей программой будет необычайно «интересоваться» наше начальство, — Вы знаете, конечно, и без меня. И о том, и о другом смогу рассказать Вам много подробностей при встрече. Рук нам, по-видимому, никто связывать не хочет, но с некоторыми особыми пожеланиями нам нельзя будет не считаться.
Имена Загребельского и Чернявского я привел потому, что помнил об их участии в «Летучей мыши». Но Вам, конечно, лучше знать, кто нам будет нужен из Парижа705. Министерство не хочет, чтобы труппа была очень велика. Я составил список (приведя даже имена, т. к. это было нужно) на 23 человека (включая и музыку). Возможно, будет, конечно, и расширение, и какие угодно перемены. Но немцы любят точность, и не подать такого списка было нельзя. В нем Вы фигурируете на первом месте.
Теперь о ближайшей деловой стороне. Вернусь я около 15 июля и сразу же по возвращении постараюсь приехать к Вам или устрою в Министерстве Ваш спешный вызов. Я бы, как и Вы, предпочел бы мою поездку, но, может быть, из-за 339 моих остальных служб (еще не ликвидированных) это будет невозможно. Думаю, что в Париже, едва Посольство получит извещение от Министерства, Вам мгновенно выдадут паспорт, и Вы сможете приехать. Тогда же мы переговорим и обо всем остальном. Так как у Вас много номеров уже готово, то можно будет не откладывать вызова нужных актеров, и Вы, вернувшись в Париж для урегулирования Ваших дел, сможете вскоре после этого окончательно переехать сюда.
Квартирный вопрос обстоит здесь весьма плохо, но Министерство поместит Вас в отеле, а я в то же время позабочусь о приискании для Вас комнаты (частные комнаты здесь во много раз приятнее «пансионов»).
Кстати, вот еще какое обстоятельство: Министерству желательно, чтобы при посещении южных городов некоторые номера в программе могли быть исполнены на украинском языке (в переводе). Во многих певчих номерах это совсем просто. Кроме того, ряд намеченных мною актеров из Белграда может в какой-то степени с такой проблемой справиться. Смогут ли Ваши парижане? Конферансье — Остап способен даже весь конферанс провести по-украински. Я сам, кстати, на сем языке «ни бельмеса».
О размере Вашего месячного оклада разговора еще не заводил. Боюсь произнести цифру, чтобы не ошибиться. Вам же оттуда трудно, пожалуй, будет догадаться, сколько следует назначить. Рассуждаю так: канцелярские служащие получают здесь 150 – 200 марок; министерские служащие — 250 – 350; инженеры 300 – 400. Особо хорошо устроившиеся — 400 – 500. Люди специальностей особых (таких, конечно, немного) — догоняют до 600 – 650. Это уже очень крупные и редкие оклады. Но наше дело совсем особенное. Тут уже не просто специальность, а «индивидуальность», а поэтому, мне кажется, можно будет говорить о 800. Это такая сумма, из которой Вы безо всякого труда можете половину отослать Анне Александровне, а остальной Вам за глаза хватит решительно на все (включая все доступные роскошества). Ну-с, к этому надо будет добавить авторские гонорары, о чем разговор должен быть особый. Я в этом Министерстве получаю, например, как член редакции журнала, сравнительно небольшое жалованье, но зато гонорарами умудрился в один месяц заработать сверх того больше 1500.
Все это рассказываю Вам для сведения, а также для того, чтобы Вы со своей стороны могли высказать какие-либо пожелания перед тем, как я подниму этот вопрос перед начальством. Может быть, Вас сможет информировать по этому вопросу Б. Н. Плаксин. Хорошо, одним словом, вести переговоры во всеоружии.
Между прочим, если Ваша отправка на «Восток» (кстати, говорилось о том, что нам с Вами следует лишь прокатиться и затем вернуться для подготовки следующих программ в Берлин: т. е. ни Вас, ни меня на кочевую жизнь обрекать не хотят и выражаются даже так, что выпускать нас из Берлина — жалко, так как писать в дороге нам будет трудно), одним словом, если поездка задержится, а программа будет уже готова, мы, имея в распоряжении театр, сможем заняться подготовкой и чего-либо другого, даже целой пьесы. Впрочем, все это будет видно.
Следующее письмо напишу по возвращении. Очень досадно, что так долго идут письма.
Сердечный привет Анне Александровне от меня и от жены, которая Вам также кланяется.
Искренне Ваш
Вс. Хомицкий
340 P. S. Здесь, как Вы, вероятно, прочли в «Новом слове», выступал Блюменталь-Тамарин. Я, к сожалению, на этом выступлении не побывал, но видевшие и заслуживающие доверия люди говорят, что это было отвратительно. Поэма «Москва» оскорбительна во всех отношениях, а в чеховском «Медведе» было выкачано на сцену такое невообразимое и совершенно ненужное «хамство», что люди пришли в негодование за Чехова. В «Гамлете» была разведена истерия и плаксивость и очень хромала дикция706.
5
29 июля 1942 года
Берлин
Дорогой Николай Николаевич,
Я несколько дней тому назад вернулся из Белграда и немедленно подал в Министерство доклад о проведении в жизнь проекта о театре. В нем на первом же месте стоит Ваше имя, и я прошу Министерство в спешном порядке организовать Ваш переезд в Берлин, определить размер Вашего оклада и гонораров (я сам подсказываю цифры), снять для нас намеченный уже театральный зал и пр. и пр., одним словом, создать все нужные условия для начала работы.
Министерство, как и полагается, мой доклад теперь прожевывает, а непосредственное мое начальство поторапливает свое начальство, чтобы это совершилось как можно скорее.
Я прежде всего настаиваю на подписании годовых контрактов с рядом лиц, без которых такой театр сделать нельзя. Окончательный подбор труппы мы выработаем позже. Сейчас меня, конечно, осаждает много лиц из бывшей «Синей птицы» и вообще берлинские актеры, но я почти всем отвечаю, что без Вас никакого подбора труппы сделано не будет.
Не знаю, конечно, сколько времени займет процедура всех подготовительных обсуждений в Министерстве. Все они там делом театра очень увлечены, но подписей на решениях должно быть немало, и для того, чтобы все их собрать, нужно время.
Кстати, я вспомнил о Нелидове707. Что Вы думаете о привлечении его к музыкальной работе? В Париже ли он, чувствует ли в себе достаточно энергии для такого дела и хотел ли принять в нем участие?
Как только будут новости, сразу же Вам напишу.
Сердечный привет Анне Александровне.
Искренне Ваш
Вс. Хомицкий
6
30 августа 1942 года
Берлин
Дорогой Николай Николаевич,
Вы, вероятно, начинаете уже терять терпение. К сожалению, в военные времена все предприятия гражданского характера быстро не делаются. Иногда 341 происходят длиннейшие задержки из-за сущих пустяков только потому, что кто-нибудь из нужных людей улетит куда-то на аэроплане или оказывается отвлеченным чем-нибудь особенно спешным.
Досадую и я, что все так затягивается, досадует и мое ближайшее начальство. Но нас, с другой стороны, утешает то, что дело все-таки непрерывно продвигается вперед и завоевываются все новые позиции. Так, уже отпущен кредит, с расчетом на год, и кредит этот превзошел даже мои ожидания. Благодаря этому у меня есть шанс выхлопотать для Вас месячное жалованье в 1200 марок, о чем уже говорено и на что в устной форме уже согласились и обещали заготовить контракт для высылки Вам. Сильно продвинулись переговоры и о театральном помещенье, а также и о матерьялах для декораций и костюмов. Увлечение начальства всем делом не только не ослабевает, но, напротив, разгорается. Я бегаю к ним по два-три раза в день и тороплю, тороплю, но… через бюрократию не перепрыгнешь.
Они хотят, чтобы Ваш приезд сразу был окончательным. В этом случае Вам соответствующее учреждение в Париже должно будет выплатить «подъемные». Брать с собой следует и постельные вещи. В пансионе они Вам, может быть, и не пригодятся, но в частных комнатах иногда постельных вещей не дают. Кроме того, без постельных хозяйских вещей комнату легче бывает найти.
О том, сколько времени после подписания контракта Вы сможете заняться ликвидацией Ваших дел в Париже, правил не существует. Это будет зависеть от Вас самого, и каких-либо строгих сроков Вам поставлено, разумеется, не будет.
Пишущую машинку привезите. Относительно рукописей, книг и пр. я позабочусь здесь и вышлю бумажку, дающую право все это с собой привезти. Таковая бумажка была у меня, когда я ездил в Белград. В ней не перечисляются вещи, которые Вы везете, а просто говорится, что Вы везете нужный для Министерства текст-матерьял.
О В. А. Нелидове и обо всем прочем поговорим, когда приедете, теперь, надеюсь, скоро.
Страшно хотел бы посмотреть Вашу «Комедию счастья» в кино708. Как Вы полагаете: возможно ли ее появление и в Германии?
Едва все формальности будут закончены, сразу же Вам напишу.
Сердечный привет Анне Александровне от меня и от жены.
Искренне Ваш
Вс. Хомицкий
7
12 сентября 1942 года
Берлин
Дорогой Николай Николаевич,
Дело с театром сильно шагнуло вперед. Мне обещали, что виза, контракт и т. п. Вам будут высланы на следующей неделе. Очень надеюсь, что это так и будет.
Когда приедете, расскажу Вам подробно, с чем и как пришлось бороться и какие затруднения превозмогать. В письме всего этого не опишешь. Слава Богу, главные трудности позади.
342 От нашего будущего театра ждут очень много. О русском театральном искусстве здесь все вообще высокого мнения, а тут еще расчет на образцовое зрелище. Мечтаю, что это так и будет.
Пришлось столкнуться кое с кем и из «ревнивцев». Встречаются и другие личности, сами ни на что не претендующие, но всегда готовые «подложить свинью». Такая «свинья», направленная в Вашу сторону, была пущена в ход Брешко-Брешковским709, но благодаря своевременным воздействиям вреда натворить не успела. Вы хорошо делаете, что до поры до времени не посвящаете парижан в наши дела. Помочь никто не может, а повредить не прочь каждый. Мне здесь сохранять дело в тайне невозможно, но я применю испытанный способ: «бегу всегда к стенке, с которой стреляют».
Сердечный привет Анне Александровне.
Жена шлет поклон Вам и Анне Александровне.
Вс. Хомицкий
8
16 октября 1942 года
Берлин
Дорогой Николай Николаевич,
Очень Вас прошу спешно прислать о себе ряд сведений: год, месяц и число рождения, место рождения, образование, знание языков, короткую справку о театральной деятельности и имена Ваших родителей. Все это требуется вкратце, и я очень жалею, что не попросил Вас дать мне эти справки раньше.
Похоже на то, что все у меня уже готово и виза Вам будет выслана немедленно по получении этих сведений.
Вчера виделся с Б. Н. Плаксиным и разговаривал о Вас.
Сердечный поклон от меня и от жены Вам и Анне Александровне.
Всегда Ваш
Вс. Хомицкий
9
15 ноября 1942 года
Берлин
Дорогой Николай Николаевич,
Если бы я мог с Вами встретиться и поговорить, Вам бы мгновенно стало ясно, почему возможно такое положение, когда все готово и в то же время ничто не начинается. Бороться больше не за что, так как все решительно достигнуто и театр на бумаге существует, но когда он наконец будет существовать и на деле, я знаю столько же, сколько, скажем, командующий какой-нибудь воинской частью о дне, когда будет взят осажденный город. И это касается не только меня, но и моего начальства и даже начальства моего начальства. Бывают дни, когда мне говорят, что и контракт, и виза Вам будут высланы в тот же день, и я с трудом удерживаюсь, чтобы Вам это не сообщить, но бывают дни, когда теряешь всякое представление о сроках. В такие дни и я, и мое начальство знаем столько же, сколько и Вы, то есть ровно ничего. Я добиваюсь лишь одного: Вашего 343 скорейшего приезда, умышленно ограничивая этим мои настояния, рассчитывая, что так поставленный вопрос может быть разрешен проще и быстрее.
В июне-июле, даже в августе не было каких-то побочных вопросов, которых теперь немало. Театр в данном случае не представляет собой чего-то самостоятельного, а связан с целым рядом других проблем, чьи нити не в наших руках.
Я был бы счастлив, если бы мог Вам сказать, когда все наконец совершится, но, увы, могу лишь сказать, что это может быть и завтра, и не знаю когда.
Основываясь на словах моего начальства, предлагаю ждать и терпеть.
Сердечный привет Анне Александровне.
Искренне Ваш
Вс. Хомицкий
10
1 января 1943 года
Берлин
Дорогой Николай Николаевич,
Сердечно поздравляем, я и жена, Вас и Анну Александровну с наступающим праздником, который я надеялся вместе с Вами провести уже в России, так как здесь поговаривали начиная с октября, что хорошо бы гастроли нового театра начать как раз на Рождество. Увы, мы не только не «там», но даже еще не съехались и не приступили к делу. Мы все, конечно, пешки в вихре событий, но это нисколько не лишает меня энергии и сознания, что нужно, вопреки всему, проявлять инициативу и пробивать стенку лбом. Начало известного Вам театрального дела не зависит больше даже от лиц, поручивших мне за него взяться, и я даже не знаю, от кого оно теперь зависит. Кажется, ото всех решительно и больше всего от «стихий», ни предугадать, ни преодолеть которые не в наших силах. Мне по-прежнему говорят: завтра, но проходит месяц, и я ничего, кроме этого «завтра», не слышу. Я теперь даже не знаю, надо ли об этом жалеть или, может быть, радоваться.
По Вашему делу я предпринял хлопоты, но это тоже оказалось сложнее, чем думалось. Ни Reichsdramaturgie, ни Reichstheaterkammer710 разрешений на постановку русских пьес на иностранных языках за границей не дают. Это зависит исключительно от Министерства пропаганды и от лица, с которым я уже вступил в контакт. Надо ждать! И тут тоже ждать. Я, во всяком случае, сделаю все от меня зависящее и дам Вам о результате вовремя знать.
Еще раз сердечный привет и пожелания счастливых праздников.
Ваш Вс. Хомицкий
11
10 марта 1943 года
Берлин
Дорогой Николай Николаевич,
Я недавно вновь побывал в Белграде, откуда привез в Берлин моих родителей. Поэтому и не писал Вам все это время. Сейчас мы живем с родителями врозь и решаем очень тяжелый здесь квартирный вопрос. О Вашем деле я навел все 344 необходимые справки и выяснил, что разрешение может быть дано лишь Министерством пропаганды711. Получение такого разрешения — дело нелегкое и чрезвычайно затяжное. Я Вам уже писал об этом. Разумеется, Ольга Чехова712, имей она соответствующие связи, могла бы что-нибудь сделать, но и в этом случае на скорый успех рассчитывать трудно. Особенно сейчас. Но Вы, конечно, не сделали ошибки, что ей написали. Я, со своей стороны, уже просил содействия многих лиц, но пока безрезультатно. Буду продолжать хлопотать и приложу все усилия, чтобы разрешение получить.
С моим театральным начинанием полный застой. Это понятно и без объяснений. Разговаривать продолжают, но я ни на что больше не надеюсь. Зато параллельно с этим зародилась мысль о драматическом театре в самом Берлине (главным образом, для обслуживания рабочих с «Востока»). К организации этого дела я отношения не имею, но меня в него приглашают. Что из всего этого получится, еще не знаю. Если интересно, напишу Вам. Пока собираюсь в скором времени дебютировать в очень жалких условиях русского театра здесь. Но нужно как-то показаться и коллегам, и публике, а другого способа нет.
Сердечный привет Анне Александровне.
Ваш Вс. Хомицкий
12
20 апреля 1943 года
Берлин
Дорогой Николай Николаевич,
Сказать Вам все, что хотелось бы, на расстоянии немыслимо. Этим объясняются такие длинные перерывы в моих письмах к Вам. Мне то же самое сказал Б. Н. Плаксин, у которого переписка с Вами, по-видимому, совсем прекратилась713. Театральные проекты (и не только театральные) пока замерли и предсказать день их оживления — мудрено. Со следующего месяца, истомившись ждать, начинаю выступать с Павловым — Греч и группой артистов МХТ714. Но это нисколько не театральное дело, а отдельные и весьма тощие спектакли. На досуге пишу пьесу, пользуясь богатым матерьялом, который накопился за 1,5 года жизни здесь. Интересных людей встречаю немало, а деньги зарабатываю по-прежнему главным образом сатирической поэзией.
Поздравляю Вас и Анну Александровну с наступающими праздниками и передаю поздравления моей семьи. Ответила ли Вам что-либо О. Чехова?
Искренне Ваш
Вс. Хомицкий
13
21 июня 1943 года
Берлин
Дорогой Николай Николаевич,
Так грустно, вместо еще недавних широких планов и видов на кипучую деятельность, писать о том, что все расползлось и растаяло и даже не дает повода 345 на что-либо надеяться. Объяснять, почему так случилось, конечно, лишнее; это понятно без объяснений. После этого мелькнула было надежда на какую-то интересную работу «без отъезда», здесь на месте, но, увы, и из этого ничего не получилось. Рвачи, хулиганы и варвары лишили возможности сделать даже то немногое, что условия позволяли. Сейчас невиданным еще пышным цветом цветет густопсовая халтура, в которой даже талантливые люди теряют образ и подобие приличия. Я вовремя шарахнулся в сторону от всего этого (отказался от участия в «Женитьбе», хотя моя фамилия уже была пропечатана и в газетах715) и сейчас наотрез отказываюсь от всех предложений. Я нашел удовлетворение в том, что уже третий месяц пишу пьесу, для которой накапливал настроение полтора года (если не больше). В этой пьесе странным образом звучат Ваши театральные верования, причем совсем не предумышленно, а как-то невольно. Когда пьеса будет готова (если условия работы останутся те же, надеюсь, месяца через три), найду способ переслать Вам эту вещь, в которую вкладываюсь целиком и как еще никогда.
Не будь этого занятия, были бы все причины пропитаться духом уныния. Впрочем, у нас в семье произошло еще одно обстоятельство, убеждающее в том, что жизнь не смеет замыкаться сегодняшним днем. Мы взяли младенца, ему сейчас 6 месяцев, и вдруг все мое семейство воспылало незнакомыми или давно позабытыми (как у моих родителей) чувствами. Малыш наполняет жизнь, и я испытываю даже особенное удовольствие писать под его писк.
Ю. Л. Ракитин пишет трагические письма. «Спасти меня нельзя, — пишет он, — я не моюсь, не одеваюсь, не бреюсь — и так оканчиваю мои дни…» Помочь ему нет сейчас никакой возможности. Денежные вольности, типичные для прошлого года, совсем прекратились. Мой товар (стихотворная сатира) не оплачивается больше такими суммами, хотя спрос на него еще не прошел. Но и это возможно.
Я лично духом нисколько не падаю и продолжаю быть, как был и всегда, оптимистом. Умудряюсь даже морально поддерживать других, сильно приупавших. Развлекаюсь занятными знакомствами с людьми оттуда. Есть в этой коллекции и генералы, и преподаватели диамата (особая категория людей с вывороченными мозгами), и недорезанные интеллигенты, и физкультурники, и бывшие политические комиссары, и аспиранты университетов, и разнообразные деятели разнообразных искусств. Есть настоящие уникумы. Обо всем этом не напишешь. Рассказать бы!
Будь возможность, я бы с большим наслаждением прокатился бы в Париж, чтобы хотя бы переменить на какое-то время воздух и повидать других людей. Но пока во Францию пускают лишь тех, кто имел к ней отношение раньше, а туристов не признают.
Напишите, дорогой Николай Николаевич, о себе. Гадать о чем-нибудь пока не будем. Сейчас приходится не созидать и бороться, а защищаться. Важно удержаться на поверхности.
Сердечный привет Анне Александровне.
Всегда Ваш
Вс. Хомицкий
346 IV
Н. Чушкин
В. В. ДМИТРИЕВ. ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ
(Записи бесед, выписки, наброски и др. материалы)
1948 г.
Предисловие А. А. Михайловой.
Публикация, вступительный текст и примечания Е. И. Струтинской
А. Михайлова
О ДНЕВНИКАХ И БЕЛОЙ ТЕТРАДИ Н. Н. ЧУШКИНА
Маленькая «общая тетрадь» в белой обложке, похожая на большую записную книжку. На обложке: Н. Чушкин. В. В. Дмитриев. Творческий путь (Записи бесед, выписки, наброски и др. материалы). 1948 г. Страницы не пронумерованы.
Вероятно, именно эта тетрадь свидетельствует о реальном начале работы над книгой о Дмитриеве. И она же многое расскажет об особенностях чушкинского исследовательского метода, его индивидуального стиля.
Разговоры велись в 1948 г. Дата последней беседы — 24 марта 1948 г., а 5 мая Дмитриева не стало. Знакомство их было давним и относится, по всей вероятности, к 1934 – 37 гг., когда Н. Н. жил в Ленинграде, будучи аспирантом Академии искусствоведения. Вопросы Пушкина и ответы Дмитриева возможны были только при условии полнейшего взаимного доверия. Достаточно сказать, что в 1948 г. имя Мейерхольда было непроизносимым без соответствующих эпитетов («враг народа», «воинствующий формалист» и т. п.). А Дмитриев рассказывал о нем свободно и увлеченно, независимо от времени. Такими же были и его рассказы о годах учения, мастерах «Мира искусств», о Петрове-Водкине, мхатовских спектаклях, сотрудничестве с Немировичем. Характеристики людей, ситуаций, эпохи. Вопросы исследователя, которые в те годы возможны были тоже только в ситуации абсолютного доверия. Размышления Н. Н. по поводу услышанного, личные воспоминания о персонажах рассказов художника, облака фактов, которыми он окружает сюжеты этих бесед.
И загадочно-прекрасный текст в самом конце белой тетради. Честь идентификации этого текста принадлежит Е. И. Струтинской. Страницы автобиографической прозы Дмитриева, о существовании которой нигде не упоминалось, были, судя по расположению записей в белой тетради, переписаны туда Чушкиным уже после кончины художника. Почему он, который фиксировал с максимальной точностью абсолютно все, никак не озаглавил эти страницы? Почему не проставил дату? Не обозначил авторство Дмитриева? Вряд ли кто-то сможет теперь ответить на эти вопросы…
Николай Николаевич Чушкин работал медленно. Так, во всяком случае, казалось. Медленно и постоянно. Накопление фактов представлялось бесконечным. Его окружали кипы выписок, фотоматериалов, записей бесед, спектаклей. Он был фанатиком достоверности. Обладая тонким восприятием материи искусства, Н. Н. словно бы не доверял своему чувству, пока каждый его вывод, каждое искусствоведческое построение не будет обосновано, то есть не будет возведено на многослойном фундаменте фактов. В результате стал автором одной книги. Но эта книга — «Гамлет — Качалов» 347 (1966), где исследование одной роли одного актера выросло в портрет эпохи. Очень точно написал Чушкину о нем самом по выходе этой книги Г. М. Козинцев в письме от 17 октября 1966 г.:
«Ничего Вам не далось даром, ничто не шло само в руки. Я вижу месяцы и годы труда в архивах, не дающую Вам покоя идею, что где-то еще есть материалы, живет человек, с которым необходимо говорить. Сколько всего Вы нашли, подняли, опубликовали!
Прекрасное слово “сам”. Все у Вас “сам”, “своими глазами”, “своими руками”.
Честь и хвала огромности Вашего труда.
Способ исследования наиболее плодотворный. Вы начинаете с самой крохотной клетки, а потом все расширяете угол зрения и показываете время. То есть то самое важное, чем и следует заниматься при любом анализе произведений искусства».
Таковой обещала стать и книга о Дмитриеве, подготовке которой исследователь отдал 30 лет жизни. Конечно же, он публиковал в эти годы статьи о творчестве Дмитриева, В. А. Симова, И. Я. Гремиславского (некоторые — в соавторстве с М. Н. Пожарской). Об их союзе стоит сказать особо.
В дневниках Н. Н. посвятил своей жене многие страницы нежной и уважительной прозы. Он методично отмечал все ее профессиональные успехи — новые публикации, отношение к ним в художественной среде. Он гордился ею. А она всю жизнь считала себя его ученицей. Разумеется, он был первым читателем ее исследований. И думается, в том, что она стала таким почитаемым историком театрально-декорационного искусства, есть его доля. Во всяком случае, она долго отказывалась защищать докторскую диссертацию по своей фундаментальной монографии «Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX века» только по той причине, что Николай Николаевич так и умер кандидатом наук… Когда Николая Николаевича не стало, она показала мне папки с наработанным им материалом для книги о В. В. Дмитриеве. Их было около двадцати (теперь они в РГАЛИ). Огромное количество записей спектаклей, анализов, наброски текстов, беседы с режиссерами, исполнителями, художниками, родственниками и друзьями Дмитриева, фотокопии документов, бесчисленные фотографии эскизов и макетов. В папке о годах учения Дмитриева был даже чушкинский чертеж района, где жил юный герой его книги, по которому Н. Н. красным карандашом проложил маршрут: дом — гимназия — школа Званцевой — студия на Бородинской. Результат гигантской работы, которая так и не стала книгой. Он успел написать только первые главы ее. Милица Николаевна опубликовала две из них (сб. «Театральная правда». Тбилиси, 1981; журн. «Театр». 1979. № 9). У нее даже было намерение на основе этих материалов дописать книгу. Однако беспредельное уважение к творческой неординарности Николая Николаевича заставило ее отказаться от этого замысла.
Но не только потому Н. Н. не успел закончить книгу о Дмитриеве, что работал медленно, кропотливо. Ему пришлось всю жизнь служить в разных госучреждениях. Не всегда в научных. Но даже когда судьба и исследовательские интересы приводили его в научные учреждения, где он занимался тем, что его действительно интересовало (подготовка к печати режиссерских экземпляров К. С. Станиславского в рамках Комиссии по наследию Станиславского и Немировича-Данченко), то и тогда книге о Дмитриеве не удавалось стать плановой работой.
Впрочем, об этом написал сам Николай Николаевич. Вот фрагмент из его дневника. Запись 21 ноября 1966 г.:
«… Тема о Дмитриеве для меня бесконечно разрастается, превращаясь в рассказ об изобразительной режиссуре Мейерхольда, Станиславского, Немировича-Данченко. В нее 348 вливаются небольшие этюды о Головине, художниках Камерного театра, о конструктивизме, о зарождении абстрактного искусства в России в первые послереволюционные годы, тема учителя Дмитриева — К. С. Петрова-Водкина. И многое другое. Я вспомнил, что Герман Недошивин сказал, прочтя первую главу: “Получается работа шире, чем просто монография о Дмитриеве. Ее правильно было бы назвать "Дмитриев и другие". Причем порою "другие", хоть и являются частью целого, частью подчиненной, но написаны интереснее, весомее главной темы. Не знаю, удастся ли выдержать этот прием до конца…” Я сказал, что тема этой книги трудна, трудоемка и что я не в силах написать ее в сочетании с другими “службами”, и если от меня потребуют, чтобы я делал том чеховских партитур Станиславского, то это значит, что для Дмитриева я освобожусь лишь года через полтора. А буду ли я тогда в состоянии работать, теперь надо вести счет не только годам, но и месяцам.
Разговор с Аллой Александровной [Михайловой] очень обрадовал меня. Пожалуй, только Козинцев сказал мне столько хорошего, так взволновал и укрепил меня в том, что надо работать над тем, что любишь, работать неудержимо, быть захваченным до конца, не думая ни о чем другом. Мне трудно жить не только потому, что я работаю медленно, но и потому, что мало профессионален. Не могу писать то, что хотят другие, не могу, как Болеслав [Ростоцкий], легко и свободно браться за любую тему. Я могу и хочу писать только свое, то, что мне близко, волнует меня, выстрадано. Мне приходится добиваться права на свою работу, так как то, чего хочу, вначале вызывает сомнения, протесты (так было с качаловской книгой — лишь потом, когда замысел был воплощен, все начали хвалить ее, так было и с книгой о Дмитриеве, которая была исключена из плана работ комиссии как не отвечающая ее “профилю”, так было с монографией о Симове, которую мне не дали закончить).
Мне неловко доказывать людям, от которых завишу, право писать о том, что мне кажется самым нужным и самым главным сегодня. Люди, имеющие власть над научными учреждениями и книгами, судят о будущей работе по названию, насколько конъюнктурно оно звучит, и не утверждают того, что, с их точки зрения, “неактуально”. То, о чем мне хочется написать, по названию будет уже того, что будет изложено в книге. Это для меня принципиально важно — книга должна быть шире ее названия, вовлекать читателя в целый водоворот тем и проблем, но формально оставаясь в рамках конкретного, узкого явления искусства. Но через это конкретное явление (Гамлет — Качалов, творчество Дмитриева) можно раскрыть целые миры, понять внутренний смысл эпохи.
Сделать любую публикацию о Станиславском смогут многие (вопрос о том — лучше или хуже уже не имеет значения), а написать о Дмитриеве так, как я об этом хочу, кроме меня, никто не сможет, и напишут принципиально иную работу. Иначе совершенно. Боюсь не успеть, унести с собой то, что собрал за эти годы, что вынес из бесед с Дмитриевым, с его друзьями и товарищами, что сохранилось в моих записных книжках и дневниках, в собранных мною материалах. Сейчас наступило время переоценок. Сама жизнь открыла нам многое, чего мы не знали или не до конца понимали в свое время, не обращали должного внимания. Теперь многое предстоит в ином свете — ведь мы слишком долго испытывали давление “официальных установок”. “Репертком” был не только вовне, но и внутри нас. Надо писать правду, честно, не думая о редакторах, цензуре и так далее, понять и объяснить эту правду. И не предавать в угоду моде то великое, что было найдено нашим реалистическим искусством. Писать уверенно, вне шор и пут предшествующих десятилетий, внутренне свободно, вне всякой предвзятости, делать выводы лишь после того, когда явление изучено и всесторонне проанализировано. Книгу о Дмитриеве я ощущаю и как глубоко 349 личную тему. В чем-то это значит писать и о своем поколении, о своих обманах и иллюзиях. Думая о Дмитриеве, все больше ощущаю трагизм его судьбы и трагичность эпохи, в которую он жил…»
Добавить что-то к этой горькой и светлой исповеди — невозможно. Кроме одного: этих дневников уже нет. Приведенный фрагмент, наряду с другими, опубликован мною в газете «Экран и сцена» № 51 – 52 (26 декабря 1996 г. – 9 января 1997 г.) в связи с 90-летием Н. Н. Чушкина. Эта публикация сделана по просьбе М. Н. Пожарской, которая в то время уже была нездорова. Она предоставила мне полную свободу выбора — просто подвела к стандартной застекленной полке, плотно заставленной однотипными толстыми «общими» тетрадями в коричневых, черных, темно-синих клеенчатых обложках. Слева — самые ранние. Я взяла одну из них — 1932 год — и сразу же наткнулась на подробнейшую запись заседания Художественного совета Театра имени Евг. Вахтангова по поводу сдачи Реперткому спектакля «Гамлет» в постановке Н. П. Акимова. Было даже такое ощущение, что интонации выступающих схвачены. И далее — слева направо — стояли тетради дневников, которые Н. Н. вел всю свою жизнь. Боже мой, сколько же там было интересного! Описания спектаклей, разговоры с постановщиками, актерами, зарисовки декораций, размышления по поводу увиденного, прочитанного, рассказы о художественных выставках, беседы с художниками, впечатления от поездок, пронзительные характеристики старых друзей и новых знакомых, семейные события. А когда в доме появился телевизор, в дневниках фиксировались итоги футбольных и хоккейных матчей (Н. Н. был страстным болельщиком). Мне всегда казалось, что ему доставляет какое-то физиологическое наслаждение сам процесс фиксации плоти факта — зарисовки, выписки из документов и публикаций, многократное переписывание одних и тех же текстов, позже — фотографирование. Будучи уже очень немолодым человеком, он научился снимать, и его фотографии были очень хороши по ракурсам, тону, сюжетам.
Так вот, сотни и сотни страниц, исписанных бисерным, убористым почерком. И рисунки, которые дают представление о стиле, решении пространства многих знаменитых спектаклей, в том числе — гастрольных. Дело в том, что с 1956 г. Чушкин работал референтом, потом — зав. отделом театра в Комитете по Ленинским и Государственным премиям и смотрел все не только по любви к театру, но и по долгу службы. Тому, как непрост, а порой и драматичен был этот долг, тоже посвящены многие страницы дневников.
Вскоре после смерти М. Н. Пожарской (она скончалась 5 октября 1998 г.) в ее квартире шел ремонт и по нелепой случайности дневники были утрачены. Чудом сохранились шесть тетрадей (они переданы теперь в РГАЛИ), равно как и белая тетрадь с записями о Дмитриеве, которая тогда находилась у меня.
В июне 1999 г. пасынок Чушкина А. Б. Бялик дал разрешение на право первой публикации записей из этой тетради в «Мнемозине». Впоследствии он передал эту тетрадь в дар ныне покойной М. А. Валентей-Мейерхольд и возглавлявшемуся ею Музею-квартире Вс. Э. Мейерхольда.
ОТ ПУБЛИКАТОРА
Публикуемый документ — рабочая тетрадь Николая Николаевича Чушкина, озаглавленная «В. В. Дмитриев. Творческий путь (Записи бесед, выписки, наброски и др. материалы). 1948 г.».
Трудно сказать, когда Чушкин начал работать над монографией о Дмитриеве. В статье «Формирование принципов изобразительной режиссуры. Страницы творческой 350 юности В. В. Дмитриева», опубликованной Пушкиным в журнале «Театр»716, есть упоминание о его беседе с Дмитриевым в 1939 г., но знакомы они были значительно раньше.
Тетрадь была начата в 1948 г., за несколько месяцев до внезапной смерти Дмитриева. Основная часть текстов относится к февралю и марту, исключение составляет запись из дневника от 10 – 11 июля 1945 г.
Ценность этой тетради — не только в собранных в ней сведениях и фактах, но и в том, что эти рабочие записи передают непринужденность бесед Чушкина с Дмитриевым, непосредственность первых реакций собеседников на ту или иную тему, затронутую в разговоре. Эти записи — своеобразный документ времени, свидетельство общения двух людей.
За диалогами и монологами об искусстве первой трети XX века возникают два портрета: Чушкина и Дмитриева. И мы видим, что высочайшая объективность Чушкина как историка театра доминирует над его человеческими пристрастиями, им руководит желание глубоко и точно оценить истоки творчества художника.
И рядом Дмитриев — страстный, субъективный в своих симпатиях и антипатиях. Его артистическая натура яркими бликами освещает людей и события, о которых он рассказывает.
Тематика бесед разнообразна, но большую их часть составляют рассказы Дмитриева о двух его учителях. В театре это — Вс. Э. Мейерхольд, в живописи — К. С. Петров-Водкин. Напомню, что записи относятся к 1948 г., когда имя Мейерхольда в печати не упоминается, а Петров-Водкин причислен к формалистам. Услышав восторженный возглас Дмитриева: «Вот Пикассо, это рисовальщик! Это — бог рисунка!!!» — Чушкин иронически записывает: «И это через месяц после постановления ЦК о формализме!» В этой реплике отразилась эпоха.
Для публикации взяты тексты, относящиеся непосредственно к Дмитриеву: его автобиография, записи бесед с ним, фрагменты из незавершенных воспоминаний («романа-автобиографии») и беседа Чушкина с другом юности Дмитриева художником Б. М. Эрбштейном, состоявшаяся, судя по дате, после похорон Дмитриева.
За рамками публикации остались выписки Чушкина из рукописи книги А. А. Бартошевича «Художники советского театра» и рецензий на спектакли, оформленные Дмитриевым, а также всё, не относящееся к теме или опубликованное ранее.
Структура публикации следует за расположением записей в тетради. Исключение — «Автобиография» В. В. Дмитриева, которая перенесена в начало публикации. Для фрагментов записей, не озаглавленных Чушкиным, даны заголовки в квадратных скобках. В «Автобиографии» квадратные скобки принадлежат Дмитриеву.
Воспоминания Дмитриева публикуются как единый текст, но состоят они из нескольких частей, разделенных простыми отбивками. Большая часть посвящена Мейерхольду и Петрограду 1916 – 1917 гг. Несколько небольших отрывков из этого текста Чушкин цитирует в статье «Юный Дмитриев. (1916 – 1917)»717.
Дмитриев называл свои воспоминания «роман-автобиография»; точно определив их жанр, он не скрывал, что идея написать «роман-автобиографию» возникла у него после знакомства с «Записками покойника» М. А. Булгакова.
Дмитриев был дружен с Булгаковым, часто бывал в его доме и, по свидетельству Е. С. Булгаковой (см.: Дневник Елены Булгаковой. М., 1990), присутствовал на чтении почти всех произведений писателя начиная с 1933 г. С «Записками покойника» («Театральным романом») Дмитриев познакомился в июне 1937 г.
Точно датировать воспоминания Дмитриева пока не представляется возможным, предположительно отдельные фрагменты он мог написать в 1937 г. Так, разговор с 351 попутчиком в поезде о Блюхере датируется, вероятно, 1937-м или началом 1938 г. М. Н. Тухачевский, репрессированный в 1937 г., упоминается только инициалами, а фамилии В. К. Блюхера и Н. Д. Каширина даны полностью — эти военачальники будут репрессированы позже, в 1938 г. Включенный в текст воспоминаний эссеистический фрагмент «В детстве я любил разбирать слова…» также не датирован.
В публикации орфография и согласования приведены в соответствие с современной грамматикой. Светлым курсивом выделены подчеркнутые Пушкиным слова, жирным — его двойное подчеркивание. В воспоминаниях Дмитриева сняты значки, которыми Чушкин при переписывании оригинала отмечал конец страницы, но сохранены угловые скобки, в которые он заключал зачеркнутые Дмитриевым слова. В фигурные скобки помещены комментарии Чушкина к тексту.
Н. Чушкин
В. В. ДМИТРИЕВ. ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ
(Записи бесед, выписки, наброски и др. материалы)
1948 г.
АВТОБИОГРАФИЯ718
Я родился в семье инженера Путиловского завода и всю жизнь до 1938 года прожил в Ленинграде. Отец умер в 1927 году, состоял последние годы жизни техническим директором Путиловского завода. Учился я в 5-й Петроградской гимназии. Через мать-актрису был с ранних лет знаком с художественной средой и еще гимназистом в 1916 году начал заниматься живописью, поступив в студию, где преподавал К. Петров-Водкин и М. Добужинский. В 1918 году поступил в Академию художеств, которую окончил в 1922 году в мастерской Петрова-Водкина по классу живописи. Ранние связи с кругом художников «Мира искусства», особенно с А. Я. Головиным, привлекли меня к театру. Последующее увлечение левыми течениями [и Маяковским] привели меня к первой крупной работе — декорациям «Зорь» Верхарна в постановке В. Мейерхольда в Москве в 1920 году, постановке, чрезвычайно нашумевшей именно крайней «левизной» декоративной стороны (см. известное «Открытое письмо» Луначарскому Маяковского). Продолжавшиеся [последующие] занятия живописью в Академии и, вероятно, влияние Петрова-Водкина и Головина, которому я обычно показывал свои работы для театра, отвлекли меня от конструктивизма в сторону большей реалистичности и живописности. Увлечение театром сказывалось все больше и с 1923 года занимаюсь преимущественно театральными постановками [и когда в 1923 году я опять работаю в Ленинградской опере, то работы тех лет, при всем их модернизме, значительно более реалистичны и живописны]. До 1930 года я работал в Ленинградских двух оперных театрах (в Театре оперы и балета и Малом оперном), где сделал всего около 30 постановок. Попутно мною были написаны либретто балетов «Пламя Парижа», «Утраченные иллюзии» и «Партизанские дни».
В 1929 году Вл. И. Немировичем-Данченко был приглашен в МХАТ для постановки «Воскресения» Толстого. Работа во МХАТе окончательно определила мой стиль и художественное мировоззрение. Постепенно работа в МХАТе стала 352 для меня [пропуск в тексте. — Е. С.] и за последние 12 лет мною сделаны все главные спектакли этого театра, как «Враги», «Анна Каренина», «Три сестры», «Кремлевские куранты» и другие, кончая «Фронтом». Одновременно работал в Большом театре СССР, где отмечу «Пиковую даму» (1931), «Пламя Парижа» 1932719 и «Щелкунчика», поставленного в 1939 году. Ряд постановок сделаны мною в театре Вахтангова, начиная от «Егора Булычова» до «Фельдмаршала Кутузова». В этих работах я продолжил основную линию принципов оформления, развиваемую мною во МХАТе.
В 1938 году окончательно переехал из Ленинграда в Москву и с 1941 года вступил в МХАТ на постоянную службу в качестве главного художника театра.
В 1938 году в дни юбилея МХАТ был награжден Знаком Почета.
В 1936/37 году в качестве профессора театрального факультета вел курс в Академии художеств, но принужден был прекратить ввиду постоянной работы в Москве.
Всего за 25 лет работы мною сделано около 100 спектаклей в разных театрах.
ВОПРОСЫ К В. В. ДМИТРИЕВУ
1. Видел ли Петров-Водкин «Зори»720, как оценил работу Дмитриева.
Что из ранних театральных работ В. В. Дмитриева он смотрел и как вообще относился к театр[ально]-декорац[ионной] деятельности Дмитриева.
2. Как расценивает В. В. Дмитриев декорации Петрова-Водкина (осуществленные — «Женитьба Фигаро» с Горин-Горяиновым — и не осуществ[ленные])721.
3. Когда состоялась первая встреча В. В. Дмитриева с Островским?722
От Москвы — экзотика и красочность быта, его примитивность, поэзия лубка, звериное, жестокое, — и в то же время стильно-красивое. Не от кустодиевского любования.
Никогда не был бытописателем — психолог быта.
Параллели — ранняя «Бесприданница» — «Булычов»723.
4. Изучал ли Сомов724 методику Петрова-Водкина или просто занимался с учениками «сам по себе», своей моделью?
5. Датировка мадонны (Московская Мадонна — «Зори» — 1920 – 21; «Эуген» — 24725).
6. Об автопортрете.
7. Почему экзамен в феврале (в академию).
8. Еще и еще о Блоке, о встречах с ним (белые ночи, разговор у Пряжки, цвета «Норы»726 и символизм цветов, — блоковское ощущение жизни).
9. Работа над Блоком в Студии Мейерхольда.
10. Блоковское ощущение «Тайного звона».
ИЗ БЕСЕДЫ С В. В. ДМИТРИЕВЫМ 23.II.1948 г.
Владимир Владимирович показывал юношеские рисунки 1916 – 1917 г. периода Студии на Бородинской, «Театр чудес» Сервантеса, далее — «Снегурочка», «Смерть Тентажиля» и др. В «Театре чудес»727, проникнутом ощущением мейерхольдовского дельартизма, есть уже зародыши будущей «Турандот» — т. е. того, что сделал Игн. Нивинский728 у Вахтангова. Юный Дмитриев предвосхищает лет за 5 то, что 353 будет сделано в 1922 году в 3-й Студии. Надо разобраться в этом подробнее, но первое внешнее сходство меня поразило. И еще — и у Дмитриева, и у Нивинского несомненно влияние Камерного театра, кубофутуристической живописи, влияние Экстер729 (Дмитриев признает это, указывая на «Фамиру Кифареда» — 1916 г. и др.).
Первая постановка в театре, где Дмитриев выступал художником, была «Нора» в театре на Офицерской, в том самом здании, где когда-то был театр В. Ф. Комиссаржевской. Это было в Петербурге, в 1918 году.
Театр просуществовал недолго, всего несколько месяцев (примерно — с мая или июня и до сентября). Театр открылся «Норой» и был вскоре закрыт, так как Мейерхольд, его руководитель, уехал в Ростов, где и застрял. Помимо «Норы» там были осуществлены «Ткачи» Г. Гауптмана в постановке Урванцева730 и «Театр чудес» в постановке Тверского731, где Дмитриев писал декорации. Это была его 2-я редакция «Театра чудес». Тогда же Дмитриев начал делать «Зори».
Сохранились наброски декораций и занавеса. Мотив колонны напомнил мне «Зори» в Театре РСФСР I.
В театре на Офицерской было две группы — урванцевская и мейерхольдовская (Коваленская732 играла «Нору», потом — уехала за границу и вышла замуж за белогвардейца, Любош733, Мгебров734 — тоже играли в «Норе», — Басаргина, т. е. Л. Д. Блок — она играла в «Театре чудес»).
Первую работу Дмитриева — декорации к «Норе» — видел Блок, которому они нравились.
1916 год — увлечение «Незнакомкой».
Это были блоковские годы в жизни Дмитриева.
Совсем недавно, несколько лет назад. Владимир Владимирович написал небольшую картину, вернее, эскиз к стихотворению «Незнакомка», где за столом Блок, Сезанн и Верлен. В половом, на втором плане, ему хотелось, чтобы угадывались черты Ал. Герасимова735. Пьяный туман. Хотелось дать ощущение, что все плывет, уходит, колеблется. Вдруг рядом — какой-то маленький человечек. Нелогичность, нелепость, разность масштабов. Корабли на стенах кабака, Невка, фонари, черная вода. И слева дама в черном, незнакомка, незаметно пропадающая стена, барки на Неве, мгла… Владимиру Владимировичу хотелось передать здесь чувство пьяного человека, когда все плывет, уходит, когда, ныряя, «плывет», вернее, всплывает в пьяном сознании половой, еще кто-то, когда теряются грани реального и фантастического.
Именно в предреволюционные годы это блоковское смещение реального и ирреального, ощущение какой-то смутной тревоги «второго», т. е. трагического, плана жизни — было чрезвычайно для него характерно. Гофмановское и блоковское — составляло основу его тогдашнего художественного миропонимания, складывавшегося под влиянием Вс. Мейерхольда.
В раннем рисунке Блока («поэт» в эскизе «Незнакомки» — для кукольного театра) и в эскизе к стихотворению «Незнакомка», о которых я только что писал, Владимир Владимирович исходил от сомовского портрета, который в обоих случаях трансформировался по-разному. В раннем рисунке даны заостренные линии бровей, черт лица, — что говорит о «левых» кубофутуристических наклонностях молодого художника, но, по существу, это перерисованный Сомов, лишь слегка «остраненный». В картине — он золотисто-рыжий (волосы), что делает его особенным, 354 выделяет из группы, сообщает ему какое-то сияние (ореол). Не без влияния Ван Гога (желтые волосы на синем фоне — впечатление звезды, здесь — красный кабак и поэт в нем).
Я должен специально заняться этой, по-моему, мало удавшейся картиной, так как она важна мне для понимания истоков творчества Дмитриева.
О СТУДИИ НА БОРОДИНСКОЙ
В эту Студию736 не поступали, не учились по определенной программе. Там занимались салонно-эстетским времяпровождением. В 3 часа в доме № 6 на Бородинской собирались бездельники. Под музыку Скрябина девицы в прозодежде (под японский костюм), стриженые, с челками, бегали, размахивая яркими материями.
Какой-то монгол, напоминающий японца, поразил Мейерхольда легкостью, грацией и точностью своих движений. Он был высокого роста, строен, элегантен. В него бешено влюблялись студийки, модные аристократические девицы. Мейерхольд его просто обожал. Смотрел на него с восхищением, разиня рот. То, что тот делал, казалось Мейерхольду волшебным, романтическим. Это был Валерий Инкижинов737. Мейерхольд буквально от него сходил с ума и считал, что в нем воплотились мечты о новом актере (японское изящество и точность движений — Восток — законы будущей биомеханики, которая родилась в эти годы в Студии на Бородинской).
Инкижинов отличался самоуверенным тоном, был большой ухажер. Женился на княжне Аргутинской-Долгоруковой, которая училась в Студии, и потом смылся в Париж, где у нее были деньги.
На занятиях в Студии Мейерхольд говорил: сегодня будет упражнение — пантомима охота.
Инкижинов прыгал взлетая, делал движения, изображающие стрельбу из лука, а девица из хорошего общества (Кулябко-Корецкая738) изображала лань, носилась по сцене, вскидывала кверху руки. Психопатки приходили в восхищение.
В Студии на Бородинской, по мнению Дмитриева, царил дух дилетантизма и салонности.
Тем не менее из нее вышел ряд людей, несомненно одаренных, с успехом работавших в театрах:
Вл. Соловье в739
Грипич740
Алперс741
художник Рыков742
художник Бонди (автор обложки «Три апельсина»)743
режиссер Тверской (Кузьмин-Караваев)
С. Радлов744,
и, наконец, сам Дмитриев.
Да, кроме того, Чернявский745 — чтец (1-й Пьеро в «Шарфе Коломбины»746 в «Привале комедиантов», Энритон-Нотман747 — игравший Арлекина, а в студийной пантомиме — Гамлета).
В 1918 г. — Курсы мастерства сценических постановок748.
Вл. Соловьев и С. Радлов продолжали их, после отъезда Мейерхольда из Ленинграда.
355 Первый выпуск: К. Н. Державин749,
Бакрылов — секретарь Вольфила750,
В. В. Дмитриев,
Маркичев издал [нрзб.],
А. Г. Мовшенсон751.
Что же делал Дмитриев в Студии на Бородинской?
По его словам — ничего не делал.
Иногда приносил рисунки для commedia dell’arte, которые давали возбуждение для пантомим. Эти эскизы, наброски были мотивами для актерских импровизаций. У Дмитриева, по его словам, сохранился набросок пантомимы охоты, в которой принимали участие Инкижинов (охотник) и Кулябко-Корецкая (лань).
В основном же Владимир Владимирович считает, что в те годы он, по преимуществу, «болтался» около Мейерхольда. Мейерхольд его очень любил и не мог ходить никуда без Дмитриева, который был его постоянным спутником.
После гимназии он забегал на час в школу Званцевой752, где преподавали Петров-Водкин и Добужинский (см.: у Остроумовой-Лебедевой в воспоминаниях753), и, переодевшись в штатское, наполненный гениальными мыслями, которые должны были всех восхищать, до поздней ночи проводил с Мейерхольдом, сопровождая его в Александринский театр, где тогда выпускался «Маскарад» (студийцы, в том числе Инкижинов, участвовали в пантомимах «Маскарада»), а потом отправлялся вместе с ним в «Привал комедиантов»754. Он помещался на Марсовом поле, на углу Мойки, в доме, построенном Адамини.
В подвале были три залы.
В первом — был ресторан, стены которого расписаны Григорьевым (танцующие пары, кто-то несет поднос с бутылкой и т. д. и т. п.). Здесь, за столиками, сидели настоящие буржуи во фраках, толстые, надутые, обычно — евреи, и девушки с подведенными глазами, абсолютно красными губами и прилизанными волосами. Они носили челки, коротко подстриженные волосы, зачесанные с боков на щеки, носили черные шелковые платья с открытым воротом, чулки со стрелками…
2-й зал был расписан Ал. Яковлевым (уехал в Париж), мужем Казарозы755. Огромный маг, с бородой, с волшебной палочкой, на фоне синего неба, где сверкали таинственные знаки зодиака.
В третьем зале — панно Судейкина (воспроизведено в «Аполлоне»). Арлекинада. Зал черный с золотом. Стены и потолок — черные, золото по краям. Это был маленький, но очень красивый зал. Здесь помещалась сцена, где разыгрывались мейерхольдовские спектакли.
В «Привале комедиантов», во дворе, красный фонарь (для эпатирования). В передней — лилипут, снимающий пальто, а иногда и негр.
Здесь возникали споры, литературные бои, скандалы. Сюда приходили Бурлюк, Маяковский, Крученых. Здесь схватывались Маяковский с Мандельштамом. Здесь собирался весь художественно-поэтический мир Петербурга, и тут же бывали в качестве приглашенных буржуи, которых могли приводить с собой завсегдатаи «Привала комедиантов». Итак, причудливое смешение художественной богемы с «жирными» буржуями, как бы сошедшими с политических карикатур. В этом была особая атмосфера этого пронинского учреждения. На сцене «Привала 356 комедиантов» шла 2-я редакция «Шарфа Коломбины» в постановке Мейерхольда756.
Дмитриев бывал здесь постоянно в 1916 – 1917 гг.
В 1918 г. его мать играла в «Театре чудес», и ее Владимир Владимирович обругал в своей статье «Карло Гоцци и “Привал комедиантов”»757.
Между прочим, мать В. В. Дмитриева в 35 лет поступила на императорские драматические курсы, потом играла в Александринском театре. О ней недавно вспоминал Ю. М. Юрьев в своей статье в ленинградском «Альманахе»758. Юрьев играл Макбета, мать Владимира Владимировича — одну из ведьм. Спектакль шел в цирке, в декорациях Добужинского.
В 1918 г. В. В. Дмитриев написал в газете «Жизнь искусства» статью «Карло Гоцци и “Привал комедиантов”». В 20-х годах — статьи о балете, которым он увлекался, напечатанные, кажется в «Вечерней газете» и др. О «Зорях» и о декорациях Дмитриева упоминает Вл. Маяковский в открытом письме А. В. Луначарскому759. Интересным материалом может служить диспут о «Зорях» (см.: «Вестник театра»760). В книжке Кузмина «Условности»761 — есть упоминание о Дмитриеве. В 1938 г. в журнале «Искусство» Вл. Вл. Дмитриев поместил свою большую статью762. Далее — есть его короткие статьи в журнале «Театр»763, в газете «Советское искусство» (о Головине)764, воспоминания о Вильямсе («Театр»)765 и, наконец, ненапечатанная статья о «Последней жертве»766, написанная для «Ежегодника», в которой Дмитриев говорит о влиянии на него Добужинского. Последнее — его рецензия на книгу Бартошевича767 о декорационной живописи, находящаяся в научно-исследовательском отделе Комитета. Дмитриеву она нравится.
У самого В. В. Дмитриева почти ничего нет из того, что писал сам и что писали о нем, кроме, кажется, набранных, но не напечатанных статей Нелиус и Кузмина. (Между прочим, у него хранится экспозиция «Зорь» Эрбштейна, сделанная им во время учения на Курсах мастерства сценических постановок.)
[МЕЧТЫ И ПЛАНЫ]
Мечты и планы: Дмитриеву хотелось бы написать роман о Мейерхольде, который в то же время стал бы отчасти автобиографией, т. к. юность и начало артистической зрелости Дмитриева прошли под несомненным воздействием этого человека. Вообще Владимира Владимировича тянет писать воспоминания. Он очень отчетливо помнит события конца 1910-х — начала 1920-х годов, и ему хочется изложить все это на бумаге.
[В. ДМИТРИЕВ О Б. КУСТОДИЕВЕ И М. ДОБУЖИНСКОМ]
Он говорит об огромном влиянии на него Кустодиева и Добужинского.
Позднее он оценил исключительное значение декораций Добужинского к «Ставрогину», с их психологичностью, стилем, лаконизмом деталей и выразительностью. По его мнению, это лучшее, что было сделано в психологическом театре до революции. «Три сестры», «Воскресение» и «Анна Каренина» — по мнению художника — это линия в его творчестве связана с Добужинским, в то время как целый ряд других его работ «кустодиевская линия».
357 О ДИЛЕТАНТИЗМЕ «МИР ИСКУССТВА»
Его участники, включая и Бенуа, были обеспеченными людьми, любили красоту жизни, изящество, сами хотели пользоваться ее благами, талантливо разбрасывались и занимались всем — и писанием статей, и либретто балетов, и постановками, и декорациями, и в том числе живописью.
У них не было одержимости, фанатизма, и неслучайно, что они не могли стать великими художниками, т. к. не умели ограничить себя, стремились за модой, успехом, славой. Разбрасывались и лично преуспевали (в быту). Они, по натуре, были баре. И их увлечение искусством порою носило салонный характер.
Иное дело — Суриков. Для него искусство — весь смысл жизни. Колоссальный труд, часто неблагодарный, жертвенный. Он целиком отдался своему призванию, видел в искусстве живописи — основное. Он не писал балетов и статей, не увлекался театром, а каждую свободную минуту посвящал самоусовершенствованию как живописец. Он принадлежал к категории людей одержимых, самозабвенных, своего рода фанатиков или сумасшедших. Эти люди живут впроголодь, пьют водку. Нужда, семья их влачит жалкое существование, а они, не имея денег ни гроша, сидят в мастерской, ища совершенства. Что это, как не подвижничество?
П. Вильямс был великолепнейший театральный художник, но, конечно, типичнейший мирискуссник.
[ИЗ БЕСЕДЫ С В. В. ДМИТРИЕВЫМ]
Как педагог М. В. Добужинский не оставил никакого следа на юном Дмитриеве, влияние Добужинского пришло позднее.
Петров-Водкин был лучшим преподавателем. Он был превосходным педагогом и мастером живописи.
Как живописец он был крупнее. С ним больше считались, так как он давал своим ученикам хорошую школу, определенный метод, систему знаний.
Из своих работ Владимир Владимирович показывал эскизы к «Ревизору» (один из них — под воздействием Н. Сапунова — не был принят Малым театром)768 и фото к «Униженным и оскорбленным» для Театра имени Ленинского комсомола в Ленинграде769.
К сожалению, он только что отправил в Ленинград эскизы для «Бесприданницы» в Большой Драмтеатр770, у него не имеется даже фотографий.
Остался только один эскиз — 2-й картины, с фигурой Ларисы — Милочка771 прямо влюбилась в него. В нем как-то особенно остро чувствуется продолжение тех принципов, которые применял Добужинский в декорациях к «Ставрогину».
ИЗ ТЕАТРАЛЬНОГО ДНЕВНИКА
Июль 10 – 11, 1945 г., «Стрела». В. В. Дмитриев пьет водку, рассказывает, рисует мне в блокнот декорацию одной из картин «Великого государя»772, которую я не смог нарисовать на спектакле (из-за темноты). Владимир Владимирович называет меня в шутку «сумасшедшим».
Он хочет сделать декорации поэтичнее, чем это было в старой постановке у В. Симова774. Теперь другие эскизы, чем это было в 1941 году, когда только что начинали работу.
Будет много цветов. В первом акте старый дворянский дом, может быть, без колонн. Боязнь повторить «Онегина».
Запустенья нет.
Оранжерея, цветы. Сирень. Кусты сирени.
Во 2-м акте — букет цветов на окне, ветви сада, природа.
3-й акт осень. Красные розы. Елена Андреевна в платье красного, густого, прозрачного вина. Главное в пьесе не дядя Ваня и его тоска, а Астров, его любовь, порыв, целеустремленность. Елена Андреевна — пьянит его.
4-й акт — ничего не может пока найти интересного.
Между первым актом и 3-м прошло около 2-х месяцев.
О «РЕВИЗОРЕ» В ТИМ’Е
Для Дмитриева наиболее полно образ Мейерхольда раскрыт в портрете Григорьева775. Он выражает основное в нем, его сущность — Доктор Дапертутто, стихия театральности, гофманиана!
Владимир Владимирович мало с ним работал, но Мейерхольд оказал на него огромнейшее влияние — и как личность, и как художник. Особенно поражало в Мейерхольде его гофманское мироощущение: аляповатость, нелепость, дичь жизни, где постоянно совершаются неожиданные и страшные вещи.
Исчадие ада! Люди-уроды, химеры. Он остро ощущал безобразное (т. е. уродливость жизни). И в этом он видел и ее таинственность и прелесть. Инфернальность.
Дмитриев вспоминает, как однажды он с Мейерхольдом поехали в Киев, прослушать одну оперу, для театра Станиславского. «Лучше не будем откладывать на завтра, пойдем сегодня, — говорил Мейерхольд и, главное, что-то предчувствовал, — мало ли что может случиться!»
«Вот видите, я вам говорил!» — воскликнул Всеволод Эмильевич, который всегда словно ждал каких-то чудовищно нелепых и уродливых событий, которые вот-вот должны были произойти776.
Когда работали над «Ревизором»777, долго ничего не удавалось найти. Мейерхольд переехал в новую квартиру. Легли спать в столовой. Ночью вскочили — крыса под диваном. Шкафы, диван, новая мебель — все заставлено, нагромождено, сдвинуто посреди комнаты. Темнота, скученность, много вещей. Шкафы и мебель не успели еще расставить.
Тьма.
Ловим крысу. Люди, как крысы. Отец З. Н. Райх выглянул из-за двери со свечей в руке. Мейерхольд оглянулся — отблеск свечи (блик) на блестящих, зеркальных поверхностях красного дерева.
Отсюда родилось оформление «Ревизора»: темнота, тесно, узко, мерцание свечей, красное дерево, 12 дверей, высовывающиеся из-за дверей люди (кисти рук). Вначале предполагалось, что они будут с короткими рукавами, чтобы ярче показать игру рук. Но потом от этого Мейерхольд отказался.
359 Утром Мейерхольд придумал финал: манекены в разных позах, вроде тех, в которых они сами были ночью.
В. В. Дмитриев, занятый другими работами, опоздал с эскизами «Ревизора». Гнев Мейерхольда не имел границ. «Ревизор» был передан Шлепянову и Киселеву778. После того, как Владимир Владимирович все же прислал эскизы костюмов, которые не могли уже быть осуществлены, Мейерхольд не только простил его, но и прислал ему приглашение на премьеру. Эти эскизы костюмов очень нравились Всеволоду Эмильевичу. Они были лучше тех, которые были осуществлены в спектакле. Мейерхольд передал эскизы Дмитриева к «Ревизору» В. Я. Степанову, в музей ГОСТИМа, и велел их поместить на экспозицию, рядом с макетом и фотографиями «Ревизора».
Здесь я их увидел впервые.
Еще деталь: ночью, во время поисков крысы, путаясь в вещах, Мейерхольд залез в шкаф. Отсюда потом в спектакле произошел эпизод залезания Бобчинского в шкаф в комнате Анны Андреевны.
Утром Изя Шнейдерман779, ехавший вместе с нами, сказал мне, что раньше он слышал от Владимира Владимировича другой вариант: Мейерхольд был где-то в гостинице. На шум из всех дверей высунулись головы и руки. Это послужило исходной точкой для «сцены взяток».
О «ГАМЛЕТЕ» У МЕЙЕРХОЛЬДА
Было много вариантов. Планы постановки менялись все время. Дмитриев знает только несколько моментов из этих длительных неосуществленных исканий.
1-й вариант: в самом начале 20-х годов. После «Зорь». Абсолютно условный — проволока, серебряные лучи, как сияние. [Рис. 1].
Во времена «Зорь» Гамлета должен был играть Закушняк.
2-й вариант: блестящий, медный, как солнце, круг. Он мог быть поставлен вертикально — тогда блеск полированной поверхности должен был сверкать. Если же круг поставить наклонно или горизонтально, то он образует площадку для игры актеров, и на нем должны разыгрываться «гамлетовские сцены». [Рис. 2].
Это был период увлечения конструктивизмом, один из многочисленных исканий и проб для «Гамлета».
|
|
|
|
Рис. 1 |
Рис. 2 |
360 3-й вариант (может быть, даже наверное, между ними были и другие, но Дмитриев о них не знает) — зрителю показывается не «Гамлет», а какая-то публичная репетиция, может быть, 21-я или 67-я! Без костюмов. Мейерхольд ведет ее сам, дает объяснения, показывает. Перед нами не спектакль, а публичный показ творческой лаборатории режиссера, работающего над «Гамлетом».
Эти репетиции должны были проходить со зрителями, как спектакли. 21-я, 50-я, 76-я и т. д. и т. п. Все время ищется что-то новое, меняется найденное, корректируется и совершенствуется достигнутое. Итак, предполагалось: «Гамлет» должен быть показан в форме публичных репетиций, в которых будет демонстрироваться непрерывный процесс исканий. Всегда неожиданности. Люди приходят на репетиции, ждут, волнуются. «Что сделает, например, сегодня Мейерхольд со знаменитым философским монологом “Быть или не быть?”»? Спорят, загадывают. Начинается спектакль, и вдруг его просто нет — выкинули!!!
Мейерхольд мечтал пригласить Пикассо для «Гамлета».
Вот все, что В. В. Дмитриев помнит до 1937 года.
Когда же театр Мейерхольда был закрыт, то в гамлетовских исканиях Всеволода Эмильевича наступил новый этап.
Он чувствовал, что ему так и не удастся осуществить спектакль так, как он его задумал. Больше того, спектакль этот стал для него, в сущности, неосуществим, его мечтой.
Мысли Мейерхольда о «Гамлете» не могли вместиться в один спектакль. Он и не хотел, и не мог удовлетвориться тем, что он имел — случайными индивидуальностями актеров, техническими возможностями той или иной сцены, мало оборудованной, теми материально-техническими возможностями, которые ему реально могли предоставить.
Он хотел написать книгу о «Гамлете», то, что он как режиссер хотел осуществить вне всяких стеснений и преград, смело и решительно, не считаясь не только с реальными возможностями сцены, но даже, порою, и с самой реальностью.
Мейерхольд рассказывал Владимиру Владимировичу о двух эпизодах этой постановки:
1. Встреча духа отца с Гамлетом на берегу холодного, свинцового моря. Дух плакал. И слеза, падающая из глаз, замерзла. Это хождение призрака по воде, за мерзание слезы — все это мерещилось Мейерхольду, и это, разумеется, нельзя было сценически решить в театре.
2. Гамлет в 3-м действии, после убийства Полония, долго тащит его труп по каким-то трущобам, закоулкам и подземельям и прячет его.
ИЗ БЕСЕДЫ С В. В. ДМИТРИЕВЫМ 12.III.48
В Студии на Бородинской многие из тех, кто ее посещали, не принимали практического участия в занятиях, а просто ходили туда и смотрели на то, что делалось. Вл. Н. Соловьев бывал там часто и занимался, по преимуществу, разговорами. То же делали В. В. Дмитриев, С. Э. Радлов (писавший тогда стихи). Миклашевский рассказывал о commedia dell’arte. Остальные просто смотрели на занятия, сами в них не участвуя.
361 Из мужчин Дмитриев не застал никого из так называемого старшего поколения, которые были призваны в армию (Грипич, Нотман-Энритон и др.). Был только Извеков, игравший Пьеро в «Шарфе Коломбины»780.
Тверской (Кузьмин-Караваев), Рыков.
Многие вновь появились в 1918 году, после возвращения из армии.
Владимир Владимирович помнит Б. В. Алперса, болтающегося по Студии со скучающим видом. Он любил казаться Чальд-Гарольдом, не молодым, не только утомленным, но — будто бы пресыщенным жизнью, разочарованным человеком, ироническим, все презирающим. Алперс был тогда еще очень юным, всего на 2 – 3 года старше Дмитриева. Таким образом, этому Чальд-Гарольду было не более 20 – 21 года.
Позже, в 1921 г. Дмитриев работал с ним вместе в театре «Новой драмы». Это были времена «Падения Елены Лей»781.
— Мы все, — вспоминает Владимир Владимирович, — были хозяевами и участниками этого предприятия, где не было ни директора, ни администратора. Алперс сразу же захватил абсолютную власть и диктаторские полномочия. Теперь он предстал в ином обличий. Забыта была байроническая печаль и разочарование в жизни. У него было холодное, стальное лицо, четкость и жесткость суждений, неумолимая ортодоксальность взглядов. Словом, он играл теперь в железного комиссара, продолжил тему хамелеонства, смены личин и ликов, так характерную для Мейерхольда и его учеников по Студии на Бородинской. Этот образ ему импонировал. Потом, когда он был в Театре Революции, он изображал из себя революционера, непреступного, твердокаменного коммуниста. Он занимал тогда крайне левую, сверхортодоксальную позицию.
«Елена Лей» (постановка Грипича) его вполне устраивала, казалась ему именно тем, что нужно.
Мейерхольд, который приехал в Петроград смотреть работы своих учеников и разнес их в пух и прах, менее других изругал Алперса, который казался ему «настоящим», так как проводил коммунистическое начало в театре.
Алперс был худруком и вождем этого театра.
«Новый театр» был весьма своеобразным учреждением.
Денег там не платили. Вечером на спектакле продавалось 10 – 12 билетов. Приходили главным образом контрамарочники — знакомые, поэты, люди искусства.
Публики было 1/3 зала.
Трудную и нудную работу, связанную со счетно-финансовой частью, вел некто Буржуа, бывший банковский деятель, один из энтузиастов этого театра. Это был милый типчик, с усиками, французского вида.
Театр помещался в том же здании, что теперь ТЮЗ, на Моховой. В Зале Тенишевского училища шла когда-то «Незнакомка» и «Балаганчик» в постановке Мейерхольда. В том же здании, в полуподвале помещался театр Новой драмы, имевший зал мест на 300 и сцену.
Владимир Владимирович принимал участие как художник в 2-х постановках этого театра:
«Виновны — невиновны?» Стриндберга782
и пьеса о Гофмане — являющаяся переделкой Ирвинга и Дюма — «Необычайные приключения Э. Т. А. Гофмана в Париже».
362 Как это ни странно, по словам Дмитриева, пьеса о Гофмане у него «не вышла», но зато в стриндберговскую пьесу он вложил все то, что легло в основу его дальнейшего творчества.
Кажется, у Мовшенсона сохранился эскиз этой вещи — парижский бульвар ночью, вроде Марке.
Ночь, канал, деревья, какая-то фигура, зима.
Париж: и Петербург — это были те два города, в которые был влюблен юный Дмитриев.
Позднее, когда он делал либретто балета «Утраченные иллюзии»783, он сам для себя как художника придумал картину у набережной Сены, в которой больше всего было достигнуто острое дыхание Парижа, увиденного им сквозь призму Петербурга. Я помню и этот эскиз (он был экспонирован на выставке «Театральные художники. За XV лет»)784, и эту короткую сцену в спектакле, когда задумчивый Люсьен проходил вдоль набережной Сены, усаженной деревьями. Сцена эта, искусственно введенная в спектакль, запомнилась больше всего, т. к. давала тонкое, поэтическое и импрессионистическое ощущение вечернего (ночного) Парижа.
Москва и Россия — эти темы пришли позднее и стали основными и определяющими в творчестве зрелого Дмитриева.
[В. В. ДМИТРИЕВ О ПЕТЕРБУРГЕ]
Театральность Студии на Бородинской — для Дмитриева тоже Петербург. Наиболее показательный спектакль в этом отношении — это «Стойкий принц» в постановке Мейерхольда785. Здесь все от Петербурга, этого города чудес — чудо, наваждение, какая-то северная Венеция, фантастика, Испания. Одно причудливо вплеталось в другое, в петербургское, образуя мир грез, странных сочетаний.
Ведь в «Азбуке» Бенуа786, в этих арапчатах, театральной фантастике, тоже ощущался Петербург, несмотря на переплетение других миров.
В «Азбуке» [нрзб.] нет Петербурга, но есть ощущение его улиц, петербургской городской жизни.
В картинке «Ураган» дана петербургская улица.
Девочка сидит, а за окном — Нева.
И всюду театр, волшебство, фантасмагория, фокусник, фейерверк, фонтан787…
Вспоминая свои первые, детские и юношеские ощущения Петербурга, Дмитриев не видит в них ничего мрачного, холодного, [нрзб.].
Наоборот, он помнит иное: фейерверки, освещенные магазины, театры — яркое, красивое, нарядное, золоченое, арены, арапчата, арлекины. Таковы эти ранние воспоминания.
На улицах было тепло, уютно, красиво. В мороз улицы топили, разводили на них костры.
Зимой на Неве было необычайно празднично и весело. Ходил трамвай по льду, с одного берега на другой тянулись обсаженные елками ледяные дорожки, и всего копейки за две, усадив на кресло, лихой дядька на коньках мчал [нрзб.] на другой берег. И тут же, по тропке, шли пешеходы, темные фигурки которых чернели на снегу. Сверкающий лед катка, обсаженного елками, скользящие 363 конькобежцы, и где-то недалеко, около проруби, рабочие вынимают пласты льда, который блестит на солнце. Теплой, оживленной, праздничной, наполненной людьми и жизнью, веселой и шумной представлялась в воображении мальчика Дмитриева красавица Нева, покрытая снежным покровом. Костры на улицах, нарядные толпы, огни, витрины магазинов, спектакли, бродячие фокусники с собаками — все это увлекало его и создавало в его воображении образ веселого, праздничного города.
Но был и другой образ Петербурга, который он почувствовал остро и мучительно. Петербурга мрачного, таинственного и рокового, то трагическое и безысходное, что составляло сущность ночного и туманного Петербурга, полного одиночества и тоски. Ал. Блок гениально выразил это в стихотворении:
«Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь — начнешь опять сначала,
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь».
«Все будет так, исхода нет» — нет выхода из круга трагических противоречий. «Страшный мир». Полный таинственного и трагического, безысходность, это захватило очень скоро Дмитриева и сделало его вскоре певцом прекрасного и таинственного города, — Петербурга, города Пушкина, Достоевского и Блока.
[В. В. ДМИТРИЕВ ОБ УЧИТЕЛЯХ И КОЛЛЕГАХ]
В начале беседы мы остановились случайно на Акимове. Потух свет. Мы сидели на диване и разговаривали.
Владимир Владимирович отрицает в Акимове художника. Полностью! Он считает его изобретателем новых театральных приемов, признает его огромнейшую выдумку, мастерство, но сухой, размытый, «вырисованный» акимовский эскиз раздражает его. Он не любит Николая Павловича и как иллюстратора (лишь один рисунок к Анри де Ренье788 удачный, а в остальных поражает лишь выдумка!). Ему чужд Акимов как рисовальщик (правда, в портретах он, пожалуй, сильнее). С точки зрения Дмитриева, зализанный акимовский рисунок — это не искусство, вернее — его начальная, низшая стадия. Ведь любой чертежник, работающий над проектом, «отмыт» не хуже Акимова, у которого бросается в глаза сделанность, каллиграфичность рисунка и отсутствует основное — свобода, непринужденность и та «неправильность», которая отличает творение подлинного мастера от «дилетантов и полудилетантов», у которых все «выписано», гладко, закруглено.
— Вот Пикассо — это рисовальщик! Это бог рисунка!!! — восклицает Владимир Владимирович с восхищением. И это через месяц после постановления ЦК о формализме!
— Какое влияние оказал на вас Петров-Водкин?
364 — Громаднейшее! — говорит Дмитриев.
Это был исключительно интересный и своеобразный художник. Он упрекал русскую живопись в дилетантизме, в утрате органического стиля. По его мнению, только Ал. Иванов и, может быть, Суриков и русская икона были подлинно великими. Он ненавидел стилизацию и то, что принято называть [нрзб.]. «Мерзостный пакостник и бандит», — с негодованием говорил он об Александре Бенуа. Он называл его «гнусником» и считал виновным за то, что тот породил мирискуснический традиционализм и своеобразную «театральность». Петров-Водкин ненавидел и бытовой реализм, считая его обывательщиной. Передвижники были для него — ничто.
Он считал, что надо создавать большое русское искусство, которого нет, но оно есть у французов, у Матисса и Пикассо. Он считал, что нам надо идти от Александра Иванова и Рублева, ибо они — боги.
Театр Петров-Водкин ненавидел, считал его пустотой, праздным развлечением людей, приучающим их к неге и лени. Он уважал Мейерхольда, любил с ним разговаривать, но считал его явлением вывернутым, неполноценным.
Если ты поймешь, что цвет состоит из красного, синего и желтого, то ты понял все, учил Петров-Водкин. Все гении — Пушкин, Бетховен, Рублев и др. — это именно и есть красный, синий, желтый, но отнюдь не зеленый, лиловый и оранжевый, т. е. цвета «Мир искусства», декадентов, эстетов всех стран и направлений. Он искал в искусстве цельность, силу, здоровье и не принимал утонченность и изнеженность.
Современные режиссеры, считал он, не способны понять его органическую концепцию цвета. Красный, синий, желтый — это то, что способно создать синтетический образ.
Если классика — это тезис, то романтизм и неоромантизм, т. е. декаденство, являются антитезисом. А сам Петров-Водкин стремился к синтезу — не к соединению классицизма и романтики (которую он яростно отрицал), а к созданию нового синтетического реализма, углубленного, расширенного.
Итак, красный, синий, желтый — основа основ.
И белый — т. е. идеал всего, результат, символ небесного царства, нечто неизреченное и божественное.
Он отрицал не столько классицизм, но его использование в наше время, в виде традиций академизма и неоклассики.
Он считал, что художник должен быть сверх-реалистом, а не неоклассиком, традиционалистом, декадентом, т. е. опустошенным, «вывороченным идиотом».
Он уверял всех, что рисует так, как видит. То есть он просто рисовал натуру, какое-нибудь бытовое лицо, и, незаметно для себя, его рисунок в процессе работы преображался в обобщенный образ, так как художник видел в натуре нечто большее, чем просто бытовое, фотографическое изображение. Так, рисуя одну из своих программных картин, «Купание красного коня», он не ставил себе никаких особых задач. Ему просто хотелось вначале изобразить гнедую лошадь, купание ее в реке, почти по передвижнически, и лишь потом, незаметно для себя самого, он придал натуре совершенно иной вид.
Он считал, что академический классицизм своими штампами мешал Александру Иванову, «тянул его в ад», но страстный и сильный гений этого человека освобождал его от сковывающих преград.
365 Иванов писал своего Христа то с натуры (с еврея), то с Аполлона, накладывая один образ на другой. И в этом была его ошибка. Он должен был забыть об этом как художник. Он должен был забыть про все и, охваченный образом, не думая ни о каких внешних, рационалистических параллелях (Христос — Аполлон), должен был так передать лик Христа, чтоб выразить в нем и человеческое и божественное, и аполлоновскую ясность и экстаз.
Неудача картины Александра Иванова — плод классической традиции. А в эскизах своих и в эпизодах, где он был свободен, он гений, так как предвосхитил Сезанна, импрессионистов и все, что характерно для живописных исканий спустя полвека после него.
Сезанн кажется жалким и робким учеником Ал. Иванова, притом недостаточно острым.
И тем не менее сам Петров-Водкин поддавался стилизации. По словам Дмитриева, он жулил, ибо сознательно или бессознательно подделывался под Ал. Иванова.
Для Петрова-Водкина задача стояла не только в искании формального совершенства, в возрождении ремесла художника, утерянного в последнее столетие. Возрождение искусства мнилось им как результат возрождения религиозного мироощущения и миропонимания.
Примерно в 1922 году правоверный ученик Петрова-Водкина, Чупятов, интереснейший живописец, левый по своим воззрениям, написал огромную картину — Ленин держит в руках голубой земной шар, закрывает его красной тряпкой. А лицо у него — желтое.
Итак — красный, синий, желтый составляли основу этой картины. Дмитриев помнит другой холст Чупятова, написанный художником в начале 20-х годов. На нем он изобразил Л. Д.789 с лицом антихриста, которое было написано красным цветом!
Чупятов в те годы писал громадные картины, в которых поражала цветовая напряженность, интенсивность звучания красного, синего, желтого, доведенная до предела.
Он хотел написать богоматерь — ликующую в такой цветовой напряженности, чтобы зрители прямо обалдели! Дмитриев помнит, что Чупятов, показывая им свою картину, закрытую занавеской, — сразу отдернул покров, скрывавший ее, и те, кто увидел богоматерь, невольно, инстинктивно отшатнулись, отпрянули в сторону, полные изумления и неожиданности. Такова была сила воздействия цвета. Лицо богоматери было окружено нимбом, цветовыми кругами, действующими один на другой, что составляло исключительный по силе, ошеломляющий эффект.
Мысль о религиозной живописи, о росписи церкви волновала Петрова-Водкина, который, с помощью своих учеников, надеялся реализовать ее. Он вел переговоры с петербургским митрополитом Вениамином, который был чрезвычайно заинтересован этим, — расписывать церковь должен был Петров-Водкин, Чупятов, Дмитриев. Митрополит Вениамин принял их в Лавре, угощал обедом, соглашался предоставить им для росписей одну из церквей. Пока велись переговоры, художники принялись за эскизы. Это было примерно в 22-м или 1923 году!
В проблеме красного, синего и желтого цветов для Петрова-Водкина заключалась целая идеологическая программа, а в стремлении расписывать церковь самим, 366 своими руками, в стремлении к созданию храма, заключалась некая идея богостроительства, перекликающаяся с идеями Штейнера, с антропософами и масонами, с тем, что делали за границей Андрей Белый и Ольга Форш790, которые, надев фартуки, как каменщики, сами строили храм божий.
Петров-Водкин пытался соединить достижения рублевской иконы с Матиссом и Пикассо для того, чтобы решить по-новому проблему декоративной живописи.
Он мечтал о создании большого, монументального, органического стиля, он делал массу открытий и нововведений, он разрабатывал теорию сферической перспективы, которая предвосхитила то, что было позднее установлено фотографией и кино (нет прямых линий, линии кривые!), он учил композиции, применению ракурсов и т. д. и т. п.
— Он был интереснейшим мыслителем, художником и человеком в искусстве, человеком твердых, фанатических убеждений.
Что привело Дмитриева в школу Званцевой? Почему именно Петров-Водкин стал его учителем?
По словам Дмитриева, здесь неожиданное совпадение 3-х обстоятельств:
1. Отец Владимира Владимировича очень любил живопись, притом — исключительно «левую». Он запрещал сыну ходить смотреть передвижников, чтобы не портить вкус, и рекомендовал ему смотреть «новое» искусство, от «Мир искусства» до «Бубнового валета» включительно. Но при этом «Мир искусства» он не одобрял за дилетантизм. И выделял одного Петрова-Водкина, за то, что тот был «мастер». Отец советовал Владимиру Владимировичу учиться у Петрова-Водкина.
2. Но тут сыграли роль и случайные обстоятельства. Мать Владимира Владимировича была дружна с женой Блока. Любовь Дмитриевна Блок была знакома со Званцевой и жила в доме напротив. Студия художницы Званцевой помещалась в конце Офицерской улицы, на углу Английского проспекта. Блоки жили на углу Офицерской и Пряжки. Студия Званцевой была либеральной по направлению и модной в Петербурге. Там преподавал Петров-Водкин и Добужинский.
3. Студия оказалась за 4 дома от гимназии, где учился Дмитриев, и в 2-х кварталах от дома, где они жили.
Все эти случайные совпадения и предопределили то, что Дмитриева отдали именно в эту студию.
Занятия в гимназии кончались в 2 часа, в студии занимались до 4 1/2.
При приеме Владимир Владимирович показывал Петрову-Водкину свои самостоятельные юношеские рисунки. Он посмотрел «картинки», обругал за «мирискусство», издевался над юным художником, но потом — взял.
Вместе с Дмитриевым занимались аристократические дамы и девицы. Он сидел между трех княжон. Кроме Дмитриева там занимался один лишь мужчина — Чупятов, да Эрбштейн, совсем еще мальчик.
Светские дамы мило щебетали, были интеллигентны, образованны, по своим манерам мало подходили к «грубому» Петрову-Водкину.
Валя Сафонова [Сафонову звали Варя. — Е. С.], дочь дирижера791, после студии, в 4 часа мчалась стремительно на Бородинскую, в Студию к Мейерхольду, где играла на пианино, а сестра ее, одетая в халат-прозодежду, бегала вместе с другими девицами под музыку и делала всевозможные упражнения.
367 Мейерхольд бывал дома у Дмитриевых, был знаком с матерью Владимира Владимировича.
Итак, благодаря Варе Сафоновой, Дмитриев попал в Студию на Бородинской, и это было изменой тому, чему его учил Петров-Водкин. Дмитриев кидался из крайности в другую. С 2-х до 4-х он был во власти сурового аскетизма Петрова-Водкина, требовавшего от художника полной отдачи себя, почти жертвенности, и сразу же, как только часы показывали четыре, он вместе с Варей нанимал извозчика и опрометью, очертя голову, сразу же бросался в объятия Мейерхольда, проводя с ним остаток дня и весь вечер. В Студии на Бородинской было весело, [нрзб.], увлекательно. Совсем иной мир! Прыгал Инкижинов, разыгрывались пантомимы и импровизации, создавались арлекинады и гофманианы.
Петров-Водкин всегда ругал Владимира Владимировича за его увлечение театром, за измену живописи. Он добивался сделать из него своего упорного последователя, сурового фанатика живописи, так как считал Владимира Владимировича способным.
Но потом он понял, что Дмитриева спасти нельзя, что он отравлен театром, в котором безнадежно завяз. Понял и примирился и даже ходил смотреть его постановки.
Он рассматривал себя в искусстве как мессию и проповедника. И в студии Званцевой и в Академии, где Владимир Владимирович позднее учился у него, он сплачивал вокруг себя небольшое ядро приверженцев, посвященных в таинство его открытий.
Он называл Дмитриева апостолом Иоанном, а Чупятова — апостолом Петром.
Владимир Владимирович поступил в студию Званцевой в декабре 1916 г. и проучился там по март 1917 г.
При поступлении он принес Петрову-Водкину несколько, написанных маслом, «картинок». Цветы; натюрморт (чайник и фрукты на фоне окна); какая-то усадьба — лиловые стены комнаты, дверь в сад, и осенний, золотисто-оранжевый пейзаж («3-й акт “Дяди Вани” в новой постановке МХАТ мало чем отличается», — заметил Вл. Вл., показывая мне эту вещь); парикмахерская, сделанная под несомненным воздействием Ларионова, стол, две фигуры и окно, не имеющее рамы, явно больших размеров, чем это было бы в реалистической картине. И в этом окне — Гостиный двор и красная церковка (которая потом будет сопровождать Дмитриева на всем творческом пути в десятках различных постановках!). Это было то, с чем он пришел в Студию, навеянное Кустодиевым, что пытался вытравить в нем Петров-Водкин и что потом, после всех формалистических исканий и изощрений, вернулось вновь с темой России, но на этот раз как «дмитриевское». Этот последний эскиз — самый интересный, ибо в нем заложен уже весь будущий Дмитриев. В этих картинах бросается в глаза и юношеское стремление к подражанию (тут и Кустодиев, и мирискусники, и Ларионов и Гончарова в натюрморте, и подражание бубнововалетникам — Машкову и Кончаловскому, и может быть, влияние Добужинского в усадебном пейзаже). Таким образом, здесь есть уже начало того «эклектизма» и «многоликости», которые будут для него так характерны в последующие годы! И тем не менее в этом эскизе комнаты с красной церковкой в окне — в цветовой тональности, в неумелости 368 рисунка, что придает ему особую, характерную для Дмитриева выразительность, в каком-то ощущении примитива — заключалось (что-то), обращало на себя внимание. Здесь чувствовался Кустодиев, но было и другое — свое, органическое ощущение быта купеческой Руси, любовь к этому быту, понимание его особой художественной специфичности, что, по словам самого художника, было навеяно матерью и что не смогли истребить в нем все его искренние и ложные «левые» увлечения.
Кроме того, несмотря на неумелость и примитивность рисунка, в этих картинах можно было почувствовать будущего живописца. В желтых, охристых стенах, в красной церковушке, в синей парикмахерской было здоровое и сильное ощущение цвета, что позволило Петрову-Водкину угадать в Дмитриеве того, кто вместе с ним, правда ненадолго, уверует в магическую силу синего, красного и желтого цветов!
Самой интересной работой Дмитриева той поры был автопортрет792, который был написан им под впечатлением григорьевского портрета Вс. Мейерхольда.
Автопортрет в Студии произвел сенсацию. Дамам он страшно нравился, они бегали кругом, восхищались. Нравился он также и поэтам, в особенности Кузмину.
Дмитриев изобразил себя в виде Пьеро, с бледно-зеленым лицом и розовыми волосами и ярко-красными губами. Сзади головы какое-то цветовое пятно, это палитра. Сделано [нрзб.], как на картинах у Пикассо. А рядом — маска. И еще, с краю картины, вторая, меньших размеров, en face.
Поклонники утверждали, что здесь, в автопортрете, слияние двух образов — лица и лика, лирического и гротескного — вышло лучше и убедительнее, чем в портрете Мейерхольда, где маска оказалась сильнее «образа» и поэтому там и не получилось разноликости, гротескного слияния двух планов, двух различных и противоположных начал.
Петров-Водкин не выносил эту вещь совершенно, страшно бранил, говорил, чтобы Дмитриев на всю жизнь запомнил, что это может погубить его окончательно, сделает отступником, «вывороченным идиотом», как назвал он Дмитриева.
Несмотря на искренность, на стремление раскрыть свой внутренний, лирический мир в образе трагического Пьеро, в этом портрете была и мода времени, та декадентская манерность, которая несвойственна Дмитриеву как человеку. Его автопортрет, внешне мало похожий, не был похож и внутренне. А если и похож, то только отчасти. Дмитриеву в жизни и тогда была чужда позировка и игра. Меньше всего он был внешне похож на поэта тех лет или на Вертинского, который пудрил лицо и ходил в костюме Пьеро. Дмитриев — (еще гимназист) был скромным юношей, одетым в пиджак, держал себя просто. Он увлекался поэзией и театром, но в жизни никогда не играл в театр.
Но тем не менее гофмановское начало было, по признанию самого Дмитриева, тем, из-за чего он пошел в театр. «Только из-за него», добавляет он, подчеркивая тем самым свое трагически-фантастическое ощущение жизни. Но для него не менее существенно и другое — московское, русское начало, полученное им от матери, которое особенно ярко проявилось в последнее время, в последние 10 лет.
До этого — сны, видения и грезы, «Нос»793, Гофманиана, Петербургские пейзажи — «все это вылилось из меня органически», признается Владимир Владимирович.
369 [ГОДЫ УЧЕНИЙ]
В 1918 году Петров-Водкин был приглашен профессором в Академию художеств. Он и Шухаев. Это был первый опыт привлечения «левых» художников для работы в Академии.
Но при переходе он поставил условием, что двух из его учеников, по выбору, примут в Академию без экзаменов.
Он сказал своим ученикам по студии Званцевой: «идите все экзаменоваться». А экзамен был трудный, по старым правилам, и выдержать его не было никакой надежды.
Экзаменовались в натурном классе, где, между прочим в числе других, висел этюд Ал. Иванова и все было связано с академическими традициями. Этюд на экзамене — обнаженный натурщик в позе Нептуна — вышел неудачным. По словам Дмитриева, он «провалился в дым». Этот экзаменационный этюд со штампом Академии (вернее, с печатью, в верхней части холста) сохранился у Дмитриева и говорит о решительном провале Владимира Владимировича. Он написал натурщика со спины, сидящего, в коричнево-желтоватом тоне. Стоит бегло взглянуть на этот этюд и сразу же бросается в глаза грубейшие ошибки рисунка, незнание анатомии и пропорций человеческого тела, полная беспомощность в передаче академически точного изображения. Рисовать Владимир Владимирович так и не научился даже теперь. И это одно из самых уязвимых мест его как художника.
Экзамен в Академию проходил в феврале 1918 года. Несмотря на свой провал на экзамене, Дмитриев был зачислен по настоянию Петрова-Водкина.
Владимир Владимирович показывает работы того периода.
Красная купальщица прыгает в синюю воду. А рядом меньшего размера, вторая женская фигура, желтого цвета. Этот этюд — человек в пейзаже — является густопсовой петрово-водкиновщиной.
Но есть кое-что, идущее и от Дмитриева — этот эскиз можно поворачивать и смотреть в любом положении. Это сделано им по своей инициативе, в виде, так сказать, надбавки к заданию.
Из других работ запомнилась голова натурщицы и особенно — ученица балетной школы, стоящая у окна, выходящего на улицу Росси794.
Здесь и необычайность ракурсов, и особая поэтичность, и синий цвет в различных оттенках и градациях.
Это — типично петербургская вещь, также как и пейзажи города, в которых ощущается то, чем дышит Петербург, — Блок, Белый, блоковщина, чувство гибели.
Вначале Петров-Водкин требовал, чтобы все — и натурщица и фон — было выполнено одним синим цветом.
Потом давалось задание — написать красное лицо на синем фоне. «И если с вами не случится при этом нервного потрясения — от того, что вы, пережив каждый из этих цветов в отдельности, впервые (сознательно) сталкиваете их друг с другом, — то ничего из вас не получится», — говорил Петров-Водкин ученикам. Он сам искренно верил, что в этот момент в сознании учащегося все должно перевернуться, как у человека, впервые увидевшего солнце.
Когда у Петрова-Водкина родилась дочь, то он держал ребенка один месяц в синей комнате, потом перенес ее в красную. Когда девочку впервые после синей 370 комнаты внесли в красную, она вся затряслась, затрепетала в руках и закричала отчаянно — а-а-а! Петров-Водкин был в ликовании, так как сам искренне верил в то, что в этот момент дочь его впервые неосознанно ощутила могучую силу действия цвета.
Потом учащихся перевели на новое задание — писать все желтым цветом.
В итоге — писали они одной краской, как всеми красками, после всех проделанных экспериментов они хотя и пытались передать увиденное в натуре, но невольно видели что-то другое.
Петров-Водкин требовал, чтобы все писали с натуры, но натура была всегда преображенной, видоизмененной, иногда до неузнаваемости.
Он учил своих учеников композиции, так называемому осевому построению. Сначала искали оси и «наворачивали» на них все, пренебрежительно относясь к анатомии (это было плохо, ибо Дмитриев до сих пор не знает ее и не умеет анатомически правильно нарисовать человека).
Владимир Владимирович, занимаясь у Петрова-Водкина, сразу понял его цветовой метод, но так никогда и не научился рисовать.
Между прочим, позднее Дмитриев из интереса работал у Филонова, чтобы постичь его метод.
Это было примерно в 1931 г.795, когда Дмитриев готовил «Пламя Парижа».
В студии Званцевой преподавал также и Добужинский. Но как педагог он не оказал влияния на Дмитриева, который всецело находился под воздействием Петрова-Водкина. По воспоминаниям Владимира Владимировича, Добужинский не столько учил их живописи, сколько занимался мирискуснической болтовней на любую тему. Приезжал в студию и болтал об искусстве, о театре. Между прочим, общение с Петровым-Водкиным оказало, по мнению Владимира Владимировича, воздействие на Добужинского: в работах Мстислава Валериановича начала 20-х годов построение объема и пространства выражено сильнее и определеннее, чем это было прежде.
Между прочим, в студию Званцевой приезжал Сомов, рисовать модель. Петров-Водкин ему замечаний никаких не делал. И Сомов аккуратно, [почти] каждый день являлся на занятия в студию.
У Дмитриева сохранился эскиз декорации к какому-то балету, типа «Жизели», сделанный во времена учения в Академии, под несомненным влиянием Петрова-Водкина. Если Владимир Владимирович применял в ней некоторые приемы цветовых решений своего учителя, то в планировочном отношении это было совсем неудачно, без учета требований балета. Балерина должна была двигаться по какому-то узкому мосту, подвешенному на верху сцены, почти под колосниками. Вряд ли это способствовало ее танцу!
[Н. Н. ЧУШКИН О РАБОТАХ В. В. ДМИТРИЕВА]
У Владимира Владимировича есть большая картина, изображающая мадонну на фоне московского городского пейзажа. Это конкурсная вещь, с которой он кончал Академию, «Московская богородица» — так называет ее Дмитриев. Он заканчивал ее сразу же после постановки «Зорь» в Театре РСФСР I (1921).
371 Золотистый рассвет на Москве-реке, Кремль с соборами и Иваном Великим, с вольной передачей архитектуры. Зима. Московские улицы с церквушками. В центре Мадонна — Рублевского типа («На меньшее мы и не шли!» — улыбаясь, замечает он.).
Сочетание красного и синего.
Есть что-то ренессансное в построении — архитектурный мотив (окно, галерея балкона); фигура и вид города. Сферическая перспектива (оси сходятся в центре земли).
Флоренция в Москве — по формулировке самого художника.
Здесь во всем чувствуется стремление, чтобы как можно лучше воплотить то, чему учил Петров-Водкин, и в то же время ввести в картину то, что он всячески отрицал: настроение, лиризм, человечески-интимное. Петров-Водкин требовал в картинах учеников «чистую» религиозность, «высшую» живопись, обобщенность. Субъективизм, индивидуальность восприятия темы, таинственность, мистичность, передача настроения — все это было ему чуждо.
В другой, петербургской мадонне, написанной во времена «Эугена Несчастного» (1923) — дана белая ночь. Коричневато-серые здания. Приглушенность тонов, что-то от маньеризма (Боттичелли, [нрзб.] школа).
Утонченность и удлиненность пропорций. Длинные, тонкие пальцы. Ощущение декаданса.
Здесь он выступает как «вольный ученик» Петрова-Водкина, во многом отказавшийся от того, к чему его призывал учитель.
Путь освобождения от «уз» Петрова-Водкина — в преодолении абстрактной лирики и условной нормативности его канонов, стремление к психологизации образа и темы, путь к лиризму.
В одном из рисунков на тему поэзии Андрея Белого («Первое свидание»796) — изображены Вл. Соловьев, идущий по Пречистенке, и образ Св. Софии (мудрость) — в виде оранты, с поднятыми руками, с нимбом вокруг головы, возвышающейся над городом. София — это собрание воедино всех цветов, красного, синего и желтого. Небесная мудрость.
Лирическое ощущение Москвы, которую Дмитриев рисовал по воспоминаниям — тут и маленькая, интимная московская церквушка, и толстовский дом, и каланча, и уличный фонарь, то, что так нравилось ему в детстве. Все не так, как в действительности, но вместе с тем передающее ощущение Пречистенки, Москвы, зимы.
Лирические улицы Москвы (Пречистенка!) и символ Св. Софии! И Вл. Соловьев у фонаря!
Незаконченная картина «Сеча при Керженце»797.
Удачное использование иконописных приемов без стилизации. Острее, чем у Рериха, дана двухпланность картины, противопоставление двух борющихся миров. У Рериха, сколько помнится, все дано в одной тональности — красноватой — вся битва в целом. Здесь же два начала: «темное» и «светлое».
Слева: дым, тьма, красный отсвет пожарища, татарва, рвущаяся на конях к светлому городу. Лавина нашествия. Разрушение святыни — вражеские войска идут сквозь церкви (Нередица!). Иноплеменное войско — даже кто-то с верблюдом! Нечисть иноземная.
372 А справа: всадники на белых конях, лирические березы и вдали — освещенный город — с белыми стенами (Кремль), белым собором и, конечно, красной церквушкой. Т. е. то светлое, русское, национальное (святыня), за что мы в Великой Отечественной войне боролись и что стремились отстоять. Картина эта писалась в конце войны, и несомненно, в ней сеча при Керженце была поводом показать борьбу русских с вражеским нашествием. И ассоциации с современностью были несомненны.
К сожалению, Дмитриев не закончил ее, а то она безусловно могла бы быть выставлена, наряду с такими вещами, как триптих Корина «Александр Невский»798 и др.
Дмитриеву хочется завершить теперь эту картину. Ему хочется, чтобы сильнее чувствовалась тьма и ужас иноземного вторжения, огнем и мечом несущее разрушение нашей стране. Тучи должны заволакивать небо. Птицы лететь в страхе от неприятеля. И наконец, тучи вражеских стрел должны затмевать солнце.
Кроме того, он видит эту картину как центральную часть триптиха. Правую картину он начал писать, но недоволен ею. Женщина идет по полю, покрытому убитыми телами. Старушка — монахиня — плетется куда-то по тропинке. Река, небо — тема возрождающейся жизни.
Но этот русский реквием — плач над убитыми не получился.
Варианты боковых частей триптиха — как они представлялись Дмитриеву — Богоматерь, дева Феврония или — пустынник с медведем.
К счастью, он это не осуществил.
В прошлом году он начал писать панно — московский плач над покойником. Должны были быть люди (они едва намечены) со свечами в руках, оплакивающие убитых.
Что это? — поле битвы после встречи с врагами у Керженца? Китеж ли это перед его исчезновением? А может быть, это собор, где лежит покойник, надгробный плач и женская фигура у гроба? Тогда это — «панихида по самом себе».
[МХАТ. «АННА КАРЕНИНА»]
Дмитриев работал со Станиславским недолго, имел много огорчений, но ему было интересно, «занятно». Все встречи и беседы с ним он запомнил.
Иначе с Немировичем, от общения с которым мало что сохранилось в памяти.
«Я только теперь понимаю, зачем я ему был нужен тогда, нужен до невероятия. Никому не был так нужен, как ему, — говорит Владимир Владимирович о Немировиче. — Он любил со мной разговаривать с глазу на глаз, очень хвалил, брал что-то, но всегда скрывал это. Когда я понял это, стал подкладывать ему некоторые мнения и идеи, которые он переводил в свой литературно-психологический план. Поэтому-то он и не любил говорить со мной при свидетелях».
По мнению Владимира Владимировича, письмо Немировича-Данченко к Сахновскому об «Анне Карениной», которое издают и переиздают, «это — фальсификация».
В начале работы над «Анной» Вас. Григ. Сахновский говорил Дмитриеву о пожеланиях Немировича-Данченко, ссылаясь на какое-то письмо, где говорилось о красном шелке как об основном тоне спектакля.
373 Никакого синего бархата там не было и быть не могло, ибо эта идея принадлежит самому Дмитриеву799.
«Не верю в это», — говорит Владимир Владимирович на мое предположение о том, что, может быть, это письмо было написано Немировичем после того, как идея синего бархата могла быть предложена им Сахновскому, а через последнего это дошло и до Владимира Ивановича.
Дмитриев помнит, что ему приходилось долго убеждать Сахновского отказаться от мнения играть «Каренину» на красном фоне, что для него Петербург, еще со времен юности — синий, и ни в каком ином тоне он не мог его воспринять. Сахновский не сразу согласился, и по этому поводу велась большая борьба, прежде чем синий бархат был взят в качестве принципа постановки.
Письма Владимира Ивановича Дмитриев не читал (об этом он говорит совершенно категорично) и только после спектакля прочитал в книжке (между прочим, письмо публиковалось несколько раньше, но все равно — после премьеры).
По словам Дмитриева, он мечтал бы посмотреть оригинал письма, не вписано ли там что-нибудь после о синем бархате. Надо будет показать ему оригинал, хранящийся в музее МХАТ!
О Сахновском: Василий Григорьевич оставил интереснейшие описания работы над подготовкой спектаклей «Мертвые души», «Карениной», «Половчанских садов», но они — хотя и талантливы, но очень импрессионистичны и сумбурны. «Сахновский в этих статьях очень много врет, и к ним надо относиться с осторожностью», — утверждает В. В. Дмитриев.
Из письма Вл. Ив. Немировича-Данченко к В. Г. Сахновскому, 20 августа 1935 года:
«Очень интересует меня, конечно, что делает Дмитриев. Иногда мне кажется, что все идет на драпировках, — то богатейших парчовых, то синих бархатных, то красных штофных, — на драпировках, передвигающихся по ходам в разных направлениях на потолке и замыкающих великолепную, подлинную мебель, то Людовик XV, то красного дерева, то мягкую, и бронза, вазы, хрусталь… А потом вдруг что-то от природы… Просто прекрасное панно…»
«Вы еще напишете мне сюда, не правда ли?»800 — спрашивал Вл. Ив. Немирович-Данченко Сахновского в конце письма. Следовательно, Сахновский писал ему раньше (слово «еще» не оставляет в этом никаких сомнений) о работе над «Анной» и мог сообщить идею Дмитриева о синем бархате.
В своей статье «Работа над спектаклем “Анна Каренина”» Василий Григорьевич описывает, как в начале работы над текстом Дмитриев приходил домой к Сахновскому, «по нескольку часов сидел у меня в кабинете или, лежа на диване в облаках папиросного дыма, не всегда ясно, а чаще довольно туманно и сумбурно рассказывал, как он видит и чего хочет добиваться в отдельных сценах спектакля в целом.
… Мы старались друг друга понимать с полуслова. И, говоря “первыми словами”, рассказывали друг другу, как в каждом из нас складывался процесс образования спектакля…» <…>
«В. В. Дмитриев столько же говорил о режиссерском плане, об истолковании образов, об осмысливании толстовского текста применительно к его сценическому воплощению, сколько и о декорационной стороне спектакля. <…>
374 … Работа художника в этом спектакле была тесно связана с режиссурой»801.
Первая беседа с В. В. Дмитриевым состоялась 12 апреля. Василий Григорьевич сообщил художнику, в общих словах, о задаче постановки (в свете письма Немировича-Данченко из Берлина от 20 авг.), о холодной чопорности и лакированности светского Петербурга, о том, что важно было бы пользоваться декорациями не иллюзорного порядка, а тканями (для фона), фактурой хороших обоев, ограничивающих место действия.
Главное — установить основной фон. «Фон ли это, занавесы, обои, ширмы, — я не знаю, но нужна какая-то основная среда, в которой происходит все действие…»802.
Сахновский сказал Владимиру Владимировичу: «По всем этим вопросам я переписывался с Владимиром Ивановичем. Я прочту вам отдельные места из этого письма, где он очень ясно пишет на эту тему».
В ближайшие встречи после беседы В. В. Дмитриев, по словам Сахновского, совершенно определенно остановился на темно-синем бархате как основной фактуре, на которой разовьется все действие спектакля.
«Причем в отдельных опытах, сделанных им первоначально в рабочих макетах, он доказал, что гораздо интереснее ограничивать действие ширмами, обитыми этим бархатом в складку, чем занавесями, которые по одному из проектов (т. е. проекту Влад. Ив.) могли передвигаться по разным направлениям на сцене и установленным “ходам”»803.
ИЗ БЕСЕДЫ С В. В. ДМИТРИЕВЫМ 24.III.48 г.
Примерно в 1935 – 36 г. Самосуд решил возобновить в Большом театре «Кармен» в новых декорациях В. В. Дмитриева.
У Владимира Владимировича сохранились несколько эскизов, которые не были приняты Самосудом, хотя они, по мнению художника, были интереснее и значительнее того, что было осуществлено на сцене804. Дмитриев считал декорации к «Кармен» неудачей и был страшно рад, когда при возобновлении оперы декорации написал Кончаловский805.
Что же было в этих эскизах, которые отверг С. А. Самосуд?
Испания — не пышная, нарядная, залитая солнцем, не обычная оперная Испания, а мрачная, кровавая, провинциальная. Маленький городишко, совсем не похожий на красивую и нарядную Севилью, как это принято изображать на сцене. Это — грязная и пыльная Испания. Солнце и кровь, то трагическое ощущение, которое рождается при виде произведений Гойи.
1-й акт — изображение быка — анонс о предстоящем празднике, и тут же в одной из ниш, где лавка мясника — мясная туша, подвешенная за ноги, кровавая, с содранной шкурой. Кровь течет, грязь. Бурдюки, какие-то объедки, валяющиеся на полу, пахнет бараниной, луком.
Кровавое, жестокое, страстное. И в то же время — очень реальное и трагическое. И на этом фоне — красным пятном — вспыхивает платье Кармен. [На полях страницы написано: Зулага806. — Е. С.]
2-й акт — мрачная, грязная таверна. В центре — вход. Виден кусок темно-синего неба. На веревке — развешенное белье, выделяющееся пятном на этом приглушенно-мрачном фоне.
375 В глубине — столы, прилавок, бурдюки, бочки, жбаны с вином, натюрморт — не то фрукты, не то баклажаны. «Как в Грузии», — говорит Владимир Владимирович.
Справа и слева, на площадках, какие-то фигуры, с веерами, по-видимому, что-то вроде хора, как это было у Немировича в «Карменсите и солдат». Владимир Владимирович не знает точно, что представляют собой фигуры, но ему хотелось, чтобы они участвовали в действии как посетители таверны, а не как абстрактный хор, носитель идеи рока, как в Музыкальной студии. Декорации И. М. Рабиновича очень нравились Дмитриеву. Но их трагизм был абстрактным807.
В 3-м акте — синее небо, желтый деревянный забор. Толпа и тореадор на арене, встречающий смерть лицом к лицу. В его фигуре, в общей тональности, во всем ощущается Гойя. Это чувствуется и в мазке — темпераментном, экспрессивном, страстном.
У Дмитриева есть эскиз к «Кармен» для Студии Станиславского, не пошедший, и какой-то эскиз, сделанный им для себя, примерно во времена тех эскизов, о которых я только что писал, но совершенно отличный от них.
Не Кармен и Хозе, а проститутка и солдат, так можно было бы назвать его. Какая-то облупившаяся стена, две фигуры. И справа, сквозь обвалившуюся штукатурку, ярким красным пятном, горящим как кровь, кирпич, как кровавая трещина.
«Эуген Несчастный» — 2-й акт.
Карусель. Балаган, в котором выступает Эуген, какие-то задворки большого города. Телеграфный столб — как крест. Стена дома. Пусто, голо, тоскливо, ободранно. Безрадостная и унылая жизнь, ужас безработицы, голода и нищеты. Послевоенная, охваченная кризисом, Германия. И здесь еще веселятся люди, если то, что они делают, может быть названо весельем?! У Изуродованный войной человек, выступающий в балагане, скрывал свое бессилие, демонстрирует свое мнимое могущество, силу своего тела.
О «Пиковой даме» с Вс. Мейерхольдом. Ее предполагали ставить в оперной студии у Станиславского, и Владимир Владимирович начал делать эскизы808.
В сцене у «Зимней канавки» Дмитриев дал совершенно новый, необычный вариант. Мейерхольд говорил, что надо сделать так, чтоб были решетки и люди. Люди проходят сквозь решетки. Уходят в ночь.
Но нет ни мглы, ни снега, ни вьюги. Белая ночь — вот основной тон спектакля. И Дмитриев передал на эскизе эту бледно-зеленовато-сумеречную прозрачность, петербургскую призрачность, характерную для белых ночей809.
У Дмитриева есть эскиз. Ночной, мрачный, черный город, исполненный ужаса. Екатерининский канал, мост с грифонами, черная вода, черные силуэты домов, решетки и бегущая фигура в цилиндре и в черном плаще. Человек в маске, в которой есть что-то от облика Мейерхольда, на портрете Григорьева.
Оказалось, что так и было задумано. Мрак, одиночество и тоска. Безысходность. И Мейерхольд, бегущий по этим страшным, пустым улицам Петербурга, города, полного наваждений и гротескной жути.
Этот эскиз был нарисован в 1940 году, т. е. после закрытия театра Мейерхольда и после трагических событий в жизни Всеволода Эмильевича, последовавших затем. Одиноким, ненужным, страшным, как черная тень, скользит он на эскизе, тень, отброшенная старым Петербургом.
376 Другой эскиз. Снова Петербург. Снова ночь. Метель. Летний сад. Склоненные от ветра деревья, Петровский домик. Канал. Вдали черная Нева видна сквозь горбатый мостик. А на переднем плане неясным силуэтом дана бегущая фигура по мосту. Чувство холода, пустоты и вьюги, ночного страшного города.
И это всегда так у Дмитриева — когда он дает образ ночного Петербурга. Всегда ночь, снег, вода, метель и какая то неясная фигура бежит куда-то.
Это можно проследить в целом ряде работ, образующих серию ночных пейзажей Петербурга.
Работая над «Надеждой Светловой»810, Дмитриев задумал написать сцену на мосту как картину. Угол Биржи, Ростральные колонны, зенитное орудие, фигура красноармейца, решетка моста. Картина осталась незаконченной. Владимир Владимирович показывал мне начатый большой холст, к которому он еще думает вернуться.
На эскизе, сделанном для этой картины, вид на Неву с Дворцового моста, со стоящими у берега кораблями, замерзшими; был написан Дмитриевым по наброску с натуры, сделанному им во время войны, в первый приезд в Ленинград811.
Здесь тоже ночь, тоже снег, тоже вьюга метет, тоже холод. Но все иное. Никто никуда не бежит. И грозный, суровый военный город, город-герой, не имеющий, по ощущению, ничего общего со старым Петербургом, навеянным Дмитриеву Пушкиным, Мейерхольдом и Блоком.
В 1937 (?) году Дмитриев был в Тбилиси812. Он написал этюд с натуры из замка. Из Метехского замка, чрезвычайно удачный.
— Петров-Водкин учил нас, — говорит Дмитриев, — что художник обязательно должен писать с натуры. Написанное с натуры становится вашим капиталом, на всю жизнь.
Работа в театре, над эскизами, вредна, потому что вы отдаете накопленное, ничего не приобретая. Т. е. проживаете накопленный капитал или же живете на проценты.
Это правда. Но для того, чтоб работать над натурой, не хватает времени.
В год, когда им была написана петербургская мадонна, Дмитриевым написана картина: балерина, стоящая у окна, из которого видна площадь перед Мариинским театром, справа — стена, зеленоватый тон, танцующая пара — вдали. В девушке, написанной с натуры, бросается в глаза некоторая искусственность и манерность, неправильность пропорций, удлиненность (также как и в мадонне).
Эскиз для «Грозы» (у вахтанговцев)813. Сцена в овраге. Этот вариант, не пошедший в театре.
Не овраг, а обрыв. Падающий ствол березы, наклоненные деревья. «Все в обрыв». И сквозь деревья — гладь реки. Лунный свет. Синевато-серебристый. И около березы — женская фигура, вся в белом, прозрачная, тело, как у лунатика, ведомое чьей-то чужой волей, словно завороженная движется куда-то среди этой молчаливой, таинственной, лунной красоты.
Гамлет в виде марионетки, с черепом Йорика в руках. Этот эскиз написан примерно в 1940 году, когда в МХАТ готовили «Гамлета»814, были заняты всевозможными «исканиями» и прожектами. И «от тоски» В. В. Дмитриев однажды, для себя, сделал этот эскиз. (В манере Тышлера.)
377 БЕСЕДА С БОРИСОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ ЭРБШТЕЙНОМ
12 мая 1948 г. Умерла О. С.815
Когда Эрбштейн поступил в школу Званцевой, ему было 13 лет, а Дмитриеву — 14.
Званцева была грамотной, настоящей художницей, близкой к кругу «Мира искусства». В ее школе был разношерстный состав преподавателей: К. Сомов, М. Добужинский, Петров-Водкин.
О Добужинском-преподавателе Эрбштейн почти ничего не помнит. По его словам, Мстислав Валерианович ограничивался вкусовыми замечаниями — «пожалуй, лучше бы так», которые давали очень мало.
К. Сомов имел свой метод преподавания — он рисовал натуру одновременно с учащимися. Это был чрезвычайно робкий и смущающийся человек. Когда ему задавали вопрос: «Что вы скажете о моем рисунке?» — он подходил смущенно, говорил запинаясь, краснея, заикался. И страшно робко, застенчиво-виновато всегда делал учащимся свои замечания.
В школе Званцевой Сомова очень ценили, к его советам прислушивались, но чувствовали все же, что в них не было никакой системы. Он ограничивался меткими, отдельными, очень полезными замечаниями, но не больше.
Зато у Петрова-Водкина была школа, настоящая система знаний, пусть схематическая, но зато цельная и стройная, имеющая к тому же определенную мировоззренческую платформу, определенное жизнепонимание.
В своей «системе» Петров-Водкин был чрезмерно рационалистичен. Конечно, сам он был более крупным художником, чем преподавателем, но его ученикам в то время казалось, что преподаватель он выдающийся. Они считали его великим учителем, дающим законченную и цельную систему, в то время как то, чему он учил, его «система», было бесконечно более мертво и схематично, чем то, что он делал сам как художник.
Он преподавал систему построения по осям геометрических форм, трехцветку (красный, синий, желтый), сферическую перспективу и т. д. Он требовал, когда рисовали фигуру человека, вначале проводили оси, на них накручивали геометрические фигуры (цилиндры, прямоугольники и т. д.) с тем, чтобы потом приводить в соответствие с формами модели. Благодаря этому все личное, индивидуальное, своеобразное, неповторимое изгонялось, художник не мог передать свое непосредственное ощущение, свое впечатление от модели, изображая рационалистически построенную, абстрактную форму, вернее, схему человека, а не самого человека, его психологию, его душу.
Владимир Владимирович сам не понимал еще хорошенько односторонность Петрова-Водкина, его схематизма и формализма; как подлинный художник, стал нарушать догматические каноны своего учителя. Он совершал безумный грех, когда использовал в своих работах не только чистые тона, а вводил полутона (например, смесь черного с желтым, красного с синим), то есть делал то, что тогда называлось «грязный тон».
Он нарушал заветы Петрова-Водкина, в картинах которого не было колорита.
Дмитриев чутьем отрицал недостатки Петрова-Водкина. Он брал у него не то, что он преподавал, а то, что в действительности было хорошо в нем как в художнике.
378 Он научился у него не только цвету, но в первую очередь — ритмически-пластическому чутью, которое отличало лучшие работы Петрова-Водкина.
В те годы казалось преступным и смешным для молодого художника думать о содержании, о душе, о настроении, о психологии. Все это называлось одним бранным словом — «литературность».
«Мир искусства», его художественная платформа казалась оскорблением.
К. Сомов ушел из студии Званцевой. Вслед за ним ушел и М. Добужинский.
Ими перестали интересоваться. «Мир искусств» начали рассматривать почти как «передвижников», в их произведениях видели не только «рассказ», но и «любование». В противовес им утверждали «настоящую» живопись, форму, цвет и т. д.
Но Владимир Владимирович, несмотря на царившее тогда увлечение формализмом и бездушностью, вводил в свои картины (контрабандой) и непосредственность своих ощущений действительности, и настроение, и свою юношескую философию. Его работы были пронизаны внутренним лиризмом. Взять к примеру работу юного Владимира Владимировича — ученица балетного училища у окна.
В этом этюде есть многое от Петрова-Водкина: сферическая перспектива, синий и желтый цвет, данный в резкой градации. Но нет схематического рационализма, который отличал даже не столько самого Петрова-Водкина, сколько его учеников. Здесь налицо и запрещенная «грязь», и полутона, и воздух, и колорит, т. е. все то, что запрещалось их учителем. Больше того, в ней есть и сумерки, и чувство Ленинграда, и настроение вечера, и, наконец, лиризм образа (несмотря на недоработанность и эскизность). Итак, лирическое ощущение мира помогло Дмитриеву преодолеть формалистический аскетизм Петрова-Водкина.
Многое в том, что делал Владимир Владимирович Дмитриев в те годы, шло (сознательно или, вернее, — неосознанно) от Блока, являясь как бы параллелью ему в живописи.
Например, стихи Ал. Блока о России находили глубокое живописное претворение в работах Владимира Владимировича.
Свою живую, русскую психологию, близкую Ал. Блоку (вне «системы» Петрова-Водкина, вне его программы обучения), противопоставлял Дмитриев, который был непокорным учеником.
Чупятов, напротив, был ортодокс.
Его возмущала всякое отклонение от заветов учителя. Он мог с необычным рвением трудиться почти целый месяц, чтобы, например, достичь идеальной поверхности картины или необычайной чистоты тона и т. п. Он готов был изо дня в день писать банки с водой и табуретки, упрекая других в том, что они несерьезно относятся к делу, что в их работах нет обобщенности, чистоты тонов или фактурной завершенности.
Дмитриев всегда был небрежен к «ремеслу», но его в первую очередь интересовал образ, содержание искусства, живая жизнь, составляющая его основу.
И эта живая струя приблизила его к новому восприятию родины, к тому, что было почувствовано и выражено Ал. Блоком, Тютчевым, Пушкиным, М. Нестеровым, И. Левитаном и др.
Дмитриев вырастал не на пустом месте. Он прочно связан с традициями русского искусства. Он влился в общее развитие русской художественной традиции, не остался в стороне от русской национальной культуры.
379 Метод В. В. Дмитриева значительно отличался от К. Сомова, А. Бенуа и даже от М. Добужинского. Художники «Мира искусства», как правило, передавали не то, что видели, а то, о чем мечтали. Старое настраивало на мечту, пробуждало лирические реминисценции, будило воспоминания.
У Дмитриева никогда не было стилизации, исторического педантизма и крохоборства. Он не копировал увражи, не шел от старых гравюр и рисунков, которые он «оживлял».
Даже изображая старую Россию, он вдохновлялся прошлым, не далекой, ставшей уже музейной стариной, а непосредственными живыми впечатлениями о [нрзб.] жизни, остро увиденных и прочувствованных.
Даже изображая богородицу, он изображал ее так, что казалось очевидным и возможным появление, например, трамвая, ибо окружающее место напоминает Крюков канал или что-то в этом роде. То, что писал Дмитриев, получалось как бы сегодня виденное, живое, личное, субъективное. В своем искусстве он всегда шел не от книг и не от музеев, и эрудированность и музейность Ал. Бенуа, всегда его отталкивала.
Дмитриев был не беспочвенным. Он был органически связан с большой национальной традицией, но в то же время вносил в искусство свое, личное, Дмитриевское.
Кузмин очень ценил Дмитриева, но видел в нем главным образом мирискусника. Он не понимал еще своеобразия индивидуальности Владимира Владимировича, [нрзб.] шло новым, крупным шагом в искусстве, и пытался поставить на него печать «Мира искусства».
Сам Петров-Водкин, будучи очень талантливым человеком, не мог не чувствовать в Дмитриеве большого художника, он иногда говорил Владимиру Владимировичу: «Володя, театр начинает вас портить!»
В эскизе — мать входит в комнату со свечей — ребенок лежит в кровати (в белом) — поражает серебристая гамма.
В ранних эскизах, сделанных до того, как Владимир Владимирович поступил в школу Званцевой, ощущается влияние Судейкина. Примитивизм этих работ Дмитриева не от стилизации, а просто от неумения. Нет эстетизации быта. Шел не от искусства, а от жизни — грязный провинциальный городишко, самовар, две фигуры — мужчина и женщина, красная церковь, торговые ряды. Это не сказка, не мечтание о прошлом, не эстетизация примитивного, а неловко, но остро подмеченный кусок жизни, очень характерный.
Для Владимира Владимировича было очень характерно — цветность, любовь к декоративности, характерное русское живописное восприятие. Василий Блаженный, цветистость русской орнаментики, живописность старинной архитектуры, народные балаганы — все это, увиденное им в детстве, ярко и непосредственно запомнилось.
Дмитриев пришел вместе с Чупятовым и Эрбштейном в Академию художеств, к Петрову-Водкину.
В 1917 году в помещении Академии были организованы мастерские отдельных художников, в том числе и Петрова-Водкина.
После академических экзаменов, проводившихся строго по старине, Владимир Владимирович попал в мастерскую к Петрову-Водкину. Изменился отчасти 380 состав учеников, но преподавание живописи ничем не отличалось от того, что было принято в школе у Званцевой. Все было по-старому.
Других дисциплин (общеобразовательных, истории искусств и т. д.) — не было.
Позднее, примерно в 22 или в 23 – 24 годы было произведено слияние мастерских, было введено общее преподавание.
Петрова-Водкина окружала постоянная группа «своих», т. е. его учеников и приверженцев. Кроме того, были «чужие», случайные, временные люди. Их не ценили и ими не интересовались.
Среди учащихся некоторые были очень способные. Так, например, Лаппо-Данилевский, рано умерший, был не на 100 % петрово-водкинец, но он был несомненно человек очень талантливый.
Ортодоксом в те годы был Чупятов.
Дмитриев кончил Академию в 23 г.816, а Эрбштейн в 24-м г.
Ученики Петрова-Водкина прошли через увлечение русской иконой. Это было в те времена модным и распространенным увлечением. Книга Грищенко817, устанавливающая связь русской иконы с современной кубо-футуристической живописью, статьи Лунина в «Аполлоне»818, специальный журнал «Русская икона»819 и т. д. и т. п.
Петров-Водкин усматривал в иконе не столько ее религиозную и символическую сущность, а могучее проявление национального искусства. Из французов Владимир Владимирович любил главным образом Матисса, Сезанна и Пикассо — менее.
Но подобострастного обожания французов в те годы у учеников Петрова-Водкина совсем не было. Все были убеждены, что наша икона никак не хуже. Петров-Водкин свои истоки всегда видел в России, в русском искусстве, в национальном. Он не признавал, а это было модным тогда, что свет идет с Запада.
Увлекались лубком, [из] собрания Ровинского, старой русской архитектурой, фресками и иконами, в отличие от москвичей, которые рабски шли на выучку к французам. Дмитриев и другие ученики Петрова-Водкина стремились к истокам русского народного искусства.
Однако все, что было сделано за последние 2 века в нашей живописи, решительно отрицалось Петровым-Водкиным, — все, и Репин и Суриков. Лишь Ал. Иванову давали амнистию, считая, что его эскизы и пейзажи являются «чудом», исключением из общего правила. У Сурикова Петрова-Водкина привлекала лишь красочность, — идейная, образная, психологическая сторона была ему органически чужда.
Когда писали Стеньку Разина820, огромное панно 20 х 8, по эскизам Петрова-Водкина (в числе 4-х), то стремились к пластичности, цветности. Было красиво. Но не было глубины психологического содержания и образной значительности. Между прочим, эти панно, установленные у Мариинского театра, расписывали ученики Петрова-Водкина (по его рисункам) — Дмитриев, Эрбштейн и др.
Курсы мастерства сценических постановок находились на Подьяческой821, в бывшей декорационной мастерской. Там занимались различные люди — из художников там были: Якунина, Дмитриев и Эрбштейн.
381 Это учреждение меньше всего напоминало учебное заведение. Мейерхольд читал лекции — необычно, анархически, увлекательно822. Общение с Всеволодом Эмильевичем много дало. Дмитриев научился не «украшению» сцены, а построению самого спектакля. Был режиссерский уклон. Делали экспликации, наброски, которые не преследовали самостоятельных декоративных целей, а должны были служить выявлением режиссерского задания.
В 1921 – 1922 г. Владимир Владимирович написал фигуру ученицы балетной школы среди деревьев823. Вдали видна дача в Царском Селе, где помещались летом ученики училища. Несмотря на всю условность, вся картина навеяна очень реальными впечатлениями. Синее платье с белым воротником, синий платок, наброшенный на плечи, — такова была в действительности форма, ученическая одежда, и Владимир Владимирович вовсе не придумал ее, а напротив, очень точно изобразил.
«Эуген Несчастный» — в декорациях Дмитриева нет простого уродства и пошлости жизни. Наоборот, в них на первый план выступила лиричность, а не опустошенность и судорожность.
Как мучительна жизнь, как жаль человека! — вот что звучало в спектакле и главным образом в декорациях Дмитриева. Город, изображенный художником, не мрачность и безотрадная жуть, а нечто иное. Художник показывает небо, природу. И во всем этом не мерзость, а грусть.
Родился Вл. Вл. Дмитриев в Москве на Плющихе [д. 34].
Школа Званцевой помещалась в 6-эт[ажном] здании странного вида (русский модерн).
Выложенные камнями (булыжниками) мостовые. Выход на Неву. Без набережной. Пристань в Кронштадт. Иностранные заводы (франко-русский). Теперь — завод Марти.
1938 г. Дмитриев нарисовал сюиту видов Ленинграда, чтоб «выговориться», и прислал их в письме к Марине824.
Там изображены: взморье, за Екатерингофским проспектом, Пряжка (индустриальный пейзаж, завод Марти, деревянный мост и т. д.), глухие стены домов, напоминающих тюрьмы и фабричные корпуса, трубы, мрачные ворота, балкон с птицей, безрадостный, полный унылой пустоты двор из окна, окруженный со всех сторон каменными зданиями, — все это пронизано Достоевским, Блоком и Добужинским, так искренне прочувствовано и выражено, что является одним из самых лучших, психологически острых рисунков В. В. Дмитриева.
[ВОСПОМИНАНИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ НАБРОСКИ В. В. ДМИТРИЕВА]
Он ненавидел разговоры об аде и рае и считал, что рассуждают об этом пошляки или фармацевты825. Слово же «ад» он <обожал>, любил еще больше inferno, представлявшееся ему театральным тропом. Каприччио представлялось «арабеском» (тоже хорошее «гоголевское» слово), почти музыкальное описание инфернальности. С «хорнадой»826 <была> в театре появилась загадочная странность, три хорнады казались ему классическим совершенством драматургии, — даже «Окно 382 в деревню» и «Земля дыбом» мнились в трех хорнадах. К тому же «инфанты»827 <мы> говорили это слово, а инфант самый любимый <образ> слово и сокровеннейшее значение.
Больше всего он любил быть Доктором Дапертутто. Здесь ему нравилось все, прежде всего само слово «Дапертутто», которое можно было прочесть не понимая, повторять и снова не понимать. И вместе с тем <оно звучало> в его звуке есть шифр <ключи или> или заклинание, неизвестный или очень знакомый (может быть, в прошлом) мир. Вместе с тем оно звучит как заклинание — ключ, отворяющий двери таинственного, но, может быть, знакомого (в прошлом, что ли) мира.
У него были любимые магические слова: инфернально, каприччио, хорнады. Каждое слово строилось в образы: этот звук Дапертутто сам был для него большим содержанием, чем идея, чем мысль, заключенная в образе Доктора Дапертутто. М[ейерхольд] проникал в таинственный мир, произнося заклинание слов, а не вдумываясь в его значение, содержание.
Наоборот, его, принципиального материалиста… [дальше текст обрывается и стоит строка точек. Н. Н. Чушкин, возможно, не смог разобрать почерк Вл. Дмитриева. — Е. С.].
Для него, последовательного формалиста, слово было всегда больше содержания или понятия.
Больше всего он любил быть Доктором Дапертутто. Здесь ему нравилось все; прежде всего само слово «Дапертутто», которое можно было повторять и угадывать за ним неведомые прошлые загадки. У него были любимые магические слова «инфант» и «хорнада», при звуках которых его воображение уже заполнялось [нрзб.] арабесками, ассоциациями и образами. Таким было и «Дапертутто». Инфанта — «Стойкого принца» Н. Коваленская — Незнакомка Мейерхольда и образ инфанта в виде женщины в мужском костюме с веласковской прической — стал для него <люб.> выношенным мечтой-образом. А прежде всего словом. Он мог непрерывно говорить: Дапертутто, Дапертутто, Дапертутто, и занавес в мозгу раздвигался.
Все строилось на образе Гофмана. Но это сказать — значит, ничего не сказать. «Гофманиана» на русской почве старая традиция, и даже Гофман, шагающий по мостам Петербурга, не новость для российских духовидцев. Мейерхольд не просто любил Гофмана — он пришел в этот мир как его посланец, как Сен-Жермен или Калиостро, воплотившийся в Докторе Дапертутто. Он сознавал себя не духовидцем, а скорее самим духом, и казалось управление марионеточной игрой жизни находится в его руках, или казалось, что куда он входит, там должно что-то случиться. Хорошее или плохое? Вероятно, не доброе, сам он добрым не был и, вернее, ничего в этом не понимал. Тема таинственного спутника, двойника, «Неизвестного» была самой любимой.
«Неизвестный» опять же прежде всего само слово, — «и вошел Неизвестный… тут появился в дверях Неизвестный…» — шептали его губы с особым оттенком таинственной радости. Интересно, что «Неизвестный» ходом жизни получил для него законченный образ фигуры, лица и костюма, вот-вот вскрылось бы нам его имя, так легко можно было его узнать по разным приметам. На нем был черный 383 плащ, вернее крылатка, цилиндр, иногда черные очки, но не всегда, и фигурой и жестами он был вылитый Мейерхольд, за очками же было неизвестно что и, вероятнее всего, ничего — лица у него быть не могло. Еще при нем была маска баутта, похожая на птицу или череп. Да и появлялся он подобно «Летучему Голландцу»828 или Агасферу829 перед смертью.
М[ейерхольд] жадно вслушивался в однообразный ритм повседневной жизни, чутко и жадно ловя в нем перебои — те моменты, как ровная обывательская пульсация начинает колебаться под действием неуловимых волн, исходящих из невидимой и неведомой станции, как ритм сбивается, все люди начинают выходить из своих нажитых образов, и начинается какое-то чрезвычайное событие, бурно развивающееся с неудержимой сумасшедшей силой.
Начинается тот исступленный бред жизни, который наполняет его таинственностью, восторгом и упоением.
Так, однажды поехали мы в Киев как нормальные обыватели, пили вместе в международном вагоне, познакомились с большим инженером, скучали, болтали обычные вещи. Утром в Киеве почему-то никто не встретил, номеров не оставили, хотя ждали нас. И скучающие глаза М[ейерхольда] ожили в предчувствии какой-то фантасмагории.
Инженер устроил в свой номер, такой чистый, как деловой кабинет, и полдня ходил взад и вперед какой-то народ, было накурено, беспорядок, инженер уже не пошел на работу. «Этого, кажется, уже разложили», — радостно шептал М[ейерхольд], — теперь все пошло по маслу, уже начинается «бред». Зачем приехали — неизвестно; что будем делать — неизвестно, но будет что-то необычайное. Он сам был уже в упоении этого бреда, уже вдали видел неведомые нам события. Вечером все пошли в театр на оперу — и инженер, и масса народа. Зашли в антракте к Дранишникову, поболтали, сговорились обедать на завтра.
Дранишников взошел на пульт, начал второй акт и упал мертвый. М[ейерхольд] был сам не свой, что-то иступленно-восторженное было во всем его облике. Теперь он знал, что «приехал не зря». Было в этом восторге что-то демоническое — вряд ли, скорее все же режиссерское удовлетворение так складно разыгранным сюжетом, мастерски сделанным этюдом. Он научился угадывать эти каприччио (тоже любимое слово) в жизни с виртуозным совершенством, и всегда это была игра со смертью. Он был совершенно безразличен ко всей нравственной и религиозной философии, столь модной в то время, несмотря на дружбу с Вячеславом Ивановым, Белым и др. Даже больше, философские разговоры вызывали у него скуку. Ему были чужды все стремления к внутреннему совершенствованию, к идеям добра вообще. И только присутствие неведомой смерти он угадывал мгновенно.
Он ненавидел в театре все символическое, за это не выносил 2-й МХАТ. Все декадентское глубокомыслие, все темное, нелепое, запутанное и мистическое.
У него только временами появлялся «Неизвестный» и часто горели настоящие свечи. Все остальное было ясно, четко, материалистически точно. Театр-корабль, любимая формула переносилась им и в спектакль — все паруса на месте, абсолютная чистота и порядок, такой же в тиши, как и в буре, и там так же 384 без намеков декораций и эффектов, скромный и совершенно материалистический нормальный «Неизвестный».
Все спектакли, им сделанные, симметричны и фасадны.
Когда однажды в «Даме с камелиями» он скосил планировку, это показалось ему столь новым и неожиданным (кто только этого не делал на самом деле), что он спешно придумал даже саму систему «диагональной композиции». Он настолько непривычно симметрично-прямолинеен, что это может представиться бедностью мизансцен и планировок. У него это называлось Пушкинским построением. «Я больше люблю ямб, чем свободный стих. В ямбе я обязан преодолеть сложность, я подчинен закону формы и дисциплине, свободный стих — декаденщина, следовательно, бесформенность. Не надо прятаться за планировку сцены. Наоборот, двери справа и слева на голой сцене, вот классическое “ямбическое” построение. Я в “Горе уму” вытянул стол по рампе и ни одной колонны (колонны это режиссерское мещанство — всякий обыватель видит ампир через колонны). Пусть кто-нибудь попробует. Я художник XIX века. Простота и ясность прежде всего, а может, даже XVIII — там железные законы искусства были еще более неумолимы. Есть классическая закономерность, ампирные пропорции, Пушкин, 3 хорнады и четкий романтизм Кальдерона. Нужно в симметрии находить отклонения, как ускорения в ямбе. Мне нравится четкое мышление Ленина».
Петербургская публика, с любопытством и даже как-то теряя свою уверенность, входила в зал Александринского театра, где был над оркестром построен помост; не было занавеса и [нрзб.] люди ставили на сцене мебель830.
«Я не увижу знаменитой “Федры”
В старинном многоярусном театре»831 —
таким возникал Александринский театр, высокий, как храм, с ушедшим в небо Петербурга, усеянным сиянием свеч порталом. Занавес подняли, слуги просцениума готовят начало спектакля. Публика медленно собирается. В «Стойком принце» были мавры в пестрых халатах, условные пратикабли писанных крепостей, их расставляли слуги в ярких костюмах, головинское роковое небо с кровавыми полосами, шут, кривляющийся на огромном просцениуме над оркестром, блистательные, блестящие золотом геральдические знаки и пышнейшие стихи Кальдерона. А главное, инфант Энрико832 — Н. Коваленская. Христовой веры стойкий принц, тонкая, высокая фигура в испанских сапогах, веласкесовское лицо, огромные глаза и неповторимый <как нам казалось> глубокий, как виолончель, голос. Измученный маврами Стойкий принц призраком идет через сцену с горящей свечей в руке, и в темноте звучит этот голос, медленно произносящий <читающий> стихи, как поэт, с упором на ритмическую их природу, где каждое слово звучит вне бытового повествовательного смысла, как заклинание, а не рассказ.
Такое чтение было модно в определенных кругах, и Коваленская умела это делать без вычурного подвывания и <визга> захлебывания, каким тогда читали поэты. Голос звучал свободно, бесконечно расширяясь многосложным многоголосьем органа, и монолог рос музыкальной уже тканью, оставляя сзади житейскую свою немощную плоть, врезаясь в небо всем контрапунктом звуковых 385 словесных и живописных образов, которые рождаются только музыкой, теряя свой смысл и на ходу возрождаясь в ином содержании музыкальной уже мысли <формы>.
Таким вошел в мир инфант, Прекрасная дама — Незнакомка Нина Коваленская. Вряд ли она была большой актрисой, но она была эпохальна. Ей не пришлось сыграть ни Незнакомки, ни Изоры, но во всех ролях она оставалась <была только> ими, такой ее толкнул в мир живой Мейерхольд, не слишком умную, петербургского склада деву-даму, «упавшую звезду» наших «Невских <ночных> мечтаний».
«Я опоздал на празднество Расина»833.
В Студии на Бородинской не было своей Незнакомки (игрою случая Н. Коваленская жила в этом же доме выше, но, как наивная <нормальная> петербургская дама, возможно, и не знала, что двумя этажами ниже зажигают ежедневно жертвенник в ее славу), но было много приятных и милых дев, честно поддерживающих непрерывную атмосферу «каприччио в манере Гоцци». Приходила Варя Сафонова, дочь дирижера, инфантоподобная монголка с челкой, художница и пианистка, остроумнейшая болтунья, садилась <за рояль> играть Скрябина; почему-то очень прижилась «Сатаническая» поэма, и начинались импровизации.
Петербургские барышни, дамы и молодые люди надевали шаровары красные, оранжевые, зеленые пояса, какие-то повязки и чалмы, размахивая пестрыми тряпками, ритмически взбегали на эстраду — конечно, просцениум. Шла пантомима-импровизация «охота». Прыгая по станкам, бежала лань «инфант» (М[ейерхольд] только инфантом ее и звал и был влюблен) семнадцатилетняя Оля Сафонова в <халате> шароварах, коротком халате и, конечно, веласкесовской прическе, действительно необыкновенная, особенная, высокая, чистая и <строгая>, безукоризненно строгая барышня <Диана> <весталка>.
Как ветром гонимый, скаля зубы, тараща монгольские белки хитрой косоглазой рожи, бежал «охотник» Инкижинов, любимец М[ейерхольда]. (М[ейерхольд] вообще питал слабость почти сексуальную к такого рода молодым людям — стройным, японистым, несколько авантюристичным), будущий «Потомок Чингис-хана»834, молодой человек непонятного происхождения, принятый во всех салонах, самоуверенный, сомнительный, подозрительный и очаровательный.
На фоне висел занавес со звездами835. В. Н. Соловьев, прелестнейший фанатик, тараторил, рассуждая о «шутках, свойственных театру», о «сцене ночи», а Доктор Дапертутто сидел с таинственной улыбкой или с трагической маской усталого до смерти лица, пока не превращался сам в Арлекина.
Фанатики commedia dell’arte давно развенчали Арлекина, <также как Пьеро>, а Коломбина была постыдным словом. — Смеральдина <служанка>, «цанни» эти новые слова, именно слова, а не сами маски (их никто не знал, не видел и верили барину — снобу Миклашевскому на слово). Тарталья — звучало бесспорно фантастичнее затасканного «Пьеро». Когда же Дапертутто выходил сам на просцениум, он все же возникал Арлекином, великолепным, острым, резким и, как ни странно, скорее прекрасным, пока он не уставал, сразу скрючившись в уродливого, смертельно измученного Пьеро. Мы все не любили григорьевского 386 портрета. Не мог долговязый увалень, половой в пиджаке Григорьев передать бесконечную прихотливость и изменчивую коварность М[ейерхоль]да, дар которого — переход от актера <человека> к Арлекину, из Неизвестного в мага неуловим, внезапен, он, подобно всякому «двойнику», всегда един в двух лицах сразу, и никогда не известно, где которое и то же ли это самое. У Григорьева же просто две разные фигуры рядом. Даже и не очень похожие.
Утром выходим на Марсово поле, и холодный, какой-то спокойно-застылый, не спящий, но как бы без мысли созерцающий воздух заливал сознание, заполняя голову, где тупо, похоже на слегка ноющую зубную, вернее флюсовую, боль, медленно перетаптываются обрывки будто [нрзб.], лишенных первой остроты, усыпленных образов и понятий минувшей ночи. Они действуют, заключенные в притуплённую, одурманенную форму, и кажется, что уколы иголок, боль неожиданного известия, также вне ощущения, вне реальной боли, отразится на моих чувствах, как на зубе, усыпленном кокаином, проходят операции будто извне, над чужим, посторонним телом.
А воздух вливается в эту голову, заливает уши, заставляя прислушиваться, как-то относиться к воле возникающего нового дня, но это уже обман. Белая ночь остается ночью, и этот нерассуждающий, неактивный воздух также вливается в окна домов, окутывает прозрачным пространством дворцы, арки, статуи, пространством как бы имеющим плотность и вид, но действительно абсолютно пустым, ясным, как отражение, как стекло. Свет от неба делает окна зеркалами или голубыми дырами, и дома приобретают графический вид, идеально удобный повод, тема для графиков, цель которых найти наибольшее количество разрывов между предметами — колонна в профиле фасада, арка, статуя на фоне светлого окна — все возможности света и тени разыгрываются белой ночью в иных, не дневных, комбинациях.
Но белая ночь не графика, там все формы плотно реализуются и делаются все же невесомыми. Это окутанные плотным, но пустым воздухом, странные, застывшие, но предельно реальные формы (когда выскакиваешь из этого оцепенения, то видишь: ведь вот же крыльцо, и извозчик, и лошадь, и изречения на стенах, но вот все опять как-то сдвинулось, соединилось и повисло над пустым провалом канала, и тогда кажется немыслимая невозможность, — массы висят в пустоте, над пустотой, вода же канала есть фон, далеко сзади, она написана на одной плоскости с небом и окнами, дома же, вырезанные макеты, стоят впереди. Опять приходится вернуться к подлинности, вставить воду в канал и облечь воздухом и светом. Свет белой ночью, так называемый рассеянный, — Камерный театр гордился своей системой рассеянного света, в «Фамире» из неизвестного источника проектировались на сцену цвета Анненского — опаловый {прочие посмотреть в «Фамире»}836. Цвет со скрытым источником, отраженный, он заполняет все пространство, все пустоты, он нигде не пятнит, не дает бликов, он ровно закрывает все пространство, излучает от являющегося зеркалом отражателем неба — вернее, не зеркало, то ровно светятся высоко стоящие массы воздуха, и от них свет мягко стелется к земле. Лишь медные части, над массами домов возвышающиеся точки, кресты и игла Адмиралтейства, горят ровным светом, как свечи днем, тая в воздухе, углубляясь и вновь при новом взгляде вещественно возникая.
387 Кажется, что сознание наблюдателя не может выбраться из этого состояния зачарованности, которая создает легенду «призрачного города», но это сознание само более чем пейзаж находится в этом заколдованном состоянии, позволяющим «остраненно» воспринимать картину. Так свет ночью кажется неожиданной фантастикой, позволяющей воспринимать обыденные предметы увиденными в первый раз, и вспоминаются гимназические классы, короткий темный день зимы, когда приходилось в классах днем зажигать свет, и они наполнялись новой прелестью, уроки начинали казаться нестрашными, казалось, что в этом дне, выведенном из плоского ряда отчетных дней, не могут уже происходить двойки, единицы или все школьные драмы обязательно будут носить совсем другой оттенок, может быть, безопасный или же чрезмерно трагический, тогда уже тоже не страшно, ибо страшна двойка, полученная во всей ровной неумолимости очередного понедельника, вторника, среды, все же прочие события уже прыжок в неизвестные пространства с недоказанными возможностями.
На Неве громоздятся баржи. Свету кажется немного больше. Мы вышли из окружения домов, запах свежести, смолы, прелого дерева, и хлюпает под барками вода, равномерный, последовательно, единственный звук, отчетливо слышимый, наверно, где-нибудь гудят гудки, но их не слышно, ухо отбрасывает, пропускает мимо этот привычный, ставший невоспринимаемым звук, баржи же ровно колеблются и хлопают, и хлюпают, пока напрягшийся слух не начинает слышать еще протяженное трение каната, скрип и напряжение, опять скрип, и канат отдается свободно, и опять хлюпает под кормой вода.
(Разговоры с Мюллером.)
Так шел я, и в памяти возникали представления, механически повторяясь и романтически переключаясь. Конечно, все, что происходило, было необыкновенным, и я становлюсь героем богемы, таинственного мира, магического царства, где тени Гоцци и Гофмана отражаются в водах Петербурга и вновь оснеженные колонны открывают силуэт рысака с Незнакомкой.
Я безумно боялся не поспеть, скорее вырасти, попасть и стать привычным, постоянным завсегдатаем в этом мире, настоящим художником, поражающим цитатами из французских символистов, перевоплощенным Гоцци. Я долго искал себе образы для перевоплощений, эти занятия тянулись до 22 лет, тогда была Гофманиада.
Там жар комнат, возбужденное состояние переключалось на восторг приобретения прав, молодость, мечтающая о старости. Я знаю секрет, — думал я, — больший, чем они все, о которых я мечтал как о своих поклонниках, — я знаю секрет претворения этого карнавала в подлинную фантастику.
Я шел, и мысли поворачивались жерновами, но свежий воздух наполнял уже и действовал, гальванизируя засыпающие нервы, газируя готовые к воплощениям образы.
Петербург населялся образами. Они появились со стен «Привала», идя по ассоциациям местным и рождаясь из уже переполненного готового резерва воображения. Вот он, воистину фантастический город, и сердце сжимается от умиления, 388 от восторга, что я сам здесь в нем живу, что я сам в абсолютной реальности его вижу. Эти чувства неверия в свое такое естественное счастье, подобны тому как рассматриваешь людей, фотографии которых видел в газетах, как иных людей. Не ты и не твои, а другие, особенные люди, и они-то, наверное, видят все это, а вот почему я сам вижу и даже живу в этом городе, непонятно и также неубедительно, уверения не помогают. Когда же задумаешься, где же мог бы ты жить, где не было бы этих возникающих как невозможность обыденных предметов — оказывается нигде.
Когда мне приходилось бывать в жалких городах в провинции — оказывалось это чувство имело силу и там, и доказывалось бессознательным желанием выдать себя перед встречным за местного жителя, хоть, в сущности, гораздо почетнее даже быть приезжим из столицы, и если эта мистификация удавалась и ваш собеседник начинал разговор тем бытовым, привычным тоном, каким объясняют дорогу своим старожилам, то я испытывал чувство радости и сердце ущемлялось слезами местного патриотизма.
В этом желании выдавать себя не за себя есть стремление быть тем человеком, которого фотографируют для журналов, а таким можно предположить любого матроса в Новороссийске или лавочника в Старой Руссе, скорее чем самого себя. Отсюда эти слезы неверия и надежды при созерцании Зимней канавки, уже более обоснованные — здесь была Лиза и Герман, т. е., которых не только снимают, но и показывают в театре, лица реальные жизненно и реальные исторические персонажи, для которых строился город, <стоящие колонны>, висящая галерея, созданная для них, которые они имели право созерцать, а не я, гимназист 5-й гимназии (одержимый манией величия).
Дома, дворцы, статуи, памятники начинают расти, наполняться, колоссальные коробки, наполненные Лизами, Настасьями, Иринами, Нинами в голубых, красных тюрбанах, страусовых перьях, и начинают проявлять свою плоть фыркающие лошади извозчиков, карет, ломовиков, наполняются треуголками, шляпами с полями [нрзб.], и статуи императоров взлетают над морем. Никогда не существовавшие люди: Онегин, Татьяна, Печорин, вокруг лошадей и морозного пара, сверкая мундирами, ведут свою «jeux de la Reine»837, и неведомый Медный Всадник с забытым именем грохочет по мостовой. О вы, северные отражения, тени, элизиум Венеции, невыкрашенный макет каналов с обесцвеченным воздухом и выморенным цветом оболочки. Вы, неведомой волей обреченные доживать здесь, в этих чертежах, этой графике, где вместо туши серая муть, — я лишь потомок великих поколений, тень Карло Гоцци встречалась с вами, последний осколок, обреченный вместо золотых крашеных волос искать метафизические облики Незнакомки. Вы могли обонять, гладить, целовать эти золотые, черные, желтые волосы, а я уже не могу и, главное, не хочу, ибо вы живы, вы плоть, а я отражение. В несуществующем мире философских концепций, — которым я являюсь, — я, изображение перевернутое, прошедшее сквозь линзу и отраженное на гладкой пустоте воздуха, иду искать Незнакомку, зная, что ее нет, но имея философский камень поэзии. Я богаче Вас, Вы имели в руках, теряли, боролись, я без борьбы создаю, и они в черных лифах, красных шелестящих шелках юбок мелькают уже передо мною — я даже беру красный цвет — Вы думали, я возьму голубой, нет, я умею создавать и надстройки над пределами, мне отведенными 389 обывательской традицией, они в шелках и черных шелковых паутиновых шелках.
Блок, отраженный на нас, — безвкусица.
Необходимо подчеркнуть моменты переключения литературы в жизнь, воплощение жизни в тень и то, как понятие, философски органическое, отражаясь на мне, развивается в виде декламационном и пошлом, но построенном на детской наивности. Дать момент, когда серьезная тема литературы в жизни переключается на детскую декламацию, и дальше, оборвав ее, в ремарках психологически объяснить.
Здесь я увидел, что в каком-то моменте моей речи, которая меня возбуждала, увлекала и волновала, я перестал ее любить, чувство восторга к себе у меня сменилось еле заметным опустошением, которое я не мог точно определить и вообще никак и не анализировал, но принужден был смолкнуть. Позднее многое я понял, что здесь было в том, что когда ощущение отрывается от живого чувства образа самого себя во плоти, то образ этот реализуется в формах действенных и убедительных, но есть момент переключения на литературу образа, на его литературную традицию, когда образ действует, как бы выбирая себе узаконенную данной традицией схему, но, будучи сам поражен ею же, на ее почве, не приправленной более индивидуальной окраской повествователя, обращается в бестелесное существо, голую декламационную оболочку. Так, порожденное на символизме ощущение, не пережитое органически, оказывается уже в образе мертвым, а в слове несделанным. Я не знал тогда, как и долго позднее, что намечающуюся мысль нельзя вставить в схему, когда она наворачивается, и нельзя говорить «да ведь это, в сущности, просто — Восток и Запад, или добро и зло».
Позднее я понял, что, обобщая таким образом, я не уяснял точнее мою мысль, а, наоборот, делал ее уже несуществующей, подводя под общие схемы; что, даже если естественный вывод из положений подводит к этому упрощению, то это делать все же нельзя, а что надо дать жить этой теме в ее несхематическом виде — тогда хоть одна частичка ее, характеризующая личные свойства, позволит ей самостоятельно дышать. Секрет не в том, что если одна форма — эстетство, а одно содержание — голый материал, то нужно слить эти формы, это бы давно всякий дурак придумал, а в неуловимом факте того, что Иван Иваныча нос на месте, а приставленный к Кузьме Ивановичу, не станет ни носа, ни Кузьмы Ивановича (что есть мировой закон, по которому Кузьма Иванович бы погиб, если бы это случилось, т. к. закон сохранения энергии, материала и пр.).
Здесь, возможно, или рассказ, переходящий на новую теорию, которая есть фальшь, или обрамление формы этих рассуждений. След или разговор двух философствующих людей… или Петрова-Водкина.
Странно, — сказал (в другой тетрадке — здесь добавлено слово «мне») М[ейерхольд], — вот сейчас мы стоим здесь, говорим о Пушкине, а разве отдаем мы отчет в том, что никакая Лиза у Пушкина с моста не бросается, никакой вообще Зимней канавки нет, что это только оперная ассоциация, а разве неуч <не понимавший ничего> в той прекрасной легкости, голой программки со студенческим надрывом, громоздящий натуралистические эффекты грамматических гамм 390 вместо (слово найти в «Аполлоне»… и лучше) мудрости дантовской комедии и цыганскую песню в девственной страстности Ромео, этот дядя Ваня конца XIX века, разве мог он как-то приблизиться к тому бассейну прозрачности, где кристаллизуются образы-сталактиты, а вот мы видим Зимнюю канавку и готовы даже вспомнить Германа.
(Возможно, разоблачение нападок на Чайковского.)
Я думаю о том, что отвечал я, что все эти образы, получившие кровь, вобравшие небо и воды из этих творческих озер, отделились и стали жить самостоятельно, что корни сгнили, ушел Пушкин, причина забыта, и они реют в просторе, их породившем, строятся здания, воздвигаются статуи, и все эти тени Евгениев, Германов, Лиз прикладывают свои руки к этому строительству, меняют перспективы, пробивают улицы, поднимают новые массы, <переливаются> изменяют окраску и с годами их строительство пересоздает физиономию — все эти дома, бывшие складами кирпича, начинают в этих кирпичах проявлять подобие колонн, замечаются дыры, называемые окнами и заполненные сонмами призраков Лиз, Наташ и Нин, появляются слитки бронзы — кто они? История стирает понятие императора, имя Фальконета, но возникает Медный Всадник. Он начинает грохотать по улицам, постепенно грохотание начинает звучать уже оркестрово, появляются тембры, оттенки его грохота (найти описание Белого, цоканье и пр.)838. Мы уже знаем, зачем он смотрит через Неву, наконец, сам казавшийся живым, автор появляется живою тенью на улицах, его замечают в Царском селе, и вот уже сам Александр Сергеевич Пушкин с мсье Онегиным стоит. Он уже жив, он имеет ту же плоть, как эти девы с урнами, «оснеженные» колонны, белый дом, солдаты играют.
Времена идут, — голубые с белым, желтые с белым перекрашиваются дворцы [«своей столицей новой недоволен государь», — написано над началом строки. — Е. С.], появляются темно-красные и черные — мы не помним черного Зубовского дома на Исаакиевской площади, но знаем отчетливо-ясно, что стоит черный дом на углу Садовой и Гороховой, топорный, тяжелый и мрачный, начинают жить серые дворцы и по Вознесенскому бежать маляры и краска капать с помостов (проверить у Достоевского), и вот пребывает новое поколение.
Переключение на фальшь.
Искусство влияет на нас, мы воспринимаем мир через искусство и через себя, на этом строится эпоха, которая тоже есть литературный факт, как и мы сами есть литература Бога-творца на материале вселенной — все комбинации суть взаимоотношение автора с материалом.
Милый мой, Ваша стилистика неудачна, Вы упираетесь в идею сомнительного качества. Я не уверен, что это вкус. К тому же это тема философская, зачем ее так упрощать. Создадим форму, она заживет сама. Вы ее плохо изложили, это плохо переваренный символизм с каким-то привкусом. Привкус странный, может, это Ваше своеобразие. Скорее, неграмотность. Вы еще студент в косоворотке, но вместо гаудеамусовской славянофильской безвкусицы Вы наметились на Незнакомку. Это то же самое.
Вы художник. Но не будем искать аналогий. Поэзия вовсе не живопись. Она прямо ей противоположна. За словами тянутся тени недосказанных образов. Образы ширятся в символы. Но каждый символ лишь вход в мир мифа, мир нереализуемых 391 зрительно понятий. Образы поэзии расширяются в формы, которые каждый волен перестроить по-своему. Там, где ты проложил лестницу, я создал подземное озеро. И так же легко могу я встретить там Цезаря, как ты Леонардо.
Армада кораблей Иллиады (список князей полка Игорева), они утратили конкретную живую видимость, мы не слышим голосов (но они продолжают свой путь через эпохи, и мы видим звон Армады, несущей через моря паруса Тристана или безумных испанцев). Но они плещут на волнах гекзаметра, на ухающих громадах десятисложных слов, на звоне свистящих, шипящих, и этот звон ложится в нашем сознании, испытавшем встречу с ветрами времен. Мы не видим, не знаем цвета. Но цвет звучит в нашем ухе. Разве слова «пурпур», «порфир», «багрец» не окрашиваются в нашем сознании в цвета, недоступные художнику. Ибо это только цвет. Это какое-то бесконечное измерение цвета. Я не могу променять море сапфира и бирюзы на лучшие марины художников. Эти марины предельны. А против названия «ультрамарин» есть образ <беспредельный> бесконечной глубинности и расширенности. Я не верю в синтетическое искусство. Это дешевка. Оно стремится навязать нам единый образ. Образ многолик, он хамелеон, меняющий окраску. Синтетическое искусство — преддверие социалистической революции. Не случайно Вагнер увлекался общественными идеями. Стремление Вагнера навязать мне свои очки, идея создания Байрейта839, всегда мне была противна. Вы знаете, что Дебюсси мечтал о своем Тристане840, Тристане, погруженном в фосфорические дали средневековья, наивном, прозрачном и бесконечно изменчивом, как зыбь на горном озере. А этот размышляющий немец превращает мир в плоский рецепт. Это умочная трезвость, уснащенная театральной бутафорией. Театр тоже площадь, место политических ораторов и плоского смеха толпы. Театр Храм Вагнера — храм <только> для массы, которая затоптала Дельфийские святыни. Тайна Бога снята, он стал общим достоянием. Ницше (последний лик Диониса) понял это и отвернулся от Вагнера841. Слишком поздно.
Вы слышите, как хлюпают баржи? Это хлюпанье Вы будете помнить через 10 лет так же отчетливо, как сейчас. Вы художник, но через месяц забудете очертания барок, цвет освещения, но звук Вы запомните. Он останется как некое ритмическое колебание. Его ритм неметричен, неравномерен, но однообразен. Но в этом скупом однообразии бесконечная ширина. Все ямбы, хореи сочетались в нем в единственной неповторимой для нас связи. Очевидно, это — рождение поэзии из духа музыки (Венеры из морской пены).
Милый мой! Ваши периоды бегут прерывисто. Я не понял Вашу вторую часть. Ваша поэма неудачна. Даже мне кажется, что она просто очень безвкусна. Вы уперлись в идею сомнительного качества. Вы <набрели> создаете композицию <существующих> обиходных образов. Это передвижничество. Ваш букет образов есть набор тем. А темы ничто. Они толчок для поэта, их породившего. Но там они часть поэзии. Ваша речь возможный сюжет картины. Ваша Незнакомка — отражение. Преподаватель словесности сказал бы Вам, что это не Ваши мысли. Но это грубо, как всякое упрощенное изложение. Для меня эти мысли безразличны, пока не уложились в форму, покрылись своей кожей, со своим отливом, своим пульсом, особенными своими нескладностями и причудливостями. Нескладности у Вас много. Но это примитивность молодости и уродливость задачи не по назначению. 392 Вы не будете, очевидно, поэтом. Скорее всего, наверное, потому, что Вы видите зрительно. И вот Ваши зрительные мифы меня заинтересовали. Черный дом Рогожина842 Вы заметили. Вы поняли его через раскраску 90-х годов.
А Ваш Медный Всадник меня взволновал меньше. Для Вас, очевидно, это наиболее ценный образ. Но для меня не важен Медный Всадник. Я не узнаю его в романе Белого. Вы его делаете все-таки живым, т. е. для Вас слово «Медный Всадник» — фабула. Для меня это не только два слова. И он может ожить в моей памяти в «Петербурге» безо всякой связи с Пушкиным. Там он вольется для меня как особенность при течении реки. Память о Пушкине окажется лишь особенностью фактуры. Вы рассуждаете сюжетно или, возможно, просто как художник. Тогда я прав. Вы делаете его единым и неповторимым, для нас же он в каждом случае вновь возникающий. Для меня значителен путь, совершенный именно Гомеровским списком кораблей через <особенности> причудливости эпох, Вы же готовы сравнить их с Непобедимой армадой.
Ну нет, поглядите-ка, подлецы, ну какой же это Блюхер, белогвардеец какой-то, товарищ командир, знаем же мы его, слава богу, не в первый раз видим, а этот (он прикрыл форму, оставив голову), вылитый контрреволюционер, показать им надо, мерзавцам, а ведь небось деньги платят, да еще какие! (Он перелистнул журнал.) Да, товарищ, не так все это у нас делалось, — показал картинку, где солдаты в белых костюмах, похожие на театральных статистов, что-то делали на песке. Голос его звучал угрожающе, как у слегка подвыпивших людей, а смотрел он на картинку, будто приговаривал к расстрелу, с раздражением большим, чем простая досада, с каким-то личным оттенком. «Да ведь это портрет, а не фотография», — сказал я с тем, как мне казалось, несомненным удивлением, что нельзя судить портрет по признакам сходства. Конечно, он это не понял, даже не удивился, скорее, мое вмешательство само по себе показалось уже ему обидным. «Тем более, если портрет!» В этом ответе заключалось его эстетическое credo, вера, неизвестно какими традициями внушенная, неподдающаяся анализу (для него вообще не существовало анализа), что портрет, конечно, еще более обязан быть точно фотографичным, чем фотография, и этой немудрой задачей ограничивалась цель живописи. Внезапно ему показалось, что его в чем-то могут заподозрить, и он заметил с легким раздражением: «Я там не разбираю, что портрет, что снимок, это пусть те, кто знают, сами разбираются!» Этим он решительно отрезал от себя тот клочок постороннего мира, который грозил забраться в его область и вызвать колебания, смуту, о которых он, конечно, не думал, но где-то бессознательно это почуял и перевел разговор. Да и Блюхер, и Семен Буденный, и Каширин — все свои ребята, глаза его угрожающе взглянули, «много, товарищ, дел делали, а помнишь Мишу Т.»843, — обратился он к командиру. «Такой головы не везде сыскать». Я заметил, что знаю Т. И действительно, он человек исключительно культурный. Он выслушал мою тираду с легкой обидой и тоже ее не понял, а может быть, и действительно, плохо усвоил и продолжил уже угрожающе говорить, как бы я ничего не сказал, продолжая разговор. «Да, товарищ, я где-то тебя видел, но ведь я тебя не знаю, я не знаю, кто ты, так помню только, что где-то встречались», — повторил он грозно, как будто видел меня не иначе, как врага, лицом к лицу, [нрзб.], но я знал, что это он просто усиленно проводит границу, дабы установить части на 393 заранее подготовленную позицию. «А вот М. Т. ни один видел. Грозы его были» [текст обрывается. — Е. С.].
В детстве я любил разбирать слова, вскрывая заумный смысл, цепляясь за ассоциации, разыскивая историю.
Осмысление слов, сюжетное раскрытие их чаще движется наперекор первейшему основному поэтическому значению. Неотразимей всего притягивали меня названия станций. Здесь раскрывались сложнейшие темы целого комплекса ощущений, география, делаясь историей, создавала ощущение движения, поднималась до широких образов и, ввинчиваясь в недра слов, рождала таинственные внесмысловые обобщения. Так разворачивался вначале пейзаж станций: «Красные пруды» представлялись красными (непонятный пейзаж — киноварь ли иконы, или закат), смысл красивые психически не приемлется. «Березки», «Сухой бор», «Красный холм», «Долгопрудная», «Погосты», «Чаща», «Всполье», — после [пропуск в тексте. — Е. С.] стало просторно, и тут «Взгляды» — значение пространства и ассоциация неожиданно расширившихся после «Чащи» и «Бора» глаз, — так путешествие по путеводителю воздействием словесных загадок получало реальность движения и сердцебиения.
Дальше бежали «Векши», «Жаворонки», «Снегири», «Русаки», «Росляки», «Поныри». И тут «Росляки» уже представляются маленькими, крошечными, все в один рост, кто они, неизвестно, — слово родило эти существа, и они бегут за русаками приземисто и верно. А «Поныри», как нахохлившиеся птицы под дождем, уселись по заборам; дальше «Громы», «Красный рог», «Темный лес», «Белоглавая» — опять отдых после бурь и страхов, — а «Белоглавая» воспринимается уже не как существо, а только как слово, имеющее реальный смысл и утеривающее его мгновенно при попытке сюжетно понять или материально оформить. Пейзажи идут без конца: «Гриблянка», «Гладкий лог», «Подсевы», «Огарелье», «Березайки», «Чернозем», «Скит», «Зеленец», «Ясная поляна», «Выползово», «Погорелое городище».
Но есть другие слова, растущие вширь, расползаясь по земле, накатывая, как снежные комья налепляют объемы, — все различия ощущений, осязания, плотности, объема, фактуры, материала и опять же смысловых ощущений, связанных с этими понятиями, «Бычиха», «Опухлики», «Колодня», а вслед усиление древесной массы фактуры.
ОБСУЖДЕНИЕ
АКИМОВСКОГО «ГАМЛЕТА»
ВТО. Кабинет Шекспира. 29 сентября 1943 г.
Публикация, вступительный текст
и примечания М. В. Заболотней
19 мая 1932 г. в Театре им. Евг. Вахтангова состоялась премьера «Гамлета» У. Шекспира. Постановщиком и художником спектакля был Н. П. Акимов, режиссерами Б. Е. Захава, П. Г. Антокольский, И. М. Рапопорт, Р. Н. Симонов, Б. И. Щукин, композитором 394 Д. Д. Шостакович. Артисты и прежде всего Николай Акимов, увлеченные работой, словно и не заметили (или не захотели заметить), что наступила уже другая — и календарно, и художественно — эпоха, название которой «30-е годы», что в ходу другие понятия и критерии. Принцип «единственно верного» все решительнее занимал ключевые места в театральной практике. В оценке спектакля главной становилась оппозиция «правильное — неправильное». Эпохе требовались «правила» и «образцы», коим нужно следовать и подражать. Если, скажем, в 1927 г. Павел Марков писал о «стабилизации театральных стилей», то теперь множественное число было в опале. Речь шла о выработке единого стиля с неизбежно вытекающей системой поощрений и запретов. Спектакль Акимова с его эстетикой и свободой обращения с драматургическим текстом следовал заветам 20-х гг., содержанием был обращен в настоящее и будущее. И то, и другое, и третье — все оказалось непростительно.
Время подавало знаки задолго до премьеры. Весной 1931 г., когда работа над «Гамлетом» еще только завязывалась, Акимов писал Н. В. Петрову, с которым в ту пору интенсивно сотрудничал: «Дорогой Николай Васильевич! Посылаю афишу “Страха”844. Идея: страх уничтожает сам себя. (Диалектическое противоречие!) Посылаю отчет из “Вечерней Москвы”845 о моей кипучей деятельности. Увы: должен задержаться еще до 15-го (я Вам говорил, что вернусь 18-го). Было бурное заседание Художественно-политического совета, и не кончилось. <…> Я очень вырос за последние дни, интеллектуально и политически, т. ч. пышные шекспирологи и социологи вынуждены были признать правильность моего плана. Но есть новые осложнения, о коих — лично. Кое-кто в театре даже перестал со мной здороваться»846.
В этом письме знаменательно смешались, казалось бы, совсем разные сюжеты: «Страх» и «Гамлет», а именно он скрывается за глухим упоминанием о Худполитсовете. Дважды — 22 марта и 16 мая 1931 г. — Акимов выступил с докладом о постановке «Гамлета» на расширенном пленуме Художественно-политического совета театра с участием представителей Комакадемии, РАППа, Всероскомдрама847.
Вряд ли Акимов предполагал весь масштаб «осложнений», хотя разрыв между «правящей группой» и «гуманистами» ощущал как критический и закладывал эту тему в режиссерскую экспликацию «Гамлета»: «<…> в “Гамлете” мы имеем первое предостережение: в нем говорится, что, если роль и значение гуманистов не получит признания, то ни гуманисты, ни правящие группы от этого никакой выгоды не получат, а радоваться и пожинать плоды будут третьи лица»848.
Освистанный критиками и начальством, «Гамлет» тенью преследовал своего создателя на протяжении всей его жизни. На собрании ленинградских работников искусств, посвященном обсуждению статей в «Правде» «О борьбе с формализмом» (1936), Акимов выступил с прочувствованным заявлением: «Мне кажется, товарищи, что у нас в Ленинграде есть одно большое зло: это театральная бедность. Мы знаем, что, сравнивая наш драматический фронт с драматическим фронтом Москвы, нужно сказать, что мы как-то остаемся во второй очереди. И мне думается, что одним из следствий этой бедности (может быть, в данном случае и хорошим) будет то, что у нас нет, в сущности, законченных театральных формалистов (смех), как в Москве, и нам, в плане подготовки к дискуссии, приходится гримировать того или другого работника под такого формалиста. И вот этой чести в первую очередь удостоился я (смех). Я заявляю категорически, товарищи, что сделать из себя городского формалиста я не позволю (аплодисменты) <…> Я всегда завидовал профессиям, где автор получает авторские, но таких авторских, какие я имею с “Гамлета” вот уже 6-й год, никому не пожелаю»849. Режиссер справедливо напомнил аудитории, что «Гамлет» — одна из 87 его театральных работ, причем после «Гамлета» было сделано еще 19 спектаклей. Тем не менее клеймо «формалиста» оказалось прочным. Но отрекаться 395 от своей постановки он не собирался и в том же 1936 г. опубликовал режиссерскую экспликацию «Гамлета» в сборнике «Наша работа над классиками».
Естественно, возникают два вопроса. Как в 1943 г. акимовский «Гамлет», давно похороненный (он шел один сезон — 1932/33 г.), мог стать предметом обсуждения? И каким образом тональность этого обсуждения оказалась столь непредвзятой, когда преобладающим стало желание не защитить или осудить, но понять? Ведь собравшиеся поставили под сомнение аксиомы, среди которых идейная порочность акимовского «Гамлета» была одной из самых безусловных.
Шекспир в России 1943 г. — это больше, чем Шекспир. Он стал культурным и политическим символом, объясняющим, что общего у Советского Союза с англосаксонским миром, кроме ленд-лиза и ненависти к фашизму. И тогда яснее становится проведение Шекспировской конференции весной 1943 г. и Шекспировского фестиваля в Армении (1944). Последний был поддержан и британской стороной. Подготовка к фестивалю велась на протяжении 1943 г. Возможно, в связи с ней возникла необходимость теоретического осмысления острых проблем советской шекспирианы.
«Священная война» многое переменила и в самоощущении советских людей, почувствовавших себя не «винтиками», но субъектом истории, и в политике власти, которая вдруг заговорила человеческим голосом: «Братья и сестры…» Тема «внутреннего врага» померкла перед реальностью «нашествия». А естественное единение советского народа в этой ситуации оказалось вовсе не связано с единомыслием. Все это в сумме формировало ту тенденцию, для нейтрализации которой впоследствии потребовалась «борьба с космополитами».
Таков контекст заседания Шекспировского кабинета, состоявшегося 29 сентября 1943 г.
Как любой документ, этот — фотоснимок эпохи и психологический портрет каждого из участников заседания. Через отношение к спектаклю и Акимову в большей или меньшей степени высвечивается масштаб их личностей. Круг заседавших достаточно узок, а потому неофициальность разговора, даже некая доверительность, домашность атмосферы все-таки ощущается. Тут выяснилось, что Н. Н. Чушкин четыре раза смотрел акимовского «Гамлета», что Е. М. Голышева считает «яд постановки» неизлечимым из-за театральной серости, царящей в Москве. И только один М. Б. Загорский никак не мог успокоиться, допытываясь у Акимова, признает ли он свои прежние ошибки. Человеческие метаморфозы не коснулись самого Николая Павловича. И если помнить, что время обсуждения «Гамлета» — это время работы Акимова и Евгения Шварца над «Драконом», что эта «бомба» скоро разорвется в Москве в Театре железнодорожного транспорта, картина проясняется.
Нельзя сказать, что опыт этого обсуждения как-то закрепился в последующие годы. Даже председатель Шекспировского кабинета М. М. Морозов в 1947 г. в своей статье «О Шекспире на советской сцене» утратил былую доброжелательность. Так, он писал: «Вся эта порочная линия нашла, пожалуй, предельное свое выражение в пресловутом спектакле “Гамлет” на сцене Театра имени Вахтангова в 1932 году. Постановщик Н. П. Акимов исходил только из одного принципа: ставить все “наоборот”»850.
Лишь Н. Н. Чушкин в гораздо более поздней монографии «Гамлет — Качалов» попытался найти широкий взгляд на акимовский спектакль, но и он не обошелся без оговорок. Вот строки из нее: «Для расширения “социальной среды” в “Гамлете” Акимов стремился ввести целый ряд придуманных им пантомимических сцен и бытовых эпизодов, вроде ночного дозора ландскнехтов в первой сцене, картины религиозной процессии во втором акте, пантомимы пира в четвертом и др. Он хотел создать полную живописности и богатства действия, жизнерадостную, яркую и шумливую картину жизни XVI столетия, где орудует герой веселой, остроумной комедии — Гамлет 396 без гамлетизма, стремительный в своей деятельности, где, наряду с так называемыми официальными элементами истории, присутствует и ее плебейский, демократический элемент, так ярко изображенный на картинах нидерландского художника Питера Брейгеля Старшего, “мужицкого Брейгеля”, как его называли. <…> Но дело заключалось в том, как это “брейгелевское” использовалось Акимовым. <…> Иронически разоблачительный показ событий, данных на фоне “сочного реализма” XVI века, превращал трагедию Шекспира в веселую авантюрную комедию с занимательной интригой, где ради стремления к “современности” и “материализации” пародировались и тема произведения, и смысл его образов»851.
Пожар московского Дома актера унес много тайн, в том числе и Шекспировского кабинета, в котором десятки лет работала ученица Б. В. Алперса Елена Михайловна Ходунова (1921 – 1997). Когда в СТД упразднили Кабинет западноевропейского театра, а вместе с ним и ставки его референтов, она продолжала ходить на работу, чтобы хранить ценности. В бывшем Кабинете Шекспира высились старинные шкафы, огромный портрет великого британца давно был снят с гвоздя и стоял прислоненным к стене. Работу перестроечных функционеров 14 февраля 1990 г. довершила стихия. Каждый день Елена Михайловна забиралась на шестой этаж сгоревшего дома на Тверской, авоськами выносила черные и мокрые фотографии, высушивая их на батарее своей квартиры, сваливала горками документальную гарь, осторожно перебирала скрученные от огня и воды драгоценные листы. Она делала, что могла и как умела. А сгоревший документ, о котором идет речь, спасла, сама того не подозревая.
Задолго до пожара Елена Михайловна на время доверила мне его для написания дипломной работы о «Гамлете» Н. П. Акимова. Текст стенограммы мною был точно перепечатан, оригинал возвращен. Так копия стенограммы и осталась тихо лежать вместе с другими акимовскими документами, дожидаясь своего часа.
В фонде ВТО, хранящемся в РГАЛИ, такой стенограммы обнаружить не удалось, хотя есть другие, близкие по характеру материалы: стенограмма беседы с Акимовым «Реализм в искусстве» от 28 сентября 1945 г. (Ф. 970. Оп. 21. Ед. хр. 1668), стенограмма заседания Шекспировского кабинета 2 апреля 1943 г. «Проблема изучения западноевропейского репертуара» (Ф. 970. Оп. 21. Ед. хр. 1155), стенограмма доклада Сергея Радлова «Моя работа над Шекспиром», сделанного 7 декабря 1934 г. (Ф. 970. Оп. 21. Ед. хр. 1193).
Таким образом, читателю приходится иметь дело с необычного рода публикацией — публикацией документа, которого не существует.
ВТО. Кабинет
Шекспира
18-е очередное заседание, посвященное Шекспиру.
Доклад Вендровской Л. Д.852
«Гамлет» в Театре им. Евг. Вахтангова
29 сентября 1943 года
МОРОЗОВ М. М.853
Товарищи, разрешите начать наше очередное шекспировское заседание. Сегодня наше заседание посвящено выступлению Любови Давыдовны Вендровской, которая является консультантом нашего Кабинета Шекспира и западноевропейского театра. Этот доклад является отчетом Любови Давыдовны о проделанной 397 ею работе. Это прежде всего наша внутренняя кабинетная работа. Мне кажется, что постановка этой темы является чрезвычайно интересной именно в этой очередной работе нашего кабинета. Почему именно сейчас эта тема является для нас особенно интересной и нужной? Я должен прежде всего подчеркнуть тот факт и высказать то глубокое мое убеждение, что наше сегодняшнее собрание отнюдь не является возрождением тех споров, которые имели место 12 лет назад. Сейчас нам совершенно неинтересно говорить о трактовке «Гамлета» и т. д. Об этом уже писалось, об этом уже говорилось, и это все уже отошло в прошлое. Но один факт остается несомненным, что эта постановка в истории нашего театра как-то очень ярко запечатлелась. Независимо от того, относимся ли мы отрицательно или положительно к данному истолкованию шекспировского «Гамлета», но что-то тут существенное было. И я бы сказал об этой постановке следующее. Я думаю, что и сам Николай Павлович не будет спорить с тем, что в основном тот образ Гамлета, которого мы увидели на сцене Вахтанговского театра, не соответствует тому Гамлету, которого создал Шекспир. Мне кажется, не стоит спорить о том, что Горюнов854, когда играл Гамлета, отнюдь не был похож на человека эпохи шекспировской, эпохи елизаветинской. Всякий человек, который знает ту эпоху, который читал письма людей той эпохи, который занимался ею, скажет это.
Но возникает вопрос: похож ли тот Гамлет, которого мы привыкли видеть на сцене, тот «бархатный принц» — на образ, созданный Шекспиром? А ведь наш театр стремится к правде. Вот тут, в связи с этой постановкой, мне приходят в голову те антишекспировские теории855, которые имели большое распространение и имеют даже сейчас. В Америке выходят два бэконовских журнала, которые приписывают все произведения Шекспира Фрэнсису Бэкону856. И существует такой взгляд, что все это вздор, сплошная чепуха. Так писал профессор Московского университета Стороженко857, человек, к которому я, при всей моей любви к Шекспиру и уважению к очень многим русским исследователям Шекспира, в том числе и Соколовскому858, испытываю неприязненное чувство. Стороженко пишет: «Сумасшедший тот, кто приписывает все сочинения Шекспира Бэкону»859. И когда думаешь, почему же возникли эти теории, то, мне кажется, они возникли в противовес той сусальной биографии, которую создала викторианская Англия, которая сделала из Шекспира викторианца, которая изображает Шекспира как патриархального, добродетельного филистера, который наслаждается жизнью, покупает дома в Стрэтфорде и т. д. Но мне казалось бы, что все эти теории, при всей их ошибочности, надо всякому честному шекспироведу знать. Всякий, кто занимался Шекспиром, должен знать все это. И Люннея860, хотя он был совершенно сумасшедшим, который нашел, что если сложить 1, 13, 26 и… то получится «Я — Бэкон». Если сложить 7, 18 и… получится «Люнней — дурак». И действительно, получается. Но все-таки у Люннея есть очень интересные моменты.
И вот крупнейший наш театральный художник, замечательный художник, — я просто сейчас, видя отдельные рисунки Николая Павловича, смотрю на эти театральные эскизы и восхищаюсь его громадным даром театрального художника отнюдь не только сатирического, отнюдь не только сухого, а художника очень большой взволнованности и эмоциональности. (Я напомню хотя бы его замечательный 398 портрет Шостаковича861. Так показать Шостаковича, как он его показал на портрете, — это просто счастливый случай, что так Шостакович отображен в живописи.) Выдающийся режиссер ставит «Гамлета», ошибается, может быть, во многом, в основном, но возникает вопрос: а может быть, есть здесь какие-то моменты, которые можно извлечь отсюда и могут оказаться полезными для советского театра, может быть, здесь есть что-то очень крупное? У меня возникли эти мысли в связи с его рисунками Гамлета, который притворяется сумасшедшим и мальчишки над ним смеются. Говорят, что все это идет от Саксона Грамматика862. Нет, это идет от английской народной баллады. Я вдруг почувствовал здесь веяние народной английской баллады. Мне показалось, что это очень похоже и близко. И ведь язык Шекспира страшно похож на язык английской народной баллады. Это родство с английской народной балладой заставляет говорить о том, что, может быть, есть какие-то большие и существенные моменты, которые могут быть использованы нашим театром, не говоря уже о том, что этот факт существен в истории советского театра, а историю советского театра нужно создавать и создавать, конечно, по разделам, и одним из таких разделов является Шекспир.
Задача нашего Кабинета поднять эти вопросы, изучить их, помочь созданию истории советского театра, и, конечно, это очень существенно для понимания самого Шекспира, ибо теорий о «Гамлете» существует сколько угодно. Была даже серьезная книга, написанная о том, что Гамлет — женщина863, которая была влюблена в Горацио. И даже был такой американский фильм. Когда он, вернее, уже «оно» умирает, у него расстегивается камзол, Горацио видит, что это женщина, и говорит: «Мы могли бы быть счастливы»864. Существовала даже такая теория, что как будто бы Гамлет подстроил это привидение, что это был переодетый Бернарде Существует даже такой человек — Москаленко865 — очень интересный человек, который писал такого рода книжки, бесконечное число (будь он американцем, он пользовался бы громадной известностью), он писал, что призрак — это переодетый Бернарде Можно сказать, что это переодетая Офелия. Можно представить и что-нибудь другое. Не в этом дело, а дело в том, что тут участвует очень большой художник и очень большой Вахтанговский театр, и потому это должно что-то дать.
ВЕНДРОВСКАЯ Л. Д.
Михаил Михайлович сказал здесь о том, что мы не собираемся возобновлять споры, возникшие 12 лет назад. Мы хотим просто рассказать историю и метод создания одного из значительных шекспировских спектаклей в истории советского театра.
Нужно вспомнить время, когда был создан этот спектакль. В апреле 1932 г. был ликвидирован РАПП866, а премьера этого спектакля состоялась 19 мая 1932 г., то есть это значит, что спектакль зарождался как раз в период самого большого расцвета вульгарно-социологических РАППовских идей, и поневоле, прямо или косвенно, с ними приходилось считаться. «Гамлет» тогда вообще просто не был бы разрешен для постановки на сцене в нормальном виде. Классика отрицалась тогда и, в частности, именно «Гамлет». Пьеса, в которой фигурирует призрак, 399 считалась абсолютно неприемлемой, была просто недопустима в то время с точки зрения Реперткома867.
Акимов рассказывает, что, когда он пришел в Репертком с проектом постановки «Гамлета», ему сразу задали вопрос: «А что вы собираетесь из него сделать?» Никто себе не представлял, что «Гамлета» вообще можно поставить. У Акимова это была первая его режиссерская работа. А Николай Павлович, как человек очень смелый в искусстве, решил пойти по линии наибольшего сопротивления: для того, чтобы испробовать свои силы в режиссуре, он решил взять самую неподходящую, с его точки зрения, пьесу, и такой пьесой оказался «Гамлет». Он сам рассказывает о том, что эту пьесу он не читал с детских лет и у него было общее представление об этой пьесе как о мистической, скучной, с героем — Гамлетом — нытиком, меланхоликом, сомневающимся, колеблющимся. Нужно было такую пьесу с таким героем взять и поставить на сцене. Но как было ее ставить? Во-первых, Николай Павлович прочитал ее и вдруг неожиданно обнаружил, что это отнюдь не такая пьеса, какой она представлялась всем, с тем грузом идеалистических трактовок и толкований, которые пришли к нам в XX век из XVIII и XIX веков868. Он увидел не скучную, мистическую пьесу, а очень веселую, исключительно сценичную, авантюрную комедию с динамическим действием, материал для занимательного комедийного спектакля. Николай Павлович Акимов решительно отверг все прежние идеалистические трактовки. Он заявил, что он хочет снять с этой пьесы идеалистические покровы, которыми она была окутана в течение нескольких веков, показать такого Гамлета, каким его создал Шекспир. В своем режиссерском докладе Николай Павлович говорил: «“Гамлет” просидел несколько веков в плену у идеалистов. Цель и смысл постановки “Гамлета” в наши дни — вырвать его из этой тюрьмы, доказать непричастность его к многочисленным “пришитым” ему взглядам и впервые показать толстого, веселого, остроумного, злого Гамлета, наделенного предрассудками своего века, но не последующих веков, и гораздо большего материалиста, чем многие наши современники».
Такова была идея. Темой пьесы является борьба за престол, вернее, основная интрига пьесы для Акимова заключается в борьбе Гамлета за престол, узурпированный его дядей Клавдием, убившим его отца. В своем режиссерском докладе Акимов говорил, что нужно показать конкретно-исторические условия XVI века, Гамлета показать в реальной обстановке, а с другой стороны, сделать его близким и понятным нашему зрителю, а для этого в качестве первого условия для достижения цели — нужно снизить внешнюю форму трагедии. «Вместо обычной отвлеченной обстановки нужно показать Гамлета на реалистической почве, Гамлета, который ест, пьет, спит. Только так можно сделать его понятным. Местами даже нужно подставить под текст целый действенный сценарий, который сделает этот текст наиболее выразительным». И Акимов чрезвычайно искусно, с большой изобретательностью создает «действенный сценарий» и всю работу над пьесой подчиняет теме борьбы за престол, причем текст, композицию пьесы, образы, созданные Шекспиром, подвергает соответственной переработке на фоне своего собственного «действенного сценария».
Начинается спектакль. Гамлет возвращается в Данию. Тут идет знаменитая сцена, когда ему является призрак отца и рассказывает ему о причине своей смерти. Как же трактует это Николай Павлович? Он говорит о том, что, когда 400 Гамлет вернулся домой, до него дошли слухи о насильственной смерти отца, и он решает проверить это путем сложной мистификации. Он сам переодевается призраком. В спектакле была сцена в арсенале, та сцена, где впервые Гамлет встречается с Горацио и офицерами, с Бернардо и Марцелло. Тут, в потайном шкафу, хранятся старые доспехи отца Гамлета. Офицеры и Горацио уходят, и Гамлет примеряет доспехи. Таким образом, предвосхищается, что он и есть этот призрак. Затем идет сцена на руинах, где ему является призрак отца. Появляется он сам, переодетый в доспехи отца. Тут ведь происходит знаменитый диалог между призраком и Гамлетом. Гамлет сам произносит монолог, составленный из двух текстов, и за себя, и за отца, причем Горацио — его сообщник в этом деле.
После сцены у руин, когда Гамлет спускается сверху, идет сцена клятвы, где он говорит Бернардо и Марцелло, чтобы они не выдавали его тайну. Голос отца из-под земли, который слышится, имитирует Горацио, причем он произносит слова в глиняный горшок, а Гамлет толкает его ногой, намекая, чтобы это не было чересчур заметно офицерам, которые приносят клятву. Для такой версии Акимов получил подтверждение у Эразма Роттердамского в «Коллоквиях»869, где говорится, что передовым людям эпохи Возрождения, гуманистам были чужды предрассудки и что два молодых человека однажды мистифицировали одного священника, инсценировав появление духа, причем там была использована белая простыня, миска с тлеющими углями и глиняный горшок, в который они говорили слова, чтобы голос имел потусторонний оттенок.
Тут был монолог Гамлета-призрака вместо диалога, но зато «Быть или не быть?» был решен как диалог между Гамлетом и Горацио. Монолог, который представляет собой единое целое, был разбит на части. Иногда даже одна фраза прерывалась посередине, начинал Гамлет, а продолжал Горацио, и наоборот. Но особенно интересно, в каком месте спектакля это было. В пьесе монолог произносится в сцене перед первым свиданием Гамлета и Офелии. Здесь же он был перенесен в сцену репетиции актеров к предстоящему спектаклю. Сцена спектакля, в свою очередь, была разбита на две: репетиция и спектакль. Репетиция эта происходила в винном погребе. То, что в тексте напечатано как ремарки, это говорит Гамлет актерам. Когда актеры кончают репетицию, они оставляют на столе бутафорскую корону (золотую), Гамлет остается один. В это время спускается подвыпивший Горацио с двумя кружками пива. Гамлет надевает корону на голову и, касаясь ее рукой, говорит: «Быть или не быть?» — быть или не быть ему королем. А дальше идут размышления о жизни и смерти, текст, который не имеет никакого отношения к вопросу о престолонаследии. Это пример механического использования своей основной мысли.
Акимов хочет изъять всякую философию из этого спектакля, в частности из образа Гамлета, и непосредственно после диалога «Быть или не быть?» идет кусочек, взятый совсем из другого места. Кончается текст диалога: «Теряют имя действия…»870 — и Гамлет продолжает:
«Достаточно об этом.
Сегодня перед королем играют;
Одна из сцен напоминает то,
Что я тебе сказал про смерть отца»871.
401 Акимов старается снять все эти философские рассуждения. «Быть или не быть?» никуда не выкинешь из спектакля, но главное — это интрига, которая должна помочь выяснить причину смерти его отца. И дальше по всему тексту были сделаны такие купюры, которые снижали образ и лишали Гамлета тех красок, которые хоть сколько-нибудь напоминали бы о прежних трактовках Гамлета — сомневающегося, колеблющегося. Так, была снята вся сцена с первым актером, весь монолог о Гекубе, где Гамлет клеймит себя, свою слабохарактерность и безволие; сцена с матерью, где он открывает перед ней свое сердце, где он ласков с ней. Интересно, что даже в характеристике Полония, который, конечно, чужд всяких моральных принципов, были сделаны соответствующие сокращения. Полоний говорит Лаэрту, когда тот уезжает во Францию: «Но главное, будь верен сам себе, ты и другим вовеки не изменишь». «Ты и другим вовеки не изменишь» вычеркивается, остается только первая часть. Такое сокращение опять-таки изменяет тот образ, который был дан Шекспиром, придает ему иную окраску.
Теперь об отношении Гамлета к Офелии. У Акимова Гамлет Офелию не любит. Он говорит, что если бы Гамлет любил Офелию, то он был бы тогда не Гамлетом, а Ромео. И в соответствии с этим вычеркивается такая строчка у Офелии: «Он о своей любви твердил всегда с отменным невежеством». Офелия не тот голубой образ, который был принят в прежней трактовке. Это — легкомысленная, пустая девушка. Она не сходит с ума, а напивается пьяной на пиру у короля и тонет в пьяном виде в реке. Здесь интересно вспомнить не только то, что было в спектакле, а те многие неосуществленные замыслы, которые были в режиссерском докладе и которые могут охарактеризовать еще ярче принципы этой постановки. Для Офелии были задуманы две интермедии, как раз характеризующие ее отношения с Гамлетом. Одна интермедия: молодой человек стоит за окном Офелии и разговаривает через окно с ней. Когда появляется Полоний, он прячется. Полоний дает Офелии наставления, как себя вести, она говорит, что будет слушаться, а когда Полоний уходит, этот молодой человек опять появляется.
Вторая интермедия. Гамлет висит под окном Офелии на свисающем плюще, она его прогоняет. Он спрыгивает и попадает прямо в объятия какой-то проходящей крестьянской девушки. В это время другой молодой человек влезает в окно к Офелии. В спектакле многое было выпущено по техническим причинам, потому что спектакль был очень длинный. Выпала сцена на кладбище, где Гамлет говорит, что он любил Офелию, как сорок тысяч братьев. Эта сцена должна была быть не похоронной, печальной. Это был солнечный день, весенний день, много цветов, веселые могильщики, которые шутят, смеются. Владимиром Массом872 был написан злободневный текст. Один могильщик лежал и спал, прикрытый чем-то, причем с одной стороны торчали его ноги, а с другой — сапоги, и второй могильщик ходил вокруг и никак не мог понять, почему у его товарища четыре ноги. Когда сцена на кладбище была изъята, оттуда был взят монолог «Бедный Йорик» и из четвертого акта перенесен во второй, в сцену, когда впервые у Гамлета появляются Гильденстерн и Розенкранц. Сцена происходила в библиотеке Гамлета. Горацио и Гамлет — студенты, они занимаются науками. Гамлет читает Эразма Роттердамского, а наверху, на хорах, Горацио сидит около скелета 402 и изучает анатомию. Могильщик принес им для занятий анатомией череп. Здесь и был вставлен кусочек из монолога «Бедный Йорик».
(Вопрос: Почему не пошла сцена на кладбище?)
Потому что спектакль был очень длинным. Кстати, слова Гамлета о том, что он любил Офелию, «как сорок тысяч братьев», предполагалось произносить иронически.
Если говорить о «действенном сценарии», созданном Акимовым, то тут были очень интересные моменты. Акимов сам говорил, что в этом спектакле действие должно быть дано реалистически и даже натуралистически. А с другой стороны, тут были вещи настоящей высокой театральности и взволнованности, доходившие почти до каких-то социальных символов. Мне хочется здесь остановиться на том, чего зрители не видели. Многие, может быть, видели этот спектакль, но интересно то, что было задумано, но не осуществлено. Это интересно для характеристики совершенно безграничной фантазии Николая Павловича и его очень острого зрения. Вот начало второго акта, которое было потом отменено. Полоний дает поручение Рейнальдо следить за его сыном. Предполагалось, что эта сцена начнется процессией нищих. Под звуки фокстротной и чарльстонной музыки, написанной Шостаковичем, они изображают пляску святого Витта. Среди них Рейнальдо на тележке, в виде безногого. Он симулирует нищего и в таком виде шпионит для Полония. Во время разговора Полоний сбивается с мысли, так как его отвлекает резкий визг поросенка. Это приближается «сумасшедший» Гамлет, который тащит за собой на веревке поросенка. Рейнальдо на своей тележке раскатывается прямо под ноги Офелии. Все это происходит страшно весело.
Здесь в спектакле сцена с Рейнальдо была совсем отменена. Здесь происходила жанровая сцена во дворе Полония: одни слуги выбивают ковры, другие идут с рынка с корзинами, наполненными провизией, третьи прогуливают живых лошадей, солдаты дерутся и т. д. Появляется Гамлет в белой рубашке до колен, с кастрюлей на голове, с морковью в руках, за ним бегут мальчишки. Он изображает сумасшедшего. Это — бытовая сцена. С другой стороны, сцена в ателье художника, который пишет с короля портрет. Король стоит в мантии, с державой и скипетром в руках. В это время приходит Полоний и рассказывает, что он доискался до причины сумасшествия Гамлета. Король вылезает из этой мантии, и оказывается, что это просто пустая бутафорская форма, которую поддерживают трое слуг. Эта сцена доходит до каких-то социальных обобщений.
Раньше эта сцена предполагалась у портного и разрешалась в бытовом плане. Клавдий примеряет костюм старого короля, который ему перекраивает портной. Он хочет взять письмо из рук Полония и путается в длинных рукавах, не может взять письмо.
Я напомню замечательную сцену «Мышеловки». Сначала показана репетиция в винном погребе. Сам спектакль происходил за сценой. Показан вестибюль, проходят придворные, слуги, Гамлет с Офелией сидят наверху, они смотрят за кулисы на спектакль. Офелия говорит: «Король встает». И мы видим, как по черной мраморной блестящей лестнице бежит король — Симонов, в белом костюме, маленький, тщедушный, элегантный, а за ним струится, как кровь, как пламя, длинная красная мантия. Это была очень интересная, эффектная сцена.
403 Еще из деталей этого «действенного сценария» мне хочется вспомнить о том, что сцена после приезда Гамлета из Англии, когда он рассказывает о том, как он уничтожил Розенкранца и Гильденстерна, происходила в ванной. Туда к нему приходил Озрик с разговором о дуэли. Гамлет принимал его в трусиках с мочалкой в руках. Потом эта сцена была снята.
Я больше не буду останавливаться на этих описательных моментах, хотя тут было очень много чрезвычайно интересного. Я хочу только обратить внимание на то, что в спектакле много таких вещей, которые имели самодовлеющую ценность и очень мало были связаны с текстом.
Спектакль кончался произнесением монолога Горацио, который говорил о Гамлете: «Он размышлял о тучках, об идеях, он измерял длину блошиных лапок, он восхищался пеньем комаров. А то, что нужно для обычной жизни, того не знал»873.
Для меня до сих пор остается загадкой: зачем же было под занавес давать слова, которые зачеркивают все, что режиссер хотел доказать своей постановкой?
Николай Павлович говорил о том, что в Гамлете есть, конечно, раздвоенность, и трагедия его состоит в том, что он не может довести своего дела до конца. Он принадлежит одновременно к двум группам: с одной стороны — он наследный принц, а с другой стороны — гуманист, поэтому он не может довести до конца свою борьбу, овладеть престолом. Но слова, произносимые в конце спектакля, создают слишком большое противоречие.
Мне хотелось бы еще немного остановиться на том, как Театр Вахтангова принял эту работу и почему этот спектакль возник там. Николай Павлович принес этот доклад и режиссерский план как раз после таких постановок, как «Путина» Слезкина874 и «Пятый горизонт» Маркиша875, после двух очень скучных, неудавшихся постановок. В театре была очень большая тоска по ярким краскам, талантливой режиссерской выдумке. Поэтому план Акимова был встречен с очень большим интересом и многими даже с энтузиазмом. Тут были и турандотовские реминисценции, но неверно понятые. «Турандот» для своего времени имела очень большой философский смысл, и она ответила на вопрос своего времени. Хотя Николай Павлович говорил, что спектакль должен показать Гамлета с точки зрения идеологии нашего времени, конечно, нельзя считать, что этот Гамлет выразил нашу эпоху. И Б. Е. Захава876, который был одним из энтузиастов этого спектакля, был режиссером и главным помощником Николая Павловича, говорил, что Е. Б. Вахтангов, наверное, поставил бы «Гамлета», потому что перед смертью он будто бы говорил: «Не могу я поставить “Гамлета”, потому что я все время думаю о “Турандот”, ничего у меня не выйдет». Я думаю, что если бы Вахтангов ставил «Гамлета», он нашел бы новую форму для этого содержания, как он находил ее для всех спектаклей, которые он ставил. Тем не менее здесь дело не только в каких-то ложных моментах или уклонах. Например, даже такой актер, как Щукин877, — настоящий, глубокий реалист, принял этот план с очень большим увлечением и очень охотно работал. Он тоже был в составе режиссуры и сам играл Полония. Он был недоволен собой, говорил, что у него ничего не получается. Но насколько мы все помним, это был очень интересный образ: хитрый, глупый человек, считающий себя умным, и очень актерски обаятельный. Это одна из удач спектакля.
404 Мне не хочется здесь останавливаться на актерах, потому что это займет много времени, и не в этом была моя задача. Тут шла речь о том, чтобы показать общие принципы этой постановки.
Этот спектакль, конечно, для нашего времени не разрешил «Гамлета», но он знаменателен тем, что до этого фактически Шекспир почти не ставился878, а «Гамлет», в частности, был поставлен в свое время в МХАТе в мистической, совершенно неприемлемой трактовке879. После постановки Акимова наша советская режиссура обратила внимание на Шекспира, и мы получили ряд очень интересных спектаклей, многие из которых, безусловно, ответили нашей эпохе на поставленные вопросы, показали Шекспира таким, какой он близок нам… Я думаю, что яд этой постановки сейчас нам не страшен, поэтому мы не критикуем ее сейчас. Да и критика эта была бы не страшна. Я просто хотела рассказать о том, какой это был спектакль.
МОРОЗОВ М. М.
Может быть, есть какие-нибудь вопросы к Любови Давыдовне? Товарищи, может быть, кто-нибудь желает высказаться по этому поводу?
ЗАГОРСКИЙ М. Б.880
Может быть, сам Николай Павлович скажет, как он относится теперь к этому спектаклю, признает ли он свою ошибку?
ТРОИЦКИЙ З. Л.881
Здесь можно говорить о двух вещах: во-первых, о докладе Вендровской, во-вторых, о самой данной постановке. Что касается самого спектакля, то здесь уже отчасти Михаил Михайлович в своем вступительном слове говорил о том, что сейчас дискутировать на эту тему совершенно бесполезно и вряд ли имеет какой-либо смысл. Здесь интересно другое, а именно: какое значение имел этот спектакль в общей истории шекспировских постановок у нас и в России.
Я думаю, что если с этой точки зрения подойти к этому вопросу, то надо сказать, что здесь мы имеем несомненно очень интересное и положительное в общем явление для воплощения Шекспира в нашем театре. Здесь совершенно верно было указано на то, что эта постановка имела место тогда, когда, собственно говоря, Шекспира еще почти не было на советской сцене, когда живы были в памяти те традиции, которые сейчас уже в постановках Шекспира в известной мере являются отброшенными. С этой точки зрения режиссер здесь подошел очень смело, он не хотел поддаваться этим традициям, а хотел показать свое понимание Шекспира, которое в основном было реалистическим. Однако, стремясь к реализму, он неправильно истолковал идейные позиции этой трагедии882. С точки зрения художественной здесь мы несомненно имеем работу крупнейшего театрального художника, мы имеем чрезвычайно интересный спектакль. Я видел этот спектакль, и, хотя многое исчезает уже из памяти, на меня он тогда произвел чрезвычайно большое впечатление. И как бы к нему ни относиться, как 405 бы ни относиться к позиции Николая Павловича Акимова в то время, несомненно, что это было сделано чрезвычайно талантливо, с большим задором, с большой смелостью.
В дальнейшем раскрыты были все ошибки, сделанные Николаем Павловичем в этом спектакле, и я думаю, что целый ряд этих ошибок признан им самим, и если бы он сейчас поставил «Гамлета», он, вероятно, поставил бы его совершенно иначе, чем тогда. И тем не менее, при всех этих ошибках, спектакль имел в конечном итоге положительное значение. В каком смысле? В том, что сняты были казавшиеся совершенно незыблемыми традиции сценического истолкования Шекспира, что в данном случае художник подошел свободно к этому материалу, и если он перегнул палку во многих отношениях, если он тут совершил целый ряд ошибок, это было вполне естественно, потому что всякая острая реакция связана с такими ошибками. Если поставить вопрос: уводил ли этот спектакль от Шекспира, или он как-то подводил к нему, чтобы освободиться от всех прежних ложных истолкований Шекспира и найти какую-то новую линию его раскрытия, надо ответить на этот вопрос положительно. С этой точки зрения история оправдает эту постановку и признает ее большое значение.
ГОЛЫШЕВА Е. М.883
Я хочу сказать только несколько слов. Любовь Давыдовна кончила свой доклад тем, что «яд акимовской постановки» нам сегодня не страшен, и поэтому мы можем о ней говорить. Мне кажется, он страшнее сегодня, чем когда бы то ни было, и недаром мы сегодня заговорили о постановке «Гамлета» Акимовым. Сейчас он нам очень страшен, потому что мы сидим и с искренней тоской вспоминаем, какой это был замечательный спектакль, и целый ряд кусков этого спектакля останется у нас в памяти по гроб жизни. Никто не забудет ни Клавдия, бегущего по лестнице, ни Офелии, ни библиотеки Гамлета, ни целого ряда других, совершенно великолепных, подлинно елизаветинских кусков этого спектакля. Особенно страшен «яд» теперь, когда мы все уныло ходим в театр и еще более уныло уходим из театра. Поглядев такого «Сирано де Бержерака» в Театре Ленинского комсомола884, с какой искренней тоской вспоминаем мы о той подлинной, настоящей театральности, о том большом искусстве сцены, которое показал в этом спектакле Театр Вахтангова.
Что касается трактовки Гамлета в этом спектакле, ответил он или нет на те вопросы, которые задает Шекспиру современность, то, бог его знает, ответил он или не ответил, потому что показать жизнерадостного Гамлета, показать жизнеутверждающего Гамлета, веселого, оптимистического — больше смысла, чем показать «бархатного» принца, о котором говорил Михаил Михайлович. Он на это не ответил до конца, потому что работа, как мне кажется, не была доведена до своего логического конца, это была не целиком принципиальная линия в трактовке Гамлета, надо было как-то смелее поставить вопрос, пойти ли по тому пути, по которому пошел Николай Павлович; но это была работа, которая имела и большой идеологический смысл. И сейчас, когда мы стали спокойнее и мудрее, по прошествии 12 лет мы, может быть, пересмотрим коренным образом наше отношение к этому спектаклю.
406 КЛЕЙНЕР И. М.885
Дело в том, что сегодня несколько тем подлежит обсуждению. Я даже думаю, что вступительное слово Михаила Михайловича тоже может быть включено как отправная точка, затем доклад и, наконец, сама постановка.
Действительно, в истории советского театра постановка «Гамлета» в Театре имени Вахтангова представляет исключительный интерес. И я думаю, что даже очень своевременно, что сегодня поставили в порядок обсуждения дня этот спектакль. Мне даже кажется, что Михаил Михайлович в своем вступительном слове несколько сдержал дискуссию, которая должна была бы развернуться для того, чтобы продолжить дальше работать в плане постановок шекспировских пьес. Я должен сейчас оттолкнуться от вопроса своего собрата по перу товарища Загорского, который считает, что существуют какие-то раз и навсегда данные, догматические положения и от этих догматических положений нужно отправляться, и задает вопрос Николаю Павловичу, отказывается ли он или нет от своей постановки. Ведь так вопрос не стоит и не может стоять для настоящего художника. За это время пройден такой жизненный этап, что художник движущийся, растущий не может отказаться от того, что он изжил, не может не признать и не принять для дальнейшего движения то, что им было найдено и создано. Я считаю теоретически неправильным, когда кто-то выходит, берет патент на «Гамлета» и говорит: вот мой «Гамлет» правилен, я его толкую, я его критикую, поэтому считаю, что акимовский «Гамлет» неправилен. Это неверно.
Очень правильное теоретическое положение было в докладе у Любови Давыдовны, когда она только намеком связала постановку «Гамлета» в Театре Вахтангова с постановкой «Путина» и «Пятый горизонт». Театральный организм как часть общей системы театра, системы советского театра — это живой организм, и Театр Вахтангова, действительно, испытывал большие творческие трудности, когда он ставил этот «Пятый горизонт», ставил «Путину». И тут надо было больше сказать, сказать именно, что дело все в том, что эти постановки привели к творческому тупику театр. Дело не только в этих постановках, а дело в том, что пьесы — это идейный материал, от которого отталкивался театр, и поэтому эта постановка «Гамлета» была «живой водой» для театра. Я вспоминаю, я как раз имел удовольствие присутствовать тогда на предварительных беседах, эти живые соки, плоть и кровь давались коллективу, которые выводили его на дорогу творческой талантливой работы. Поэтому я думаю, что у вас, Любовь Давыдовна, есть в докладе и противоречие. Может быть, и недостаток времени, и невозможность изложить весь материал породили это противоречие. Но зачем все сваливать на РАПП в таком плане, что РАПП оказал влияние на Акимова и ошибки Акимова относятся к РАППу, а то, что найдено, это идет от Акимова? Это неверно. Я думаю, что Акимов преодолел своим талантом те РАППовские влияния, которые давили на него; не преодолел он общие такие влияния того времени, в этом смысле он ответил своей постановкой этим тяготением к гротесковому реализму и бурлескному реализму. Это имело место в постановке. И та идея, которая была положена в основу его постановки, идея борьбы за престол — по этой линии у него распределены персонажи, — это тогда казалось правильным, а самое главное заключалось в том, что автором театральной постановки, полновластным хозяином 407 являлся Акимов, и поэтому, обладая талантом и знаниями, которые нужны были для постановки такого спектакля, он и сделал этот эксперимент, и я, как зритель, отдавал все симпатии и все сочувствие этому… Почему? Да потому, что он создавал, овеществляя ту идею, которая принадлежала Акимову-художнику, целостный, своеобразный комплекс, имея у себя многочисленные компоненты — и актеров, и пьесу, и работу художника, и композитора… И главным образом, почему меня пленил его «Гамлет»? Он пленил меня потому, что я до этого сохранил в памяти своей чеховского Гамлета во МХАТ Втором. Нужно сказать, что этот «Гамлет» был так страшен, что он сейчас же нуждался в другом «Гамлете» — и акимовский «Гамлет» явился. Если товарищи помнят «Гамлета» во МХАТ Втором, чеховского, то они помнят, что все отрицательное, что было до этого «Гамлета», было вобрано в эту постановку. Если подходить с точки зрения воспроизведения классической пьесы как к прогрессу и регрессу, то есть сравнить то, что дает положительное эта постановка в связи с запросами времени и что она дает отрицательное, то именно то отрицательное, что было представлено в «Гамлете» во МХАТ Втором, превышало положительное, перевешивало. Я уже не говорю о чисто специальных театроведческих сторонах. Например, такое положение: при постановке пьес трагедийных известно, что трагические мизансцены, которые сочетаются с комическими, у Шекспира ставятся на втором, на третьем плане, в глубине, а комическое выносится на авансцену, потому что оно ближе зрителю. Между тем там было сделано наоборот. Поэтому зрительный зал очень холодно и неохотно принимал это.
Теперь, переходя к «Гамлету» акимовскому в плане развития истории театра, истории развития шекспировских постановок как к пьесе, которая полемически была направлена против того «Гамлета», нужно сказать, что этот «Гамлет» меня и многих моих единомышленников устраивал тем, что он был новым, оригинальным и никогда не виданным, ни с какими ассоциациями не связанным. И с точки зрения театроведческой как веха в истории советского театра это было хорошо, потому что все компоненты подчинялись здесь мощной руке художника, художника-творца, художника-режиссера, который имел свой план и до конца доводил этот план. Было хорошо то, что в нем сочеталась и актерская игра. Коллектив работал очень любовно, и каждый актер в отдельности. Например, самая замечательная сцена «Мышеловки» — очень яркая сцена, она и сейчас живет в памяти: эта лестница и по лестнице несется симоновская фигура, а за ней развевается красный плащ. Это, действительно, было как струя крови. Это запоминается и сейчас еще живет в памяти. Сцена с глобусом, занятия студентов, сцена в лесу, ряд таких сцен. Все они живут в сознании того, кто видел этот спектакль, а это уже много.
Затем нельзя обойти молчанием, наряду с талантом художника-постановщика, который имел смелость и эту смелость реализовал на разнородном материале, который потом этот разнородный материал собрал воедино, — нельзя обойти молчанием и ту музыку, которую создал Шостакович. Эта музыка живет, она стала каким-то родственником в этом спектакле.
Эта работа, мимо которой нельзя пройти сейчас при постановке нового «Гамлета». Мимо нее нельзя пройти, потому что это веха в истории театра. Так как историю театра нужно рассматривать как живую творческую работу, и саму 408 постановку акимовского «Гамлета» также нельзя рассматривать отдельно, вне «Гамлета» МХАТ Второго с Чеховым. И ясно, что очень своевременно вопрос этот поставлен сегодня на обсуждение.
ШАПС А. Л.886
Я считаю необходимым отметить, что сегодняшнее заседание, которое собрано Шекспировским кабинетом, само по себе свидетельствует о том огромном внимании, которое существует к «Гамлету» и к тому интересному художнику, каким является Николай Павлович Акимов, постановку которого мы видели и сегодня освежили в памяти благодаря тому, что прослушали очень мягкий, очень тонкий доклад Любови Давыдовны Вендровской.
Конечно, вопрос не в спорах и дело не сводится к тому, чтобы сегодня давать ярлычки и наименования той большой работе, которая в свое время была сделана. Я был одним из зрителей этого спектакля и должен сказать совершенно объективно и совершенно ясно, что там была проделана очень интересная и очень большая работа, и та неудача, которая заслуженно постигла эту работу, для меня чрезвычайно досадна, как и для других работников советского театра. Почему? Да потому, что сделанная с большим талантом, с большим полемическим озорством и с некоторым ударом не только по тем спектаклям, о которых здесь говорили, — «Путина» и т. д., — но и вообще, в каком-то полемическом сражении с натуралистами, которые в тот период времени овладели умами театральных деятелей, эта работа во многом принизила шекспировского «Гамлета». То, что каждый художник имеет право на свое собственное раскрытие, свое прочтение вещи — это безусловно так. Я не могу сказать, что главная, крупнейшая мысль Шекспира вскрыта актерски с какой-то огромной остротой, глубиной, неожиданностью решения. Актерских решений, решений через актера в этом спектакле я лично не помню. Или какого-то интересного раскрытия, глубокого раскрытия, нового раскрытия философского — не той мистической философии, которая, конечно, была отрицательным явлением в спектакле МХАТ Второго, но противопоставления ей глубокого, тонкого и вместе с тем необычайно острого решения, которого мы вправе были ожидать от такого большого мастера, каким является Н. П. Акимов, — мы его не нашли. Мы его нашли в целом ряде изумительных деталей, но ведь детали в спектакле не решают основного. И поэтому, когда сейчас мы в похвалу художнику говорим об этих великолепных деталях, а не говорим о целостном решении основных образов, мы тем самым значительно правдивее высказываемся о том решении, которое тогда было, чем делая какие-то книксены. Я никого не хочу здесь упрекнуть. Я говорил, что для меня эта работа была некоторой досадной опечаткой, потому что некоторые люди и представители иного течения советского театра, ярые, убежденные «натуралисты», подняли голову и сказали: «Ага, видите, даже такой талантливый художник, который взялся за раскрытие “Гамлета”, а посмотрите, к чему все это свелось? К кастрюле на голове и т. д.». За это ухватились те, которые в своих позициях хотели найти подтверждение вот такого решения спектакля. С этой точки зрения это очень обидно, потому что если бы при всей той же яркости деталей, которая была найдена художником, в этом спектакле было бы 409 найдено и решение основного и главного, то этот спектакль по праву стал бы знаменем крупнейшего советского решения шекспировского «Гамлета».
Поэтому мне хотелось бы, чтобы Николай Павлович Акимов вернулся к этому спектаклю, вернулся, сохранив все молодое озорство, которое он великолепно рассыпал по этому спектаклю, но не прошел бы мимо раскрытия глубочайших мыслей и решил бы их через актера, потому что все то, что там было решено, все это было решено средствами талантливого художника, художника и режиссера.
Ведь это интересно — остается корона, он надевает эту корону и говорит: «Быть или не быть?» Все это в конце концов сводится к борьбе за престол — очень стройная режиссерская концепция и очень остроумно найденная. Здесь Николай Павлович дает раскрытие не актера. Он сделал все, он сыграл за актера: получилось очень даже остроумно, и корона, и все, но опять-таки все приземленно. Вот мое личное ощущение, что все приземленно, все сведено к борьбе за престол. Да, тут есть борьба за престол, бесспорно, это так. Но не только это делает Гамлета Гамлетом. Дело в том, что перед Шекспиром раскланивались и пытались сделать того Шекспира, каким он никогда не был. Здесь заложены величайшие острые идеи, а получилось в результате — озорство, и тонкое решение художника, и все это было фактически перечеркнуто, но не потому, что Николай Павлович этого хотел, а потому, что он слишком увлекся полемическим решением и тем самым вместе с мыльной пеной выплеснул ребенка, каким является Гамлет. И мне кажется, что мы не можем сегодня, возвращаясь к этому старому делу, сказать, что он находился в плену какого-то РАППа, а наоборот, это, вероятно, был какой-то протест против РАППовских дел. У вас это так не прозвучало, но, во всяком случае, это так. Как постановка «Гамлета» МХАТ Вторым была шараханием в одну сторону, так и эта работа была каким-то движением в другую сторону, а истина заключает в себе какие-то элементы и того спектакля, минус мистика, и обязательно элементы этого спектакля, но плюс актер и плюс все то, что является основой основ шекспировского текста, из которого вытекает все-таки его огромная мудрая, истинная, живая сила.
Я убежден, что если и прозвучала бы или прозвучит в будущем работа Николая Павловича, то мы, наверно, будем говорить не только о великолепной мантии, но, отдавая дань этим превосходным деталям, мы о многом скажем, что раскрыто в самом глубочайшем материале Шекспира.
ЧУШКИН Н. Н.887
Я с большим интересом прослушал выступление Л. Д. Вендровской, которая дала очень полное и интересное описание спектакля. Любовь Давыдовна уже провела предварительную, черновую работу — это изучение источников, сбор материалов, изучение режиссерских замыслов и их вариантов. Сейчас смысл не только в том, чтобы собрать эти, в целом чрезвычайно интересные своей удачей и поучительные своей неудачей режиссерские замыслы «Гамлета» Акимова, но поставить их в какую-то общую систему, понять их, раскрыть за казалось бы отдельными вещами определенные связи и закономерности.
410 Здесь приводился очень любопытный описательный момент: король прячется за мантию, потом вылезает оттуда, маленький, тщедушный. Что это такое? За этим большая мысль. В одном месте о короле говорится: «Шут на троне». И вот эта маленькая, жалкая фигурка за пышной мантией. Этот шут на троне — король — ничтожный, маленький, щуплый, а его монументальным и величавым рисует художник (придворный). А сам-то он ничтожество. Потом, когда Гамлет в другом месте говорит о короле, он гневно, едва сдерживаясь, держит на руках паяца. Это тоже — шут на троне, ибо Гамлет куклу держит. Эту куклу режиссер верно почувствовал, он пытался сделать из нее символ. Ведь это не бытовая вещь, которую любопытно увидеть… Возьмите эпизод, где король одевается в мантию, когда позирует рисующему художнику. Это говорит о том, какую верную идейную задачу в смысле решения образа короля ставил Николай Павлович, и это можно было бы проследить и далее по всем образам спектакля. Можно с этим соглашаться или не соглашаться, но надо уметь раскрыть эстетический и идейный смысл образов. В этом задача исследования. Сейчас это еще не сделано. Материал собран, теперь его надо раскрыть, понять и продумать. Это первый вопрос.
Понять этот спектакль нельзя, если мы не возьмем конкретные условия нашей театральной жизни того времени, той борьбы, той обстановки. Можно сказать, что гамлетовской традиции, по существу, в 30-х гг. еще не было. Все крупнейшие режиссеры проходили мимо этой трагедии. Малый театр начиная с 90-х гг. не ставил «Гамлета». Александринский поставил в 1911 г. и неудачно эту трагедию888. Художественный театр в том же, 1911 г. осуществил спектакль по замыслу Крэга, причем Станиславский и Сулержицкий889 являлись лишь исполнителями этого замысла. В 1907 г. «Гамлетом» начал свою первую режиссерскую работу Таиров890. Мейерхольд всю жизнь мечтал о «Гамлете», но так и не осуществил его891. Говорили здесь, что будто бы Вахтангов так же поставил бы эту вещь, как Акимов, что это совпало будто бы с вахтанговским «озорством», с «Турандот» и т. д. Ничего подобного. Вахтангов пытался искать трагическое звучание «Гамлета». «Эрик XIV»892 — это и есть искание трагического подхода, создание трагического спектакля для того, чтобы решить «Гамлета». Мейерхольд вначале искал решение «Гамлета» чуть ли не в футуристическом плане, пытаясь сделать совместно с Маяковским «Гамлета» как спектакль политической буффонады, полной озорства и ЛЕФовского отрицания. Целый ряд любопытнейших вещей был сделан Мейерхольдом в ряде последующих лет для подготовки к «Гамлету», но он так и не осуществил этой постановки. Единственная работа, которая была поставлена, это «Гамлет» в 1924 г. во МХАТе с Михаилом Чеховым в главной роли, причем чеховский Гамлет в известной мере продолжил традиции Гамлета крэговского, несмотря на внешнее различие и несомненно большую экспрессионистичность. Была мысль перенести спектакль в «надземный» план, уничтожающий всякую реальность. Существует некая абстрактная условная среда, с которой борется страдающий, мучающийся, волнующийся человек, единственный — живой. Кругом него — уроды. Нет ни живых отношений, ни живых людей: одни гротескные гады, которые ползают, пресмыкаются. Это мир тьмы, мир мертвых, страшный, неживой мир. И человек, охваченный чувством борения, со шпагой в руке, с искаженным лицом, борется, страдает, мечется и раздавливается этой жизнью. Жизнь мира «духовного» и мира «материального», которая была дана в 411 несколько абстрагированном виде, переплетается. Как и у Крэга, это спектакль культового характера, но переведенный в другую сферу, сферу антропософии. Недавно мне пришлось узнать некоторые вещи, которые дали мне возможность понять целый ряд интереснейших деталей, которые делал Михаил Чехов и которые имели несомненно символико-религиозный смысл.
Если понять эту постановку, где все в «Гамлете» сводилось к мистической драме всемирно-исторического плана, где только один живой, притом гибнущий человек, а кругом мир «мертвой материи» и «одинокий дух» человека, который пытается победить эту материю, но побежден ею сам, — то в этих условиях становится понятной задача, которую ставит Н. П. Акимов.
Я думаю, что Николай Павлович не ставил задачу раскрыть, по сути дела, нового Шекспира. Его задача заключалась в полемике, в ниспровержении. Его мысль стремилась к тому, чтобы сделать все наоборот, чем в «Гамлете» МХАТа. Он постарался сделать смелую, талантливую, острую вещь, которая должна была другим способом дать возможность людям прочесть нового Шекспира, вне традиций «бархатного» принца, вне чеховско-крэговского решения. Он сделал много, с нашей точки зрения, ошибочного, неверного, безобразного, потому что он уничтожил величайшие ценности. Николай Павлович сам теперь отступается от этой постановки, хотя нежно ее любит. И я сам очень люблю этот спектакль, я четыре раза смотрел его, и для меня он открыл много новых вещей. Много я там не принимал, но он дал возможность в новом ракурсе посмотреть шекспировского «Гамлета». И несмотря на то, что ни один образ не решен там верно, спектакль был нужен, потому что Акимов попытался показать, что Шекспира можно и нужно ставить, не уходя в надмирные абстракции, что там действуют не только духовные индивиды, находящиеся вне времени и пространства, но что можно и нужно показать телесный материал, что люди имеют там плоть и кровь, что эти люди любят, борются, страдают, что они не охвачены только решением трансцендентных вопросов, они живут здесь страстной, пылкой, горячей жизнью.
То, что здесь впервые появилась обстановка XVI века, люди ходили, как взятые с портретов Гольбейна, — это мне показалось великолепным. И то, что в какую-то минуту читают Эразма Роттердамского о том, «какая радость жить!» — это тоже великолепно. А наряду с этим стремление во что бы то ни стало, любым способом сделать «все наоборот», уничтожить, сломать все привычное, увидеть все в другом ракурсе, не считаясь ни с чем и даже со здравым смыслом. В этом было противоречие спектакля.
Вы, Николай Павлович, в конце привели слова Эразма Роттердамского, которые произносит Горацио, но этим же вы убивали все, что вы так хитроумно построили. В спектакле были страшные противоречия и нелепости, и все же спектакль наполнялся огромным, настоящим человеческим содержанием, потому что там было то, что не укладывалось в эту концепцию. Шекспир действовал вопреки ей. Но в то же время и Гамлет — не только жизнерадостный хохотун, который любым способом борется за престол, — в том был отход от Шекспира и возврат к первоисточнику темы, к Саксону Грамматику, к легенде XII века, где нет ни одного сложного психологического вопроса, над которым страдал бы, мучился бы этот духовно тонкий человек. Гамлет у вахтанговцев идет любой ценой к 412 престолу, идет напролом — самоуверенный авантюрист, — в этом нет ничего общего с тем, что дал Шекспир. Николай Павлович в порыве полемики уничтожил все богатство, что было у Шекспира. Для меня отсюда происходит большое, настоящее противоречие.
Еще один случай сходства с Саксоном Грамматиком. Когда я прочел Бельфоре893, я ощутил по повести связь с постановкой в Театре Вахтангова. Что делает Гамлет? Мы застаем его мажущим лицо какой-то грязью, кричащим петухом. Это хитрый человек, который любым способом мечтает завладеть короной, престолом и поэтому представляется сумасшедшим. Если у тебя убили отца и тебе нужно умертвить дядю и отомстить за смерть отца, такой способ мнимого сумасшествия очень «удобен». Так говорит автор переложенного сказания о Гамлете. Отсюда же рождается и вахтанговский Гамлет. Я его вижу бегущим в белой рубахе, кругом мальчишки с дохлыми кошками, бегущие, кричащие и т. д. Здесь много деталей взято из первоначального сказания об «Амлете», очень совпадающих с ним.
Сцена с Офелией. В спектакле Офелия дана функцией шпиона, как это было неоднократно и в театральной традиции, но переведена в сексуальную плоскость на манер англо-американской современной литературы о Шекспире. У Саксона Грамматика получается очень просто: это ловушка, где шпион должен вскрыть настоящее отношение Гамлета к событиям. Король и Полоний устраивают ловушку, они посылают девушку в лес и наблюдают, как Гамлет будет вести себя с ней: если он будет вести себя с девушкой так, как вел бы обычный человек, значит, он притворщик. А если он будет кричать петухом и т. п., значит, он действительно сумасшедший. Когда я увидел, что действие этой сцены перенесено в лес — понял, что это заимствовано непосредственно у Саксона Грамматика и добавлено к Шекспиру. Я понял, откуда это идет. Но ведь там Гамлет совсем другой. Тот Гамлет — это человек, который, будучи в спальне матери, вскочил с ногами на кровать, нащупал спрятавшегося там под одеялом шпиона, убил его, потом вытащил, разрезал на куски, сварил и выкинул на съедение свиньям! Это Гамлет в жестокой обстановке XII века, человек, у которого нет рефлексии, который не мучается никакими проблемами. У него огромная, мощная воля, великолепно работающий желудок и железные мускулы! Он борется и добивается. Шекспир же сделал все наоборот. Он взял эту сюжетную схему и наполнил ее безграничными колебаниями. Гамлет у Шекспира не убивает. Он переживает мучения совести, его раздирают огромные моральные проблемы, которые столетиями мучат человечество…
И тогда мы будем спрашивать себя, кто же прав: Николай Павлович, который уничтожил все это, или какой-то актер, который играет, пусть даже «бархатного» принца, но играет так, что заставляет волноваться и страдать, смотря эту вещь, то есть как это делали в XIX веке? Акимов в своей талантливой работе сделал очень многое, и теперь нельзя пройти мимо его «Гамлета». Столь отрицая этот спектакль, мы в то же время и восхищаемся, и любим его за те великолепные фрагменты, которые живут в нашей памяти и которые мы все любим и помним. Но в них не было решено главное. В этом спектакле, как и всюду у Шекспира, должны быть живые люди до второстепенных персонажей; что существует, наряду с трагической, комическая линия в «Гамлете», и очень сильная, 413 что есть и соленые остроты, шекспировски грубые и неприличные. Люди живут своими огромными интересами, что действительно там кипели, бурлили страсти, что люди в «Гамлете» — это люди определенной ренессансной эпохи, и эту ренессансную эпоху нужно показать, — в этом есть смысл и огромное значение, которое имеет эта внешне нигилистическая, все отрицающая постановка.
ЗАГОРСКИЙ М. Б.
Я думаю все время — в чем смысл сегодняшнего собрания, в чем смысл сегодняшнего доклада? Казалось бы, смысл и задача нашего Кабинета Шекспира — перенестись в ту эпоху, когда создавался «Гамлет» Акимова. Это парадоксально, Михаил Михайлович правильно сказал, что же бороться теперь с этим «Гамлетом»? Понятно, что это была ложь, фантазия художника. У Шекспира этого нет. Когда я слушал выступающих, мне пришла в голову такая мысль, что смысл есть несомненный. Значение этого доклада и сегодняшнего вечера, несомненно, имеет свое обоснование. Какое? С одной стороны, театроведческое, поскольку ВТО и Кабинет Шекспира обязаны изучать наиболее интересные шекспировские постановки. Шекспировский спектакль для будущей истории театра — это обязанность непосредственная нашего кабинета, его работников; в данном случае Любовь Давыдовна сделала очень нужное дело, с точки зрения театроведения нам нужно знать конкретные черты данного спектакля. Его очертания, его звучание, его замыслы для того, чтоб будущий театр, особенно шекспировский театр в России, имел правильное представление о том, что же случилось. А случилось, товарищи, очень интересное явление. И правильно Любовь Давыдовна начала с того, что она ввела в атмосферу этого спектакля, в историческую атмосферу. Тут дело, конечно, не в РАППе, а дело в том, что атмосфера того времени объясняет очень многое. Она не снимает, конечно, вины Акимова в трактовке этого спектакля, но она объясняет, почему же такой талантливый, замечательный мастер театра, каким я считаю Николая Павловича, так подошел к этой теме. Я вспоминаю постановку «Дон Жуана» Моцарта, сделанную моим очень большим приятелем В. М. Бебутовым894 приблизительно в то же самое время. В. М. Бебутов — один из самых эрудированных наших театроведов895, человек с большой культурой, с большой школой, с большим пиететом к подлинным жемчужинам европейской драматургии. Однако этот человек, когда он ставил «Дон Жуана» Моцарта, заменил появление Командора, пожатие каменной десницы и проваливание Дон Жуана в преисподнюю тем, что вся эта история с Командором подстроена монахами, которые выдумали этот призрак и, прячась в дупле дерева, напали на несчастного Дон Жуана и истребили его. Вот что делали в то время. Как Николай Павлович вернулся к Саксону Грамматику, так же и Бебутов вернулся к одной из версий о том, что никакого Командора не было, никакого призрака не было, да и вообще не могут командоры слезать со своих памятников и пожимать живым людям руки, что это все мистика, все это чепуха, которая объясняется просто: монахи, чтобы погубить безбожника, пустили в ход мистику.
(МОРОЗОВ М. М.: В это время было написано новое либретто «Дон Жуана», где вместо Дон Жуана был черкес.)
414 Когда я несколько месяцев тому назад был в Казани и напомнил В. М. Бебутову об этой самой мизансцене, он удивился: «Неужели я это сделал? Может быть, ты ошибаешься?» Таким казалось ему невероятным, чтобы он позволил себе такую подмену в бессмертной опере «Дон Жуан».
Почему я задал вопрос Николаю Павловичу, как вы реагируете сейчас на свою постановку, потому что такой художник, как Бебутов, говорит: «Как я мог это сделать?» Возьмите Таирова с его «Египетскими ночами»: он взял «Антония и Клеопатру», взял «Цезаря и Клеопатру» Шоу, прибавил «Египетские ночи» Пушкина и сделал спектакль896. Таиров писал целые статьи, подвалы «Как я ставил “Антония и Клеопатру”»897, а вы смеетесь. Была ведь вот эта атмосфера отталкивания от авторов-классиков во что бы то ни стало, такой режиссерский эгоцентризм, самовластие, я есть я, я воскрешаю старый афоризм: пьеса есть предлог для спектакля. Была эта эпоха? Была. И вы думаете, она изжита сейчас? Нет. Она и сейчас еще есть. Я недавно напал на такой акт режиссерского самовластия Дикого898. Ведь позволил себе человек в большом городе взять Островского и вычеркнуть из «Горячего сердца» всю сцену с Хлыновым, заменить замечательное место в пьесе, когда Хлынов ходит по саду, наслаждается своим самодурством и угощает этого несчастного городничего шампанским, и тот, страдая, должен выпить это шампанское. И он пьет его, потому что тот грозит его облить этим шампанским. В Художественном театре эта сцена была великолепно сыграна Тархановым и Москвиным899. Я недавно встретил Дикого и спросил: зачем вы это сделали? «Там это делали, а я нарочно не сделал, там играют на верных козырях, а я без козырей играть хочу». Это было в этом году. Вот как еще сильны рецидивы старого у наших режиссеров. Поэтому наше сегодняшнее заседание имеет не только академический интерес. Оно имеет актуальный интерес. Это выдвижение себя вместо автора, это подмена своей режиссерской волей классиков, пьеса — только предлог для моей режиссерской фантазии, это еще, к сожалению, не изжито, это имеет свое место и сейчас.
Поэтому мы говорим, что этот спектакль — не вина Акимова, а беда Акимова…
(МОРОЗОВ М. М.: Не только беда.)
… Беда того отрезка времени, когда казалось, что я могу все в театре сделать, ибо я есть режиссер, — рядом с этой бедой мы должны показать также и то замечательное, то интересное, что принес с собой в этом спектакле Николай Павлович, потому что было бы смешно говорить, что этот спектакль вообще только дикий произвол. Нет, правильно отмечалось здесь сегодня, что элементы того режиссерского мастерства и видения, свойственных художнику, были проявлены в этом спектакле, до сих пор живы, они до сих пор еще волнуют нас просто как демонстрация той театральной культуры, того величайшего прозрения в красках спектакля, как звучит спектакль в актерских образах, планировках мизансцен, в проведении своей мысли до логического хотя бы абсурда. Все эти элементы чисто театрального мастерства в последнее время потускнели. Эта линия изобретательства, эта боязнь обыденщины, бытовщины перевелась, к сожалению, в нашей режиссерской культуре; и на этом фоне очень ярко звучат такие достижения чистого формального порядка…
(МОРОЗОВ М. М.: Не только формального.)
415 Я не употребляю слова «формализм», тут не было формализма, потому что тут есть идея спектакля, я говорю о формах спектакля, это не формализм.
(МОРОЗОВ М. М.: Тут и содержание было.)
Формализм — это только работа над формой, человек не имеет никакой идеи, никакого мировоззренческого подхода к пьесе. В этом спектакле была своя острая мысль, острая идея, которую я защищал, и очень долго и упорно защищал Николай Павлович. Поэтому слово «формализм» тут не подходит. Мы должны говорить об этой идее. Идея спектакля была совершенно ясна. Когда Гамлет берет корону, кладет ее себе на голову и говорит: «Быть или не быть?» — и откладывает ее — это совершенно ясная идея, совершенно прозрачная, доведенная режиссером до зрителя. Это борьба за престол. Борьба за престол и является тем мировоззренческим подходом, с которым подходит Николай Павлович к этой постановке. Я должен сказать, что, конечно, тут была та роковая ошибка, которая привела к тому, что этот спектакль был резко не принят нашей советской общественностью; я вспоминаю все рецензии, все отклики советской общественности на этот спектакль, в том числе и мои, где совершенно категорически отрицался этот спектакль. Почему? Потому что рядом с тем мастерством, которое было вложено в эту постановку, — да и вообще самый приход Николая Павловича в режиссуру был большим явлением — рядом с этим шла борьба с ним по линии идейной. Это есть возвращение к русской традиции «Гамлета», к сумароковщине900; и поскольку это было возвращение к сумароковщине, эта мировоззренческая ошибка спектакля и привела его к крушению. Я спросил Николая Павловича не в смысле раскаяния в своих ошибках, а в том смысле, изжиты ли им до конца те идеи. В этом смысле я задал ему свой вопрос. Мне кажется, что то положительное, что было внесено в этот спектакль со стороны «чистого» искусства режиссера и художника, — это остается, это мы должны взять и изучить, а то, что было ложно, то, что было мировоззренчески фальшиво, то, что было вульгарно, то, что снижало, уничтожало все идеи «гамлетизма», которые складывались целыми столетиями, то, что возвращало нас к сумароковщине, — все это должно быть сегодня резко подчеркнуто и снято и, прежде всего, снято самим Николаем Павловичем. Вот почему я задал свой вопрос.
АКИМОВ Н. П.
Разрешите мне сейчас постараться сказать несколько слов о том направлении, которое может быть интересно и сегодня. Во-первых, мне не хочется сейчас, в начале своего слова отвечать на вопрос, заданный мне предыдущим оратором; мне не хочется становиться в позу Галилея, который говорит — вертится она или не вертится, чтобы не ставить вопрошающего в позу инквизитора. Это было бы невежливо с моей стороны.
Я лично считаю, что смысл сегодняшнего разговора об этом давнишнем событии может заключаться только в том, чтоб извлечь из этого какие-то полезные и интересные умозаключения, причем, действительно, тут стоит вспомнить ту эпоху, когда это делалось. Я думаю, что это довольно интересная тема — история классики на советской сцене. Вспомните, что было во времена, когда из 416 классики можно было ставить только те пьесы, где на глазах у зрителя так или иначе свергалось то или иное самодержавие; какое самодержавие и каким способом — это было безразлично, но лишь бы оно свергалось. Я помню еще такое время, когда анализ персонажей в любой классической пьесе шел по линии главным образом экономической. Если он богач или король, то он мерзавец; если он шут или наемный товарищ, то он положительный герой. Ставить Шекспира за то, что он Шекспир, считалось совершенно невозможным и даже дерзким. И действительно, это факт совершенно исторический, его может подтвердить ныне здравствующий драматург Литовский901: когда он был начальником Реперткома, то первый вопрос, который он мне задал, когда я пришел к нему относительно «Гамлета», заключался в следующем: «А что вы собираетесь из него сделать?» Я понял, что это звучало так: вы же не можете ставить его так, как он есть. «Во-первых, Гамлет — принц и вместе с тем какой-то положительный герой по Шекспиру, что уже не устраивает; а во-вторых, что вы имеете в виду с духом?» Это одно из рассуждений. Было весьма досадно, что эта очень интересная, очень действенная, очень умная и глубокая пьеса не может быть поставлена из-за этих досадных мелочей, которые, как нам казалось, не имеют совершенно решающего значения для Шекспира. Если бы спросить Шекспира, согласен ли он поставить «Гамлета» минус дух, он сказал бы: «Пожалуйста». Таким образом, постепенно происходит некое расширение этого классического диапазона, постепенно мы включаемся во все большее и большее количество возможностей для нашей постановки классических пьес. Но если эта тема стоит обсуждения, то этот процесс не закончен. Попробуйте сейчас поставить «Венецианского купца» при неясности отношения Шекспира к еврейскому вопросу — вы увидите, что мы не достигли…
(МОРОЗОВ М. М.: «Венецианский купец» ставился в одном из городков, кажется, Архангельске.)
… Возможно, что в тех широтах это осуществлено, но этот процесс не закончен. До сих пор при мотивировке постановки той или иной прекрасной классической пьесы всегда надо иметь в запасе какие-то энергичные доводы, что это песнь торжествующей любви или что-то такое. То есть мы еще целиком не осознали то, что имеем право и даже обязаны ставить крупные классические произведения как таковые. Это одна линия рассуждений, которая, как мне кажется, может дать предлог для целого исследования на эту тему. С другой стороны, надо признать, как правильно было указано, что эпоха эта характеризовалась слишком интенсивно работающей режиссерской мыслью, то есть элементарный хороший тон требовал изменения пьесы, считалось, что режиссерское искусство — это есть прежде всего переделка пьесы, а затем уже ее постановка. По этой линии мы, конечно, достигли значительно большего совершенства, но и тут вопрос, мне кажется, не закрыт, потому что если мы сейчас уже научились ставить пьесы не меняя их, то, с другой стороны, мы начали делать и такие постановки классиков, которые, скорее, подобны уроку чистописания: когда учитель проверяет, ошибок не замечает, ставит отметку за прилежание или благочиние, и в результате у нас есть вполне благополучные спектакли и, действительно, нет крупных нарушений нравственности и авторских прав классиков, но от этого как-то не легче, а иногда гораздо тяжелее. Это тоже вопрос, над которым стоило 417 бы подумать, то есть — где же лимит режиссерской мысли. Ясно, что раньше был перегиб, а сейчас есть некоторый недогиб. Я обладаю одним несчастным свойством, которое делает меня очень благожелательным конкурентом всех моих товарищей: присутствуя на спектакле очень скучном, я засыпаю и ничего не могу над собой сделать. Я ходил смотреть на других «Гамлетов» и должен сказать, что я целиком о них ничего не могу сказать, я проспал большую часть спектаклей и в те часы (поскольку в одном театре спектакль шел 8 часов без обеденного перерыва) я не заметил там никаких нарушений, я просто очень многого не видел в этих спектаклях. Совершенно невозможно «вытянуть» это представление.
Вопрос отношения к классике — вопрос очень интересный, он еще далеко не ясен. Мне кажется, я проверил некоторые вещи, я, к сожалению, не успел закончить одну большую работу, к которой как раз до войны очень много готовился, и она давно должна была идти, если бы не эвакуация театра. Это корнелевский «Сид»902. Мне кажется, и эта тема, и этот автор дают огромное поле для всяких интереснейших и плодотворнейших возможностей, причем пьеса несомненно прекрасная — это факт, ее несомненно никто не ставил, это тоже факт.
(ГОЛОС с места: Могу сказать, что ее ставили в Советском Союзе, в Польше…)
Приветствую смельчаков. К сожалению, я ничего по этому поводу не знаю, но это меня не остановило бы завершить данную работу. В процессе подготовки этой работы возник уже один очень интересный принципиальный вопрос: что есть на самом деле настоящая, справедливая, полная интерпретация классика-драматурга? Заключается ли она в перенесении всех условий его театра на нашу сцену, или, наоборот, заключается ли она в перенесении мыслей и текста, выражающего мысли автора и условия средствами современного нам театра? Представьте себе, что эта несколько казуистическая постановка вопроса на самом деле таит в себе два весьма разных подхода. Мне кажется, что если мы станем на первый путь, на путь воссоздания всего того, что мы знаем не только о классике, но и о его театре, то нам угрожает такой спектакль, который при всем желании не может вызвать уважения к себе, если он будет достаточно скучен и лишен достаточного смысла. Такой спектакль всегда располагает солидностью, ясно, что человек, который уморил зрительный зал, легкомысленным быть не может. Но, с другой стороны, настоящего живого отклика этот спектакль вызвать не может.
Во втором случае, если мы берем основу и существо автора, который был стеснен условиями театра своей эпохи, а все авторы так или иначе всегда стеснены условиями своего театра, если мы считаем наши театральные средства — от системы актерской игры до системы подвески осветительных приборов — более богатой, чем средства прошлого времени, а я думал, что мы так и должны считать, иначе не стоит заменять сальные свечи и керосиновые лампы электроаппаратурой, — то это дает нам возможность многое из того, что театр предыдущий не только по техническим причинам, но и по косности не мог освоить, — освоить сейчас.
Тут встает еще один необычайно интересный вопрос. Стоит ли нам расширять круг классиков? Надо вам сказать, что можно прийти к такой балетной системе, 418 где «Лебединое озеро» сменяет собой «Щелкунчик», также как в китайской театральной системе имеется набор из 5 – 6 названий, которые в этом круговороте и составляют пожизненное наследие. Часто у нас в этом направлении есть маленький крен. У того же Шекспира играют 5 – 6 пьес; если берется Гольдони, то это обязательно «Хозяйка гостиницы», если Лабиш… то это обязательно «Соломенная шляпка», то есть далеко не всегда самые известные пьесы являются наилучшими, но, с другой стороны, ставить их наиболее спокойно и просто, существуют уже какие-то определенные сценические традиции, которые помогают легче это сделать.
Попытка расширить кругозор наших зрителей, обеспечить им большее знакомство с классиками неизвестными, как и с неизвестными пьесами известных классиков, невольно, с другой стороны, вызывает необходимость поисков новых приемов, ибо обычно все неизвестное отвергается потому, что не совсем ясно, как это ставить. А когда мы будем искать новые приемы, то неизбежно столкнемся с вопросом, очень существенным и на сегодня: что же можно и чего нельзя, что является уважением к классику и что надругательством над классиком, что лучше: если у классика есть непереводимая игра слов, заменить ее некой аналогией, некой равнозначащей игрой слов, звучащей на русском языке, или тщательно сохранить букву закона и повергать зрителя в недоумение от каламбура, который вовсе не смешон. Сейчас было бы очень интересно накопившиеся вопросы в этой области как-то систематизировать, как-то выяснить. Что же, собственно, можно, с одной стороны, и что ложно, — с другой. Во всяком случае, какое-то обсуждение этого вопроса в данных стенах было бы необычайно полезно. В данном случае, например, наша классическая постановка (с высоты веков ее можно назвать классической) могла бы дать многое, если бы в ней разобраться, а разбираясь, мы бы в ней ясно обнаружили больше достоинств и недостатков, чем те, которые сегодня отмечены.
Должен сказать, что я с удовольствием слушал сегодня доклад Любови Давыдовны, которая напомнила мне очень много того, что я уже забыл. За эти годы сделано очень много, и это никак не зафиксировано. В этом отношении театр — проклятое искусство, потому что почти ничего не фиксируется, кроме плохих фотографий, ничего не остается. Конечно, там можно было бы найти много назидательных примеров и в ту и в другую сторону.
Подходя окончательно к галилеевскому вопросу, который был здесь задан, я должен сказать, что, конечно, я слышал, что для каждого уголовника самое обидное быть осужденным не по той статье. Самое обидное для меня в этом деле, что я был осужден не по той статье, ибо, конечно, никакого формализма я за собой не чувствую, ибо считаю, что это был крен не в ту сторону, но бурное развитие той самой мысли, которая всегда исключает всякий формализм. С другой стороны, должен сказать, что моей мечтой являлось (и сейчас является) поставить еще раз данную пьесу. Я хочу немножко выждать, чтобы Художественный театр успел ее поставить, эта постановка меня крайне интригует, потому что там, вероятно, не будет найдено никаких правонарушений903. Есть театры, которые не могут ошибаться. Притом что действие там развертывается в XI веке, я с большим интересом ожидаю, какая там будет сцена с университетом в этом веке904. Когда все гиганты выскажутся по этому поводу, я вернусь к этой теме, 419 причем буду всячески стараться избавиться от тех досадных недоразумений, которые были и разбирались в этом спектакле и вокруг этого спектакля.
Как известно, это была моя «дипломная» работа905. Первая работа, в которой, естественно, сказалась некоторая растерянность перед обилием материала, высоким талантом исполнителей, которые частично присутствуют в этом зале, огромной сценой и т. д. и т. д. Поэтому получилось много вымаранного из спектакля из-за времени, слишком большой длительности спектакля, что потом расценивалось как злостное вымарывание священных мест и т. д. Так что было много недоразумений: сейчас их, вероятно, не будет. Сейчас есть некоторый опыт, когда можно железной рукой все привести к одному знаменателю. Поэтому я никак не думаю приступить к моей работе слепо, я никак не собираюсь, и считал бы смертным грехом против общества, понесшего ущерб от меня, считать это вариантом, которого я буду фанатично держаться и защищать. Я себя утешал, что мы мало знали о Каталине906, но на нем Цицерон сделал себе карьеру. Так и эта постановка вызвала много диспутов, исследований (и сегодняшние в том числе), чего не дали многие, более строгие и правильные трактовки этого произведения. Если мне удастся эту большую задачу выполнить, то тем самым я и отвечу вам в прямой форме на этот вопрос — отрекаюсь я или не отрекаюсь, и что я считаю абсурдом, а там таковой был. Когда это будет, я не могу в точности сказать.
Еще один пункт, который хотелось бы, может быть, сделать предметом обсуждения, — это вопрос чисто педагогический. Меня очень интересует, вообще говоря, театральное воспитание и вообще художественная педагогика. Эта проблема, как это ни странно, имеет касательство и к сегодняшней теме. Я нередко наблюдал в различных художественных учебных заведениях довольно законный для меня процесс, когда поступавшие на первый курс одаренные молодые люди через пять лет выпускаются начисто лишенными способностей, любви к искусству, но с довольно заметным дипломом в руках. Очень часто к этому сводится педагогика. В области живописи для этой цели служили в свое время гипсы, которые просто физически умерщвляли всякое живописное чувство. В области театра для этого существуют весьма солидные педагогические системы, которые также все живое, что имеется в тех или иных людях, которые просто любят театр, умерщвляют раз и навсегда. И то же самое есть и в обществе по отношению к тем или иным индивидам. Я бы сказал, что то педагогическое воздействие, которое я испытал как молодой режиссер-дипломант после этой моей постановки (я лично его вынес), когда из мясорубки был вынут фарш, он все-таки «заржал» и побежал, — но я это исключительно приписываю своей выносливости, а не правильности данной системы. Мне бы хотелось сказать, что если молодые режиссерские кадры в предстоящие годы будут попадать приблизительно в аналогичное положение, то я бы рекомендовал подумать и об изобретении несколько иных методов воздействия, чем те, о которых можно будет прочесть при изучении истории данной постановки и всех тех статей, которые она вызвала. Я должен сказать в плане навязчивой автобиографии, что для меня это имело и несколько особые последствия, потому что сразу после этой постановки Театр Вахтангова, которому я был очень предан, закрыл для меня двери как для режиссера начисто. И я был вынужден открывать собственный театр907: я им был 420 благодарен за это мероприятие. Целый ряд таких тем не изжит еще, это — тема классики, тема режиссерской активности, если можно так сказать, и тема художественных взаимоотношений, которые являются частностью педагогики в искусстве, для которых в качестве одного из многочисленных пособий и история этой постановки могла бы иметь некоторую ценность. (Аплодисменты.)
ГОРЮНОВ А. И.
Мне трудно высказаться, потому что я не слышал доклада и не знаю, каков был тон выступлений, но, судя по тому, что главный обвиняемый по процессу Николай Павлович Акимов выступил с такой жизнерадостной речью, очевидно, отыгрывались на актерах главным образом, а постановщику попало меньше других.
Что же я, собственно, могу сказать? Я тоже действительно виновен, но заслуживаю большого снисхождения, потому что я был увлечен постановщиком, просто «поддался» по неопытности ему, он меня, значит, соблазнил. Но жалею ли я об этом? Нет, не жалею, потому что я сохранил любовь к нему (постановщику) и по сие время. Я считаю, что если Николай Павлович будет ставить эту вещь, конечно, мною как Гамлетом он не предполагает воспользоваться. Должен сказать, что я об этом буду искренне сожалеть, потому что единственной ошибкой этой постановки было то, что режиссерский замысел не был доведен до конца. Он обещает его довести до конца, и я уверен, что при его твердом характере и настойчивости он сделает это дело до конца, то есть поставит «Гамлета» так, как он его понимает. Горький сказал по поводу этой постановки, что это «нехорошее озорство», выразил довольно правильную мысль о том, что он оценил это как известное озорство, что, несомненно, нехорошее — это уже вкус Алексея Максимовича. Я с этим не согласен. Это было, во всяком случае, озорство плодотворное, по-моему. Театр Вахтангова поступил, по-моему, неправильно: он испугался, страшно испугался и это дело постарался замять, сняв эту постановку, даже не сняв, а просто ее замяв: «попортились декорации, вот еще — восстанавливать!», так ее и замяли. Это, по-моему, было неправильно. Постановка была поучительна во многих отношениях.
Прежде всего она была поучительна. Режиссер не поднимался в своем понимании Гамлета, в своем раскрытии Гамлета до каких-то надзвездных вершин, но в связи с этим появились в трактовке Гамлета чрезвычайно талантливые догадки и чрезвычайно талантливые находки. Я услышал только конец речи товарища Загорского, который говорил, что это сумароковщина. Возможно, что это и правильно в известной мере, в той именно части, что Сумароков жил в ту эпоху, когда стали переделывать пьесы лишь таким образом, чтобы они были интересны, не было никакой иной цели, никакого пиетета к классикам. Сумароков избирал вариант и так препарировал «Гамлета», чтобы он был прежде всего интересен. Хотя я, должен сознаться, не знаком с сумароковской переделкой, но полагаю, что это, очевидно, так. Там была выявлена интрига, что было сделано и Николаем Павловичем. Николай Павлович, по-моему, сделал совершенно правильно, но, возможно, как всякий новатор, перегнул палку.
421 Затем Николай Павлович снял с «Гамлета» все то, что называется гамлетизмом. Я тоже приветствовал это и приветствую. Почему? Потому что гамлетизм есть несомненно явление наносное. Это явление, совершенно не сопутствовавшее пьесе «Гамлет» в момент ее появления. Это есть наслоение позднейшего времени. Раз это так, то Николай Павлович тем самым вернулся к подлинному Шекспиру. Мы просто не имели тогда возможности выступить с защитой своей точки зрения, это казалось опасным для жизни, и мы предпочли просто-напросто молчаливо подчиниться. Эта точка зрения была настолько огосударствлена, что не было никакой возможности возражать. Это чрезвычайно важно. Николай Павлович намекнул на то, что МХАТ, собираясь вернуть это к XI веку, к временам Саксона Грамматика, вернее, к временам, о которых он писал, конечно, совершит грубую ошибку против Шекспира и против смысла и духа пьесы. Но это тоже искание, только в обратном направлении. Мы старались приблизить к XX веку, а они стараются вернуть в XI.
(ШАПС: А что если поставить в том веке, в каком у Шекспира?)
Это будет вряд ли возможно, причем нужно это угадать. Я целиком поддерживаю тезис Николая Павловича, что следует классику угадывать, следует ее расшифровывать, а не восстанавливать в ее застывшем и неизменном виде, передавать стопудовые каламбуры, которые никого не смешат. Единственный выход из положения, когда режиссер заставляет подневольных, находящихся на сцене актеров умирать со смеху над каламбуром, который абсолютно не смешон. Но мы ведь играем для публики и ничем этого не восполнить.
То обстоятельство, что эта постановка не сделалась классической и что Николаю Павловичу в первой этой работе не удалось достигнуть вершин, адекватных Шекспиру (это он тоже признает), не должно снижать смысл этой постановки. И повторяю, что единственно, за что я ругаю себя, за что я ругаю Николая Павловича и театр в целом, — за то, что это озорство не было доведено до победного конца, то есть, что все-таки над этой постановкой довлел призрак «подлинного» Гамлета, все-таки нам не удалось скинуть до конца это самое проклятое наследие XIX века. Во всяком случае, то, что мы этого не сделали, что мы остановились на полпути, на половине дороги, было ошибкой. Это надо было сделать еще смелее, еще определеннее. Правда, должен сказать, что Николай Павлович, может быть, из-за меня, может быть, из-за других причин слишком сократил роль Гамлета, что является неправильным, просто вымарал возможности ее перетолковать. Надо было, уж если производить перетолкование, то найти в этом свою логику. Из-за этого часто логика терялась, логика была разорвана. Что там было сокращено? Я точно сейчас не помню, но, во всяком случае, были сокращены важнейшие его монологи. Вопрос с духом, например. По-моему, догадка тут была чрезвычайно талантлива, обоснованна, такие вещи употребляли в те годы, и она (догадка) мне казалась остроумной. Правильно это или нет? Это было, прежде всего, плохо сделано по разного рода причинам, трудно сказать, но догадка режиссерская была очень остроумна, подтверждена была Эразмом Роттердамским. У него описан такой случай…
Время совершенно соответствует одно другому, так что это вообще была обоснованная вещь, а не просто выдумка постановщика. Целый ряд остроумных догадок был произведен Николаем Павловичем.
422 Если бы товарищ Шапс хотел поставить так, как это ставилось в XVII веке…
(ШАПС А. Л.: Зачем же? Просто сохранить время действия этой пьесы, не архаически восстанавливая спектакль, а просто не перенося действие в другой век.)
Это абсолютно не было перенесено. Более того…
(ШАПС А. Л.: Я говорю по поводу МХАТа.)
Я хочу сказать, что, например, вся эта история с горшком при изображении духа взята из Эразма — в этом смысле абсолютно сохранено уважение к истории.
(ЗАГОРСКИЙ М. Б.: Но не к Шекспиру.)
Была целостная логика, очень остроумно и прекрасно было вспомнить, что женщин играли мужчины, и когда актеры изображали драму, то женскую роль играл мужчина.
(ГОЛОС: У Шекспира есть реплика об этом.)
Но это обычно нигде не соблюдалось, и это впервые здесь было сделано. Целый ряд был хороших вещей, о которых приходится говорить как об отдельных только вещах, потому что у нас не было достаточно сил, у постановщика — смелости, у актеров — тем более, чтобы довести замысел до его логического конца, завершить его, закруглить, так сказать, провести через всю пьесу с достаточной определенностью. Тогда, возможно, результат был бы иной, тогда эти выходки не казались бы отдельными выходками, тогда получилась бы трактовка, получилась бы цельная картина, о которой можно было бы с большим основаниям говорить — правильно ли это в целом или не правильно. Вот такое у меня сейчас по смутным уже воспоминаниям впечатление от этого спектакля. Я сам знаю, что я для подлинного Гамлета никак не гожусь и что у меня были все время какие-то позывы изображать Качалова, словом, какого-то «приличного» Гамлета, хотя я и считал, что вся характеристика Гамлета, которая дана Николаем Павловичем, безусловно, правильна, и я принимаю на себя вину, если я не сумел донести… Единственно, что он сделал неправильно — обеднил образ Гамлета, вырвал из него те монологи, которые, безусловно, мог бы произносить и этот Гамлет, этот характер, этот образ… Тогда Гамлет ничего не потерял бы из богатства всех оттенков мысли, и его характер от этого ничуть не пострадал бы. Мне кажется правильным, что Гамлет — волевой, энергичный человек, движимый не некими метафизическими отвлечениями, а подлинно человеческой любовью к своему отцу, глубоко волнующим презрением к матери… Это глубоко волнующийся человек, который полон крови, так сказать, полон огня, полон беспредельной ненависти к дяде-убийце, такой цельной, которая была возможной только в человеке времен Возрождения, лишенного всякого гамлетизма, сомнения. Цельность натуры Гамлета должна быть утверждена как цельность человека с волевым темпераментом времен Возрождения, а совсем не размазни немецкого интеллигента XIX века. Это для меня совершенно бесспорно, мне не нужно было слишком обнажать прием. Николай Павлович срезал слишком много мяса с этого тела. Но, действительно, величина спектакля колоссальна, с этим нельзя не считаться. Но нам надо было разрешить основные гамлетовские места, а не просто вырезать.
И интрига должна быть в этой пьесе, она есть, только весь вопрос в том, что она облечена в плоть и кровь, и вот эта плоть немножко убрана. В пылу полемики постановщик, несомненно, перегнул палку. Но понимание им «Гамлета» как пьесы, 423 написанной в титанические времена, бурные времена Возрождения, времена разворота всех человеческих чувств, всего их огромного торжества и огромного обнажения, бесстыдного обнажения чувств, по-моему, было угадано совершенно правильно, и я буду приветствовать, если Николай Павлович, уже умудренный опытом и убеленный сединами, доведет до конца начатое им дело.
МОРОЗОВ М. М.
Товарищи, разрешите мне сказать несколько слов. Мне кажется, что тут был поднят целый ряд очень важных вопросов. Первый и основной вопрос — это вопрос об отношении к классике. Можно сравнить это отношение к классике, скажем, с работой переводчика. Творческие, художественные переводчики часто говорят, что очень вредно прежде, чем начать создавать перевод, познакомиться с переводами своих предшественников. Для того чтобы создать подлинный творческий перевод, нужно постараться увидеть произведение непосредственно, почувствовать его, как будто бы оно сейчас только что создано, не иметь никаких посредствующих инстанций между собой и произведением. И мне кажется, что добиться вот такого непосредственного взгляда на подлинник — это и есть задача всякого художника, который не через комментарии, не через словари, не через то, что путем каких-то традиций сложилось вокруг этих образов, а совершенно непосредственно почувствует произведение, как будто бы это не «Гамлет» Шекспира, о котором написаны десятки тысяч томов (фактически около 30 тысяч томов на разных языках), а будто бы он открыл пьесу и увидел ее впервые, без всякого отвратительного ложного пиетета, который гробил дело осуществления «Гамлета» на сцене. Это фальшивый, это не искренний пиетет, потому что все дело перевода Шекспира основано часто на халтуре, на заработке денег. Вот, скажем, комедия «Как вам это понравится». Я беру кусок, превосходный текст, где героиня Селестина говорит: «Как верно, хорошо сказано, как будто лопатой прихлопнуло»908. Что это такое? Я обещаю каждому дать литр водки, кто мне скажет, что это означает. Однако это напечатано, и это существует, и это называется — Шекспир. Я был в одном периферийном театре и слышал, как подобную галиматью несли актеры, — я смеялся просто потому, что знаю подтекст. Они говорили это, причем они хохотали, а зрители с напряженными лицами сидели и спрашивали друг друга: что он сказал? Я вышел в антракте и зашел к актерам. Вы понимаете, что говорите? Оказывается, они сами не понимают. Режиссер сказал им: говорите посмешнее. Делать нечего, великий Шекспир написал, очевидно, эту галиматью. Это следы того трафаретного подхода, который очень вреден, который губит искусство. Мне кажется, заслугой Акимова является то, что он подошел к «Гамлету» очень смело. И действительно, всякий гамлетизм, всякие традиции, которые казались святыми, — все это для него не существует. Это показатель, прежде всего, просто большого художника… При всем несогласии моем с этой постановкой, абсолютном несогласии с трактовкой (об этом не стоит говорить сейчас, через 12 лет), тут есть какая-то свежесть. И когда мы возвращаемся к этому спектаклю, мы чувствуем интерес к нему, как будто бы призрак этого спектакля живет: это непосредственность. И в этой непосредственности было создано очень многое.
424 Что же тут было создано? Во-первых, идея Гамлета-борца, которая впоследствии претерпевала всякие метаморфозы. Затем связь с эпохой XVI века. Эразм Роттердамский, который здесь всплыл, всплыл очень к месту. Гамлет — современник Эразма. Я написал статью «Гамлет, читающий утопию». Мне пришло это в голову только потому, что было сказано это слово: Эразм Роттердамский. Раньше это не приходило в голову, это было мне подсказано.
Но отрицание известных вещей еще не есть положительное разрешение вопроса, а в положительной стороне, мне кажется, вы очень ошиблись. О Гамлете можно говорить очень долго, но хотелось бы сказать только одно. Товарищ Загорский говорил о сумароковщине. Есть ли борьба за престол в «Гамлете»? Есть, но где? В конце, когда Гамлет говорит: «Я — король Дании»? Я не выдумываю, посмотрите в любом словаре. Там сказано: «Я — король Дании». Но ни один переводчик этого не переводит. Как же! Вдруг «бархатный» принц, «бархатный» Гамлет говорит такие слова! Например, фраза об Офелии: «Как она много ест» — пропущена всеми переводчиками. Когда я спрашивал: почему вы это делаете? Ведь Шекспиром написано: «Офелия много ест». — «Да как-то не выходит». Старые переводчики корежили текст совершенно. Здесь тоже покорежено. Я не согласен с тем, как Гамлет у вас однообразен. У Шекспира образ все время эволюционирует, он все время разный. Вы указываете только на один момент, и ваша заслуга в том, что вы указываете на этот момент, но таких моментов в Гамлете тысяча, это образ… Вся сила Шекспира в том. Возьмите Джульетту. В начале спектакля эта девушка, которая лепечет: «Ромео, Ромео», а потом она вырастает в героиню. У Шекспира вся сила в том, что его образы меняются, эволюционируют. У вас в «Гамлете» этого не было. Уже одно это показывает, что вы взяли только один из аспектов «Гамлета». Но очень многое здесь было найдено. Это связь с эпохой, это какая-то материализация людей, люди действительно оказались живыми, вы показали спектакль в каком-то ритме. Всем этим вы показали, что вы очень большой шекспировский режиссер, и я глубоко убежден, что вы должны поставить Шекспира. Я уверен, что тех ошибок, которые были у вас, теперь не будет. И если наше собрание немножко подвинет вас к тому, чтобы поставить Шекспира, это было бы по-настоящему очень хорошо. Мне кажется, что громадные данные в вас как в режиссере есть именно для того, чтобы поставить Шекспира. Но прежде всего для этого нужно прочесть Шекспира, а это очень трудно. Я занимаюсь этим делом очень давно, я профессионал, я очень узко занимаюсь этим делом. По инициативе Николая Чушкина я стал подстрочно переводить Шекспира, я переводил «Отелло» — как будто я первый раз читаю эту пьесу. Я над «Гамлетом» работал — как будто бы я его никогда не читал. Это такое богатство мыслей. Как там классику преподносить — по-современному или нет, — это вопрос художественного воздействия, в котором вы лучше меня разбираетесь, но нужно сначала прочесть пьесу, а прочитывали пьесу до того плохо, что я могу привести такой пример. Отелло задушил Дездемону, после чего он говорит: «Мои слезы текут, как смола деревьев аравийских», а у Шекспира сказано: «как целебная мирра». Он от радости заплакал, когда узнал, что она невинна. Я переводил это, и у меня слезы были на глазах. Он задушил ее, узнал, что она невинна, и заплакал от радости. Это страшно глубокие моменты у Шекспира. Если бы вы ее глубже прочли, вы легко познакомились бы с этой пьесой. 425 Если бы вы по-настоящему познакомились с Шекспиром, с его произведениями, вы, как художник, правильно постигли бы его.
Горюнову обязательно нужно сыграть шекспировскую роль. Я не знаю, нужно ли ему играть Гамлета, но другую шекспировскую роль ему обязательно нужно сыграть. Вот, например, роль Фальстафа. Это замечательный образ. Сегодня говорили, почему бы не поставить «Генриха IV». Если глубже познакомиться с произведением Шекспира, то не будет всех этих ошибок, о которых здесь говорили.
Теперь насчет других мыслей, которые возникают в связи с этим. Как хорошо было бы у нас в Театральном обществе устроить выставку художественных эскизов! Этого так не хватает. Так много интересного остается просто неизвестным. В частности, не только у нас, но и на периферии бывают талантливые художники. В Армении, например, есть художник Арутюнов909, и никто его не знает. Такую выставку эскизов нужно было бы устроить. Это страшно обогатило бы художественную театральную культуру.
426 V
Елена Струтинская
«ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ»
НИКОЛАЙ КАЛМАКОВ910
Из жизни медленной и
вялой
Я сделал трепет без конца.
Валерий Брюсов
«Единственный в своем роде» — так написал Н. Н. Евреинов о Калмакове в статье, посвященной художникам Драматического театра В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской. И был прав.
Николай Константинович Калмаков (1873 – 1955) — художник со сложной судьбой, и творческой, и человеческой. Его театральные работы всегда высоко оценивались коллегами — людьми искусства, и критикой. Он работал с известными режиссерами — Н. Н. Евреиновым, Ф. Ф. Комиссаржевским, А. А. Саниным, А. П. Зоновым, и в знаменитых театрах — Театре В. Ф. Комиссаржевской, «Старинном», Камерном. Его станковые работы вызывали диаметрально противоположные оценки: либо восторженное восхищение, либо активное неприятие. Однако в истории русского искусства XX века — как театра, так и живописи — его имя почти неизвестно.
До отъезда в эмиграцию в 1920 г., за два десятилетия профессиональной работы, Калмаков участвовал в выставках «Союза русских художников», Московского товарищества художников, группы «Треугольник», объединений «Современные течения в искусстве», «Импрессионисты» и «Мир искусства», но при этом не принадлежал ни к одному художественному содружеству. В 1913 г. в залах петербургского Общества поощрения художеств состоялась его персональная выставка.
После революции наступил долгий период забвения.
В советское время эта фигура умолчания понятна: Калмаков разделил удел многих эмигрантов быть забытыми на родине.
Он родился в 1873 г. в городе Нерви на итальянской Ривьере, мать его была итальянка, отец — русский генерал. Детство Калмаков провел в доме родителей. Особое влияние на мальчика оказала его гувернантка-немка, страстная поклонница сказок братьев Гримм и фантазий Гофмана. По всей видимости, она была натурой артистической и обладала даром рассказчицы. Сказки в ее исполнении произвели на впечатлительного и наделенного пылким воображением мальчика сильнейшее эмоциональное воздействие. Образы немецкого романтизма пустили глубокие корни в его сознании. Мальчик с наслаждением погружался 427 в мир фантазий, когда мог, убегал в дальнюю комнату родительского дома и, сидя в темноте, ждал… появления черта. Юный Калмаков упорно приходил на эти странные свидания. Что он ожидал от встречи, почему она так ему была нужна? На этот вопрос ответа мы не получим.
Пройдет время, и Калмаков создаст несколько станковых и графических работ на эту тему, среди них — «Антихрист» и «Ангел бездны». Ангел бездны Калмакова — не титан гордости, страдания и борьбы, как у Врубеля, хотя он и изображен в образе воина. Экзальтированная декоративность живописи превращает его в театральный персонаж. Вообще «пантеатральность» свойственна всем и станковым, и графическим работам художника. Так причудливым образом Калмаков соединит в своих работах фантазии, разбуженные немецкими романтиками, и театральность, декоративизм модерна…
В биографии Калмакова много белых пятен, и восстановить ее канву сложно. Свидетельств о его жизни в России крайне мало. Самый интересный и развернутый портрет художника оставил в своих воспоминаниях актер А. А. Мгебров:
«Калмаков был вообще преоригинальным человеком и совершенно особенным художником. Правда, он был с большим мистическим уклоном, но вместе с тем он всегда стремился и пытался самим собой, своей собственной личностью воплотить художественную проблему эпохи Возрождения. Так, например, он, как старинные художники, никогда не покупал красок, но приготовлял их сам из трав и растений, чтобы познать древнюю тайну их — не умирать и не исчезать.
И жил он своеобразно, уединенно и одиноко, именно так, как жили старинные художники. В Петергофе, у большого петергофского парка [Старый Петергоф, Петербургская ул., д. 68. — Е. С.], он имел маленький собственный домик, в котором были высокие узкие окна, старинная мебель, какие-то старинные балюстрады, лесенки и переходы.
Помню однажды, когда я посетил его, он мне таинственным шепотом рассказывал, что давно пишет черта. “У меня наверху собраны все его эскизы”… Глаза его сверкали в этот момент странным блеском… “Вы понимаете… — говорил Калмаков, — вот уже столько времени я ловлю его (т. е. черта) и никак не могу поймать… Иногда мелькнет передо мною его глаз… иногда хвост… иногда копыто его ноги… но целиком я еще не увидел его, как ни стерегу и ни ловлю. Но я сделал сотню эскизов… хотите покажу?” И действительно, на пыльном чердаке своего странного дома он показывал мне тогда бесконечно разнообразные, жуткие и фантастические эскизы глаз, хвоста, множество ног черта и был убежден глубоко, что все это действительно видел <…>.
Лейтмотивом его произведения зачастую был эротизм совершенно чудовищных размеров, такой эротизм, какой мог бы быть только у самого дьявола, если представить себе, что и над дьяволом есть нечто еще более страшное и величественное, чем он сам… Может быть, после того, что я рассказал о картинах Калмакова, невольно возникает представление о нем, как о человеке в высшей степени ненормальном… Ничего подобного. Калмаков в жизни был корректнейшим человеком, всегда неизменно выдержанным, спокойным и элегантным. Он был небольшого роста; выпуклый и довольно значительный лоб обрамляли слегка вьющиеся и вместе редкие волосы; очень спокойные черты лица, маленькие усики и эспаньолка, в одно и то же время делали его лицо похожим в миниатюре 428 на Петра I и переносили воображением в эпоху испанских художников Возрождения или Ренессанса… В театре я помню его всегда с неизменным беретом, очень идущим к его действительно средневековому лицу. Калмаков любил блузу, трубку, спокойно-изысканные светские разговоры и ту особую выдержанность, которая всегда отличает людей, словно случайно забредших к нам из каких-то других времен и других эпох и стран. Он говорил только репликами, быстрыми и краткими, но неизменно значительными, образными и яркими. Он редко выходил из себя, за исключением тех случаев, когда это касается деталей его эскизов или работ, если они не выполнялись точно… Тогда он начинал слегка нервничать, и нервность эта выражалась только в маленьком отрывистом заикании.
Театр, по-видимому, Калмаков любил до исступления, бывая в нем помногу и подолгу, внося в него также огромную фантастику, хотя несколько иную, чем в его картинах…»911.
Летом 1914 г., накануне объявления войны, Калмаков с семьей вернулся из поездки по Европе; в письме к своему другу коллекционеру С. П. Крачковскому он писал:
«Многоуважаемый Степан Петрович,
Привет Вам с далекого севера.
Вы уже чувствуете весну, у нас же зима в самом разгаре, хотя не холодно. Как живете?
Здесь художественная жизнь идет довольно вяло, в Москве бойче. Там я был в декабре. Ставил “Жизнь есть сон” Кальдерона, для Московского Камерного театра <…>.
На праздниках я был нездоров, простудился в холодной декорационной мастерской в Москве. Теперь опять принялся за работу и работаю много. Сейчас пишу Георгия Победоносца в черно-бело-оранжевых тонах. Размер довольно большой, больше 2 1/2 аршин в квадрате. Потом примусь за антихриста.
В июне и августе я с женой и сыном были за границей. Из Вены мы уехали совсем перед войной. Потом проехали всю Италию: были в Венеции, Милане, Генуе, Пизе, Флоренции, Риме и Неаполе. Оттуда морем отправились в Сицилию, посетили Палермо, Мессину, Катанью, Сиракузы. Затем заехали в Афины, Константинополь и через Одессу и Киев вернулись домой в конце августа. Впечатлений масса. Особенно я счастлив, что сподобился видеть “Тайную вечерю” Леонардо да Винчи и Афинский Акрополь с Парфеноном. После этого спокойно умирать. Лучше ничего не увидишь! Все остальное — произведения людей, эти же два произведения — божественны.
Рафаэль меня совсем разочаровал.
Сердечное спасибо за то, что не забываете. Пишите.
Преданный Вам
Н. Калмаков»912.
В 1915 г. Калмаков был призван в армию, но вскоре его зачислили в историческую комиссию Красного Креста при содействии М. В. Добужинского, который вспоминал об этом так: «Наша “служба” заключалась в ежедневных занятиях по редактированию книги о 50-летии Красного Креста и в графической 430 работе для этого издания…»913. Графические работы состояли в натурных зарисовках фронтового быта.
После революции, в 1920 г., Калмаков, оставив на родине жену и сына, эмигрировал. С 1920 по 1924 г. он жил в Эстонии и Финляндии, а с 1924-го — в Бельгии и во Франции914. О его первых годах в эмиграции мы можем судить по письмам из Таллинна к его петербургскому другу И. М. Степанову, секретарю Общества поощрения художеств и одному из руководителей издательского комитета при Общине св. Евгении Красного Креста:
«30 апреля 1922.
Дорогой и любимый Иван Михайлович,
Хочется поболтать с Вами о выставке моих картин и рисунков, которую я открыл на 2-й день Пасхи, 17 апреля. Всех картин у меня 135. Помещение — залы Провинциального Музея на Вышгороде. Залы прекрасные, свет ровный. Одна большая, другая поменьше, куда я поместил портреты, мелкие акварели и графику. Летом написал я картину на тему объявления самостоятельности Эстонии. Эта картина привлекла много публики, которая искусством даже не интересуется. Предполагаемая покупка этой картины местным Биржевым Комитетом привела в ярость здешних художников. Они начали писать ругательные статьи в газетах, но делают это довольно неумело, т. к. попадает не только мне, но и правительственным кругам и даже самому Президенту: последнему за то, что он открывал мою выставку, тогда как на выставках местных художников он никогда не бывал. Действительно, он приехал на открытие моей выставки, при большом стечении народа. Я встретил его и показывал выставку, давая объяснения. Он пробыл часа полтора, очень внимательно осмотрел каждую мелочь. Все это испортило пищеварение местным Рафаэлям. Но их злобные выходки в газетах привлекают на выставку много такого народа, который иначе бы не пошел. Кроме того, много пишут и хорошего. А главное — все всполошились и заволновались.
Очень усердно посещают меня школы. Для них у меня пониженная плата. Многие группы приходят по нескольку раз. Художественно-промышленная школа ходит бесплатно. Для нее я даже прочел нечто вроде лекции. Лекцию же настоящую собирается прочесть один мой приятель, человек с художественной эрудицией, хорошо поставленный в здешнем высшем обществе.
Расходы по устройству выставки были порядочные, но это все покрывается. Удачны вышли каталоги, на трех языках: эстонском, русском, немецком.
Как живется Вам? Хотелось получить от Вас весточку. Часто вспоминаю, как мы с Вами сиживали у камина и говорили об Искусстве, смотрели старые редкие издания. Все это прошло, как хороший сон, но осталось хорошее теплое чувство.
Когда увидимся, — не знаю, т. к. хочу дальше.
Привет Вашим.
Ваш Н. Калмаков»915.
Следующее послание от Калмакова Степанов получил уже из Брюсселя:
«13 апреля 1924. Bruxelles.
Христос Воскресе!
431 Дорогой Иван Михайлович,
Поздравляю с праздником Вас и всех Ваших и шлю лучшие поздравления. Здесь в Брюсселе устраиваю свою выставку в конце мая или начале июня. Имею заказы на портреты и уже продал кое-что из небольших картин. Как живете? Как здоровье?
Ваш Н. Калмаков»916.
Эти письма хранят спокойную интонацию доверительного разговора и уточняют некоторые аспекты биографии художника, но в них явлено только одно его «я», его повседневное лицо.
Для современников и для позднейших исследователей так и осталось загадкой, было ли это лицо подлинным, или это была одна из масок, которые столь любил художник. В 1923 г. Калмаков создал картину «Маркиза». На зрителя смотрит, загадочно улыбаясь, обнаженная по пояс женщина, верхняя часть лица закрыта маской, за ее спиной занавес из лоскутков, напоминающий костюм Арлекина, — так кажется, пока взгляд сосредоточен на фигуре маркизы, но если внимательнее присмотреться к этим треугольным лоскуткам, то они оказываются масками, за которыми прячутся чьи-то глаза; лоскутный фон оживает, и на зрителя устремляются взгляды невидимых персонажей. Калмаков достиг странного эффекта: этот фантастический и жутковатый фон и первый план меняются местами. Фигура прекрасной незнакомки как бы растворяется, и зритель попадает в плен таинственных взглядов и улыбок. Кого скрывают маски?.. Кто эти существа, насмешливо наблюдающие за зрителями картины?..
Соученик Калмакова по Училищу правоведения К. А. Сюннерберг (К. Эрберг), теоретик искусства, художественный критик, поэт и переводчик, один из интереснейших людей Серебряного века, чей облик нам знаком по портрету Добужинского «Человек в очках», не одно десятилетие собирал материалы для исследования по психологии творчества. Среди вопросов, которые он задавал писателям, актерам, поэтам и художникам, был следующий: «Не создаете ли Вы сами себе положительных или отрицательных условий своей жизни ради того, чтобы выйти таким образом из равновесия повседневности, почувствовать себя способным с возможно большей силой откликнуться в своей лирике на происшедшее радостное или горестное событие?»917 Как правило, Сюннерберг вразумительного ответа на свой вопрос не получал, некоторые опрашиваемые молчали. У нас нет точных сведений о том, что Сюннерберг обращался к Калмакову с этими вопросами, но они общались, были друзьями и часто вели беседы об искусстве, так что такое обращение было бы вполне вероятно. Вряд ли Калмаков счел бы возможным поведать о тайных связях своей жизни и творчества. Но определенно можно сказать, что «равновесие повседневности» Калмакову было чуждо…
В 1925 г. до Ленинграда дошли вести о кончине Калмакова. Вести эти оказались ложными. Скорее всего, это были превратно истолкованные слухи о его дуэли, произошедшей на французской Ривьере, где его соперник был ранен, а сам Калмаков не пострадал. В вечернем выпуске «Красной газеты» от 18 апреля 1925 г. был опубликован некролог «Н. К. Калмаков», который может служить косвенным 432 признанием его художественного авторитета, так как некролога в советской прессе удостаивался не каждый эмигрант. Текст был написан художником Э. К. Спандиковым, который в свое время вместе с Калмаковым экспонировал свои работы на выставках «Импрессионистов» и «Мира искусства». Спандиков дал Калмакову характеристику достаточно резкую, но в чем-то справедливую:
«В его работах нельзя найти стремления к разрешению чисто живописных задач. Он был стилизатором, графиком, жестким и не всегда приятным. Творчество его носило отпечаток тех веяний, которые господствовали в то время в литературе, а также той социальной среды, с которой связан был он рождением, воспитанием (правовед) и классовым положением. Мрачная эротика и фантастика, эротика, но не одухотворенно-радостная, а утонченно-болезненная, замаскированная символизмом и мистикой, — вот отличительные черты его творческого силуэта. Эта извращенная эротика, однако, как отражение буржуазной психологии в сексуальной сфере в то же время, быть может, единственное, чем интересен художественный путь Калмакова.
Приходится только жалеть о том, что этот путь не был осыпан более значительными художественными ценностями, тем более, что у Калмакова несомненно была ярко выраженная индивидуальность, приковывающая внимание»918.
Что ж, если отбросить классовые обвинения, то эта характеристика во многом справедлива.
Действительно, трудно найти в русском модерне и символизме более странные и дерзкие мистические, эротические и гротескные фантазии. Калмаков создал целые серии работ, наполненных экзотическими образами, отсылающими к древневосточной и античной мифологии, населенных всевозможными демонами, монстрами и фантомами эротических видений, с явным и вызывающим оттенком богоборческого «люциферизма» — падший ангел, ангел бездны, был постоянным героем художника. Образ Демона, созданный Врубелем, определил одну из центральных тем в русском символизме. В 1905 г. только что открывшийся журнал «Золотое руно» объявил конкурс на тему «Дьявол». Художники и литераторы в то время вообще не чурались чертовщины: вспомним хотя бы чертей у Алексея Ремизова, Юрия Анненкова, Добужинского и т. д., но никто не превзошел Калмакова на этом рискованном пути, ибо если для многих чертовщина была символом или метафорой вполне земных психологических или социальных напряжений, то Калмаков изображал зло в чистом виде, любовался им, заигрывал с ним, как бретер-дуэлянт заигрывает с опасным противником. Впрочем, он и в жизни был и бретером, и дуэлянтом. Точно так же и его эротика не включала в себя ничего метафорического и метафизического, а была эротикой в собственном и простом смысле. Эта прямолинейность, подобная бесхитростной прямоте лубка, может даже вывести некоторые элементы произведений Калмакова за пределы живописной эстетики в ту область, где начинается примитив или китч. Это касается в первую очередь трактовки человеческого тела в его живописи. Оно зачастую написано настолько робко, рыхло, шаблонным «телесным» цветом с ученически разведенными одинаковыми тенями по обе стороны от круглящихся объемов, что возникает вопрос — можно ли тут вообще говорить о каком-либо профессиональном искусстве.
Калмаков систематического художественного образования не получил, он был самоучкой, чрезвычайно одаренным и «насмотренным». Но дело заключается не 433 в том, был он или не был дилетантом, а в том, что он свой дилетантизм демонстрировал, намеренно подчеркивал, обнаруживая в нем осознанный художественный прием. Рыхлые, телесного цвета объемы его персонажей вываливаются из плоскостного живописного окружения, создавая неожиданный эффект барельефных вставок, инкрустаций на поверхности драгоценного декоративного изделия или выпуклых неглазурованных рельефов на поверхности глазурованной фарфоровой вазы. Двухфактурность его изображений создает двойной код чтения, некую внутреннюю иронию, предвосхищающую современный постмодернизм. Она наполняет произведение сложной смысловой пульсацией и возвращает китч к статусу высокого искусства — тем более, что декоративный дар художника был и правда чрезвычайно высок. Насыщенностью цвета, пронзительной звучностью колористической гаммы, причудливой напряженностью линий живописные произведения Калмакова и впрямь подобны старинным эмалям. Красное, синее, желтое, черное, оранжевое соединяется в точной игре, усиливая выразительность изображения, особенно когда в них включается ляпис-лазурь, серебряная краска и накладное золото; художник почти не пользовался переходными тонами. Как натуралистически трактованные тела или плоскостно сверкающее накладное золото отрицают каноны станковой живописи той эпохи, так и все искусство Калмакова отрицало традиционную этику. В самом виде формулу творчества Калмакова можно было бы свести к фразе «Красота выше этики», «выкрикнутой» в несколько неврастеническом экстазе…
О жизни Калмакова в эмиграции известно очень мало. Он умер в 1955 г. в безвестности и нищете в госпитале под Парижем. Интерес к его творчеству возник случайно. Спустя семь лет после его кончины, в 1962-м, двое друзей, любителей живописи, Мартен дю Нор и Бертран Коллен дю Бокаж, нашли у одного торговца на Блошином рынке 40 живописных работ, подписанных монограммой «К» и афишу выставки Николая Калмакова в Королевской галерее в Брюсселе (1924). Они приобрели эти работы и начали поиски людей, знавших Калмакова в Париже. Дело оказалось трудным, так как художник, особенно в послевоенное время, прекратил все контакты с соотечественниками. Но постепенно им удалось найти несколько человек, знавших Калмакова в России и во Франции, и восстановить биографическую канву его жизни. Через два года, в 1964 г., Мартен дю Нор и Бертран Коллен дю Бокаж издали каталог и организовали в Галерее Мотт выставку произведений Калмакова. В 1982 г. Ани Тресго сняла короткометражный фильм о Калмакове под названием «Ангел бездны». Затем последовала в 1986 г. выставка под тем же названием: «Калмаков. Ангел бездны. 1873 – 1955 и художники “Мир искусства”» с каталогом, куда помимо новых материалов вошли и тексты из предыдущего.
В статьях этого каталога есть интересные биографические сведения о жизни художника в эмиграции, наряду с сомнительными и прямо мифическими историями (например, о причине запрета спектакля «Саломея» («Царевна») в постановке Евреинова в Театре В. Ф. Комиссаржевской; ниже мы подробно рассмотрим эту коллизию) и целый ворох противоречий в данных о его личной жизни. По сведениям каталога, Калмаков стал католиком под влиянием матери-итальянки, но при этом, живя в России, принадлежал к секте скопцов. Католик 434 и скопцы не очень сочетаются. (Впрочем, автор помещенной в каталоге специальной статьи о скопцах Л. Куртилет919 отметил, что процедура оскопления в секте уже не практиковалась в конце XIX в.) Неясно, откуда взяты сведения о причастности Калмакова к этой секте, но они противоречат тому, что, живя в России, он был женат, имел сына. В других статьях каталога мелькают сведения о его многочисленных романах и нескольких дуэлях из-за женщин920. Одна из дуэлей произошла на юге Франции, вскоре после приезда художника из Эстонии, где он жил до 1924 г.; к тому же последняя спутница жизни Калмакова была на 25 лет его моложе.
Калмакова привел в театр Евреинов, и «Саломея» («Царевна») у Комиссаржевской стала его первой работой. Как их свела судьба — неизвестно. Оба учились в императорском Училище правоведения, хотя едва ли могли там дружить — Калмаков был старше Евреинова на шесть лет и закончил Училище в 1895 г. Отказавшись от государственной службы и чиновничьей карьеры, Калмаков на несколько лет уезжает в Италию и там начинает заниматься живописью. Вернувшись в Россию, экспонирует свои работы на выставках различных художественных объединений. Необычная тематика и художественная манера Калмакова сразу привлекли внимание критиков. А. Н. Бенуа в статье, посвященной выставке «Союза русских художников» 1907 года, отмечает работы Калмакова: «У нас в Петербурге до сих пор еще не было настоящих “форменных” символистов. Вот они и появились. <…> Калмаков более литературен, философичен и ясен. Картины его рассказываются без особого затруднения»921. Поэтому утверждение Евреинова, что он стал экспонировать свои работы после «Саломеи» (1908) — Евреинов ставил это себе в заслугу (см. его статью «Художники в театре Комиссаржевской»922), — не соответствует действительности.
Театр В. Ф. Комиссаржевской с полным основанием называют театром исканий. На его подмостках нашли себе место многие дерзкие увлечения преобразующегося искусства театра начала XX века. Мейерхольд привел на его сцену «новую драму» и новых театральных художников. Здесь ставились Блок, Метерлинк, Сологуб, Юшкевич, Андреев, Пшибышевский, Гофмансталь, Ведекинд, Ремизов, Рашильд, Мортье. Декорации к спектаклям создавали Сапунов, Судейкин, Денисов, Анисфельд, Добужинский. Разрыв Комиссаржевской с Мейерхольдом не изменил ориентации театра на «новую драму», и появление в афише театра трагедии Оскара Уайльда «Саломея» было логическим следованием начавшимся поискам.
Комиссаржевская получила в цензурном комитете разрешение на постановку «Саломеи». По требованию цензуры драма Уайльда претерпела ряд камуфляжных изменений. Из «Саломеи» она превратилась в «Царевну», так же стали именовать и главную героиню, Ирод превратился в Тетрарха, Иродиада — в Царицу, Иоканаан — в Прорицателя (в дальнейшем мы, говоря о пьесе, используем оригинальные имена персонажей, а в описании спектакля — имена, звучавшие со сцены после цензурных поправок, поскольку именно так их воспринимал зритель и упоминали рецензенты). Цензурный комитет изменил название пьесы, убрал все собственные имена, прикрыв их титулами, заменил «голову» «трупом» и этим удовлетворился.
435 Семнадцатого октября, за две недели до генеральной репетиции «Саломеи», в Театре на Офицерской состоялась премьера двух французских символистских пьес: «Госпожа Смерть» Рашильд (режиссер А. П. Зонов) и «Балаганный Прометей» А. Мортье (режиссер Ф. Ф. Комиссаржевский), оцененный рецензентом «Биржевых ведомостей» следующим образом: «Поставлена пьеска в стилизованных тонах и с причудами. Были аплодисменты, но не успех»923. Оба спектакля прошли всего по одному разу.
Вполне возможно, эти постановки замысливались вместе с «Саломеей» как некий целостный репертуарный блок из символистской западноевропейской драматургии.
Незадолго до генеральной репетиции Евреинов опубликовал на страницах «Театра и искусства» статью «К постановке “Саломеи”». Это была не обычная предпремьерная декларация постановщика, а художественно-эстетический манифест.
Евреинов был не только поклонником творчества Оскара Уайльда, но и последователем его эстетических взглядов, во многом он развил эти взгляды в своих теоретических работах.
Уайльд, принявший из эстетической теории Джона Рёскина идею «эстетизации жизни», создал собственную концепцию, во многом противоположную источнику. Он отмел нравственный аспект теории Рёскина. Идея эстетизации жизни, самодовлеющей ценности искусства и приоритета формы в искусстве утверждалась Уайльдом одновременно с отказом художника-творца от каких бы то ни было моральных критериев, также как и от законов правдоподобия. Это позволяло Уайльду выдвинуть идею эстетизации безобразного, эстетизации зла. Главное для Уайльда — творческая воля художника, его фантазия, не сдерживаемая никакими рамками и ограничениями.
Евреинов начинает свою статью с тезиса, что искусство преобразует жестокие, кошмарные, безобразные сюжеты в эстетически прекрасные формы, вызывающие у зрителей не ужас и отторжение, а эстетический восторг.
«Каким образом, — вопрошает Евреинов, — ужасное, гадкое, отвратительное может не быть таковым, даже напротив, как чисто эстетическая пикантность, может быть даже желательно? Что за чудо превращенья? Где же причина этой эстетической метаморфозы?..» — И отвечает: «В искусстве нет предметов недозволенных, и там, где хмурая этика ворчит о должной запретности, радужная эстетика поет о должной разрешимости. В том и заключается для нас очарование искусства, его несравненная сила, что оно не знает невозможности и даже там, где это кажется совсем немыслимым, способно раскрывать нам эстетическую сторону явления». И в качестве точки над «i» в утверждении этой мысли Евреинов приводит замечательное высказывание: «В разгар одного из страстных споров на эту тему с моих губ сорвалась однажды следующая фраза: красота — это такой вкусный соус, под которым можно съесть родного отца. Прошло уже 2 года, как я это сказал, но и сейчас обеими руками я подписываюсь под этим парадоксом». Но Евреинов делает любопытную оговорку: «Однако, разумеется, для выявления красоты безобразного нужен исключительный талант, а для эстетической аперцепции в этой области исключительная рафинированность вкуса»924. Таким образом, съесть родителя не каждому дано.
Евреинов спорит с лозунгом «декадентов конца XIX века» — «le beau c’est le laid» («красота — это безобразное»), подчеркивая, «что в искусстве <…> переносимость 436 и очарование безобразным покоится лишь на обманной реальности, столь далекой от пут ясно осознанной действительности. Нигде художнику так не легко, как в этой области, дойти до эксцесса; а раз это случилось, мы проснулись, мы снова в лапах той действительности, от которой искусство призвано хотя бы на миг освобождать наши пленные души»925.
И как пример Евреинов приводит «Саломею»: «Если только мы на минуту забудем то великолепие формы, в которую вылилась “Саломея”, это поистине единственное в своем роде произведение, то тот мир, в который нас вводит Оскар Уайльд, предстанет ужасным, отвратительным и настолько же далеким от красоты, как тьма от света…»
Действительно: «Содомский грех, прелюбодейство, любострастие, кровосмешение, сладострастная жестокость, блуд и кровожадность — вот страшная канва, на которой вышита красота “Саломеи”»926.
Подробно пересказав существующие толкования «Саломеи», Евреинов ушел от прямого ответа о собственном прочтении пьесы, сославшись на Уайльда, который, как истинный последователь идеи «искусства для искусства», считал, что не надо бояться непонятности произведения и «что только великим мастерам стиля удавалось быть непонятыми». Укрепив свои позиции еще одним парадоксом Уайльда о том, что искусство, к счастью, всегда умеет скрыть истину, Евреинов перешел к полемике с общепринятым мнением, что «Саломея» — пьеса историческая (так утверждал, в частности, друг Уайльда литературный критик Г. Лангаард, так была трактована трагедия на всех сценах, где она ставилась, включая и спектакль Макса Рейнхардта в Kammerspiele).
Евреинов вопрошал: «Ответим только на вопрос, — посколько уместно считать исторической пьесу, в которой автор умышленно пренебрегает историческими фактами. Так как это уже не раз указывалось критикой, Уайльд спутал Ирода Великого (Ев. от Матф. XI, 1), Ирода Антипу (Матф. XIV, 3) и Ирода Агриппу (Ап. Дея. VIII), и, насколько позволяют судить данные об образованности Уайльда, он сделал это так же сознательно, как делали это бессознательно авторы средневековых мираклей и мистерий, где Ирод выводится не как историческая личность, а как тип»927.
«Утверждать, что “Саломея” относится к категории исторических пьес, — резонно замечал Евреинов, — значит, не знать Оскара Уайльда и его творческое отношение к действительности. Ни один великий художник, говорит он, не видит вещи такими, какими они являются в действительности, ибо в противном случае он перестал бы быть художником»928. По мнению Евреинова, Уайльда при влекла только одна сторона действительной жизни, и он дал «лишь чудовищно-прекрасный экстракт эротической жестокости того века, прошедшего сквозь горнило свободного творчества»929.
Евреинов определяет стиль Уайльда как преувеличенный, гиперболизированный: «Что туманит, что неинтересно, — выброшено с изумительной смелостью, выброшено, чтоб гипербола оставшегося выиграла до невероятности».
«Стиль постановки, — утверждает Евреинов, — обуславливается стилем инсценируемого произведения, и это должно быть лозунгом и предельной чертой свободы творчества всякого режиссера»930.
Так что же представляет собой уайльдовский стиль? «Несомненно для всякого прилежно проштудировавшего эту пьесу, что здесь мы имеем дело со своеобразным 437 стилем синтетического характера: здесь и изощренная деланность “рококо”, и чарующая лаконичность “Эллады”, и пряная цветистость Востока, и утонченная обходительность “Louis XVI”, и чисто модернистическая диковинность, и, наконец, то непередаваемое, что я бы назвал “Уайльдовской дерзостью”. И для представления этой пьесы на сцене мы должны найти такой гармонический смешанный стиль»931.
Калмаков и Евреинов создали этот «смешанный стиль». Он был последовательно воплощен в спектакле: и в декорации, и в костюмах, и в световой партитуре, и в мизансценах, и в вычурной пластике актеров, и в условной речевой мелодике, с которой исполнители произносили уайльдовский текст. Визуальный образ спектакля был дерзким, гротескным, балансирующим на грани допустимого. Дерзость, диковинность, гротеск должны были эпатировать, завораживать зрителей. Калмаков и был тем идеальным художником, который смог воплотить замысел Евреинова. В его работе не было рафинированности и утонченности бердслеевской эротической графики. Образы, созданные художником, были ярки и агрессивны.
Евреинов, будучи сам драматургом, всегда ревностно следил за соблюдением ремарок автора пьесы. Калмаков точно последовал указаниям Уайльда, но создал свое пространство, насыщенное резкими цветовыми и орнаментальными ритмами. Кроме авторских ремарок в тексте «Саломеи» заключена одна особенность — персонажи пьесы на протяжении всего действия комментируют любое изменение, происходящее вокруг них, — не только изменения, например, света и цвета луны, но и изменение в восприятии места действия, а также внешнего облика персонажей (Иоканаан описывается Саломеей по-разному в зависимости от ее собственного настроения и состояния). И Калмаков создал не только декорацию, но и облики персонажей — сложив их как мозаику из различных кусков-характеристик в яркие и многогранные образы, сочетавшие реальность и фантастику, субъективность и цельность обобщения.
Генеральная репетиция 27 октября 1908 г. стала одной из самых загадочных театральных легенд. Об этом спектакле в советское время было принято вспоминать в связи с его запрещением по политическим мотивам реакционно настроенными властями. О постановке Евреинова и оформлении Калмакова упоминалось вскользь, если вообще упоминалось. Характеризовалась она как декадентская, эротическая и условная. Именно такой она и была — декадентской, эротической и условной, но все дело в том, какой оттенок этим определениям придавать. «Царевна» («Саломея») была первой театральной работой Калмакова, но ничто не выдает в ней дебютанта. Поражает раскованная легкость фантазии художника, создавшая прихотливый, необычный визуальный образ спектакля. «Уайльдовская дерзость» Калмакова была принята безоговорочно критикой и зрителями этого единственного представления запрещенного спектакля.
В статье «Калмаков — художник театра» Мартен дю Нор сообщает, со слов вдовы Евреинова, А. А. Кашиной: «Евреинов не написал, что скандал вызвали не аллюзии, а декорации Калмакова. Уже макеты вызвали у Евреинова беспокойство, а их воплощение его ужаснуло, но он не смог преодолеть упорство художника, поддержанное Верой Комиссаржевской, ставшей к этому времени его любовницей. 438 Первый акт был сыгран в декорации из монументальных женских гениталий — по тексту, это Храм Любви, — генеральная репетиция, на которой был весь Санкт-Петербург, потонула в шиканье и аплодисментах. Пьеса была запрещена тем же вечером, Комиссаржевская разорена»932.
На деле все обстояло совсем не так. Французский коллекционер был введен в заблуждение А. А. Кашиной, не видевшей ни спектакля, ни декораций, которые не имели ничего общего с ее фантастическим описанием.
Никакого «первого акта» в спектакле быть не могло, пьеса одноактная, спектакль шел в одной декорации, и это был не Храм Любви, а терраса во дворце Тетрарха (Ирода). Хотя местонахождение эскиза Калмакова неизвестно (весь комплект эскизов, включая эскизы занавеса, декорации, костюмов и бутафории, по данным каталога персональной выставки 1913 г. Калмакова в Петербурге, принадлежал А. Я. Леванту), есть его воспроизведение в сборнике «Алконост» (1911 г.), посвященном памяти Комиссаржевской. На иллюстрации в сборнике нет никаких физиологических деталей. В этом же издании опубликованы две статьи: одна принадлежит перу Евреинова и посвящена художникам театра Комиссаржевской, в частности, содержит восторженную оценку работы Калмакова над «Царевной»; автор второй, М. Вейконе, реконструирует генеральную репетицию спектакля, с подробным описанием декораций и костюмов. Ни о каких физиологических изображениях в декорациях упоминаний нет.
Тем не менее во Франции родилась легенда о Калмакове и «Саломее». Ее отзвуки мы найдем в «Каталоге-резоне собрания Никиты и Нины Лобановых-Ростовских», составленном Д. Боултом: «Подробности этой несостоявшейся постановки “Саломеи” в Театре Комиссаржевской в Петербурге теряются среди множества преувеличений, мифов и легенд. Согласно, например, одному такому слуху (неподтвержденному), Калмаков создал декорации к одной из пьес в виде женских гениталий, и это, как утверждают, стало причиной немедленного запрещения пьесы в результате прямого вмешательства Николая II. Разумеется, “Саломея” была запрещена, но указ был издан петербургской полицией на основании того, что сама пьеса признавалась кощунственно трактующей библейскую историю (несмотря на то, что Комиссаржевская имела официальное разрешение готовить и репетировать пьесу)»933. Несмотря на осторожное замечание по поводу неподтвержденности слухов о характере постановки, Боулт все же не отказывается от скандально-соблазнительной версии: «Под влиянием искусства Л. С. Бакста Калмаков своими откровенными образами секса и смерти вызвал множество скандалов, среди которых особенно шумным был скандал, порожденный так и не получившей права на существование постановкой “Саломеи” Оскара Уайльда в театре В. Ф. Комиссаржевской в 1908»934. И там же: «По-видимому, основным моментом репетиции, который восхитил петербургскую богему и шокировал властей предержащих, была не игра и даже не сама история, но роскошная томность “наглых” калмаковских костюмов»935.
На самом деле «влияния искусства Бакста» в 1908 г. быть не могло: еще не созданы костюмы и декорации к балетам «Русских сезонов», ориентальная тема еще не возникла в творчестве Бакста, он увлечен античной темой (в 1908 г. создает картину «Древний ужас»). Бакст одновременно с Калмаковым делает свой вариант «Саломеи» для Иды Рубинштейн, эта постановка должна была увидеть 439 свет рампы после премьеры у Комиссаржевской, и ни о влиянии, ни о заимствовании речи идти не может.
Несомненно, декорации и костюмы Калмакова были и роскошными, и «томными», но не более того. Невозможно представить, чтобы Комиссаржевская, тяготевшая к высокой духовности и чистоте, допустила на сцену подобную декорацию и поставила под угрозу закрытия спектакль, в который были вложены огромные средства.
А самое главное, о Храме Любви нет упоминаний в прессе, в свидетельствах журналистов и мемуарах современников, видевших спектакль (Мгебров, Остроумова-Лебедева и другие).
Петербургская и московская пресса (все крупные московские газеты имели в Петербурге свои отделения) подробно осветила историю запрещения пьесы и описала сам спектакль. Эта история и в самом деле не обошлась без прямого вмешательства влиятельного лица, но это был не царь, а депутат Государственной Думы В. М. Пуришкевич, действовавший вместе с представителями Священного Синода и отнюдь не скрывавший своего участия в этой истории. Запрещение «Царевны» действительно было связано с религиозно-нравственными и политическими мотивами. Генеральная репетиция, как отмечали во всех газетах, прошла «с торжественностью инквизиционного заседания»936. На спектакле присутствовали депутаты Думы, пришедшие с только что закончившегося заседания, были и правые и левые, был и помощник градоначальника, «точно в самом деле от “Саломеи” была отечеству опасность!»937 — иронизировал в статье о спектакле А. Измайлов. Были А. Блок, Ф. Сологуб, Н. Тэффи, А. Ремизов, Л. Андреев, актеры, художники. Пуришкевич и представители Синода решили судьбу спектакля938, а в итоге — Театра Комиссаржевской и самой актрисы: снятие спектакля (который обошелся в 25 тысяч рублей) разорило ее антрепризу. Комиссаржевская объявила о своем намерении закрыть театр, но труппа приняла решение доигрывать сезон без зарплаты до получения первых сборов, покрывающих дефицит.
… Театр был полон задолго до начала репетиции. Напряженное ожидание. В зрительном зале, погруженном в полумрак, за режиссерским столом — В. Ф. Комиссаржевская, Н. Н. Евреинов, Ф. Ф. Комиссаржевский. За опущенным занавесом зазвучала специально написанная к спектаклю В. Г. Каратыгиным музыка939, и «Бакст» (так в театре называли портальный занавес «Элизиум», сделанный по эскизу Л. Бакста) медленно пошел вверх…
Между прочим, здесь возникает вопрос, был ли сделан Калмаковым специальный занавес к спектаклю. В «Каталоге выставки картин Н. Калмакова» (С.-Петербург, 1913) на странице 2 под № 37 числится эскиз занавеса к спектаклю «Саломея». Однако ни в одной из рецензий занавес не упомянут. Возможно, он был сделан, но на генеральной репетиции его не повесили.
Пресса, поведавшая обо всех подробностях запрета спектакля, столь же обстоятельно рассказала и о самой постановке (хотя по неофициальным правилам после генеральной репетиции в газете принято было давать лишь краткую информацию, а развернутые рецензии — после премьеры). Работе Калмакова уделено достаточно внимания, и мы можем составить полное впечатление о декорациях и костюмах по газетным отчетам, которые совпадают с описаниями 440 костюмов в статье Евреинова и в воспоминаниях Вейконе, Мгеброва и Остроумовой-Лебедевой.
Что же увидели зрители после подъема «Бакста»?
Задник сцены — темно-синее ночное небо. Необычна «фактура» неба: живописными средствами оно выполнено так, что выглядит как рельефно-шероховатое. Гладь задника походила на тисненую кожу или странную мозаику. Сочетание разных оттенков синего цвета, от редких вкраплений густой берлинской лазури до темных, почти черных оттенков. Этот живописный принцип вибрации цвета распространен в станковых работах художника и создает эффект какого-то необычного мерцания и глубины («Женщина со змеями», ГРМ). При этом сохранялось впечатление откровенной декоративности, взятое как принцип оформления.
Пространственное решение декорации «Царевны» достаточно простое. Основной акцент сделан на оформлении портала сцены. Его левая и правая части изображали орнаментированные колонны. В левой части — вход во дворец Тетрарха с тонкими витыми колоннами во всю высоту сцены. Почти посредине игровой площадки — низкий широкий колодец-водоем, в соответствии с ремаркой «окруженный зеленой бронзовой оградой». Больше никаких сооружений на сцене нет. Арочная балюстрада замыкает террасу, она, по всей видимости, была изображена на заднике панно, также как и орнаментально трактованные деревья.
Для декорации в целом характерно странное и тревожное сочетание симметрии и асимметрии. Симметрично расположены колонны портала, колодцем отмечен центр, деревья по фону размещены через равные промежутки, но слева их три, справа — четыре. Арки повторяют это членение, только чуть иначе: справа — три, слева — две. Такое равномерное расположение создает четкий ритмический фон, на котором вдруг прорисовывается резко противоречащий ему акцент: сдвинутый вправо от центра неба огромный серп луны, поднимающейся из-за балюстрады. Противоборство симметрично решенного фона и асимметричного акцента создавало некую драматическую коллизию и эмоционально настраивало зрителя на восприятие трагических событий пьесы. Этот ритм симметричных и асимметричных построений присутствует и в речи персонажей, они повторяют как заклинания свои просьбы друг к другу, эти повторы создают своеобразный звуковой орнамент, подобный шуму набегающей и уходящей волны.
Висящий низко над горизонтом огромный, неправдоподобный в своих гипертрофированных размерах серп луны таил в себе облик обнаженной женской фигуры. «Размеры луны антиреалистичны, но этим хорошо символизировано настроение жути лунной ночи, наполняющей всех предчувствием крови и смерти»940, — писал рецензент «Биржевых ведомостей».
Казалось, луна дирижировала действием, события трагедии предвосхищались изменениями ее цвета: от холодного голубого в начале до кроваво-красного в конце. Широкий кривой меч палача Наамана повторял линии серпа луны.
Редкие звезды, похожие то ли на диковинные тропические цветы, то ли на морские звезды, отливали золотом и серебром.
Семь тонких «змееподобных», как писала критика, деревьев с голыми ветками крон создавали на фоне неба причудливую решетку.
В глубине сцены (судя по эскизу — на уровне третьих кулис) возвышались невысокие стенки колодца цвета зеленой бронзы, орнаментированные фигурами 441 идолов и спиралями «критского завитка» — бегущей волны, символизирующей вечную сменяемость рождения и смерти, прилива и отлива.
На авансцене слева и справа стояли золоченые курильницы с благовониями, за ними — портальные колонны волнистого рельефа, фантастически декорированные в духе орнаментики Климта, с накладной золотой и металлической фольгой, с узорами в виде кругов, шахматных клеток, волнообразными поперечными полосами. Но изящество «климтовского» орнамента было нарушено введением в него античных театральных масок. И уже совсем неожиданными были венчающие колонны капители в виде монструозных кариатид, чьи мощные торсы опирались на трех змей с человеческими головами. Кариатиды своими слоновьими руками и шарообразными головами как бы поддерживали легкий и изящный портальный арлекин. По всей ширине его украшал орнамент: пять полумасок сплелись с двойными лентами в гирлянду.
За левой колонной располагался вход во дворец Тетрарха. Навес над ним, украшенный султанами из страусовых перьев, поддерживали тонкие, как канаты, витые колонны. Вдали за деревьями на уровне горизонта разомкнутая по центру сцены (за колодцем) — арочная ограда дворца. Планшет сцены устлан плитками, образующими шахматный узор.
Насыщенность этого, на первый взгляд, настолько простого экстерьера несовместимыми декоративными и стилевыми элементами дает ощущение некой извращенности, пресыщенности и порока. Декорация пульсирует своеобразным чувственным ритмом. Здесь все обычно и вместе с тем все утрировано и неправдоподобно: курильницы, колонны, вход, колодец, арки, тонкоствольные деревца, похожие на вертикально растущие лианы, звездное небо и серп луны.
Причудливая фантазия Калмакова играла крайностями, не признавала никаких законов художественной совместимости и упорядоченности. Декорация, если ее рассматривать с точки зрения соответствия реальности, совершенно несуразна, и порой кажется, что это игра, и художник забавляется, смеется и над театром, и над модерном, и над символизмом, утрируя их художественные принципы. Эклектичность модерна у Калмакова доведена до гротеска. Но театральная условность переплавила все в единое целое. Калмаков балансирует на грани пародии. Он заставляет зрителя поверить в реальность самых неправдоподобных порождений гротеска, наполняет их жизненной силой, и это удерживает работу художника от карикатурности, сделав элементы карикатуры частью стиля. При этом «реальность вымысла», конечно, не совпадает с обыденной зрительской действительностью, это иная реальность, фантастическая, даже сказочная, имеющая свои законы, свои ясно читаемые «коды», задаваемые «сочетающими несочетаемое» структурами гротеска.
Вызывающей была изысканная и дерзкая колористика декорации, выверенно-точной — световая партитура: пульсация холодных и теплых оттенков синего в начале спектакля, сверкание золота и серебра в середине спектакля (желтый свет) и постепенное «затопление» декорации кроваво-красным светом, вытесняющим все другие оттенки, превращающим пеструю мозаику декорации в вулканический взрыв красных тонов: от черно-красного неба до огненно-красных отсветов на металлической фольге золотых и серебряных частях декорации и на костюмах в финале спектакля.
444 Декорации, как и хотел Евреинов, были откровенно условными, и ни о каком историзме или правдоподобии оформления тут говорить не приходится, как и в решении костюмов персонажей.
… Холодный сапфировый свет заливал открывшуюся зрителям сцену. В скульптурных, напряженных позах, обращенные к дворцу, застыли две фигуры — окаменев в «позе фехтовального выпада», влюбленный молодой сириец наблюдал за Царевной, позади в такой же «иступленно-напряженной статической позе стоял паж»941.
Евреинов построил спектакль на нарастающих сменах ритма: от экспрессивной статики первой сцены — к протяжным скольжениям-переходам Царевны, грозно-тяжелому появлению Тетрарха и Царицы и экстазу финального пляса.
Мгебров (исполнитель роли молодого сирийца Наррабата), из чьих мемуаров взяты приведенные выше строки, свидетельствовал, что ни один из художников не уделял столько внимания костюмам, как Калмаков.
«Калмаков — замечательный и на редкость театральный, именно театральный, художник. Его исключительно приятной особенностью было одевать каждого актера соответственно ему лично присущей, актерской индивидуальности. Это очень редкое качество у художников нашей эпохи. Большинство пишет прекрасные костюмы, часто даже не интересуясь для кого. Актерам приходится влезать в чужое платье, в чужой грим, ничего общего с личной их индивидуальностью не имеющие.
Калмаков же, прежде чем сделать эскиз костюма, долго изучал актера, все его особенности, зарисовывая его в различных положениях и на свободе и во время работы — и только тогда предлагал на выбор тот или иной эскиз. Я лично никогда не чувствовал себя так удобно и легко на сцене, как именно в калмаковских костюмах»942.
Мгебров писал, что каждый костюм в «Царевне» «представлял собою поистине художественное произведение. Я хорошо помню свой действительно изумительный костюм молодого сирийца. Он состоял из огромного серебряного вычурно-фантастического шлема, сделанного в виде серебряной гривы в стиле барокко, такого же огромного серебряного меча, маленькой полосатой, желтой с черным перевязи на чреслах, высоких белых до колен атласных сапог и серебряных колец вокруг рук и ног… Мои волосы были иссиня-черными и длинными прядями спускались на обнаженное, совершенно коричневое, кофейное тело [трико. — Е. С.]. Этот костюм опьянял меня… Я помню, однажды я шел с мечом и шлемом по Офицерской улице в театр и толпа народа сопровождала меня. Я уносил этот костюм домой и часами ходил в нем, изучая мою роль»943. Калмаков одним из первых театральных художников стал создавать костюмы-образы.
Костюм пажа состоял из беломраморного обтягивающего тело трико с виноградными листьями вокруг бедер, двух голубых лент с бантами, завязанными на шее и левой руке, изысканных атласных башмаков на каблуках с золотыми пряжками в стиле Людовика XVI и светло-золотистого парика с ниспадавшими на плечи локонами.
«Причудливо изгибаясь, скользили по сцене обнаженные фигуры рабов и рабынь»944. Трико и парики мраморных и золотистых оттенков позволяли режиссеру создавать причудливо выразительные, полные экспрессии группы, передавая атмосферу 445 порока, но не переходя грани пристойности. Гнетущее напряжение, ожидание роковых событий и эротизм были заявлены уже в визуальной экспозиции спектакля.
Трагедия Уайльда строится на текстуальных повторах, они создают особый ритмический строй пьесы, порой они звучат, как повторяемое обрядовое заклинание, порой, как эхо: паж просит молодого сирийца не смотреть на Саломею, молодой сириец просит Саломею не смотреть на Иоканаана, Иродиада просит Ирода не смотреть на Саломею. И через всю пьесу рефреном проходят реплики персонажей, что луна похожа на мертвую женщину и что она ищет мертвых.
В переводе Н. И. Бутковской более рельефно, чем в переводе К. Д. Бальмонта, ощущается странная, почти «оперная» поэтика трагедии. Так, сцена «торга» о цене за танец — сцена Ирода, Саломеи и Иродиады — построена, как оперное трио.
Повторяемость тем и фраз в репликах и диалогах задает определенный ритм всей пьесе. Этот ритм Евреинов воплотил и подчеркнул в мизансценах и в интонационном рисунке актерской речи; Калмаков — в напряженном ритме орнамента и пульсации синего, золотого и красного: синего фона ночного неба, золота в костюмах персонажей и декора колон и красно-кровавого в гримах гротескных персонажей и освещения, пульсирующего в такт музыке, сопровождавшей пляску Саломеи в финале пьесы.
В костюмах стражников и солдат, чьи белые как мел лица выступали из вечерней тьмы, использовались варианты восточных одежд — как у молодого сирийца, или «ложноклассических», «римских» — у Тигилина (сверкающий нагрудник и шлем с утрированным в своей грандиозности плюмажем, короткий меч, пурпурный в тон плюмажа плащ).
От сцене к сцены ритм становился все более напряженным. Разговор пажа и сирийца о Царевне и луне сменялся разговором двух солдат и капподокийца о пире Тетрарха и о заточенном в колодце Прорицателе; во время этой сцены появлялся палач Нааман — абсолютно черное тело, кисти рук и стопы ног красные, на голове серебряный, по форме головы, шлем-шапочка, серебряные браслеты на руках и ногах, короткая, из серебряных кружков-чешуек юбочка, закрепленная на талии широким металлическим поясом. Огромный серповидный меч зажат в кроваво-красной руке.
С появлением Царевны — ритм ускорялся. «Движения, речи, краски, свет постепенно нарастают, сгущаются по мере ускорения темпа пьесы»945. Царевна (Н. Н. Волохова) в огромном золотом парике, белых струящихся одеждах, через которые просвечивает ее тело (розовое трико с золотыми вкраплениями) появляется на крыльце террасы. Она просит показать ей Прорицателя, ее требование повторяется иступленно-мерно, как мощные удары волн, и молодой сириец приказывает поднять пленника из водоема-колодца.
Легко возносилось из глубины водоема казавшееся невесомым прозрачно-зеленоватое тело Прорицателя. Эта сцена была отмечена всеми видившими спектакль.
«Было ли это красиво, давало ли впечатление жуткости? — вопрошал Измайлов и отвечал: — Моментами это бесспорно достигалось. Встающий из водоема и изрекающий обличения пророк [А. Я. Закушняк. — Е. С.], обнаженный, с длинными 446 волосами, распущенными по плечам, с поднятыми к небу руками, заставлял вспоминать картины старинной итальянской живописи XV и XVI веков»946.
Рецензент «Биржевых ведомостей» описал эту сцену так: «… когда на фоне темно-синего неба вырисовывается бледно-зеленое тело “прорицателя” с воздетыми к небу руками, — его тело кажется рядом с ними [солдатами, рабами. — Е. С.] бесплотным, эфирным и сам он — живым воплощением тонкой духовности и святости.
Такие фигуры и “лики” запомнились вам на картинах Боттичелли или Филиппо Липпи, когда вы бродили по флорентийским Uffici и Pitti»947.
Бледно-зеленый цвет трико на темно-синем фоне терял очертания, как бы таял в воздухе (эскиз находится в экспозиции Театрального музея им. А. А. Бахрушина). Аскетизм, изможденность Прорицателя передавались и условно прорисованными ребрами, как на картинах мастеров раннего Возрождения, и гримом: глубокие, черные впадины глаз на бледном лице оттенялись, подчеркивались темно-лиловыми волосами.
Сцена Царевны и Прорицателя строилась Евреиновым на соответствиях между характером речи и пластикой: страстности речи — и стремительных переходах-метаниях Царевны, вдохновенной убежденности пророчеств Иоканаана — и статуарности его пластики.
Умирал, покончив с собой, молодой сириец. Прорицатель спускался в тюрьму-колодец, на террасе появлялись Тетрарх и Царица. Тетрарх разыскивал Царевну, а Царица преследовала его, умоляя не смотреть на ее дочь. Сцена заполнялась гротескными фигурами самого Ирода, «костюм которого был весь создан из каких-то пестрых квадратов, дающих действительно чудовищное впечатление»948, и его свиты.
Тетрарх (А. И. Аркадьев) «являлся живым символом мужской животности»949. Его облик звероподобен, на эскизе Калмакова он походит на вавилонские барельефы, изображающие быков. Удивительны его ноги — это не человеческие стопы, а звериные мохнатые лапы с длинными когтями. Сходство с быком подчеркивалось гримом: огромные красные губы, мощный «воловий» затылок, серое, тучное, массивное, неповоротливое тело, черно-синяя ассирийская борода. Тетрарх хрипло ревел, изрыгая слова.
«Каменно-сфинксообразный» облик Царицы (Н. И. Любавина) с черными волосами Медузы под голубою пудрой, со смоляными бровями, с «узким лбом, с горящими красными стразами, венчающими сосцы на груди… был воплощением женской греховности»950, порочности, кровосмесительства.
Визуальный облик Царицы-Иродиады, придуманный Калмаковым, мог стать каноническим воплощением излюбленной художниками-символистами темы греха.
Гримы и костюмы гротескно решенных персонажей были жесткими, в них преобладали прямые, «негнущиеся» линии и сочетания монохромных цветов. Впечатление это подчеркивалось соседством с естественными линиями человеческого тела одетых в трико рабынь и музыкантш.
Костюмам соответствовали пластика и ритм движения. Все время сплетались два пластических рисунка: напряженно-тяжелый, почти статичный — и плавный, скользящий.
447 Странные и страшные фигуры и «лики» Тетрарха и Царицы, «красный квадрат лица Тигилина» под золотым шлемом с кровавым плюмажем и клубящейся багровой пеной плаща за его спиной, черный с красными руками и ногами палач соединялись в причудливом мизансценическом рисунке с «изысканно-утонченными женскими фигурами» рабынь и музыкантш, затянутых в мраморно-перламутровые трико, на фоне цветовой симфонии декорации.
Торг свершался, Царевне за танец был обещан «труп» Прорицателя. Смерть и страсть сплелись воедино. Багряный цвет заливал нижнюю часть луны, когда Тетрарх рассказывал Царице, что слышит шум гигантских крыльев в воздухе, предвещающий гибель.
Начиналась пляска951. Танец шел под музыку, имитируемую восточными музыкантами, находившимися на сцене (настоящий оркестр был за кулисами). Постепенно сцену заливал красный свет. «Во время танца Саломеи сцена вспыхивала и потухала красным, почти кровавым светом. Ирод же и все присутствующие на пиршестве сопровождали танец гиканьем и страшными криками, которые росли cresendo, и оно, увеличиваясь во сто крат потухающим и вспыхивающим кроваво-красным светом, доходило под конец до совершенно изуверского исступления; тогда, казалось, свистели плети в воздухе и человеческие лица превращались в звериные морды, оскаленные страстью и чудовищной жестокостью к человеческому телу…»952.
Рецензент «Биржевых ведомостей» писал: «Когда Царевна пляшет, — все декорации заливаются красным светом, который все сгущается и сгущается, приближаясь к цвету только что пролитой крови.
Похожие на змей деревья, небо и даль “кровавятся”, так сказал бы Бальмонт, и это именно то слово, которое здесь нужно.
Этот перелив пестрой декорации в один цвет достигается с большим искусством, и впечатление получается феерически-жуткое»953.
М. Вейконе так описал эту же сцену: «Сцена постепенно заливается красным светом, символом жгучего сладострастия, смешанного с кровавым ужасом, слышны вскрикивания возбужденных зрителей, удары ладоней, мелькают вспышки света, вот Саломея сейчас сбросит седьмое, последнее покрывало, — на несколько секунд вы ослеплены, как это бывает при вспышке магния. Сразу наступает тьма. Это, разумеется, не по автору, а по указанию цензуры. Когда свет снова, постепенно, вливается на сцену, прислужницы одевают царевну. После согласия Тетрарха отдать Саломее “труп Прорицателя”, палач Нааман спускается в водоем. Царевна не отрывает глаз от черной пропасти водоема, слышен звук падающего тела. Все речи Саломеи, обращенные к голове пророка, актриса обязана говорить в отверстие водоема. Потрясающий финал трагедии ослаблен, и словами не заменить зрительных впечатлений…»954.
А. П. Остроумова-Лебедева писала в своих воспоминаниях: «… я неожиданно попала на генеральную репетицию “Саломеи”, пьесы Оскара Уайльда. <…> Оформлял эту пьесу художник Калмаков. Он исполнил эту задачу замечательно талантливо. Костюмы актеров поражали своей остротой и характерностью. Помнится мне, что одежда Ирода (играл артист Аркадьев) была вся в очень крупных коричневых, белых и черных квадратах. От этой вещи веяло жутью и ужасом. Зрителя охватывало с самого начала чувство (вызванное единственно только линиями 448 и красками) приближения какого-то страшного события. Любопытным, холодным свидетелем всего свершающегося была огромная красно-оранжевая луна. Она, как какой-то неотвратимый рок, висела в небе. Ни на минуту чувство жадного внимания и повышенного напряжения не оставляло зрителя. Обаятельная была Саломея. Я забыла имя молодой артистки, исполнявшей эту роль [Н. Н. Волохова. — Е. С.]. Она прекрасно танцевала. Вначале почти совсем обнаженная, но в быстрой пляске ее волосы распустились и покрыли ее до колен золотыми прядями. Все более и более увлекаясь танцем, Саломея безудержно отдавалась какому-то безумию. С невероятным темпераментом, с полным самозабвением артистка исполняла свою роль. Весь театр был ею покорен. Взрывы восторга прорывались часто»955.
«Биржевые ведомости» писали: «Пьеса Уайльда ставится в очень оригинальных тонах. Это не Бердслей, с капризными иллюстрациями которого к “Саломее” знаком и русский читатель, благодаря изданию “Пантеона”. Но это — в тонах Бердслея. Здесь его смелый символизм, его линия, его манера»956.
Тона Бердслея можно было усмотреть в костюмах (а точнее, в имитации их отсутствия) пажа, царевны, рабов и рабынь, в утрированных пышных париках и изысканной обуви.
Но Калмаков создал собственный стиль оформления спектакля. Принцип соединения несоединимых на первый взгляд стилевых деталей, их сознательного смешения породил фантастическую условность спектакля. Рецензент «Русского слова» Измайлов назвал «Царевну» «постановкой-капризом».
Художник и режиссер шли за Уайльдом, и образ созданного ими спектакля обрел нарочито условные формы. Бурная фантазия Калмакова воплотила замысел Евреинова, избежав исторической и археологической точности. Реализма в этом спектакле не было, он принципиально и последовательно был изгнан со сцены. Визуальный образ рождался из столкновения противоположных пластических и живописных решений, его драматизм был действенным и развернутым через весь спектакль; синтез происходил на глазах у зрителей.
«Это был замечательный спектакль, — вспоминал Мгебров, — несмотря на весь его эротический уклон и исступленность. Сколько потом я ни видел постановок “Саломеи”, той настоящей страстности, которую дал Евреинов, я не встречал больше».
Эмоциональная насыщенность визуального образа станет отличительной чертой театральных работ Калмакова, но обрести такое взаимопонимание и единство художественной цели, как это было достигнуто с Евреиновым в «Саломее», он больше не сможет.
Финансовый крах, постигший Театр В. Ф. Комиссаржевской в связи с запрещением играть «Саломею», и последовавшее затем решение труппы сохранить театр во что бы то ни стало привели к необходимости в кратчайшие сроки выпустить новый спектакль, который смог бы привлечь публику и покрыть часть огромного дефицита. Необходимо было найти пьесу, способную вызвать зрительский интерес.
Наиболее популярным писателем и драматургом в эти годы был Леонид Андреев. Именно на конец 900-х гг. приходится пик его популярности. Имя Андреева 449 не сходило со страниц газет и журналов. Все, что им было написано, с азартом обсуждалось и комментировалось, споры вокруг его произведений не затихали.
Годы, названные «реакцией», занявшие короткий промежуток времени с 1906 по 1914-й, были полны странных предчувствий, ожидания какого-то неотвратимого и страшного перелома. Эти ощущения точно выразил автор статьи в «Золотом руне»: «Современное сознание переживает крайне любопытный, можно сказать, единственный момент. Ощущается повторно, почти как навязчивая идея, приближение некоего переворота, изменения. Может быть, завтра все станет другим: другая действительность, другие люди и другое солнце.
Чувствительность повышена, развивается тревожная нервозность, как перед грозой, в атмосфере, насыщенной электричеством, таящей молнии и гром. Пока все тихо. По крайней мере, снаружи все обстоит благополучно. Даже слишком. Старое миросозерцание празднует свои завершенные победы, победы золотой осени. <…> И тем не менее мы переживаем кризис, тем более мучительный, что он совершается помимо нашей воли, я бы сказал, космически. Что-то зреет, что-то таит в себе будущее. Все области культуры, даже обыденной жизни испытывают превращения. Сами души меняются: что-то в них, что одни готовы назвать пороком, а другие — прозрением и предчувствием лучшего»957. И еще: «Добро и зло. Истина и ложь — все стало проблематичным, неуверенным. Сдвинулись межевые знаки»958.
Андреев, как никто из писателей, ощутил и выразил смуту души и сознания человека этого времени, он писал: «Многое… что всем показалось вычурами, мое, не сочиненное настроение»959.
Проблемы, волновавшие Андреева, были извечными — жизнь и смерть, смысл человеческого существования; трагическое, пессимистическое состояние духа писателя отразилось не только в выборе тем, но и в форме его произведений. Особенность его художественного стиля пресса именовала «леонидандреевщиной». Мрачный, напряженный колорит произведений писателя, сильнейший эмоциональный накал соединялись со схематичностью, порой плакатностью образов, что позволило позднейшим исследователям творчества Андреева справедливо определить его поэтику как экспрессионистскую. Экспрессионистские мотивы, прозвучавшие в драме «Жизнь Человека», получили развитие в пьесах «Царь Голод», «Черные маски», «Анатэма».
Театр Комиссаржевской обратился к загадочной и необычной пьесе — «Черные маски». МХТ эту пьесу отверг. Немирович-Данченко в письме Андрееву написал, что актеры МХТ «взвоют», если им сразу после «Синей птицы» снова придется играть маски, не имея возможности проявить «личные артистические качества»960.
Действие драмы происходит в средневековой Италии, но это не историческая, а театрально-условная Италия. В основе пьесы лежит идея о недостижимости гармонии мира и человека. Главный герой, герцог Лоренцо, находится в состоянии болезненного раздвоения души. Он — отражение и жертва мирового хаоса. Лоренцо устраивает праздник в своем замке, сзывает друзей, зажигает огни, но на званый пир приходят и незваные гости, частицы мглы — «черные маски», от которых гаснут светильники и наступает мрак. Борьба Лоренцо с «черными масками» заключает символический смысл: в ней стираются грани между маской и лицом, здравомыслием и безумием, жизнью и смертью.
450 Кугель, оценивая пьесу, подчеркивал: «Для Л. Н. Андреева вообще крайне характерно “монодраматическое” (по терминологии Н. Н. Евреинова) изображение чувств. А в “Черных масках” это отсутствие грани между сущим и воображаемым, лицом и маской, истинным и ложным дает впечатление настоящей жути. Сомнение в объективности бытия сопровождает нас от первого до последнего слова. Но именно всеобщность этого принципа иллюзорности и мешает оценить произведение в целом»961.
Принцип монодрамы явился одним из базовых принципов нарождавшегося экспрессионизма, и не только в драматургии, но и в изобразительном искусстве (в том числе и в сценографии).
Эту линию через пять лет продолжит Владимир Маяковский в своей «Трагедии»962. Его знаменитые персонажи-монстры восходят к «черным маскам» из драмы Андреева.
Премьера в Театре Комиссаржевской состоялась 2 декабря 1908 г., ставили пьесу Ф. Ф. Комиссаржевский и А. П. Зонов. Зрелище осталось непонятым, так утверждала пресса. Зрители спектакль посещали. Но ожидаемого кассового успеха «Черные маски» не имели. Через год пьесу поставили в театре К. Н. Незлобина в Москве (режиссер К. А. Марджанов, премьера — 7 декабря 1909 г.), и опять последовали упреки в непонятности.
В письме в редакцию «Рампы и жизни» Андреев писал: «Я не могу забыть буфетчика в Театре Комиссаржевской, у которого на “Черных масках” спросил, как идет торговля, и, разведя руками, горько отвечал буфетчик: “Недоумевают — и не пьют”»963. Андреев писал, что не видит возможности и необходимости «объяснять» пьесу: «Никогда не поймет меня тот, кто ни разу не зажигал огня на башне ума и сердца своего и не видел освещенной дороги, по которой приближаются странные гости, и не понял той великой загадки бытия, по которой на зов пламени приходит тьма — эти черные, холодные, ни Бога, ни Сатаны не ведающие существа, тени теней, начала начал. Рожденные светом, они любят свет, стремятся к свету и гасят его неизбежно. И ни слова лишнего не хочу добавить к тому, кто не понимает меня и не поймет никогда»964.
Театр столкнулся с новым типом драматургии и сценической образности. Символизм и близкий к нему по средствам выражения экспрессионизм все еще были непривычным материалом для театра.
Накануне премьеры Ф. Ф. Комиссаржевский в беседе с корреспондентом «Биржевых ведомостей» говорил: «Ставить “Черные маски” чрезвычайно трудно. С первого взгляда, это может вызвать некоторое удивление, т. к. в пьесе центральных фигур только одна, графа де Лоренцо. И та находится в умелых руках Бравича. Но дело в том, что толпа, участвующая в спектакле, роль которой сводится к фотографированию душевных переживаний главного героя, должна быть на высоте своей задачи. В зависимости от выполнения масками своих ролей находится граф де Лоренцо. Создать прототип одного во многих — задача <…> до крайности затруднительная»965.
Комиссаржевский точно почувствовал специфику драматургии Андреева, в которой центральный персонаж рисуется отраженным светом через второстепенных героев — они являются проекциями его эмоций, мыслей, страстей — и, конечно, здесь важнейшую роль в донесении до зрителей замысла автора и 451 режиссера играет визуальный облик спектакля. Успех представления во многом зависел от художника. Комиссаржевский пригласил Калмакова.
Калмаков создал «условно-исторические» декорации, очень стильные костюмы придворных и слуг Лоренцо и диковинно-фантастические облачения «черных масок». Мгебров, исполнявший роль Христофора, слуги герцога, в своих мемуарах писал о декорации: «В “Черных масках” он [Калмаков. — Е. С.] воздвиг такие, например, огромные порталы, какие я никогда ни до, ни после не видал на сцене. Порталы эти напоминали величественные залы расцвета средневековья. Сцена была углублена, увеличена в высоту и расширена до всех возможных ее пределов. Само же зало замка Лоренцо было построено и расположено в запутанных, сложных и капризных комбинациях и линиях; сценическая площадка была тоже сломана… Огромные четырехугольные выступы, тянувшиеся на большую высоту, создавали впечатление грандиозной и вместе мрачной величественности внутреннего зала замка Лоренцо… Все оно было задумано и сделано в тяжелых и мрачных тонах, с преобладанием черного, особенно в его глубине и переходах… И по этому запутанному залу носились, то рассыпаясь, то свиваясь в сложных карнавальных вереницах, жуткие, почти чудовищные маски, призрачные гости Лоренцо, двойники его души… Здесь фантазия Калмакова нашла себе полный исход… Гримы и костюмы были сделаны им с совершенно исключительной яркостью гротеска»966.
Рецензии подтверждают мнение Мгеброва: «На исполнение пьесы ни автор, ни публика не могут пожаловаться. Декорации и костюмы молодого художника Калмакова очень красивы, стильны, оригинальны. Финальный пожар замка — верх театральной техники»967.
Действительно, грандиозные мрачные декорации передавали внутреннее напряжение андреевской драмы. Калмаков создал сложную систему площадок и переходов в интерьере замка Лоренцо, что позволило режиссеру, особенно в сцене бала, разместить в причудливых мизансценах толпу «черных масок».
Мгебров так описал атмосферу спектакля: «Дикая страшная музыка за сценой, безумствующий Лоренцо, жуткие черные маски, плащи и сверкающие белизною обнаженные женские плечи, черный гроб [по другим свидетельствам, гроб был серебряный. — Е. С.] на черном катафалке, в котором лежал умерший Лоренцо, и длинные, печальные, восковые свечи около него, мое прощание с Лоренцо перед гробом, вой, хохот, визг, огромная черная пустота и какое-то безумное опьянение. Да, на этом спектакле действительно можно было быть пьяным без вина… <…> Надо только представить себе, каковы должны были быть настроения у всех его участников, вовлеченных в эту жуткую мистику»968.
Созданию этого настроения способствовала световая партитура спектакля, отвечавшая изменениям состояния души Лоренцо. Темнота преобладала над светом, даже зрительный зал, что по тем временам было не принято, тонул в кромешной тьме (это дало повод корреспонденту «Биржевых ведомостей» заметить: «В зале темно, что хоть целоваться»969). О мистическом поглощении света тьмой писали многие. Н. Е. Эфрос отмечал, что «тьма стала живая, населенная»970.
В этой сгущающейся тьме появлялись черные маски, фантомы души Лоренцо. «Жутко прыгают дикие звуки музыки, под которые кружатся причудливые пары точно с рисунков Гойи, — все эти трупы в саванах, летучие мыши с кастаньетами в руках, хромцы на костылях, медведи с клыками кабанов»971.
452 Костюмы Калмакова были очень эффектны. Например, Болотная лихорадка: зеленовато-сиреневатая «декадентская» гамма с оттенками, передающими тление, само же существо очень странное — ластоногое, ласторукое и ластоухое, с хвостом ящера, висячим бесформенным брюхом и головой с признаками разложения. Костюм «фантома», сделанный из черно-серой кисеи, с желтыми глазницами и длинными моржовыми усами, напоминал традиционные костюмы привидений. Среди монстров было и существо, похожее на современные изображения инопланетян: голова-шар, как шлем водолаза или космонавта, тело затянуто в чешуйчатое трико черно-красного цвета, в руке бич.
Однако при всей своей эффектности эти персонажи едва ли могли быть «фотографией», по выражению Комиссаржевского, души герцога Лоренцо.
Как отметил А. Измайлов, «за мохнатыми шкурами медведей, саванами мертвецов и декадентскими одеяниями Болотной лихорадки, над которыми постарался режиссер и костюмер, — многие не заметили самой аллегории, серьезной, стоящей внимания»972. Андреев создал драматический парафраз «Капричос» Гойи, материализуя страшные фантомы души и разума Лоренцо в конкретных персонажах. Но гротеск Андреева, воплощенный Кал маковым, на сцене выглядел как маскарад, и не более того. Он не стал, как того хотел Андреев и постановщики спектакля, воплощением боли и терзаний души человека.
Невиданные доселе на театральных подмостках монстры, придуманные изощренной фантазией Калмакова, выглядели слишком материально и натуралистично. То, что убеждало в тексте пьесы и в эскизах художника на бумаге, оказалось на сцене слишком грубым решением.
Н. Е. Эфрос считал, что избранная Андреевым форма «не помогает, но мешает его психологическим замыслам. Она их губит и лишь умаляет впечатление. Так во всяком случае на сцене. Потому что на сцене маскарад так маскарадом и остался, а не обнажившейся в своих сокровенных болях душою»973.
Экзотичность сюжета, маньеризм и трансцендентальная тревога драмы Андреева требовали для сценического воплощения новых выразительных средств, но средства были избраны буквальные, иллюстративные. По мнению Эфроса, «душевным процессам дана ясная внешность, конкретность», однако «эти процессы отнюдь не делаются яснее»974, — именно в этом критик увидел причину неудачи, постигшей театр.
Эфрос писал: «К постановке “Черных масок” театр отнесся не только с большой взволнованностью, но и с большой заботой. Задача была поставлена архитрудная. И даже, по правде сказать, неосуществимая. Можно было лишь сколько-нибудь к ней приблизиться»975. Он подчеркивал: «Театром Комиссаржевской и его художником потрачено очень много выдумки при осуществлении “масок”. И все-таки вся выдумка пропадает даром. Хаос души не воспринимается»976.
В отличие от Мейерхольда, который при постановке «Балаганчика» и «Жизни Человека» сумел найти способ воплощения символистской и экспрессионистской драматургии, Комиссаржевский не был творцом новых форм. Он пошел проторенным путем. Парадоксальность ситуации заключалась в том, что и сам Андреев не знал, как воплотить свои фантазии на сцене. Авторские ремарки к пьесе предполагали вполне традиционное оформление. То, что сделал Калмаков, соответствовало букве драмы Андреева. Но не ее духу. И прав был Эфрос, 454 увидевший причину неудачи спектакля в отсутствии у режиссера и художника новой постановочной идеи, соответствовавшей стилю и поэтике андреевской драмы.
8 февраля 1909 г. В. Ф. Комиссаржевская простилась с Петербургом, сыграв последний спектакль — «Кукольный дом». Впереди ее ждали продолжительные гастроли. 10 сентября в Москве в помещении театра «Эрмитаж» состоялась премьера пятиактной трагедии Геббеля «Юдифь», ставил спектакль Ф. Ф. Комиссаржевский, оформлял Калмаков, главную роль исполнила Комиссаржевская.
Калмаков в этой работе продолжил линию стилизации и пышного декоративизма модерна, которую начал в «Саломее». Костюмы к спектаклю были стилизованны под ассирийские барельефы и статуи. Изумительное по красоте колористическое решение, восходившее к восточным мозаикам, вызывало восхищение зрителей и критики. Но то, что было созвучно уайльдовской поэтике, не было органично для трагедии Геббеля, требовавшей более сдержанного, аскетического решения. Изысканная красота декораций и костюмов Калмакова подчинила себе образный строй спектакля, размыла жанровую структуру пьесы. Переиграть калмаковские декорации и костюмы и достичь простоты и глубины трагического исполнения ни Комиссаржевская, ни другие исполнители не смогли. Красота одеяний актеров и сцены подавляла.
Например, костюм Олоферна стилизовался под профильные изображения царей и военачальников на древних ассирийских барельефах. Серебряный шлем с гранатового цвета гребнем подчеркивал синеву крашеных волос и бороды. Воинское облачение состояло из доспехов пурпурного цвета, покрытых серебряными квадратами, из-под них ниспадал двухслойный хитон: длинный черный и короткий в черно-пурпурно-серебряных квадратах; запястья рук и ног схвачены широкими серебряными браслетами. Декоративность в решении костюмов к «Юдифи» была близка орнаментальной манере Климта. Зрелище было ошеломляющим: на черно-золотом фоне «стилизовано» передвигались и произносили свои реплики облаченные в изысканные калмаковские костюмы актеры.
Стилизация как главный избранный режиссером и художником принцип в решении спектакля пришла в противоречие с возможностями труппы и самой Комиссаржевской. Сергей Яблоновский из «Русского слова» попытался разобраться в причинах неудачи постановки «Юдифи». По его мнению, их было две: невозможность Комиссаржевской исполнять трагические роли, требующие темперамента и пафоса, и стилизация. В частности, он писал: «… читка условная, поющая и у г-жи Комиссаржевской, и у ее партнеров. У нее это красиво, оригинально; у них — очень некрасиво и подражательно»977. И вновь, как это бывало у художника, визуальный образ спектакля, найденный Калмаковым, пришел в противоречие с жанром и формой пьесы, он не помогал актерам, а играл «свой спектакль» — замечательно красивый, декоративно выразительный, но далекий от драматургического замысла.
Калмаков по творческой манере был наиболее близок Евреинову, и это стало ясно сразу на первом их совместном спектакле — «Саломее». Калмаков был для Евреинова единомышленником в поисках и утверждении театральности на сценических 455 подмостках. Калмаков мог и умел поразить зрителя необычностью образов, дерзким сочетанием цветов и форм в костюмах и декорациях, ошеломить, вызвать эмоциональную реакцию игрой света. Образ спектакля, творимый художником, обладал собственной экспрессией и драматическим напряжением; накладываясь на диалоги и монологи персонажей, он усиливал агрессию сцены — чем Евреинов, как режиссер, умел пользоваться.
Однако кажется, что над этим творческим союзом тяготел рок. Из четырех постановок, над которыми Евреинов и Калмаков работали, только «Царевна» и «Ночные пляски» увидели свет рампы. В общей сложности оба спектакля прошли всего три раза, им была уготована судьба бабочек-однодневок.
В конце первого десятилетия XX века среди художественной интеллигенции возникло своеобразное увлечение игрой, мистификацией, шутовством, насту пила эпоха, как говорил Евреинов, «театрализации жизни». К таким театральным штудиям петербургской литературно-художественной богемы относится постановка «Ночных плясок».
9 марта 1909 г. в помещении Литейного театра (этот театр в тот период специализировался на пьесах из репертуара парижского театра Гран Гиньоль) был осуществлен силами писателей, художников и актеров благотворительный спектакль в пользу пострадавшей от землетрясения Италии — пьеса Ф. Сологуба «Ночные пляски» в постановке Н. Н. Евреинова, декорациях Н. К. Калмакова и хореографии М. М. Фокина (второй и последний раз этот спектакль прошел 20 мар та в Зале А. И. Павловой на Троицкой, 13). Пьеса Сологуба была забавной пародией на увлечение танцами босоножек в стиле Айседоры Дункан, которое охватило Москву и Петербург после триумфальных гастролей американской танцовщицы в 1905 и 1907 г. Спектакль имел большую и благожелательную прессу. Главную роль Поэта исполнял С. Городецкий (он же Приказчик и Кошмар), литераторы и художники сыграли королей: Фряжского — С. Ауслендер, Бусурманского — А. Толстой, Зельтерского — Н. Гумилев, королевича Датского — И. Билибин, Американского — Л. Бакст; Богатый купец — П. Потемкин, Критик — О. Дымов, Гусляр — Б. Кустодиев; в спектакле также приняли участие А. Ремизов, В. Нувель и другие. Двенадцать королевен представляли артистки Малого и Драматического театров и жены писателей. Декорации были выполнены в утрированно лубочном стиле.
Подробное описание «Ночных плясок» в рецензии-шарже дал А. Измайлов. Эстетский спектакль петербургской богемы описан от имени «благочестивого купца», волею случая оказавшегося в театре: «Закусили мы с Иваном Дементьичем в “Ягодке” постненьким, честь-честью, и только что начал я прильщать его насчет кинематографа, Иван Дементьич мне говорит:
— Пойдем, Алексеич, лучше в театр ужасов Гиньоль. Отсель до Литейного рукой подать.
— А не грех? — говорю. — Я, Ваня, на той неделе говеть хочу, и мне женское голоножие смотреть не фасонисто.
— Помилуй Бог, — отвечает. — Я сам скоромится не хочу. Это, Алексеич, та кое, что монашкам смотреть можно. В газетах очень трогательно описано. Проститутка, которая танцующая с трупом собственной подруги. Вскрытие человеческого организма на мраморном столе с обезглавливанием головы»978.
456 Уговорил-таки Иван Дементьич своего благочестивого друга, и оказались они в театре Гиньоль, но… «Посидели малость, — открывается занавес. Сидит король в своем пышном чертоге, с гостями бражничает, а по обе стороны его двенадцать девиц стоят.
Сарафаны расписные, на голове чудные перья качаются, говорят все враз, словно на клиросе.
— Ой, — говорю, — Ваня, не чисто тут дело, а я на той неделе говеть хочу… Богоугоднее бы в кинематографе сидеть и разрушение Мессины видеть»979.
Костюмы персонажей и, в частности, двенадцати царевен (в сцене «Чертог короля Политовского», 1-й акт) представляли собой вольное смешение различных исторических и национальных одежд, неожиданные сочетания «французского с нижегородским», плоды бурной фантазии Калмакова. Вместе с тем они давали точные, полные юмора и иронии характеристики персонажам — например, Критика и Американского королевича. Художник легко и органично смешивал, казалось бы, несовместимые части костюмов: царевны были наряжены в расписные сарафаны под «малявинских баб», головы венчали ложноклассические головные уборы с султанами из страусовых перьев. Заморские королевичи были в столь же фантастических одеяниях, представлявших остроумную смесь национальных костюмов с ультрасовременными.
Ауслендер отметил удачно найденные грим и костюм Поэта, роль которого исполнял Городецкий: «… длинный, узкий бархатный сюртук, атласный жилет, широкий бант лилового галстука, лира и посох, большой светлый парик с венком, напомнивший голову Аполлона на челе поэта романтика»980. Калмаков делал эскизы костюмов для каждого исполнителя индивидуально, передавая портретное сходство и учитывая особенности фигуры. Костюмы были выполнены «Н. Воробьевым, искусно применившим способ раскрашивания тканий, который не только дает полную иллюзию несбыточно драгоценных материй, но и позволяет с большой точностью передать все прихотливые оттенки эскиза»981, — свидетельствовал С. Ауслендер.
Действие 2-го акта происходило в «Подземном царстве заклятого царя», сцена была декорирована панно с изысканными золотыми цветами, на фоне которых разворачивались поставленные Фокиным танцы королевен-босоножек в стиле Дункан.
А. Измайлов от лица ошеломленного купца так описал эту сцену: «Потом девки вдруг в голотелых платьях вышли и плясать начали. Платья такие, что бабенка, шут их возьми, вся насквозь просвечивает»982. Сергей Ауслендер, участник спектакля и автор рецензии на него, отметил, что «смелость костюмов королевен была искуплена и не посрамлена»983 исполнительницами — непрофессиональными балеринами. Что касается исполнителей мужских ролей, то тот же купец из рецензии Измайлова с ехидством отметил, что приглянувшийся ему «молодой паренек, совсем бы приятной наружности [С. Городецкий. — Е. С.], вместо “Миша” говорит “Мифа”, а вместо “волшебный” — “волфебный” и уж конечно ему слово “шашлык” и совсем не сказать»984.
В этой работе любовь Калмакова соединять различные, казалось бы несоединяемые формы и детали (сарафаны и страусовые султаны; современный бархатный 457 сюртук и пышный парик a’la Людовик XIV) была оправдана особенностью пьесы Сологуба, допускавшей подобные вольности, столь любимые художником.
Эскизы костюмов к спектаклю Калмаков неоднократно экспонировал на разных художественных выставках, и рецензенты вернисажей неизменно отмечали полные юмора костюмы персонажей к «Ночным пляскам».
Премьера «Анатэмы» Леонида Андреева состоялась 27 ноября 1909 г. в Новом драматическом театре (открывшемся в Петербурге 15 сентября), режиссер спектакля А. А. Санин. Чуть раньше, 2 октября, эту пьесу поставили в МХТ Вл. И. Немирович-Данченко и В. В. Лужский в оформлении В. А. Симова. Естественно, два спектакля стали предметом сравнений, как и постановки андреевской «Жизни Человека» в МХТ и в Театре В. Ф. Комиссаржевской. Немирович-Данченко своей работой остался доволен и в письмах к Андрееву заранее предрекал неудачу Санина985. Леонид Андреев, однако, считал, что в петербургском спектакле более точно воплощен его замысел. По его мнению, Немирович забытовил пьесу, изменив ее смысл, затушевал очень важную для «Анатэмы» тему вандализма и разрушительного хаоса, воплощенную в спектакле толпой нищих, преследующей Лейзера. В пьесе нищие, способные только на уничтожение благородных деяний, глухи к голосу разума и добра.
Немирович-Данченко хорошо знал своего зрителя. Его режиссерская трактовка учитывала умонастроение аудитории. Либеральная и революционно настроенная интеллигенция не приняла бы темную и бездушную «народную массу» Леонида Андреева. В интерпретации Немировича в спектакле зазвучал скорбный «вопль мировой нищеты». Работа Симова была прекрасным фоном для подобного решения. Тончайший реалист и психолог быта, художник исполнил замечательные декорации окраины южного нищего городка, базара, берега моря и интерьеров палаццо разбогатевшего Лейзера. В прологе и эпилоге Симов следовал ремаркам Андреева, создав монументальные декорации в стиле модерн. Огромная и величественная фигура — «Некто, хранящий заветы» — опиралась на гигантский меч, казалось, она занимала все пространство сцены, будто вырастала из скал. Капюшон длинного плаща скрывал лицо, гигантские крылья «Хранящего заветы» закрывали путь в «светозарное царство».
Спектакль МХТ пользовался успехом, особенно работа Качалова, создавшего, вопреки замыслу Андреева, монументальный образ Анатэмы. Темные инфернальные силы были в большой моде.
В петербургском Новом драматическом театре «Анатэма» в сценографии Калмакова шел также с аншлагом. Но критиками постановка не была принята. Наиболее характерные упреки к спектаклю сформулировал в своей рецензии С. Ауслендер: «Ах, не писать бы Андрееву символических пьес, ах, не ставить их Санину!»986
Н. Евреинов на страницах того же номера «Аполлона», в котором была опубликована статья Ауслендера, напечатал рецензию еще более резкую, неудачу постановки он видел в «бытовой» режиссуре Санина и со свойственным ему темпераментом обрушился на трактовку пьесы: «Мне жаль от всей души Л. Андреева и жаль мне Н. Калмакова и талантливого композитора В. Каратыгина.
458 Декорации Н. Калмакова вышли скучными, без всякой “глубины мысли”, порой бессмысленными, как, например, в прологе и эпилоге (где врата вечности? где фигура стража?), порой мало оригинальными (зал в доме Лейзера напоминал по духу “Жизнь Человека” москвичей), отчасти взятыми из “Черных масок” (как, например, большой камин, — на том же месте и почти тот же), наконец, безвкусными <…> и, что самое главное, — без соблюдения трагических ремарок автора.
Задолго до представления я указывал Н. Калмакову, что в его эскизах к “Анатэме” не оригинально, и мне казалось, что, поняв меня, он вполне со мной согласился. Жестока же ферула Санина, если художник не посмел изменить то, чем он сам, казалось, был недоволен».
Причину неудачи спектакля Евреинов усмотрел в том, что Санин взялся не за свое дело: «… из бытовиков не “поступают в стилизаторы” с такой же легкостью, как из Александринского театра в Новый драматический»987. Рецензия Евреинова на постановку Нового драматического театра была наиболее резкой и излишне субъективной, в ней прорвались и неприязнь к Санину, и обида на театр, не призвавший его для работы.
Но были и другие мнения. Если Евреинову постановка Санина казалась бытовой, то А. Р. Кугель счел ее излишне условной и отметил: «… ирреальность постановки сбивается местами на мейерхольдовскую карикатуру»988 Кугель доброжелательно отнесся к спектаклю и высоко оценил пьесу Андреева: «По-моему, “Анатэма” — лучшее из всего, что написал Л. Андреев после “Жизни Человека”. В “Анатэме” есть какая-то, позволю себе выразиться, “сухая” страстность, какая-то воспаленность религиозного мировоззрения». Также как и автор пьесы, Кугель считал главным ее героем Лейзера. «Давид Лейзер — недаром еврей. Я нахожу, что, делая своим героем еврея, Л. Андреев руководствовался совершенно правильным чутьем и верным инстинктом», так как «Еврей — это скелет богоискательства»989. Если пьеса Кугелю нравилась, то спектакль Санина не удовлетворил его отсутствием «сухой страстности». По мнению критика, в этом были равно повинны и режиссер, и художник. Режиссер практически лишил Лейзера достойного оппонента, а художник создал странный, излишне фантастически-условный мир (за исключением картины бедного предместья и рынка) и, по мнению критика, помешал пониманию смысла пьесы.
Наиболее объективную оценку двум спектаклям дал С. Мамонтов; он писал: «В Москве есть один великий дьявол — Качалов, с которым спорить не надо и не умно. Он вылепил Анатэму из бронзы и передал его потомкам. В Петербурге почти нет Анатэмы, но есть большой Лейзер, умеющий передать светлые стороны души общечеловека, а не комического жида, как в Москве… Всю постановку и тон пьесы г. Санин трактует ближе к Библии, и это толкование гораздо удачнее, чем толкование Вл. И. Немировича-Данченко, переносящее зрителя в вульгарное предместье»990.
Декорации пролога и эпилога были выполнены Калмаковым в манере символистской пейзажной живописи. В прологе — безлюдная каменная пустыня; фигуры «Некоего, ограждающего входы» в спектакле не было; слева вздымался отвесный утес, два иссохших дерева, как люди, в мольбе тянули ветви-руки к багровому небу; колорит красно-желто-коричнево-черный. В этой же цветовой 459 гамме решены эпилог и сцена на морском берегу, где озверевшая толпа нищих настигает Лейзера: под черно-коричнево-желтым небом расстилаются безжизненная пустыня, дюны и чернеющее море. Именно эти декорации вызвали больше всего нареканий со стороны критики. Стилистически с этим общим условным символистским решением контрастировали декорации первого действия, натуралистически изображавшие пустынную и выжженную степь, полуразвалившиеся лачуги. Казалось, она необитаема, только несколько остовов хижин намекали на присутствие людей. Декорация была почти монохромна — серый цвет в различных оттенках создавал не только впечатление пыли, но и передавал ощущение безжизненности, вымороченности, присутствие смерти и тлена.
Зал в доме Лейзера представлял собой ультрасовременной интерьер в стиле модерн.
Занавес к спектаклю был выполнен в технике гризайль, но совсем в иной, экспрессионистской стилевой манере. Все пространство занавеса было заполнено изображением калек, уродов, слепцов, преследующих Лейзера и требующих совершить чудо: черно-серый фон, на нем проступают гротескно изображенные люди — иногда целиком фигуры со страшными, искаженными криком и ненавистью лицами, а иногда только намеченные абрисы. Людское море кипит, калеки и уроды запечатлены в иступленном движении, кажется, что несется лавина. Плотность компоновки и эмоциональная выразительность фигур передают всесокрушающий порыв этих страшных созданий. Этот эскиз предвосхитил экспрессионистские графические работы Георга Гросса и Отто Дикса о жертвах первой мировой войны.
Костюмы и гримы Калмаковым строились на сочетании бытовой достоверности и театральной условности и были единодушно одобрены критиками. В одеждах нищих серые лохмотья-тряпки то там, то здесь были покрыты разной величины заплатами, в них варьировался синий цвет — от ультрамарина и кобальта до берлинской лазури. Когда толпа появлялась на сцене, синие вкрапления придавали ей призрачно-фантастический вид. Тот же прием использован и в костюмах жителей местечка, но тут заплаты выглядели как метка изгойства и нищеты.
Гримы Анатэмы в Москве и Петербурге решались по-разному. Если симовский Анатэма поражал своей монументальностью, инфернальностью и величием, то на эскизах Кал макова запечатлен совершенно иной персонаж. Исходя из ремарок и описаний Андреева, Калмаков подчеркнул несоразмерность пропорций Анатэмы: патологически огромная голова, тщедушные шея и туловище; в нем нет ни величия, ни мощи, скорее — ущербность и уродство.
Театральный обозреватель газеты «Речь» Владимир Азов, суммируя свои впечатления от спектакля Нового драматического театра, писал: «… постановка, двойственная, как сам Леонид Андреев, как сам Анатэма, не создала камня, не метнула его в гордое небо. Хотели и сердце сжать ужасом невыносимой боли, и в сатирическую усмешку скривить уста. Стремились к гиератической торжественности и к вольтеровской язвительной насмешке.
Торжественные звуки органа слили со свистом испорченной шарманки и дребезжанием дырявого барабана. Добились какафонии.
Двойственностью “Анатэмы” заразился А. А. Санин. Взял тон мистерии, но не выдержал его и сбился на статуарность Крэга — Мейерхольда. Вернулся к мистерии. 460 Там и сям острыми торчащими клиньями дан художественный реализм. И весь спектакль состоял из перебоев: перебои тона, перебои стиля, перебои толкования»991.
Действительно, на сцене сменялись декорации, решенные в различной стилевой манере: символизма, реализма, модерна и экспрессионизма. Единого стилевого и образного решения найдено не было. Подобная задача, по всей видимости, и не ставилась Саниным или была «не в его средствах», как писали театральные рецензенты той поры. Калмаков, судя по приведенному выше свидетельству Евреинова, также не мог предложить цельного решения, оставаясь иллюстратором места действия, — как, впрочем, и Симов. Но говорить, что эти постановки были неудачами — неверно. Вышедшая на театральные сцены символистская и экспрессионистская драматургия заключала в себе абсолютно новый тип сценической образности, требовавшей адекватного визуального воплощения; и в России, и в Европе поиски в этой области только начинали вести. Постановка «Анатэмы» Санина и Калмакова оказалась как раз такой поисковой, промежуточной, междустилевой работой. Однако оценить это можно лишь с исторической дистанции.
После «Анатэмы» Калмаков почти два года не работал для сцены. В театр его вновь приглашает Н. Н. Евреинов, инициировавший возрождение «Старинного театра». Предстоящий сезон посвящался испанской драматургии и театру XVI – XVII вв. Калмаков оформляет пьесу Лопе де Вега «Великий князь Московский и гонимый император» (премьера — 22 ноября 1911 г.).
Поставила спектакль Н. И. Бутковская (переводчица «Саломеи» О. Уайльда).
В программке к спектаклю значилось: «“Loa” [интермедии. — Е. С.], по старинным образцам, составил Сергей Радлов. <…> Старинная испанская музыка в аранжировке И. А. Саца. <…> Постановка реставрирует придворный спектакль в Королевском парке “Buen Retiro”»992.
Работа Калмакова была на удивление сдержанна и в колористическом, и в постановочном решении. Вероятно, художник исполнял указания режиссера Бутковской и подчинил свою творческую фантазию реставраторской задаче следовать образцам испанского театра и испанской живописи: быть «совершеннейшим Веласкесом».
Спектакли театра шли в помещении Соляного городка (Фонтанка, 10), старинные складские помещения для хранения соли и вина в 1870 г. были переоборудованы в выставочный зал, в нем проходила Всероссийская промышленная выставка. Помещение напоминало манеж. Сцены в традиционном понимании не было. В зале Калмаков повесил задник с изображением парка с кущами деревьев, выдержанных в зелено-синих тонах, и установил помост, покрытый восточным ковром; в глубине помоста висел зеленый занавес с серебряной бахромой, украшенный красно-золотыми гербами. По обе стороны помоста помещались четыре огромных светильника с горящими факелами.
В задачу «Старинного театра» входила не только реставрация театральных форм, но и восстановление исторической атмосферы зрелища, а для этого в спектакль были введены король Филипп V и его свита, якобы созерцающие представление. Бархат и кружево, шитье и драгоценные камни костюмов актеров, представляющих короля и его свиту, выглядели таинственно в бликах факелов. 462 Да и правдивая история о том, «как великий герцог Московский Василий убил посохом сына своего Хуана и сам скончался в муках раскаяния. И как потом престол московский должен перейти к сыну безумного Теодора и внуку Василия — Деметрию. И как потом коварный Борис, брат жены Теодора, умыслил Деметрия убить, чтобы самому через голову безумного Теодора править величайшим в мире герцогством. И как промысел Божий и доблесть рыцаря Ламберта не допустили совершиться ужасному злодеянию, и вместо Деметрия убит был малолетний Цезарь, сын самоотверженного Ламберта. Захватывающая трагедия и королевские актеры играли ее важно, медлительно и серьезно, как оно и приличествует такому сюжету»993. Никакой вольности и насмешки или иронии в костюмах и бутафории Калмаков не допустил, исключение составили только «курьезные меховые головные уборы, отдаленно напоминающие боярские шапки»994.
Александр Бенуа откликнулся в своих «Художественных письмах» в газете «Речь» на испанский цикл постановок «Старинного театра»: «Не зная удержу “своей смелости”, устроители “Старинного театра” хватили в одном случае через край, что они пожелали перед русскими зрителями представить комедию Лопе де Вега “Великий князь Московский”, в которой наши исторические, всем нам близкие лица Иоанна Грозного, Годунова, Дмитрия царевича являются в виде великолепных гишпанцев начала XVII в. При этом спектаклю этому придан вполне серьезный характер, все исполняется с тем же искренним пафосом, как и остальные пьесы. Получилось что-то конфузное. Не знаешь как относиться. Прочесть такой курьез — занятно; увидеть его воплощенным на сцене только мучительно. Сцена должна убеждать»995.
Через две недели в продолжении письма Бенуа писал: «Затею ставить “Московского князя” я считаю неудачной, но исполнена была она превосходно. Действие происходило в ночное время, в придворном саду, при свете факелов, на небольшом помосте с палаткой, завешенной геральдическими коврами в глубине. Русские бояре и сам Иван Грозный (названный, впрочем, у Лопе — Василием) одеты в веласкесовские костюмы — частью совершенно точные (слишком, на мой взгляд, для актеров точные), частью несколько фантастического характера. В этой постановке лишний раз удалось Н. Калмакову показать, какой он ценный, чисто театральный художник, умеющий и затеять самые хитрые вещи, умеющий и заставить их выполнить почти без тех уступок, которые обыкновенно приходится делать в спешке и общей нервозности театральных постановок»996. Трудно сказать, насколько близок был ретроспективизм художнику, но его индивидуальная манера в этой работе все же не утратила свою яркость и остроту. Калмаков, несмотря на поставленные перед ним «копийные» задачи «быть Веласкесом», все же внес в детали костюмов элементы «модернизма». Мгебров, игравший в спектаклях «Старинного театра», вспоминал: «… от костюмов и дамских причесок веяло подлинным Веласкесом, с некоторым привкусом утонченного модернизма, чего Калмаков уже по самой природе своей никак избежать не мог»997.
Второй (и последний) сезон существования «Старинного театра», в отличие от первого — 1907 г., который был встречен почти единогласно восторженно, вызвал у театральных критиков вопрос о нужности и актуальности аутентичного театра.
Критики, писавшие о спектаклях «Старинного театра» как в Петербурге, так и в Москве, отмечали, что устройство подобного театра требовало огромного мужества, 463 и задавались одним и тем же вопросом: «Что это: дело или затея! Что это — живое, живучее дело или так, в высшей степени художественная, забавная, но в то же время мимолетная, не имеющая под собой настоящей почвы прихоть нескольких любителей истории театра? Картины или “иллюстрации”? На эти вопросы приходится ответить как-то по-разному: с одной стороны, нельзя не признать, а с другой, — и т. д.»998. «Отец» ретроспективизма — Бенуа — в той же статье, откуда взяты выше приведенные строки, писал: «… есть в “Старинном театре” и нечто в высшей степени болезненное. И вот это болезненное можно бы охарактеризовать двумя выражениями: “отсутствие драматической убедительности” и “игра в театр”. Режиссеры сделали все от себя зависящее, чтобы дать представлению театральную оживленность, декорации писаны превосходными живыми художниками, костюмы сшиты с такой тщательностью, какой не увидишь на самых богатых сценах. Но зрелище остается только зрелищем, какой-то иллюстрацией к истории литературы, а не драматическим действием. И это потому, что не веришь спектаклю. Не музеи старинного искусства нужны, а нужны храмы живого искусства»999. Но здесь Бенуа лукавил. Еще в 1907 г., когда готовился к постановке первый средневековый цикл, в котором Бенуа принял участие, сделав портальный занавес, художник поддерживал идею устроителей «Старинного театра» — воссоздать технику театров прошедших эпох, реконструировать спектакли и даже изобразить средневековых зрителей. Постановочные принципы «Старинного театра» отрицали современное прочтение театральных текстов, и Бенуа это отлично было известно. Безусловно, как бы точно ни старались постановщики воссоздать театральное представление испанского театра, оно было стилизовано, и Калмаков поставленную перед ним задачу выполнил блестяще.
Ссора и последовавший за ней третейский суд привели к полному разрыву отношений между создателями театра Н. Евреиновым и Н. Дризеном. «Старинный театр» был закрыт, задуманные циклы постановок античных пьес, трагедий Шекспира и комедий Мольера не были осуществлены.
На гастролях в Москве «Старинный театр» еще доигрывал последние спектакли, а в Петербурге в театре О. Н. Вехтер «Комедия и драма» 3 февраля 1912 г. состоялась премьера пьесы Ф. Сологуба «Мечта-победительница», посвященной проблемам современного театра. Режиссером-постановщиком был артист Б. С. Неволин. Впервые Калмаков обратился к современной теме. Его оформление оказалось неожиданным и необычным настолько, что критики даже не сделали попытки осмыслить увиденное на сцене.
Сологуб, по мнению рецензента журнала «Театр и искусство», «вздумал в драматической форме доказать преимущества “нового” театра-“мечты” перед старым реальным театром… Но опыт инсценирования театрально-модернистского “манифеста”, увы, оказался мало убедительным… Представители нового театра в пьесе г. Сологуба оказались слабыми адвокатами своего дела: драматург Морев почти все время неподвижно сидел и молчал, изрекши лишь, что “мы пришли слишком рано, нас не понимают, надо подождать”, а художник Курганов в пьесе любит “двух разом”, стараясь убедить, что это очень хорошо, и говорил какие-то непонятные слова, силясь объяснить какие-то непонятные грезы. <…> Героиня пьесы, Мария Павловна, — актриса “нового театра мечты” 464 добивается постановки пьесы Морева с декорациями Курганова и… пьеса проваливается…
Антрепренер снимает ее с репертуара, героиня рвет контракт, но когда ей грозят неустойкой в шесть тысяч рублей, драматически восклицает по адресу своих учителей: “Нет у них 6 тысяч” и… выходит замуж за трезвого реалиста Красновского»1000.
То, что новая пьеса Сологуба производила впечатление писательского манифеста, облеченного в драматическую форму, отметили практически все, писавшие о спектакле. «Все действующие лица говорят либо устами и языком Сологуба, либо устами и языком его критиков и противников. На сцене идет диспут»1001, — заметил рецензент «Речи». Чем история о горестной судьбе драматурга-символиста пленила творческое воображение провинциальной актрисы и директора театра Ольги Николаевны Вехтер — неизвестно, но в свой бенефис она решила предстать перед столичной публикой в главной роли — Марии. В рецензии «Речи» о ее работе отозвались весьма скептически: «Г-жа Вехтер — актриса старого театра и вдобавок провинциального, и ей очень трудно было одолеть эту бесплотную Марию, порождение нового театра и столицы. Г-жа Вехтер декламировала и жестикулировала, и все это было так тяжело и так телесно. Сологуба или вовсе не надо играть, или надо играть штрихами, “легкими как сон”. Именно так, с очаровательной легкостью рисунка и пленительной какой-то отвлеченностью от грузного театра наших дней играла Зою г-жа Глебова. В ее русалочьих движениях, в ее тающих интонациях было то, о чем мечтал Морев…»1002. Даже краткий пересказ содержания пьесы позволяет судить, что событием театральной жизни города сезона 1911/12 г. спектакль не стал.
Оформление Калмакова удивило всех, кто писал о спектакле. Утверждали, что его нет, что оно просто отсутствует. Первый акт шел в черных сукнах. Минимум мебели, никаких намеков на павильон или на декорацию комнаты — «какая-то черная пропасть»1003. Во втором акте черный коленкор сменили три разноцветных полотнища — золотое, пурпурное и оранжевое, только кулисы остались черными. В последнем акте на черном фоне засверкали золотые прутья: «Декорация г. Калмакова изобразила именно золотую решетку, идущую по арьерсцене наподобие ограды арены цирка во время представления с дрессированными зверями»1004. «Символическая» золотая клетка критикам показалась излишне прямолинейным образом. Костюмы персонажей были ультрасовременны и могли бы украсить страницы журнала мод.
Кому из постановщиков пришла идея играть «без декораций», или, говоря современным языком, в минималистской сценографии, — неизвестно, но она была интересна и для тех времен достаточно нова, хотя и не вполне неожиданна. Калмаков отказался от изобразительной и нарративной декорации, но сделал это не первым в истории русской сценографии. К этому моменту существовали уже и знаменитый крэговский «Гамлет», и егоровские черные фоны в «Жизни Человека» во МХТ, и аскетичное решение Мейерхольдом сцены бала в «Жизни Человека» в Театре В. Ф. Комиссаржевской — черный задник, белые колонны, малиново-золотые кресла, — а главное, опыты самого Калмакова в этом направлении: «Мечте-победительнице» предшествовал поставленный всего на несколько месяцев раньше «Великий князь Московский» в «Старинном театре», 465 где действие разворачивалось на помосте при минимуме мебели и бутафории. Возможно, именно оттуда естественным образом и пришла идея играть следующий спектакль на фоне цветных задников. Все это так. Однако столь спокойная и академически последовательная преемственность существует лишь в ракурсе взгляда из современности на события почти столетней давности, а в те времена подобные минималистские построения были каждый раз рискованными экспериментами, даже если проводились не впервые. Неудивительно, что они не всегда были поняты и приняты критикой и публикой, да и сами творцы вряд ли в ту пору отдавали себе отчет в том, что начинают одну из мощнейших стилистических линий не только в сценографии, но и вообще в искусстве XX века — линию минимализма, пуризма, аскетизма выразительных средств. Тем более странно, что к первым начертаниям этой линии в числе других смельчаков прикоснулся и Калмаков — художник буйной фантазии, склонный к экстремизму выразительных решений. Это позволяет увидеть, что его творческие устремления были на самом деле гораздо более разнообразными, чем кажется на первый взгляд.
Каждый акт имел цветовую доминанту. В три различных цветовых среды Калмаков помещает актеров, облаченных в костюмы, контрастные основному фону, создавая цветовое напряжение.
В рецензиях отмечалось, что танцы (музыка И. Ф. Гафдзинского, хореография В. И. Преснякова), исполненные в первом акте О. А. Глебовой-Судейкиной и Гейне на фоне черного задника, были необычайно выразительны. Фигуры и пластика исполнительниц «таяли», черный фон придавал движениям кантиленность, протяженность.
Пространство второго акта, насыщенное жарким дыханием трех полотнищ, сменилось дробным, напряженным ритмом тонких золотых прутьев в третьем акте. Условные фоны вносили в статичную и лишенную подлинного драматизма пьесу Сологуба напряжение, динамизировали спектакль, они обостряли восприятие мизансцен, обнажая пластический рисунок, движения актеров. Оказалось, что цветной фон обладает мощной выразительностью и легко читаемой семантикой и что его роль в спектакле может быть не менее активна, чем у традиционной живописной декорации.
Весной 1913 г. Евреинов был приглашен режиссером и художественным руководителем в «Палас-театр», ставивший оперетты. Задавшись благородной целью реформировать этот «пошлый» жанр и вырвать его из трясины штампов, Евреинов с успехом показал несколько спектаклей. Утвердить новые приемы должна была постановка «Хильперика» Ф. Эрве.
Премьера намечалась на начало ноября 1913 г. Этот спектакль был чрезвычайно важен Евреинову. Первого августа он читает труппе «Палас-театра» доклад о предполагаемой постановке, показывает сделанные Калмаковым эскизы костюмов и декораций. Через некоторое время дирекция театра издала реферат выступления Евреинова, иллюстрированный эскизами Калмакова. В 42-м номере журнала «Театр и искусство» (октябрь) также печатаются три эскиза к спектаклю. Как правило, подобные публикации появлялись накануне премьеры. Но спектакль не увидел света рампы. Почему — информации об этом найти пока не удалось.
468 Спустя два месяца Кугель напишет на страницах «Театра и искусства»: «У нас были напечатаны рисунки Калмакова к “Хильперику”. Это прекрасные рисунки для современного театра — скажем точнее: для пьес, которые еще напишутся»1005. Кугель считал подобного рода художественные идеи практически неосуществимыми. Хотя, если бы рядом были опубликованы эскизы к «Саломее», то они показались бы еще менее осуществимыми…
Евреинов вновь предоставил свободу творческой фантазии Калмакова. Он писал: «Вся декоративная и художественно-бутафорская часть “Хильперика” была продумана и гротескно прочувствована нашим единственным, сдается мне, в России историческим гиперболистом Н. К. Калмаковым»1006. Эскизы Калмакова поражают чрезмерностью цвета, темперамента, фантазии. По всей видимости, это должен был быть спектакль «большого стиля». Необычен занавес к апофеозу спектакля. На золотом фоне с желтыми звездами, лицом к зрителям стоят две шеренги конных тяжеловооруженных рыцарей, закованных в латы, с копьями и флагами-штандартами. Кажется, еще секунда — и кони сорвутся с места, а рыцари опустят копья, пригнут головы к шеям лошадей и закипит бой. Напряженно-плотная композиция: крупы лошадей прижаты друг к другу, блестят доспехи рыцарей, вздымается лес копий. Доспехи, сбруи, попоны лошадей, щиты, флаги, плюмажи на шлемах — все это в мозаике локальных цветов: сине-желтые, красно-бело-черные, фиолетово-зеленые, пурпурно-золотые, сине-красно-серебряные, желто-черно-серебряные. Всадников слева и справа окружают пешие воины, лучники в доспехах — их цвет варьирует цвета облачений конных рыцарей. Сверху спускается арлекин в желто-красных ромбах. Калмаков максимально приблизил изображение к зрителям и гиперболизировал пропорции. Об эффекте, который мог произвести этот занавес, можно судить даже по эскизу. Трудно представить себе другой театральный эскиз, в котором бы заключалась такая внутренняя динамика. Компоновка всадников и пехотинцев сделана так, что кажется, еще миг — и эта масса сорвется с места и лавиной, сметающей все на своем пути, устремится вперед.
Как мы уже упоминали выше, спектакль остался нереализованным. Та же участь, хотя на этот раз по известным причинам, постигнет и мистерию Стуккена «Рыцарь Гаван», к которой Калмаков сделает полный комплект эскизов декораций, костюмов, бутафории (эскизы были увезены художником за границу и экспонировались на персональной выставке Калмакова в Брюсселе 15 – 22 июня 1924 г.). Спектакль готовился в антрепризе Рейнеке, но начавшаяся первая мировая война помешала осуществлению этой постановки. Из репертуаров российских театров были сняты все немецкие и австрийские пьесы.
К сожалению, последняя работа Калмакова в драматическом театре над постановкой пьесы Кальдерона «Жизнь есть сон» в московском Камерном театре (режиссер А. П. Зонов, премьера — 29 декабря 1914 г.) не стала удачей ни для театра, ни для художника. Эскизы костюмов были изысканно красивы по цвету и линиям и, вероятно, удобны для актеров. В декорациях преобладало странное для Калмакова укрупнение какой-то одной или нескольких деталей и подчинение им всего объема сцены. Так, в последнем акте: «На первом плане — пушка со сломанным колесом, своей величиной напоминающая московскую Царь-пушку, за 469 ней — три или четыре огромных знамени, составляющие весь задний план сцены. Какое-то нарочитое стремление заставить зрителя все внимание обратить на ненужную декорацию и мешать — чему способствует еще ужасный красный свет — впечатлению от лиц и их слов. “Жизнь есть сон” относится к циклу философских драм Кальдерона, а глубина мысли, пафос драматурга — совершенно пропадали за ненужной напыщенностью стилизованных декораций»1007.
Подобная плакатная экспрессия была неожиданна для Калмакова как театрального художника и успеха не принесла.
Через год, в 1915 г., Калмаков выпустил несколько почтовых открыток, среди которых были: «Ангел карающий», «Спящий город», «В райском саду», «Серафим» и одна — без названия, на которой была изображена в том же ракурсе огромная пушка. Но изображение претерпело изменение в деталях. Пушка на открытке вместо колес опиралась на отвратительные крокодильи лапы, из-под пушки торчали уродливые головы с горящими глазами, справа вдали полыхал в пожаре город. Эта открытка производит более сильное впечатление, нежели эскиз, притом что композиционно они почти идентичны.
В эскизах к Кальдерону чувствуется некая обязательность формально выполненного задания, не свойственная предыдущим работам художника. В основу решения Калмаков положил тот же принцип, что и в «Великом князе Московском»: на монохромном фоне задника и по центру сцены одна деталь — то башня замка, то шатер, трон или пушка. Эта работа неожиданно отразила охлаждение художника к театру.
До своего отъезда в эмиграцию Калмаков сделает еще эскизы кукол к пьесе «Силы любви и волшебства»1008 для театра марионеток Ю. Слонимской-Сазоновой. Изысканные, грациозные и трогательные куклы были бы идеальны для современной мультипликации, но проигрывали в марионеточном театре.
Художница Елена Данько в 1918 г. написала статью «О Петроградском кукольном театре», где, в частности, говорилось: «В Петрограде не было до сих пор постоянного Кукольного театра. <…> В 1916 году Ю. Слонимской была сделана попытка возродить марионеточный спектакль. Была поставлена пьеса XVII века — “Силы любви и волшебства” в переводе Г. Иванова. Этот спектакль предназначался для узкого круга утонченных зрителей и художников и дальше этого круга в публику не пошел. Куклы, прекрасно сделанные по эскизам Калмакова, бесконечно поэтичные и безукоризненные по форме, в любовно вышитых костюмах, в шелковистых париках и с перстнями на пальцах — зрительно предназначенны для спектакля в небольшом помещении и пропадают на сцене — благодаря обилию мелких форм, бликов, узоров, а костюмы из подлинных расшитых материй подчас мешают выразительности движения и скрадывают организм куклы и его гибкость. В спектакле Слонимской кукла появляется на сцене, принимает ту или иную позу, но почти не движется и не живет и не предназначена для этого — ее деревянный организм не перегибается в торсе, голова укреплена неподвижно, сочленения ног мало свободны»1009.
Марионеточный театр Слонимской не принял и Бенуа, и причину неудачи он увидел не только в его техническом несовершенстве. В рецензии он писал: «Не оказалось ни настоящего веселья, ни простого непосредственного подхода к вещам, ни темперамента, ни вольности фантазии, ни, наконец, той “стихии 470 движения”, которая и есть первое условие благополучия всего театрального дела. Вместо кукол, превращенных в живых людей, мы увидели музейные, витринные предметы, превращенные в марионетки.
И главный грех этого промаха — в главном грехе наших дней, в пресловутой стильности, против которой пора открыть настоящий крестовый поход. <…>
Вообще пора изгнать со сцены все, что не ее настоящие элементы. Театр должен быть театральным. И даже менее важно, чтобы на сцене была правда или неправда, чтобы играли “хорошо” или “дурно”, чтобы постановка была художественна или не художественна, нежели то, чтобы на сцене жила непосредственная стихия творчества. Ретроспективизм сыграл свою роль. Он напомнил о тысяче забытых художественных формах, он освободил искусство от давящего кошмара, косного реализма и тупого направленства. <…> Но сейчас пора со всем этим добытым багажом отправиться дальше на поиски новых свободных путей»1010. Это очень интересное свидетельство. В спектакле кукольного театра Бенуа увидел тенденции, характерные для русского театра той поры в целом — изжитость стилизации и необходимость появления новых направлений и стилей.
Исчерпанность недавно еще новых и интересных выразительных средств и приемов становилась с началом войны и наступлением уже иной эпохи все более и более очевидной.
В это время постепенно менялся репертуар театров и их стилистика. Новое время требовало другой образности и средств выражения. Вместе с эпохой модерна угасал и интерес к крайним, предельно напряженным формам этого стиля, воплощенным в работах Николая Калмакова.
СПИСОК
СПЕКТАКЛЕЙ,
ОФОРМЛЕННЫХ Н. К. КАЛМАКОВЫМ В РОССИИ
«Царевна» («Саломея») О. Уайльда, (режиссер Н. Н. Евреинов). Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской. Генеральная репетиция — 27 октября 1908 г.
«Черные маски» Л. Андреева (режиссеры Ф. Ф. Комиссаржевский и А. П. Зонов). Премьера в Драматическом театре В. Ф. Комиссаржевской состоялась 2 декабря 1908 г. Спектакль продержался в репертуаре до окончания зимнего сезона и прошел 22 раза.
«Ночные пляски» Ф. Сологуба (режиссер Н. Н. Евреинов) — благотворительный спектакль артистов, писателей и художников в помощь пострадавшей от землетрясения Италии, прошел 2 раза: 9 марта в Литейном театре и 20 марта 1909 г. в Зале А. И. Павловой.
«Юдифь» Ф. Геббеля (режиссер Ф. Ф. Комиссаржевский). Премьера — 10 сентября 1909 г. в Москве в театре «Эрмитаж», где Драматический театр Комиссаржевской гастролировал. Спектакль был сыгран всего 8 раз — в Москве 4 раза и столько же на гастролях в других городах, и снят с репертуара.
«Анатэма» Л. Андреева (режиссер А. А. Санин) в Новом драматическом театре (театр А. Я. Леванта). Премьера — 27 ноября 1909 г. За месяц с небольшим спектакль был сыгран 25 раз, и можно предположить, что удержался бы в репертуаре и дальше. Но 9 января 1910 г. появилось распоряжение П. А. Столыпина о запрете представления «Анатэмы».
«Великий князь Московский» Лопе де Вега в «Старинном театре» (режиссер Н. И. Бутковская). Премьера состоялась 28 ноября 1911 г. Спектакль прошел 27 раз и оставался в репертуаре до закрытия театра 5 февраля 1912 г.
471 «Мечта-победительница» Ф. Сологуба (режиссер Б. С. Неволин). Театр «Комедия и драма» (антреприза О. Н. Вехтер). Премьера — 3 февраля 1912 г. В сезон 1911/12 г. пьеса прошла 6 раз.
«Жизнь есть сон» П. де Кальдерона (режиссер А. П. Зонов). Камерный театр. Премьера — 29 декабря 1914 г. (третья постановка нового московского театра).
«Силы любви и волшебства» Тирсо де Молины. Театр марионеток Ю. Л. Слонимской-Сазоновой. Премьера — 12 февраля 1916 г. в помещении квартиры А. Ф. Гауша на Английской набережной (Петроград).
Не состоялись премьеры оперетты Ф. Эрве «Хильперик», которую тщательно готовил к постановке в «Палас-театре» Н. Н. Евреинов (эскизы к спектаклю были опубликованы в брошюре «К постановке “Хильперика”» и в журнале «Театр и искусство», № 42, 20 октября 1913 г.), мистерии Э. Стуккена «Рыцарь Гаван» для Русского драматического театра (театр А. К. Рейнеке) в 1914 г., а также «Саломеи» О. Уайльда для парижского театр «Эвр» (режиссер Н. Н. Евреинов, 1925 г.).
Беатрис
Пикон-Валлен,
при участии Александроса Эффклидиса
МЕЙЕРХОЛЬД СТАВИТ «ПИЗАНЕЛЛУ» ГАБРИЕЛЕ Д’АННУНЦИО1011
Даже когда она ходит, она танцует.
Жюль Буа об Иде Рубинштей.
«Фигаро». 1916. 29 мая
В июне 1913 г. в первый и последний раз в жизни Всеволод Мейерхольд получил возможность поработать далеко от дома, с иностранной труппой, в городе, который он особенно любил, — в Париже.
По времени «Пизанеллу» можно отнести к восьмому из Русских сезонов, и кроме самого Мейерхольда ее постановка объединила и другие громкие театральные имена эпохи: Д’Аннунцио, актрису-богатейку Иду Рубинштейн, Льва Бакста и Михаила Фокина, соответственно сценографа и хореографа Русских балетов, а также многих знаменитых французских актеров, среди которых Эдуард де Макс, лирический трагик с чарующим голосом (два года спустя он войдет в труппу Комеди Франсэз), Сюзанна Мюнт и будущий кинематографист Абель Ганс, актеры театра Одеон Ромуальд Жубе, Луиза Марион, Марселла Шмитт.
Этой постановке предшествовало несколько неудавшихся попыток.
Ида Рубинштейн познакомилась с Мейерхольдом еще в России, когда в 1908 г. тот стал режиссером петербургских Императорских театров. Она обратилась к нему с просьбой поставить в Михайловском театре «Саломею» Оскара Уайльда. Уже начались репетиции с участием Бакста и Фокина, но, несмотря на то, что спектакль очень ждали, духовная цензура запретила его. Однако Рубинштейн не отказалась от идеи и зимой 1911/12 г. пригласила Мейерхольда поставить теперь уже 472 в Париже «Саломею» и «Елену Спартанскую» Эмиля Верхарна. Из этой затеи вновь ничего не вышло1012, но начиная с июля 1912 г. между Рубинштейн, Бакстом и Мейерхольдом завязалась переписка, и в результате было решено осуществить постановку пьесы «Пизанелла, или Благоуханная смерть», написанной Д’Аннунцио специально для Иды. Это подтверждает текст телеграммы Рубинштейн автору: «Только что получила письмо от Мейерхольда, который, поговорив с Бастом [так в тексте. — Б. П.-В.], загорелся “Пизанеллой”. Он умоляет меня как можно скорее прислать ему сценарий <…>»1013. Между тем Мейерхольд, похоже, вовсе не «горел», а, скорее, даже заставил себя упрашивать…
Спектакль являл ослепительное зрелище. Сохранившиеся источники о нем можно разделить на три группы: письма Рубинштейн, Мейерхольда и Бакста, дающие полную картину того, как режиссера вовлекали в эту парижскую авантюру, и письма Мейерхольда жене, позволяющие нам из первых рук узнать о его целях и методах; отклики в русской периодике, в том числе пространная и очень подробная статья Андрея Левинсона в газете «Речь»; французская пресса — менее описательная, нежели русская, свидетельствующая об уровне восприятия спектакля парижской театральной критикой, разошедшейся во мнениях с критикой русской. Сопоставление, столкновение всех этих данных приводит к очень интересным выводам, но, помимо перечисленных документов, во Франции больше не существует никаких архивов по «Пизанелле» ни в театре Шатле, ни в библиотеке Парижской Оперы. Что касается личных архивов Иды Рубинштейн, то их уничтожили немцы во время второй мировой войны, и в Национальной библиотеке сохранилась лишь крошечная часть ее переписки, в основном не имеющей никакого отношения к «Пизанелле». Многочисленные эскизы Бакста к «Пизанелле» утеряны. Они находились в собственности племянницы художника, г-жи Константинович, которая распродала все, что ей принадлежало1014. Сохранилось всего несколько черно-белых фотографий; ни в коей мере не дающих представления о том «калейдоскопе» красок, который сотворили Бакст и Мейерхольд в декорациях, костюмах, живописных группах. Эта красочная феерия воскрешала в памяти переливчатую игру соборных витражей, восхитив как русских, так и французских критиков. Любопытно, что книги о Баксте предлагают эскизы декораций и костюмов к «Елене Спартанской», «Саломее», «Мученичеству Святого Себастьяна», но упорно обходят молчанием само существование в творчестве художника «Пизанеллы»1015.
ПЬЕСА
По заказу Иды Рубинштейн Д’Аннунцио написал «Пизанеллу» по-французски. Изгнанник, он жил тогда на юго-западе Франции, в Аркашоне. К тому времени уже появилось «Мученичество Святого Себастьяна». И это был не просто французский язык, а средневековый французский, что отвечало и мистериальной форме пьесы, поделенной на пять «беседок» (в средневековом театре, в частности в мистериях, «беседка» — часть декорации, где происходит тот или иной эпизод действия).
Д’Аннунцио подходил к театру как филолог. Его пьесы полны научных отсылок, сложных интертекстуальных взаимосвязей, тщательно документированы. 473 Прежде чем приступить к «Пизанелле», писатель три месяца работал с архивами XIII века, разослал по всей Франции своих сотрудников изучать рукописи времен французской оккупации Кипра, когда и происходило действие его пьесы.
Моделью для «Пизанеллы» стала пастораль XVII века Оноре д’Юрфе «Сильварина, или Живая Смерть». Вместо классического александрийского стиха Д’Аннунцио использовал чередование шести- и десятисложных стихов — нерегулярных и нерифмованных. Эту форму Оноре д’Юрфе в свою очередь позаимствовал у Торквато Тассо, из его пасторальной драмы «Аминта». Такой выбор вызвал неоднозначную реакцию: если одни видели в нем дань уважения к французскому языку, то другие расценивали, скорее, как неудачную попытку писателя-итальянца попробовать себя в давно уже мертвом старофранцузском: «Вред, который наносят драматическому сюжету красоты стиля, усугубляется еще и бесчисленными красотами отступлений. Кто-то, к примеру, должен съесть фигу: и тут же — двадцать строф о фигах. <…> Стоит появиться музыкантам — на тебе: тридцать названий никому не ведомых инструментов. Клетка с птицей — значит, все пернатые тут как тут. <…> “Пизанеллу” хотят вписать в манеру XIII века, а в результате — самая невероятная, самая неудобоваримая, самая варварская галиматья, какую только можно себе представить»1016.
Язык «Пизанеллы», «феодальной драмы», воспринимается с трудом: эрудиция автора впечатляет, пьеса изобилует научными терминами. Топонимическая экзотика, малоизвестные исторические факты складываются в многоцветную мозаику. Но на слух непросто уловить смысл. Речь идет о предельном эклектизме, когда весь текст «сплетен из цитат, воспоминаний и заимствований, быть может, не всегда сознательных»1017, — писал А. Левинсон. Во время первой встречи с драматургом Мейерхольд прежде всего попросит разрешения значительно сократить текст. Присутствуя в конце мая на репетициях, Д’Аннунцио то и дело будет возвращаться к этому, что спровоцирует конфликт между режиссером и автором. Победит режиссер. Вместо восьми часов спектакль продлится пять! Однако, как мы увидим, большую часть претензий, предъявленных к спектаклю французской критикой, вызовет как сам текст, так и его сценическая интерпретация.
ФАБУЛА
Действие разворачивается на Кипре. В прологе зритель видит королевский дворец, просторный сводчатый зал во время многолюдного праздника. Юге, молодой король Кипра, снедаем грустными мыслями, в то время как его дядя, коннетабль королевства и принц Тира, королева-мать, двор и высшее духовенство заняты теологическим спором и рассказывают кипрские легенды, например, о чудесном явлении Странницы на пиратской фелюге. Юге уговаривают жениться, но он отвергает всех женщин, которых представляют ему послы разных государств. Его мечта — о невесте, похожей на Мадонну Нищету, воспетую Святым Франциском. Слышится далекое пение. Это голос Алетис, юной девушки — бедной и прекрасной. Увидев ее, Юге дарит ей розу и свой перстень, но девушка исчезает.
В пролог включено также немало сцен, второстепенных по отношению к основной интриге: здесь и королевская свадьба, и множество интермедий.
474 В первом акте действие происходит в порту Фамагуста. Корсары — греки, итальянцы, арабы — спорят из-за трофеев. Причина спора — молодая женщина необыкновенной красоты. Она почти обнажена, в тело впиваются веревки. Ее называют «розой добычи». Пленница, кажется, само очарование. Но это — роковая прелесть. Обэр Эмбриак был серьезно ранен во время штурма судна, на котором находилась пленница. Он хочет оставить ее себе. Остальные требуют торгов. Раненый истекает кровью, но то ли лихорадка, то ли любовь прибавили ему сил: вот Эмбриак вспылил и — упал замертво. Принц Тирский тоже пытается завладеть юной красавицей. Внезапно появляется Юге. Ему кажется, будто он узнал в девушке Странницу, долгожданную Искупительницу. Он усаживает ее на своего белого коня, вся свита следует за ними.
Второй акт происходит в монастыре Святой Клариссы в Фамагусте, куда король привез незнакомку. Отныне она Блаженная. Юные монахини приносят ей дары, умоляя остаться с ними. В своем белоснежном одеянии она так небесно прекрасна, что кажется им почти святой. Монахини кормят ее. Далее следует длинная разговорная сцена. Внезапно их невинную болтовню с пленницей прерывает вторжение принца Тирского. Он явился в компании куртизанок после ночной оргии. Его спутницы узнают в Блаженной свою подружку: это всего лишь пизанская проститутка — Пизанелла. В тот самый момент, когда принц уже готов увести Пизанеллу, появляется Юге. Ударом кинжала он убивает дядюшку. Умирая, тот напоминает Юге легенду о статуе Венеры, приносящей беду, которую рассказывал в первом действии.
Третий акт. Во дворце королевы-матери становится известно, что в королевстве неладно: влюбленный король позабыл о делах. Королева решает избавиться от Пизанеллы и приглашает ее на праздник. Та привозит с собой тосканских музыкантов и богатые подношения хозяйке. Королева восхищена красотой гостьи и какое-то мгновение колеблется. Но все готово: леопард на цепи или стрелы арбалета. Однако королева избирает для Пизанеллы «благоуханную смерть». Семь нубийских рабынь срезали золотыми серпами все розы в королевском саду. Королева просит гостью исполнить танец, и пока та танцует, ее обступают плотным кольцом, вокруг нее кружатся, и вот она уже погребена под грудой розовых лепестков. В финале пьесы одна из придворных дам возвещает о прибытии короля1018.
ПЬЕСА И ЕЕ ГЕРОИНЯ
Тема смерти, заявленная и в названии — «Пизанелла, или Благоуханная смерть»1019, ставит пьесу в круг проблем декадентства, к которому был так близок Д’Аннунцио. Однако Гийом Аполлинер считал, что «Пизанелла» — это всего лишь «романтическая драма, построенная на резких контрастах: монахини и шлюхи, принцы и распутники — вот и вся ее поэтика»1020. Похищение, убийство, толпа, грандиозные исторические фрески, предсказания, смертельный танец, одиночество короля, ищущего путь к самому себе в обретении родственной души, а на самом деле — в стремлении к красоте. Язык, в котором прихотливо смешались символизм, декадентство, романтизм.
Важно подчеркнуть, что «Пизанелла» написана специально для Иды Рубинштейн, желавшей продемонстрировать свои не только актерские, но и физические 475 достоинства. Образ Пизанеллы (Д’Аннунцио этого и не скрывал) списан с Рубинштейн, которой поэт сказал как-то, что «у нее самые прекрасные в мире ноги». От актрисы Пизанелла получила прямые, удлиненные линии тела, не только гордую осанку, но и геометрию движений, царственную посадку головы, о чем в 3-м акте говорит Бланшфлор, одна из придворных дам. Более того, много лет спустя в интервью одной итальянской газете Ида Рубинштейн рассказала, что Д’Аннунцио сделал ей «два великолепных подарка» — «Святого Себастьяна» и «Пизанеллу». «“Пизанелла”, — прибавила она, — самое любимое мое произведение. Д’Аннунцио описал в ней мою жизнь»1021.
Нельзя не упомянуть и о том, что эта пьеса положила начало системе «звезд». Д’Аннунцио прежде всего стремился дать возможность Иде Рубинштейн максимально проявить себя в танце и пантомиме. Не случайно в такой длинной пьесе текст Пизанеллы сведен к минимуму. Дело было в русском акценте Рубинштейн. Несмотря на все усилия, на то, что она брала уроки у Сары Бернар и у одного из педагогов Комеди Франсэз, актриса так и не смогла окончательно избавиться от него. В то же время Ида Рубинштейн — «редкостная и мучительная»1022, «загадочная», «королева Тайна», «сказочное видение» — очень близка литературным персонажам начала прошлого века, образу фатальной женщины, святой и путаны, хозяйки собственной судьбы, но и жертвы страстей — своих или чужих. «Что есть Пизанелла?» — таким вопросом задаются критики. «Очаровательный творец, чья тайна — в глубокой простоте. В тот единственный и неповторимый момент, когда судьба ее достигает наивысшей точки, она умирает»1023, — отвечает Д’Аннунцио.
Ида Рубинштейн происходила из семьи украинских евреев и родилась в Кракове. Наследница крупного состояния, она «заболела» театром и в 1904 г. под сценическим именем И. Л. Львовская выступила в заглавной роли в трагедии Софокла «Антигона» (частный спектакль в Новом театре Л. Б. Яворской; режиссер Ю. Э. Озаровский). Оформлял спектакль Лев Бакст, ставший с тех пор ее близким другом и советчиком. Под действием глубокого впечатления, которое произвела на нее во время петербургских гастролей Айседора Дункан, Ида увлеклась танцем и брала частные уроки у Михаила Фокина. После запрета «Саломеи» она, по совету Бакста, представила пантомиму «Танец семи покрывал» в любительском спектакле, где ее заметил Сергей Дягилев, пригласив в труппу Русских балетов. В 1909 г. на сцене театра Шатле она триумфально выступила в балете «Клеопатра», а годом позже — в «Шехеразаде», где танцевала с Нижинским. Оба балета ставил Фокин, а оформлял Бакст. Рубинштейн решила организовать собственную труппу, и в 1911 г. показала спектакль «Мученичество Святого Себастьяна»1024. Это был ее первый заказ Д’Аннунцио. Религиозному, мистическому содержанию пьесы вторила музыка Клода Дебюсси, декорации писал все тот же Бакст, а постановку доверили некоему Арману Буру. Несмотря на то, что роль ее в «Пизанелле» была скорее пластической, нежели разговорной и все действо (речь шла о «музыкальной драме») сопровождалось музыкой, именно в этой постановке признанная среди парижской публики танцовщица решилась обратиться к драматическому театру, прибегнув на сей раз к помощи могучего режиссера, чья изобретательность была ей хорошо известна1025.
476 ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ПРЕССЕ
Программа восьмого сезона Русских балетов на сцене открывшегося 31 марта 1913 г. Театра Елисейских полей включала два балета Вацлава Нижинского на музыку Дебюсси и Стравинского — «Игры» и «Весну священную». В вечер премьеры «Весны священной», 29 мая 1913 г., в зале царило необычайное оживление: скандал, спровоцированный Нижинским и Стравинским, навсегда остался в истории театра. На этом фоне успех «Пизанеллы», до первого представления которой оставалось две недели, будет умеренным: оформление и искусство распоряжаться актерскими группами и пространством вызовут восторг, а препарирование авторского текста — шок.
Мейерхольд приехал в Париж 21 апреля 1913 г. 24 апреля он присутствовал при чтении пьесы Д’Аннунцио1026. Писатель и критик Мишель Жорж-Мишель, «официальный» хроникер спектакля, вспоминал это собрание: «Итак, вчера г. Габриеле Д’Аннунцио прочитал нам “Пизанеллу, или Благоуханную смерть”. О, слушателей было немного. <…> Присутствовал странный джентльмен, которого в России числят королем режиссеров… На стуле ему не сиделось. Сквозь пальцы его точно пробегал ток, а по челу — отсветы. <…> Что касается постановки г. Всеволода Мейерхольда, то она удивит Париж. Лучшего нам и не надо»1027.
Уже по этой первой статье ясно, что Ида Рубинштейн намеревалась сыграть на известности и театральном происхождении Мейерхольда, дабы привлечь внимание к спектаклю. Мейерхольда представят как нечто почти экзотическое: иностранец с незаурядной и очень выразительной внешностью, русский, режиссер великих Императорских театров, а значит — маг…
Две статьи Мишеля Жорж-Мишеля, вышедшие одна за другой, 17 и 19 мая 1913 г., представили Мейерхольда парижской публике. Они станут своеобразной матрицей для всего, что напишут о Мейерхольде в дальнейшем. В статье от 17 мая, воспроизведенной в программке спектакля, сказано так: «Все, кто в России аплодируют изумительным постановкам г. Мейерхольда в Императорских театрах, ставит ли он Вагнера или Мольера, Ибсена, Метерлинка или Кальдерона, говорят об этом человеке с энтузиазмом, который приглашают разделить и нас. “Обещайте зрителям театра Шатле зрелище самое невероятное и не опасайтесь, что они после обвинят вас в преувеличении”, — сказали нам вчера. Музыкант, актер, эстет в самом точном без вычурности смысле этого слова, г. Всеволод Мейерхольд, несомненно, тот человек, в чьей власти дать зрителю самые сильные и самые прекрасные впечатления, на какие только способна сцена. Он захотел, чтобы пластика сочеталась с музыкой или с декламацией, чтобы малейший жест каждого фигуранта органично вплетался в общий ансамбль, оставаясь при этом непосредственным и индивидуальным. Он ничего не оставляет на волю случая и с самого начала точно знает, куда идет: все было предварительно расписано на бумаге, так что на сцене работа идет быстро и ясно. К тому же г. Мейерхольд уделяет большое внимание созданию атмосферы».
Мейерхольд, чье внешнее сходство с писателем Франсисом де Круассе подчеркивал Аполлинер, представлен здесь как маг театра, мастер сценического импрессионизма, способный возродить на сцене видения. Он тот, кто воплощает синтез искусств, идею «художника театра», выдвинутую Крэгом и популяризированную 478 во Франции Жаком Руше в его работе «Современное театральное искусство» (1910). Он владеет секретом мизансцены и умеет создать ансамбль. Характеристики, к тому времени уже понятные публике Русских балетов. Но речь шла о драматическом театре, а в 1913 г. французская сцена еще далека от всех этих видений, впечатлений и ансамблей — и в этом заключалась новизна.
Что до Иды Рубинштейн, то это был поистине «человек-оркестр». Ее энергия поражала. Именно она, с помощью Бакста, подбирала актеров, фигурантов и прочих сотрудников. Именно она арендовала один из крупнейших театров города, Шатле, что удавалось ей и раньше, для других ее парижских акций. Она сама себе и импресарио, и, как сказали бы сегодня, пресс-атташе. В книге, вышедшей позднее, Жорж-Мишель писал: «Пресса также широко субсидировалась. <…> Но некоторые газеты, поместив на своих страницах оплаченные хвалебные отклики, через сто строк грубо бранили “эту иностранку, за большие деньги скупившую все французские театры”, и т. д.»1028.
Рубинштейн тратила не считая: пышность декораций, знаменитые сотрудники, многочисленные и щедро оплаченные актеры и фигуранты, мощное паблисити, включая контракты с прессой, роскошные празднества в отеле «Бристоль», где она сняла королевские апартаменты. Все это подтверждает слова биографа Д’Аннунцио: «“Пизанелла” стоила около 400 000 тогдашних франков1029. Апогеем манипуляций с прессой стало решение перенести генеральную репетицию, назначенную на 10 июня, на следующий день, чтобы, как поясняла “Фигаро”, “довести постановку до высшей степени совершенства <…>”»1030.
В то же время Рубинштейн, казалось, не одобряла поведения див, которых занимало лишь то, как они будут выглядеть. Она терпеливо переносила долгие репетиции и требовательность Мейерхольда. Журналист рассказывал, как однажды после многочасовой репетиции пролога, в течение которой она должна была оставаться неподвижной, машинисты поинтересовались, жива ли она вообще… Больше Рубинштейн с Мейерхольдом работать не будет. Она больше никогда не пригласит режиссера, который в одном из писем жене напишет, что «Ида Львовна слабохарактерна и беспринципна и уже готова предать истинное искусство»1031. Позже он скажет А. Гладкову: «Вы спрашиваете, была ли Ида Рубинштейн талантлива? Она не была совершенно бездарна, и все зависело от того, какой режиссер с ней работает. Она была очень восприимчива, понятлива, любопытна. Конечно, это все-таки было очень яркое в своем роде явление — Ида Рубинштейн»1032.
РЕПЕТИЦИИ
К репетициям приступили в начале мая. У Мейерхольда было всего полтора месяца, чтобы поставить длинную пьесу с участием более 100 персонажей (некоторые журналисты насчитывали до 200, а Мейерхольд упоминал о «первом акте, в котором занято больше ста человек, почти двести»1033. Теперь удалось установить точное число. В спектакле было занято 212 человек).
Мейерхольд не говорил тогда по-французски. Средством общения во время работы были жесты. Поэт Гийом Аполлинер, с которым они подружились и который показал Мейерхольду «свой» Париж, поражался: «Он не знает ни слова по-французски. Несмотря на это, лихо управляется более чем с двумя с половиной 479 сотнями актеров и фигурантов, вовсе с ними не разговаривая. Г-ну Мейерхольду достаточно жеста, и в этом жесте — весь театр»1034.
Тем не менее в помощь ему отрядили двух переводчиков. Однако, по свидетельству самого режиссера, его жестикуляция больше говорила исполнителям, чем любой перевод: «Актеры жалуются на переводчиков; говорят: по мимике и жестам Мейерхольда мы видим, что он говорит что-то более значительное и нужное, чем то, что переводят нам его секретари»1035. Жорж-Мишель писал о первых встречах Мейерхольда с актерами. В 39 лет он поражал необыкновенной энергией и легкостью: «Как только актеры увидели этого молодого человека, худого, долговязого, со светлой, точно соломенной, шевелюрой, глубоким взглядом голубых глаз, им, конечно, понравилось и проницательное выражение его физиономии, и тот свет, что как будто озарял его чело».
Поражала его кажущаяся пассивность: «На протяжении трех репетиций он лишь рассматривал их, время от времени просил встать, сделать несколько шагов, крикнуть. Они подумали тогда: таким манером мы будем топтаться на месте до следующего сезона»1036.
Но очень скоро все переменилось: «Однажды режиссер раскрыл вдруг пухлую тетрадь. Каждая страница была испещрена планировками, пронумерованными линиями. Толщина кривых, указывающих направление движения, зависела от требуемого темпа. Тон того или иного крика отмечен и зашифрован. Все как на нотной странице со значками метронома и вилками силы звука; все как на штабной карте — поминутная схема маневра.
Каждый актер, если можно так выразиться, имел свой план мобилизации, действие происходило почти автоматически, без сбоев… Г-ну Всеволоду Мейерхольду оставалось лишь наметить пластический рисунок»1037.
Скрупулезные режиссерские пометки удивляли французских актеров, привыкших работать куда менее организованно. Описывая все это, Жорж-Мишель, несомненно, предполагал произвести впечатление и на читателей, и на будущих зрителей. При этом отчасти военная («план мобилизации»), отчасти музыкальная («метроном», «вилки силы звука») терминология составляла часть мейерхольдовского метода. В России не удалось отыскать режиссерскую тетрадь, хотя свидетельства французской прессы не оставляют сомнений в том, что она существовала. Сам Мейерхольд о ней не упоминал. Не оставил ли он ее одному из своих помощников, чей перевод показался ему ближе к оригиналу1038? Во всяком случае, данное исследование могло бы стать стимулом к поиску этой таинственной тетради, мирно хранящейся, возможно, в каком-то из частных архивов…
Другие журналисты говорили о «наглядном изображении и дисциплинированных декораторах». Жюль Буа, присутствовавший на репетициях и интервьюировавший Мейерхольда, писал, что уже несколько лет Рубинштейн вынашивает один проект, «трудоемкий, но благородный и необычайно соблазнительный» — проект «создать в Париже театр для поэтов. Где музыка, блеск костюмов и декораций, пленительность танца воссоединились бы с текстом. В итоге — роскошь, тускневшая обычно, ибо каждый жанр тянул одеяло на себя. В прошлом веке такую попытку предпринял Рихард Вагнер. <…> Декорации и костюмы она поручила г. Баксту, магу и волшебнику полихромии. Танцы — г. Фокину, которому мы обязаны самыми чарующими балетами. Но кроме этого для подобного синтетического 480 театра необходим порядок, неукоснительный, урегулированный, ритмичный, разработанный в малейших деталях и для всего коллектива. Г-н Мейерхольд ничего не пускает на самотек, и каждый акт благодаря ему размерен, как стихотворная строфа. Его режиссура музыкальна и поэтична, его порыв координирован»1039.
Газета «Фигаро» писала так: «Лирик и логик одновременно, наряду с сэром Эдвардом Гордоном Крэгом, с Георгом Фуксом, Фрицем Эйслером и Рейнхардтом, он является одним из творцов театральной стилизации»1040. Гийом Аполлинер говорил о буре заразительной, неустанной энергии, захватывавшей не только знаменитостей, но и фигурантов: «Он неистовствует, бушует, вопит, багровеет, по пятьдесят раз к ряду может заставить повторить одно и то же движение м-ль Рубинштейн, г. де Макса или простого статиста. Таким образом он добивается необыкновенной жизненности сценических положений»1041. Другое свидетельство: «На сцене репетируют: настойчиво и терпеливо актеры снова и снова начинают сначала. Среди них, потрясая своими записями, с растрепанными волосами, взором, полным огня, мечется человек, хвалит или бранит, играет разом все роли и голосом, жестом подбадривает, оживляет, указывает, растолковывает, режиссирует: это г. Всеволод Мейерхольд, режиссер Императорских театров из Санкт-Петербурга и наш гость. Нужно видеть этих актеров, которые изо всех сил стараются разгадать, понять его, актеров, восхищенных его энтузиазмом, новизной его учения [курсив мой. — Б. П.-В.]. Г-н Мейерхольд — это чудо единоволия»1042.
Если свидетельства о пластической, ритмической работе с актерами и ее эффективности можно приводить еще долго, то о сценической речи этого не скажешь. Как будто бы Мейерхольд ставил «Пизанеллу» исключительно как зрелище, поскольку не проникся красотами языка Д’Аннунцио, не заинтересовался этой проблемой, решительно пренебрег литературной стороной пьесы. Тем более что перевод не в состоянии передать ее в полной мере, оставляя лишь впечатление нагромождения интертекстуальных пластов.
Чтобы лучше понять позицию Мейерхольда по отношению к тексту пьесы, нужно вспомнить об обстоятельствах, в которых он принял предложение Рубинштейн. Вначале она пригласила его поставить в Париже две пьесы: одну — Д’Аннунцио, другую — на его выбор. Прежде чем согласиться, Мейерхольд попросил у нее текст пьесы Д’Аннунцио, с чьим творчеством познакомился еще в 1905 г., когда переводчик А. Воротников предложил режиссеру пьесу Д’Аннунцио «Огонь над пеплом» для постановки в театре-студии на Поварской1043. Мейерхольд писал Иде Рубинштейн: «<…> имя одного автора еще не гарантирует пьесу по моему вкусу (я очень ценю пьесы Д’Аннунцио как литературу и не очень ценю их как пьесы для театра)»1044. Фраза основополагающая, если знать, как Мейерхольд разделял литературу и театр… Позднее, когда Ида Рубинштейн сообщила ему название пьесы, он попросил дать ему возможность прочитать хотя бы черновые наброски, клятвенно обещая сохранить в тайне сюжет и эпоху, о чем актриса просит особо. В конце концов Бакст пересказал ему содержание1045. Пьеса, похоже, заинтересовала Мейерхольда, но этого было мало, и он известил, что не даст окончательного ответа, пока не получит и не прочтет сценарий. Что касается второй пьесы, которую Рубинштейн предложила Мейерхольду поставить поначалу, то он подумывал о «Даре мудрых пчел» Федора Сологуба. Однако 481 Рубинштейн отказалась, ибо не была уверена, понравится ли пьеса французам. В действительности же, скорее всего потому, что главная роль не была достаточно выигрышной для нее. В конечном счете складывается впечатление, будто Мейерхольд согласился, так и не прочитав полный текст пьесы Д’Аннунцио, притом что в отношении второй пьесы ему отказали. Он принял предложение, очень заманчивое с финансовой точки зрения, к тому же Бакст пообещал: «Все, что есть в Париже лучшего, будет к Вашим услугам»1046.
Однако трудно себе представить, чтобы Мейерхольд, этот режиссер-искатель, отправляясь в Париж работать над «Пизанеллой», не поставил перед собой вполне определенной цели. Мы увидим, что главным образом интересовало его в этом новом эксперименте с актерами, с которыми он говорил на разных языках. Это прежде всего организация пространства на огромной сцене (Бакст писал ему, что сцена Шатле просторнее Мариинской) и большое число действующих лиц, а также возможность найти ответы на вопросы, поставленные перед драматическим театром вагнеровским Gesamtkunstwerk1047. Кроме того, он надеялся использовать эту возможность не только для того, чтобы узнать город, но и войти в курс здешней театральной жизни. Особенно его занимали малые формы — цирк, кабаре, выставки, ателье. Но это уже другая история…
Из писем Мейерхольда к жене Ольге узнаем, что работа продвигалась быстро. Письмо от 16 мая: «Последние дни главным образом репетировал второй акт в мастерской у И. Рубинштейн. Мне осталось доставить четверть (конец) второго акта и весь третий. В субботу, т. е. завтра, я кончу мизансценировать второй акт и начну третий. Думаю, что в середине той недели вся пьеса будет закончена вчерне. Я [более] доволен женской труппой, чем мужской. Они, т. е. женщины, гораздо сознательнее воспринимают все мои указания. Де Макс как-то сказал мне, что крайне удивлен, как ухитрился я достичь с французскими актерами того, чего можно достичь только с немцами или с русскими»1048.
Семнадцатого мая он вновь с воодушевлением репетирует второй акт в присутствии многочисленных журналистов: «Вчера была превосходная репетиция второго акта. Сцена, когда куртизанки врываются в монастырь. На репетиции были журналисты J. Bois, Apollinaire, Michel, Rene Dalize, Рафалович. Я был в трансе. После репетиции J. Bois интервьюировал меня в кафе. Я слышу со всех сторон много похвал. <…> J. Bois утверждает, что в Париже только потому не ставят пьесы Метерлинка и других новых драматургов, что нет таких вот режиссеров»1049.
Двадцать первого он репетирует второй и третий акт вместе. Но в Шатле параллельно с «Пизанеллой» начинается подготовка «Марии Магдалины» Мориса Метерлинка с участием Жоржетты Леблан1050, и работа на сцене становится менее регулярной. После репетиции 24 мая, длившейся с полудня до трех часов утра, Мейерхольд познакомился с Д’Аннунцио. «В три часа, — пишет Мейерхольд, — произошло знакомство мое с Д’Аннунцио в отеле Бристоль у Иды Львовны. Он очень напомнил мне Кузмина. Такой же рост, такая же манера вертеть головой. У Д’Аннунцио отсутствует только женственность Кузмина, и его лицо более обыкновенно. Нет необычайных глаз Кузмина. С полчаса сидели вместе. Сыплет комплименты. На купюры согласен»1051.
Двадцать шестого мая Мейерхольд репетирует третий акт. 27-го показывает Д’Аннунцио второй и третий, а 28-го — пролог и первый акт. 29 мая в ателье Иды 482 Рубинштейн он прогоняет пьесу целиком и возвращается к отдельным сценам. В письме Ольге, датированном 1 июня, сообщает, что все готово, «если не считать конца третьего акта, который думаю наладить завтра и послезавтра. С Д’Аннунцио у меня были маленькие недоразумения, но теперь снова отношения восстановились хорошие. Вчера на репетиции через переводчика он сказал мне: “Дайте слово, что к будущему году вы изучите французский язык”, если этого слова я не даю, то он готов изучить русский, лишь бы иметь возможность говорить со мной, так как он считает, что мы очень хорошо можем понять друг друга»1052.
Однако репетиции в декорациях и с музыкой начались лишь утром 6 июня. Мейерхольд разочарован музыкой, от которой, правда, и так не ждал ничего особенного. Он требует купюр и решает убрать оркестр за кулисы: «Как всегда, музыка, написанная человеком, не знающим драматический театр, приносит с собою тысячу сюрпризов. Я настаиваю на помещении оркестра за кулисы, настаиваю на купюрах в музыке, — дирижер и композитор ломаются. К счастью, Аннунцио стал на мою сторону. Бакст тоже»1053.
Шестого вечером репетиция в декорациях и с аксессуарами, 7-го вечером — в костюмах и снова с музыкой, «от которой не жду ничего, кроме помехи»1054. Написанная Ильдебрандо Пиццетти1055 под придуманным для него самим Д’Аннунцио псевдонимом Ильдебрандо да Парма, музыка симфонической поэмы «Пизанелла» не имела ничего общего с замыслом Мейерхольда, который этой музыки не знал. Д’Аннунцио рекомендовал Иде Рубинштейн Пиццетти, уже написавшего для него музыку к трехактной опере «Федра» и к «Кораблю»1056. Если с Бакстом Мейерхольд то и дело обменивался идеями и всю организацию сценического пространства продумал еще в Петербурге задолго до отъезда (см. рисунок Мейерхольда1057), то с композитором не имел никакой связи и вместе с Д’Аннунцио и тем же Бакстом постарался сделать партитуру максимально приемлемой.
СПЕКТАКЛЬ
11 июня 1913 г. состоялась генеральная репетиция трехактной пьесы с прологом Габриеле Д’Аннунцио «Пизанелла, или Благоуханная смерть». Для публики это стало событием. Еще бы — в зале такое обилие театральных, литературных, балетных и политических знаменитостей! К тому же ее, эту публику, целых два месяца усиленно обрабатывала пресса. «Это был художественный вечер — странный, но незабываемый. <…> Здесь был весь Париж, любопытствующий, нетерпеливо аплодирующий. <…> В ложе балкона Морис Баррес, Марсель Эрбер и м-ль Мальрезон из Комеди Франсэз. Затем Анри де Ренье, Д’Оссонвиль, Альфред Капю, итальянский посол Титтони; Астрюк, Серж де Дягилев, Дейч де ля Мерт, Педро Галлар, Пуччини, Л. Жюссом; Колетт Вильи, Анриетт Роджерс Спинелли, Марсель Буланже, Пьер Вольф, Ромэн Коолюс, Поль Жинистри, Морис Ростан, Поль Фор и т. д. <…> После Пролога вызывали трижды. Четыре раза после первого акта. Четыре — после второго. После объявления г. де Макса занавес вынуждены были поднимать трижды»1058.
Пятичасовое действо увенчалось овацией. В письмах жене Мейерхольд перечисляет ударные моменты, места, где публика неистовствовала, и рассказывает, какие 483 аплодисменты достались каждому: «Вчера генеральная репетиция прошла с громадным успехом. Находившиеся в зрительном зале передают, что мой успех был очень большой. Начался спектакль в 9 часов вечера. Занавес театра Шатле был убран, и площадка просцениума была открыта. При открытом просцениуме был сыгран прелюд. В прологе большие аплодисменты вызвал монолог де Макса. Очень хорошо слушали речи короля, которые говорятся с музыкой. В прологе сегодня на премьере будут сделаны еще купюры. После пролога аплодировали очень дружно. В первом акте очень понравилась сцена, когда мертвого Эмбриака уносят со сцены под звон колоколов и выезд короля на белом коне, в белой мантии. Позади епископ Фамагусты на муле. И целое шествие, которое к концу акта превращается в стремительное движение с криками “Алетис”. Во втором акте очень любопытен выход Пизанеллы со ступеней просцениума. Кажется, очень понравилась бесшумная смерть принца Тирского и одно интересное движение короля при самом конце акта. Третий акт получился любопытным благодаря громадным купюрам. Танцы поставлены Фокиным очень эффектно, хотя с основным замыслом их я не согласен. По окончании пьесы овация. Де Макс говорит со сцены имена заправил спектакля: аплодисменты распределились так: 1) Бакст, 2) Мейерхольд, 3) Де-Парма, 4) Фокин. На вызовы в самом конце вышли: Рубинштейн, Фокин и я. Д’Аннунцио успеха не имел. Подъем за кулисами был большой. Он напоминал времена театра В. Ф. Комиссаржевской»1059.
В письме от 20 июня Мейерхольд возвращается к тому, как принимала спектакль публика: «О моей постановке говорят очень много. Вчера Антуан был в театре. Пришел во второй раз. Сборы пьеса делает хорошие. После “Гранд-опера” сейчас наш театр стоит по сборам на первом месте. Даже “Хованщина”, шедшая одновременно, не сделала сбора такого, как шедшая в тот же день “Пизанелла”»1060. Спектакль сыграют десять раз.
ИМПРЕССИОНИЗМ — ДЕКОРАЦИИ И КОСТЮМЫ
Благодаря русским балетным спектаклям парижская критика уже хорошо была знакома с творчеством Льва Бакста, «мага полихромии», как назвал его Жюль Буа. «Вдохновившись поэмой, он задумал для каждого акта свою тональность, которая, как ему казалось, отвечала замыслу автора. Дерзкий, он достигал гармонии, сталкивая естественные краски. Он избирал определенный тон и делал его фоном для игры доминирующих цветовых пятен — костюмов протагонистов. Симфония цвета на его богатой палитре усиливала впечатление от спектакля. Он создал род единства между сценой и публикой»1061. Бакст еще ранее восхитил всех видевших «Мученичество Святого Себастьяна», спектакль сложный и великолепный. Такого еще никогда не было: множество действующих лиц и фигурантов, роскошь материалов и тканей, разнообразные световые эффекты. Он покорил французов гармоничностью, целостностью несмотря на пестроту, пониманием символики цвета. Тем, что костюмы служат общему сценографическому замыслу, составляя часть декора. Наконец, естественностью и простотой линий — простотой, не отменяющей роскоши.
О «Пизанелле» критики часто отзывались в превосходных степенях. Бакст «превзошел сам себя, — писал Луи Шнейдер и продолжал: — От его декораций 484 исходит сияние, свет, мощь, которыми восхищаешься снова и снова. Оригинальность линий, индивидуальность рисунка, открытия, поиски редкого и прекрасного. Все это превращает Льва Бакста в уникального художника и определяет его особое место в истории декорационного искусства»1062.
Тем не менее с самого начала реакция была смешанной, двойственной, неоднозначной. Критик Робер де Флер отмечает: «Это был вечер одновременно мрачный и блестящий. Мы почти не имели удовольствия слышать текст г. Габриеле Д’Аннунцио, актеры с упорством, достойным лучшего применения, держались в глубине сцены, у задника. Это тем более раздражало, что казалось результатом некоего диктата. Но, с другой стороны, никогда еще не видели мы спектакля столь блистательного, где гармония звуков и красок воплощалась бы столь совершенно. <…> Габриеле Д’Аннунцио все-таки устроили овацию. Очень хорошо, что так случилось. Было бы несправедливо обвинять замечательного автора <…> в том, что мы так и остались в неведении относительно его произведения. Это целиком заслуга постановки — странной и далекой. Декорации Льва Бакста блистательны и оригинальны. Они одновременно фееричны и жизненны, обрамленные живописными занавесами, ибо я забыл сказать вам, что “Пизанелла” — это пьеса в трех актах и четырех занавесах. По правде говоря, не знаю, какой великолепнее — черно-розово-красный занавес пролога, серебряно-голубой в первом акте, небесно-голубой с белым во втором или зеленый с золотыми птицами в третьем». Далее критик пишет: «Постановка и восхитительна и абсурдна в одно и то же время. Восхищает ее живость, движение, волнение. <…> Абсурдно же то, что все здесь, кажется, служит единственной цели: помешать нам услышать поэта. Логично было бы сначала расслышать, а потом уже восхищаться. Вчера нас заставили восхищаться прежде всего. Мы смогли то, что смогли»1063. Тон был задан: в этом «пышном спектакле»1064 очевиден разрыв между зрелищем, призванным услаждать взор, и текстом, так и оставшимся непонятым. К этому мы еще вернемся.
Сценографическая концепция использовала живопись и в то же время противостояла ей. Как писал Мейерхольд Баксту, «портик запутанный, чтобы не вышло рамой для картины внутри, чтобы была стерта грань между рамой и картиной, чтобы был незаметнее переход»1065. За основным (черным с золотом) занавесом возникали четыре второстепенных. Сцена оказалась словно вмонтированной в своеобразную раму, чем акцентировалось ее сходство с живописным полотном. «Такое устройство сцены очень изобретательно, поскольку рождает определенную атмосферу и дает большую иллюзию, резко отделяя одну от другой грубую реальность рампы и воплощенную мечту декора. Однако не стоило забывать, что в Шатле с его гигантской сценой актеры, дабы их было слышно, обычно вынуждены играть на просцениуме. Складывалось впечатление, будто персонажи “Пизанеллы” играли на разных сценах, когда переходили с заднего плана на первый. Так бывает, когда актер как будто играет разные пьесы внутри одного водевиля, где действие кочует из одной комнаты в другую. <…> Исходя из сказанного и поговорим об этом первом плане — решении, по моему скромному разумению, более чем сомнительном. За черным с золотом занавесом нашему взору открываются черные с золотом колоннеты, подобные соборным колоннам. 485 Прямо за ними еще два занавеса, от действия к действию их цвет меняется, гармонируя с тональностью задника. Эти цвета: красный в прологе, голубой в серебряных цветах в первом акте, светло-голубой с изображениями святителей, увенчанных нимбами, во втором и зеленый с золотыми совами в третьем. На самом деле основной акцент сделан на заднике, а остальное не более чем оправа: с чисто эстетической точки зрения это счастливая находка, если бы только персонажи вовсе не разговаривали»1066.
Наиболее полное описание сценической обстановки оставил Андрей Левинсон: «Сцену скрывает занавес, черный с золотыми кругами, описанными вокруг мистических начертаний: греческого слова “ichthys”51*, символа Христова царства. По бокам сцены, на первом плане, стройно толпится, маскируя кулисы и обрамляя действие, целый лес эбеновых с позолотой колоннет, скользящих вверх, точно органные трубы.
Второй, пурпурный, занавес, раздавшись, обнаруживает королевские палаты. Бегут, скрещиваясь, дуги низких сводов с белыми мозаичными нервюрами; стены глубоко синеют блестящей эмалью. Золотым шитьем на изумрудном поле рисуются библейские сцены в духе феодальной легенды, между тем как в глубине апсид толпятся византийские лики.
За столами, покрытыми синими тканями, бражничают бароны в алых плащах; греческие епископы в аквамариновых облачениях и низких митрах с белыми крестами соперничают с латинскими прелатами в аметистовых одеждах и золотых многоярусных тиарах. Зеленые болгарские стрелки рассыпаны по сцене, между тем как на фоне низкой сводчатой двери, открытой в зеленый вертоград, великолепным и единым оранжевым пятном францисканской рясы выделяется фигура духовника короля.
Вторая картина вся залита багряным светом заката. Она изображает гавань Фамагусты; точно построенная из бурого камня и крови, резкая по тону, она необычайно конструктивна и внушительна. Направо тянутся аркады виадука; заслоняя круглый массив маяка, на бирюзовых волнах высится круглая корма громадной галеры.
На первом плане пестрыми массами громоздится добыча: тюки, лари, бочки, среди которых снуют и группируются фигуранты.
Третья картина: монастырь. Вся глубина занята зелено-серой громадой сплошной стены, прорезанной лишь редкими бойницами. Тяжкую горизонтальную линию стены мерно дробит ряд красных стволов фиговых пальм, листва которых теряется в выси. В середине сцены — колодезь, естественное средоточие свершающегося действия.
В заключительном действии красочная роскошь, расцветшая в прологе, достигает апогея. Высокий стрельчатый свод монументального портала, ведущего в лиловеющий цветами сад, бледно-зеленого цвета.
На парусах невнятно громоздятся эскизные группки святителей в золотых нимбах <…> на зеленом фоне нежно пламенеют все оттенки красного и фиолетового цвета от кровавого пурпура королевы — через малиновые одежды прислужниц, оранжевые камзолы музыкантов, сиреневые с серебром подушки, брошенные 488 наземь, — вплоть до бесконечно влачащейся фиолетовой мантии Пизанеллы. Перед этими великолепиями, избыточно пряными, праздничными и обильными до одури, в последний раз сдвигается занавес; на этот раз — из нежно-зеленого муара с серебристым кружевом крупного орнамента»1067.
«Восхитительные» костюмы рабов, танцовщиц, музыкантов, свиты, прорицателей и прочих — их было больше двухсот — в основе своей исторические, но, если они все разные, они при этом столь изысканны, вычурны и гармоничны во всем великолепии форм и красок, что одно это уже создает «ту атмосферу смертельной неги, которой и добивался поэт»1068. В то же время часто подчеркивают «эксцентричность» — «нелепые ярко-красные одежды судей в алых колпаках точно в сценке из школьного новогоднего спектакля»1069, или абсурдность — «миленькие козочки в золоченых клетках»1070 вместо свирепых леопардов. «Варварская красота» декораций, пышность и «дикое величие живописного панно в первом акте», «необычная простота монастыря во втором акте», «декоративное великолепие дворца в третьем»1071 — ко всему этому критики добавили еще одну черту: декорации относительно реалистичны, так как «почти всегда можно точно назвать каждый из наличествующих предметов»1072.
МУЗЫКА
«Музыкальный аккомпанемент в “Пизанелле” на деле играет второстепенную роль. Каждый акт предваряется небольшим вступлением, скромная музыка для сцены с пением подчеркивает ту или иную ситуацию, а смерть в танце м-м Рубинштейн — предлог для нескольких пластических эпизодов, плохо, впрочем, разработанных. Не известная доселе партитура слишком коротка, чтобы делать какие-либо выводы об индивидуальности г. Ильдебрандо да Парма. Тем более, что звучит эта музыка на сцене и лишь смутно доносится до зрительского уха. Тем не менее и этого вполне достаточно, чтобы утверждать: это написано с истинным чувством и оркестр звучит хорошо. Композитора, без сомнения, увлекают модернистские веяния. Но в музыке его, по крайне мере временами, ощущаются и иные влияния, также современные, но разные. Даже следуя школе г. Дебюсси, г. Ильдебрандо да Парма ни на минуту не забывает, что он соотечественник Пуччини. Но было бы ошибкой пенять ему за это»1073.
Так о музыке, в которой Пиццетти попытался передать экзотическую атмосферу средневекового Кипра, отозвался критик «Фигаро» в статье, специально посвященной музыкальному оформлению спектакля. В противоположность «Мученичеству Святого Себастьяна», где Дебюсси принадлежала ведущая роль, музыка Пиццетти была декоративной, и значение ее в поставленной Мейерхольдом «Пизанелле» оставалось второстепенным — она скорее заполняла паузы, нежели непосредственно участвовала в сценическом действии1074.
Пиццетти принадлежал к новой генерации итальянских композиторов, которые, порвав с веризмом, черпали вдохновение во французской и немецкой музыке. В его сочинениях явно влияние Дебюсси, Вагнера. Другим источником вдохновения стала для него музыка итальянского Возрождения, недавно вновь открытая на его родине. Вступления к прологу и к третьему акту очень близки 489 к Дебюсси, и многие критики отмечали этот «внешний дебюссизм» или называли Пиццетти «восточным Дебюсси»1075. Что до Левинсона, то он говорил о «ловком “pasticcio” “Шехеразады”, “Тамары” и “Князя Игоря”»1076.
Раздраженный этой музыкой, Мейерхольд, как мы видели, вывел музыкантов за кулисы. Несомненно, он поступил так, чтобы не заглушать голоса актеров. В то же время его расправа с оркестром Шатле под руководством молодого дирижера Ингельбрехта вызвала одобрение присутствовавших на генеральной репетиции.
АКТЕРСКАЯ ИГРА
Ида Рубинштейн, в течение года являвшаяся на парижских театральных подмостках, стала своего рода достопримечательностью в столичных артистических и светских кругах: обсуждали и ее слишком заметный русский акцент, и пластичность ее «поз». В случае с «Пизанеллой» критика констатировала успех: «Исполнение исключительно интересное и действительно стоит внимания. Меня мадам Ида Рубинштейн восхитила. Прежде всего в этой молодой женщине видна похвальная решимость, страсть к любимому делу и невозмутимая отвага. Она неустанно трудится и добивается ощутимых успехов. Ее русский акцент, придающий некоторую резкость красивому голосу, постепенно стирается и теперь уже почти неслышен. Ее речь красива, правильна, с трогательным мягким выговором»1077.
В первом акте актриса не произносила ни слова. «Роза добычи» — роль мимическая, воплощение меланхолической прелести, странной и неотразимой: «Ее пластика выразительна. Она овладела самим искусством молчания и никогда не выходит из образа. Она не произносит ни слова, но в смиренной скорби своей понятна и убедительна»1078. Озноб страсти, медленные и таинственные движения. Шагнула, вздрогнула, вся напряглась… Все это «выдавало в ней живую душу». Говорили о невероятной силе и чарующем колдовстве ее молчаливой игры. Некоторые упоминали об игре рук «загадочной и волнующей артистки»1079, другие — о «ее отработанных движениях, ее продуманных позах, ее вдумчивой неподвижности»1080.
Во втором акте, где она играла Блаженную, одновременно символ святости и скверны, разговорная сторона была особенно важна. Наконец, ее игра в третьем акте, где она исполняла два танца, встретила самое большое одобрение зала: «Ее жесты благородны, и танец ее в последнем акте, элегантный, сдержанный, скорее танец поз, а не виртуозности, глубоко трогает и несет на себе печать грусти»1081.
Критика отмечала, что «пластичная артистка»1082 возводит свою роль на уровень мифа: «Несравненная танцовщица и мимистка, Ида Рубинштейн захотела расширить и без того безграничный мир хореографии. <…> Ее исполнение в “Святом Себастьяне” и “Елене Спартанской” было лишь опытом. <…> В “Пизанелле” же Ида Рубинштейн, я в этом убежден, создала самый пленительный образ, на какой только была способна. Неимоверным усилием она заставила запылать весь жар ее таланта, мистического и чувственного. Она явилась нам архангелом дьявольского сладострастия, демоном ангельской чистоты. Ведь мистицизм есть единство двух этих противоположностей»1083.
490 Других исполнителей тоже упоминают, особенно де Макса в роли принца Тирского и Эрве — сира Юге: «Вот принц Тирский, напыщенный, необузданный, мечет громы и молнии. Это г. де Макс. Экзальтированный, выспренний, он просто создан для того, чтобы выражать чувства несколько искусственные, но в то же время впечатляющие. Вельможа немного фантастичный, он похож на причудливые образы старинных витражей — с пламенеющими красками, какими наше воображение охотно наделяет этих прекрасных и жестоких персонажей. <…> Г-н Эрве набросал чарующий портрет сира Юге, юного короля, сраженного небесной красотой»1084. Подчеркивали, что де Макс «не раз говорил о том, что он не импровизатор, полагающийся лишь на собственный гений, а самый мастеровитый и самый дисциплинированный среди трагиков»1085.
Мейерхольд интересовался фигурантами тем более, что ему впервые выпал случай руководить таким количеством актеров. «Роли без слов тоже играют актеры и актрисы. Каждый немой персонаж воплощен вдумчиво и наделен индивидуальными чертами»1086, — констатировал Жюль Буа. Очевидно, он организовал полихромную толпу, где каждому отводилась своя роль, возможно, больше пластическая, чем реалистическая, но непременно индивидуализированная: толпа «восхищает живостью, движением, волнением. У каждого фигуранта своя роль, и он ее в точности исполняет»1087. Различия между Сарду и Мейерхольдом, о которых говорит критик, показательны: «То, что Викторьен Сарду делал для толпы, увлекая ее, разъясняя действие, стоя перед ней, г. Всеволод Мейерхольд делает для каждого фигуранта. Сообразуясь с его ростом, характером, понятливостью. В своей тетради он наметил позы, множество поз, и показывал их сам»1088. «Пизанелла» — это «прекрасное художественное произведение, где движение толпы согласовано в таком близком и гармоничном общении, какого сцена прежде не знала»1089. Русский режиссер добивается разом и грандиозности, и подробностей, он одновременно разрабатывает и макро- и микросценические структуры, чтобы представить музыкальную поэму как «ожившую фреску», которую он разворачивает на всем пространстве сцены.
Наконец, создается впечатление, что помимо реальных проблем, связанных с акустикой, Мейерхольд добивался от актеров специфического — напевного — произношения. Говорили о «замедленном и невразумительном монотонном чтении», о «системе декламации, где чередовались завывание и шепот, и то и другое равно невнятно»1090, или о «невнятном шепоте, прерываемом вскриками, хриплыми и тоже неясными»1091. Необходимые пояснения дал русский критик Левинсон: «Ритмическая читка (порой переходящая в мелопею с модуляциями и ферматами) актеров Одеона, дополнивших труппу, довольно естественно сочеталась с риторическим и музыкальным лиризмом нового вымысла Габриеле Д’Аннунцио»1092.
ПОСТАНОВКА
Французские критики мало упоминали о постановочной концепции пьесы, но сурово и единогласно осуждали то, что сочли недооценкой особенностей Шатле, «где трудно следить за элементарным диалогом феерии»1093. Они полагали, 491 что Мейерхольд пренебрег акустическими свойствами зала. Текст не слышно и невозможно разобрать, так как актеры постоянно располагаются на втором плане, в глубине сцены: «Искусство превосходного режиссера не позволило нам уяснить намерения автора. Актеры находились очень далеко от нас, дабы сформировать группы, которые составляли бы единое целое с декорацией. Они не выходили на довольно просторный в Шатле просцениум. Расстояние между ними и первым рядом партера составляло около десяти метров. <…> В драме Д’Аннунцио позы и движения персонажей были столь же красивы, как в русских балетах. В декорациях и костюмах та же свобода фантазии. Но поскольку здесь все-таки есть еще и текст, публика, естественно, хочет его понимать»1094, — писал Нозьер. Подобные замечания уже раздавались после «Мученичества Святого Себастьяна», когда говорили о «пяти непонятых актах».
Некоторые признавали в Мейерхольде «экстраординарного художника»1095, но большинство — чисто французская манера — восстало против той власти, какую режиссер взял над автором: «Драматическое произведение, таким образом, в каком-то смысле принесено в жертву мизансцене, и то, чему надлежит быть не более чем аксессуаром, пусть и блестящим, приобрело главенствующее значение»1096.
Критика «театра художника»1097, или, в другой формулировке, «художественного театра», или «театра для поэтов», описанного Жюлем Буа, сводится к критике режиссера, пренебрегающего-де авторским текстом. Размещение персонажей в глубине сцены ассоциируется с «новыми театральными теориями, занесенными из России»1098. Режиссера обвиняют в том, что он путает театр и балет — такого рода критика уже раздавалась в России, когда Мейерхольд поставил в Александринском театра «Дон Жуана», и еще вернется во Францию во время гастролей ГосТИМа в 1930 г.1099. «Пьеса поставлена, как русский балет. Это ошибка, помешавшая успеху. Я не раз уже выступал против главенствующей в России идеи, состоящей в том, чтобы всем жертвовать ради собственно постановки, ради услаждения взора. Балет — это, безусловно, зрелище; в то же время, если звучит, к примеру, музыка Римского-Корсакова, она не заслуживает того, чтобы ссылать ее на второй план или исполнять вопреки смыслу. Но когда речь заходит о трагедии или о высокой комедии, то есть о масштабном литературном произведении кого-то из крупных поэтов, в силу вступает в чистом виде преступная система. Вчера вечером мы присутствовали не только на представлении, но и на убийстве пьесы г. Габриеле Д’Аннунцио»1100.
Убийство «произведения, написанного в сложном стиле, ученым и архаичным языком, изобилующего красивыми, но странными и устаревшими словами, похожими на редкие и причудливо ограненные драгоценные камни»1101? Мейерхольд и в правду не старался донести до зрительского слуха то, что и при чтении непонятно. Один из критиков «Фигаро» шутил: «В первом акте у меня было полное впечатление, будто я оглох, благодаря чему сделал пренеприятное открытие… Я видел баронов и прелатов в восхитительных костюмах, но звуки их голосов лишь изредка долетали до меня, в тех редких случаях, когда они благоволили обернуться к нам или приблизиться к рампе. В антракте же, осведомившись в кулуарах, я с удивлением узнал, что некоторые из сидящих в зале, от партера до райка, как и я, были напуганы внезапной потерей слуха»1102. Жан 492 Шлюмбергер высказался более сурово, в тех же выражениях, какими десятилетия спустя будут описывать спектакли нашего современника, режиссера Роберта Уилсона: «“Пизанелла”, или благоуханная смерть драматического искусства! Никогда еще понятие “красоты” не прикрывало столь бурное брожение разъедающих ферментов, способных разрушить театр в самом скором времени. Красота против театра, пагубная красота такой разрушительной силы, какая не снилась всем низостям, непристойностям и торгашеству вместе взятым <…> Г-на Мейерхольда призвали из Санкт-Петербурга, чтобы он по-новому поставил пьесу г. Д’Аннунцио. Он придумал загнать действие в глубину сцены и устроить род просцениума или вестибюля, который вовсе не служит для игры актеров, а весьма торжественно обрамляет ее. Занавесы, скрывающие авансцену, восхитительны. <…> Но публика столь очевидно продемонстрировала свое неприятие этой бессмыслицы, что повторять это излишне. Хватит зрелищ; да здравствуют пьесы!»1103 [Курсив мой. — Б. П.-В.].
Между тем Рене Шаванс отметил, что Мейерхольд, «чей талант сразу же заслужил авторитет у французских актеров, использовал просторный просцениум, где <…> заставил играть протагонистов, организуя массовые сцены в глубине»1104. Если Мейерхольд вернулся к эстетике времен Театра Комиссаржевской с уплощенными барельефными группами на декоративном фоне (здесь они не были приближены к залу, а наоборот, максимально удалены и развернуты по всей ширине громадной сцены), которые призваны были составлять единое целое с живописным панно и не более, то на сей раз он работал с художником, шедшим иным путем, нежели он сам. Однако Мейерхольд обратился к той эстетике лишь отчасти. Рене Шаванс, как мало кто среди французов, заметил, что визуальная задача может служить задаче поэтической, служить драматургии. Если же почитать русских критиков, привыкших к тому времени анализировать именно мизансцену, то станет ясно, что все ключевые сцены и диалоги были вынесены на просцениум: «Так, актер де Макс, изображающий князя Тира, произносит повесть о Риниере Ланфранке на широком просцениуме, став спиной к тем, к кому обращается по смыслу текста, и лицом к публике (скажут, “как итальянский тенор”; это, впрочем, справедливо: принцип тот же). Одинокая на фоне красочной толпы, его фигура приобретает пластическую очерченность и яркость, по праву привлекающие все внимание зрителя. В подобной изоляции — значение просцениума»1105.
Вместо того чтобы склониться перед Его Величеством Текстом (любимый конек французской критики надолго), русская критика интересовалась скорее техническими приемами постановки Мейерхольда, анализировала сценическую образность, сочетания красок, геометрию пластических построений, которые выполняли драматургическую функцию, а не только чисто декоративную. Так, Левинсон констатировал: «Из распределения групп непосредственно рождались, вместе с драматическим впечатлением, победные фанфары красок. Здесь же материальные элементы постановки подлинно включены в действие. Основные приемы пластических построений Мейерхольда, простые и действительные — декоративная симметрия, контраст; усиление через повторение. Вот примеры. В картине, где лежат добычи: одинокая и безмолвная фигура Пизанеллы на авансцене справа уравновешена и подчеркнута фигурой кавалера (в этом вся его роль) 493 слева. Группа куртизанок (третья картина), сосредоточенная вокруг князя Тира, с силой противополагается кольцу монахинь, столпившихся вокруг белой, подобно Мадонне Содомы, Пизанеллы. Или во второй картине красный генуэзец, протягивая руку, указывает с угрозой на пленницу; другой, подбежав, повторяет его движение; из двух одинаково направленных жестов возникает впечатление, что к женщине стремятся тысячи гневных рук. Там, где сценический “иллюзионизм” наполнил бы сцену разнообразно подвижной многочисленной и суетливой толпой, Мейерхольд ограничивается единым, согласным и символическим жестом двух фигурантов. Наконец, в конце пролога, “под занавес”, вестник, сообщающий о прибытии Ланфранка (обручившегося с идолом), пав на одно колено, в ужасе отбрасывается назад всем телом, образуя с шагнувшим вперед и внимательно согнувшимся князем Тира разительный контраст, разрешаемый прямой и недвижной, как упор свода, фигурой капеллана»1106.
Мейерхольд разрушал натуралистическое правдоподобие сценического пространства, ни в коем случае не добиваясь иллюзии в построении групп. Пластические приемы — контраст, симметрия, метонимия, повторение, удвоение — поставлены на службу сценическому образу, который в спектакле несет ту же нагрузку, что и поэтический текст, вступает с ним в диалог. Вот что упустили французские критики, не имевшие подобного рода театрального опыта.
«НАСТУПИЛА ДЛЯ МЕНЯ ПОРА РАСПОРЯЖАТЬСЯ МАССАМИ»1107
Составная часть русских сезонов, спектакль Мейерхольда продолжал удивлять. Критик писал: «Очевидно, мы начинаем привыкать к пресловутой русской “стилизации”, у нас больше не сосет под ложечкой с каждым подъемом занавеса и глаза не вылезают из орбит при первых вспышках фейерверка, устроенного славянскими декораторами»1108. Тем не менее все еще говорили о «необычайных диковинах»1109. Гастон де Павловски отмечал, что речь идет о сочинении поэта, где «главенствующее место отведено не персонажам, а идеям», и что этот «удивительный поэтический интеллектуальный дивертисмент» не имеет «ничего общего с реалистическими и фотографическими сценами из буржуазной жизни, которыми нас пичкают каждый день в театре»1110. Спровоцированный этим спектаклем спор о взаимоотношениях текста и мизансцены разгорится с новой силой в 1930 г., когда во время парижских гастролей ГосТИМ покажет спектакли на русском языке — непонятном подавляющему большинству зрителей. От почти хореографической постановки зачастую защищают даже текст, который сами же бичуют за герметизм и архаичность…
Несмотря на то, что залы были полны, а Антуан даже дважды смотрел «Пизанеллу», спектакль оказался быстро забыт — и Парижем, и самим Мейерхольдом. Возможно, виной тому — первая мировая война. Она надолго разорвала начавшие было налаживаться связи между французским и русским театрами. Небезынтересно, однако, что в 1930 г. об индивидуальности режиссера, возглавлявшего к тому времени собственную труппу, будут говорить так же, как в году 1913-м: у него все та же энергия, все тот же авторитет. Шарль Дюллен напишет: «Передо мной был не антрепренер, не импресарио, не режиссер даже. Это 494 был пират северных морей со своей ватагой. Его глаза горели, словно кошачьи в ночи. Он много жестикулировал, и все, повернувшись к нему, слушали с уважением и нежностью, как слушают безусловного лидера»1111.
Мейерхольд покинул Париж уставшим, но довольным проделанной работой. Он писал жене: «В понедельник на текущей неделе я первый раз смотрел пьесу из зрительного зала: всю целиком. А ведь это очень удачная из моих постановок. Особенно удалось мне слить в единство все акты, столь не объединенные в едином стиле у Д’Аннунцио. Кроме того, очевидно, наступила для меня пора распоряжаться массами. Первый акт, в котором занято больше ста человек, почти двести, идет необычайно стройно, и есть много не использованных еще эффектов. Момент уноса со сцены труппа Эмбриака всякий раз сопровождается аплодисментами. В третьем акте большая новость — удаленная (от рампы вглубь) сцена и расположение фигурантов в кулисах. Вообще, я многим доволен. Есть, конечно, целый ряд ошибок, но об них расскажу»1112. Отыщется ли когда-нибудь письмо, где он анализирует эти ошибки? Но, вне всякого сомнения, речь не идет об ошибочном решении сделать сложный текст более музыкальным, преобразить его в звуковую материю, представить его в буйстве красок, в жестах и движениях актеров и групп. В его положении чужака это, безусловно, было глубоко продуманное решение.
Илья Эренбург в своих воспоминаниях говорит, что Мейерхольд, впервые работая не дома, пережил в Париже серьезный душевный кризис: «В. Э. Мейерхольд познакомился и подружился в Париже с Гийомом Аполлинером, который, видимо, сразу понял, что дело не в Д’Аннунцио, не в Иде Рубинштейн, не в декорациях Бакста, а в душевном смятении молодого петербургского режиссера»1113. Было ли это смятение вызвано тем, что он оказался в обстановке более легкой, фривольной, светской и роскошной, чем в русских императорских театрах, оказался в самом сердце этой «великой церемонии в Шатле», этого «парижского гала», где «прекрасные русские дамы соседствовали с богатыми американками, прекрасные леди из-за Ла-Манша — с прекрасными сеньорами из-за Пиренеи» и где итальянская колония «ослепляла пламенем бриллиантов»1114? Этому нет документальных подтверждений, кроме лишь того, с какой охотой Мейерхольд бросал работу и отправлялся с Аполлинером путешествовать по увеселительным заведениям Парижа (включая кабаре и цирк).
Если формально этот заказной спектакль и увел Мейерхольда в сторону от его основного творческого пути (в Москве подобных пьес он не ставил), то сам режиссер все же нашел для него место в своих театральных исканиях и вынес для себя урок. Конечно, он на время забыл о нем, по возвращении в Петербург с головой уйдя в хлопоты недавно открывшейся Студии. Но очевидно, что «Пизанелла» с ее пятью занавесами, обыгрыванием глубины сценического пространства подготовила Мейерхольда к работе над «Маскарадом» в Александринском театре, где он разовьет драматургическую, а по существу — кинематографическую, функцию многочисленных и разнообразных занавесей, арлекинов, ширм, систематизирует их появление и значение. Работая над «Маскарадом», Мейерхольд вспомнит и о массовых сценах «Пизанеллы». Этот зарубежный опыт, быть может, пригодится ему и гораздо позже. После отъезда Михаила Чехова, например. Когда жить будет все сложнее, и он задумается об эмиграции.
Перевод текста и примечаний Н. Э. Звенигородской
495 Андрей Кириллов
ТЕАТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА МИХАИЛА ЧЕХОВА1115
В силу различных исторических причин в российской театральной традиции термин «система» прочно утвердился за системой К. С. Станиславского, соединяющей в себе методику воспитания актера и художественно-методологическое обоснование актерской игры. Между тем театру XX века, в том числе и российскому театру, известны и другие актерские школы, связанные с иными художественными направлениями. Школы эти имеют свои технологические и методологические принципы, свои театрально-мировоззренческие основы, свою художественную идеологию. И по присущей им многоаспектности, и по внутреннему единству, и по глубине освоения природы сценического искусства они представляют собой целостные системы, хотя и говорящие на разных театральных языках, исповедующие различные художественные веры. Театр Г. Фукса и Театр Г. Крэга, Театр В. Э. Мейерхольда и Театр А. Я. Таирова, Театр Е. Б. Вахтангова и Театр Б. Брехта, Театр А. Арто и Театр Е. Гротовского, — эти и другие театральные образования XX века тяготеют к системному самоопределению в принципах актерской игры даже там, где принципы эти не вполне разработаны лидерами театральных движений. Преобладание имен режиссеров в приведенном перечне не случайно — актерская игра оказалась зависимой от включающей ее театральной модели. В конце концов, новейшая систематизация средств и закономерностей актерского творчества, его современное педагогическое обеспечение и методологическое обоснование стали возможными и необходимыми в XX веке именно потому, что расширились и углубились системные связи сценического искусства в его целом. Тем интереснее обратиться к системе, разработанной в XX столетии актером и для актеров. Тем более что и собственное сценическое творчество М. А. Чехова, и его театральная теория и педагогика не только не противоречат эстетике века режиссуры, но еще раз подтверждают ее непреложность.
В последнее время интернациональный интерес к творчеству М. А. Чехова заметно расширился. Вместе с тем в весомом перечне книг и статей доминируют публикации материалов самого Чехова1116. Увлеченность творчеством замечательного актера и педагога, популяризация его работ опережают теоретическое и практическое освоение оставленного им богатого наследия. В универсуме Театра Михаила Чехова его театрально-педагогическая система остается областью наименее осмысленной. Собственно, из российских исследователей специально обращались к анализу педагогического опыта и наследия Чехова лишь М. О. Кнебель и Ю. Д. Вертман, много сделавшие для возвращения имени и работ актера в отечественный театральный обиход1117. В то же время и в силу современной им исторической ситуации, и ввиду недоступности для них многих известных ныне материалов, и вследствие личных профессиональных взглядов авторов Чехов в их интерпретации чрезмерно замкнут рамками учения Станиславского — единственного критерия и исследовательской системы координат. Ю. Д. Вертман ближе подошла к обнаружению принципиальных различий двух театральных систем. Однако и в ее работе метод Чехова, анализируемый лишь в психологическом аспекте, не выходит из границ «творческого процесса переживания» и «аффективной 496 памяти», представляя собой индивидуальную вариацию системы Станиславского.
Количество ролей, сыгранных Михаилом Чеховым в театре после его прихода в Первую студию МХТ в 1912 г., сравнительно невелико. Не считая ранние вводы на эпизодические роли на основной сцене Художественного театра и концертные выступления, Чехов в московский период его творчества за шестнадцать лет сыграл одиннадцать ролей.
Перерывы в создании новых образов удлинялись прямо пропорционально художественному взрослению актера, обретению им все большей творческой независимости. Стремительный взлет легендарной славы уже известного и популярного художника, состоявшийся в 1921 г. после исполнения роли Хлестакова во мхатовском «Ревизоре», пресекся эмиграцией 1928-го. В разделяющие эти даты семь лет уместились лишь три новые роли Чехова (Гамлет, Аблеухов, Муромский), ставшие между тем выдающимися событиями в русском театре. Если же учесть, что в это время Чехова в некоторых его прежних ролях на сцене Московского Художественного театра Второго и в гастрольных поездках все чаще заменяли исполнители-дублеры, статистическая картина выглядит еще более лаконичной1118. Хлестакова и следующего за ним Гамлета разделяют три года. Зная о крайней интенсивности внутреннего творческого бытия Чехова-художника, нельзя не задуматься о том, чем заполнился этот «перерыв», поистине удивительный для тридцатилетнего актера, пребывающего на вершине признания.
Понятно, что числовыми величинами не измерить произведения искусства. Известна и тщательность, основательность подготовки новых ролей и спектаклей в Московском Художественном театре и его студиях. Не менее известна, впрочем, и жгучая потребность актеров в постоянной сценической самореализации. А потому приведенная статистика все же наводит на размышления о месте и удельном весе собственного сценического исполнительства Чехова в его напряженной художественной деятельности первого советского десятилетия. Как и почему менялись они с течением времени? Искомая параллель в творчестве Чехова напрашивается сама собой. Достаточно перечислить известные факты и имеющиеся документы.
В 1918 г. М. Чехов открывает собственную актерскую студию. В 1919-м начинает публиковать изложение системы К. С. Станиславского в журнале «Горн»1119. В последние годы жизни Е. Б. Вахтангова сотрудничает с ним в постановочно-педагогической работе в различных студийных коллективах. В 1921 г. знакомится с А. Белым, а через него — с антропософией Р. Штейнера, значительно повлиявшей на развитие театральных взглядов М. Чехова. В 1922-м актер принимает на себя руководство Первой студией МХАТ. В 1923 – 1924 гг. на репетициях спектакля «Гамлет» Чехов систематически занимается с исполнителями «новой актерской техникой»1120. В 1923-м, отвечая на вопросы анкеты о психологии творчества, Чехов формулирует собственные оригинальные принципы работы актера над ролью и пути ее сценического воплощения1121. В 1924 – 1925 гг. при постановке спектакля «Петербург» по одноименному роману А. Белого в МХАТ 2 под руководством Чехова ведется экспериментально-педагогическая работа с актерами по овладению выразительными возможностями сценического ритма. В 1926 г. выходит статья 497 Чехова «Загадка творчества» о проблемах актерского мастерства1122. В сезоне 1926/27 г. Чехов ведет занятия с актерами МХАТ 2 по освоению его театрально-педагогической системы1123. В 1927-м выходят в свет статьи Чехова «О театральных амплуа» и «Постановка “Ревизора” в Театре имени В. Э. Мейерхольда»1124. В первой, являющейся ответом Чехова на анкету, подвергаются переосмыслению внутренние ограничения и художественно-мировоззренческие доминанты актерской профессии, а во второй утверждается объективное существование идеального и самодостаточного мира художественных образов. В 1926-м Чехов публикует эссе о Дон Кихоте, а в 1928-м, работая над ролью Дон Кихота, ведет дневник1125. Оба эти документа приоткрывают внутреннюю лабораторию его собственной актерской мастерской и восходят к выдвинутому им методу «имитации образа».
Как видно, аналитическое отношение к собственному творчеству и актерскому искусству в целом формируется у М. Чехова достаточно рано и органично разрешается сложением аналитико-педагогической «параллели» его сценическим опытам. Учительство и ученичество, этический, эстетический и мировоззренческий поиск самого Чехова связаны в этой деятельности неразрывно. «Параллель» имеет свою внутреннюю динамику и перспективу. По существу, перед нами законченный цикл становления Чехова не только как художника, но и как педагога, по крайней мере, его первый значительный этап. Если в 1918 г. вчерашний ученик К. С. Станиславского и Л. А. Сулержицкого являлся хотя и самобытным, но все же толкователем, посредником в распространении учительских взглядов, то к моменту эмиграции не только в теоретическом, но и в практическом итоге собственного учительства Чехова складывается его оригинальный подход, концепция, метод, система, долженствующие воплотиться в создание не менее оригинальных студии и театра. Сомнительно, таким образом, бытующее порой мнение о том, что всерьез к театральной педагогике и связанным с ней теоретическим размышлениям Чехов обратился лишь после отъезда из России, что главной причиной этой перемены в его деятельности явилась невозможность серьезного самостоятельного актерского творчества за рубежом.
Теоретическая и педагогическая деятельность Чехова 1920-х гг. выглядит столь значительной и целенаправленной, что как будто даже перекрывает постановочные и исполнительские задачи и ориентиры в его творчестве. Действительно, на примерах «Гамлета» и «Петербурга» представляется, что всякая новая постановка, само его художественное руководство МХАТ Вторым используется Чеховым прежде всего для проведения собственных педагогических экспериментов1126, для выведения театра из видимого ему художественно-мировоззренческого тупика. «Оставаться в театре в качестве актера, просто играющего ряд ролей, для меня невозможно потому, что я уже давно изжил стадию увлечения отдельными ролями, — писал Чехов труппе МХАТ 2 из Берлина в 1928 г. сразу же после своего отъезда из России. — Меня может увлекать и побуждать к творчеству только идея нового театра в целом, идея нового театрального искусства»1127. Перспективу своего возвращения на Родину Чехов ставил в прямую зависимость от возможности практического осуществления этой реформаторской миссии.
На самом деле пресловутая «параллель» вовсе не являлась параллелью, составляя органичную часть, аспект, ракурс целого творческой деятельности художника. В репетиционной работе МХАТ 2, курируемой Чеховым, невозможно разделить 498 экспериментально-педагогические и постановочно-исполнительские задачи и цели, установить в их соотношении иерархическую и причинно-следственную связь. Ставятся ли «Гамлет» и «Петербург» ради выработки «новой актерской техники» или, наоборот, новый исполнительский метод призван донести со сцены всю глубину содержания и современности этих литературных произведений? Обязан ли «мистериальный» (А. Белый) сценический итог «Гамлета» увлечению Чехова антропософией или «монизм» и «трансцендентальность» самой шекспировской трагедии явились причиной принципиального репертуарного выбора? Учатся ли актеры сценическому ритму «из» эвритмии Р. Штейнера и «ритмизованной прозы» А. Белого или ритмическая организация образов и спектакля понадобилась для адекватного претворения «симфонической», символико-метафорической поэтики автора романа? Наконец, в какой степени исполнительский метод, предполагающий развоплощение материи и воплощение Духа, опирается на философско-эстетическое, а в какой — на религиозно-этическое основание? Ответить на все эти вопросы однозначно не представляется возможным.
Размышляя над тем, откуда произрастает театральная система М. А. Чехова, естественно обратиться к его творческой биографии. Здесь можно обнаружить множество источников и влияний, взаимодействующих и пересекающихся в его судьбе. Это и богатый жизненный путь актера, отмеченный многими знаменательными встречами, и его обширные и глубокие художественные впечатления, и разнообразные философские и религиозные течения и взгляды. Несомненно также значение яркой индивидуальности художника, особенностей его психики и мировоззрения. Важен, наконец, его собственный исполнительский опыт. В то же время, если говорить о начальном этапе профессионального становления Чехова, о систематическом театральном образовании, безусловно, им стало для него творческое ученичество в Первой студии МХТ. О своем пребывании в театральной школе имени А. С. Суворина сам Чехов отзывался весьма скептически, признаваясь, что сценические навыки получал не столько на рутинных уроках, сколько на спектаклях своих петербургских учителей — замечательных артистов. Школа же в подлинном значении этого понятия началась для него в Москве под руководством и в сотрудничестве со Станиславским, Сулержицким, рано выдвинувшимся из ряда студийцев Вахтанговым.
Независимо от того, как сложились их дальнейшие творческие пути, Вахтангов и Чехов были учениками Станиславского в полном, абсолютном смысле. Любимыми учениками. Если же говорить об учительстве Станиславского в связи с его знаменитой «системой», следует признать их первыми учениками: и по времени, и по одаренности и достигнутым на этом поприще результатам. Взрастившая их Первая студия как раз и создавалась Станиславским для комплексного оформления и преподавания, для практической проверки и развития его театральных взглядов как системы. Год спустя Евгению Вахтангову было доверено вести занятия «по системе», а Михаил Чехов был признан учителем идеальным актером «системы», усвоившим ее полностью. Ученичество обоих, как и их однокашников по Студии, было преданным до фанатизма, до неистовой веры и следования не только духу, но и букве любимого учения. В 1915 г. от лица студийцев М. Чехов называл их и себя в том числе «собранием верующих в религию 499 Станиславского»1128. Именно систему Станиславского начинал преподавать Вахтангов и в своей самостоятельной педагогической деятельности в различных театральных студиях Москвы. По «системе» работал он с актерами и как режиссер при постановке своих ранних спектаклей. Систему Станиславского, пропущенную через собственное восприятие и опыт, преподавал в своей студии и Чехов, посвятивший изложению, комментированию и защите «системы» свою первую большую публикацию1129.
Ввиду сказанного логично было бы и сценическое бытование «системы», практические аспекты ее освоения и распространения изучать на опыте Чехова и Вахтангова. Логично предположить, что и сам Станиславский при публикации своего учения в 1930-е гг., аргументируя его объективность ссылкой на опыт учеников-актеров, должен был иметь в виду прежде всего и именно их. Ни с одной другой студией МХТ, не говоря уже о мхатовских «стариках», Станиславский не вел такой подробной и последовательной работы по «системе». Ни один другой коллектив не демонстрировал столь скорых и значительных успехов в ее сценическом освоении. Лидерство же Вахтангова и Чехова в Первой студии непререкаемо и общеизвестно… Здесь, однако, начинаются парадоксы, опровергающие сделанное предположение.
Отдельные места «Работы актера над собой» и черновые рабочие записи Станиславский посвятил скрытой, но достаточно прозрачной полемике с Михаилом Чеховым1130. Полемика имела место и раньше, в практической работе: первая размолвка Чехова со Станиславским произошла еще в 1917 г. на репетициях «Чайки»1131 … Нет, не Михаила Чехова имел в виду Станиславский в качестве образца и аргумента в пользу «системы» в 1930-е гг. Может быть, все дело в принципиальных изменениях, произошедших в самом учении за минувшее время и не учтенных Чеховым в его игре и педагогике? Предположение это опровергается сверкой авторской опубликованной редакции «системы» и ее чеховской версии 1919 г. При всех различиях принципиальный базис метода остался прежним.
Между тем страницы летописи жизни и творчества Станиславского фиксируют растущее раздражение, несогласие учителя с направлением эволюции собственного детища — Первой студии — МХАТ 2 — в целом и М. Чехова — в частности. Движение это, возглавленное в Студии Вахтанговым, а позднее — Чеховым, для студийцев органично вытекало из пройденного ими пути и насущных задач театрального искусства1132. Нелепо предполагать здесь чей-то злой умысел или дурное влияние. Странно искать принципиальные ошибки и преднамеренные искажения в деятельности наиболее верных и искренних последователей. Логичнее было бы допустить, что именно вследствие овладения «системой», ее практического усвоения студийцы почувствовали внутренние ограничения метода и обратились на поиски возможного выхода. По мнению же Станиславского, «дети» все более уклонялись от верной магистрали. В свою очередь в откровенной полемике со Станиславским проводились Чеховым занятия с актерами МХАТ 2, разрабатывались многие положения его собственного театрально-педагогического метода. Вахтангов умер в 1922 г., оставив после себя дневниковые записи, содержащие апологию гротеска и восторженный, нарастающий к финалу гимн режиссуре Мейерхольда. Последний спектакль Вахтангова «Принцесса Турандот», ясно обнаруживший отказ режиссера от психологической манеры актерской 500 игры, восхитил Станиславского, но не поколебал его художественную веру. Чехов же и Станиславский, встретившись в последний раз в 1928 г. в Берлине, посвятили многочасовую беседу выяснению разногласий во взглядах на природу актерского творчества1133.
В чем же коренились причины расхождения учителя и его бывших учеников? Где пролегла грань перелома в художнической судьбе самого Чехова и всей Первой студии? Коль скоро профессиональный генезис Чехова восходит к учительству Станиславского, вопросов этих не миновать. Ответы на них сулят прояснение сути обеих театральных систем, понимание их внутренних возможностей и пределов.
Как известно, сам К. С. Станиславский утверждал, что его система, объективная и единственно верная, не выдумана, а взята из самой Природы. В объективности своего театрального метода был уверен и М. А. Чехов1134. Первородность природного начала заявляет о себе в самом наименовании мейерхольдовской «биомеханики»… Очевидно, что апелляция к природе не исключает разнообразия в ее понимании, толковании и тем более использовании. Ради чего мы обращаемся к природе? Какие аспекты выделяем из ее универсума? Может ли вообще природа быть гарантом объективности театральной концепции? В конце концов единственным адресатом театрального искусства является зрительный зал. Нелепо полагать, что зритель приходит в театр наблюдать природу. Природа — лишь один из исходных материалов в действиях художника-творца. Правда, в отличие от своих коллег по искусству, актер совмещает в себе художника и его инструмент. Однако актер не только природен, он еще и социален. Не в меньшей мере актуальна его принадлежность истории и культуре, этическому и эстетическому… Главное же — он художник. А потому физиология, анатомия, психология и прочие природные (но не только природные) данные имеют смысл в деятельности актера лишь постольку, поскольку направлены на достижение художественного результата. Физиологические и психологические аспекты человеческого бытия могут на сцене стать, но могут и не стать факторами искусства. Сами по себе они к нему глубоко безразличны. И даже фактор Духа, духовности, выдвигаемый Станиславским как наивысший критерий, не гарантирует им это превращение, поскольку и духовность не является прерогативой искусства в его целом и театра в частности…
Едва ли не самое неожиданное в «системных» работах Станиславского — очевидный дефицит в них художественно-эстетических понятий и критериев, более упоминаемых в качестве прилагательных, нежели определяющих цели и логику развития его метода1135. «Переживание», на возбуждение которого и овладение которым ориентирована «система», выступает не только и не столько в виде средства, но цели. Провоцируется и корректируется переживание «предлагаемыми обстоятельствами», направляется «сквозным действием» и «сверхзадачей», формирующими волевой стержень исполнения, черпается же из «эмоциональной (аффективной) памяти» актера-человека. Процесс добывания «чувства» — самого ценного по Станиславскому в актерской игре, — как и само чувство, должен быть «внутренне обоснованным», «логичным», «последовательным», «непрерывным» и, в конце концов, «правдоподобным», максимально приближенным к естеству.
501 По существу, под природой актерского творчества Станиславский понимает психофизическую природу эмоции, чувства, переживания, исследуя ее подробно, детально, педантично. Порой возникает ощущение, что перед нами не система воспитания актера, а труд по психологии преимущественно в ее «технологическом» разрезе, в котором психологические процессы, их генезис и особенности возникновения и протекания анализируются ради них самих. В результате к актеру выдвигается требование постоянно бороться с изначальной лживостью сценического «публичного творчества»1136, определяющего саму природу исполнительского искусства. Природа театра вступает в противоречие с природой «натурального переживания». Невольно напрашивается историко-художественная аналогия из опыта самого К. С. Станиславского — актера и режиссера, когда в начале XX столетия, мечтая о сценическом символизме, он сокрушался по поводу непреодолимой телесности, «натуральности» актера, с которой напрасно и безуспешно боролся1137. Сценическое разрешение символизма осуществилось другими художниками. Натурализм постановочного решения спектакля молодой Художественный театр преодолел. В системе же воспитания актера «психологический позитивизм» одержал безусловную победу.
В системе Станиславского подавляет биопсихологическая природа актерского «материала». Подавляет настолько, что он, абсолютизируя ее, неуклонно следует у нее «в поводу». Переживание, чувство, эмоциональный акт, с одной стороны, и вдохновение, духовность, — с другой, неоправданно сближаются между собой1138. По Станиславскому, актер должен пробудить, развить, настроить психологический аппарат переживания и научиться управлять им по своему усмотрению. Тело и речь, полностью подчиненные переживанию, имеют смысл лишь постольку, поскольку выражают его в движении и звуке. Соглашаясь, что исторически психологический театр должен был пройти через этап самоопределения, отраженный в системе Станиславского, приходится признать, что даже в пределах данного типологического феномена это лишь этап, один из аспектов, ибо «психологическим» является театр. Родовая принадлежность театральному искусству здесь определяющая, в то время как «психологизм» — только признак внутриродового типа. Строго говоря, применительно к «системе» речь должна идти не о «психологическом», а о психическом, поскольку психология человека в свою очередь неизбежно социальна, моральна и пр.1139.
Следует отдать должное К. С. Станиславскому, признававшему, что предлагаемая им «техника слаба и примитивна», «находится в первобытном состоянии»1140. Культ «системы» был раздут не им — другими. Объяснял же Станиславский «слабость» своего метода столь же последовательно, сколь и прямолинейно: состоянием современной ему психологической науки. Восхищаясь новейшими достижениями других искусств, автор «системы» сокрушался, что театру до этого далеко ввиду неясности психологических механизмов соответствующих процессов. Возможный выход открывался в самом обращении к «другим искусствам», свободным от столь жесткой порабощенности «психологией материала». Мейерхольд обнаружил его уже в 1905 г. в период Театра-студии на Поварской. Станиславский же, сосредоточенный на психологизме актерского творчества, этот выход не замечал. Более того, там, где его демонстрировали коллеги по профессии, принадлежавшие к иным театральным направлениям, предостерегал: фальсифицируют 502 творчество, заимствуют «чужое». Театру, актеру с его психологической природой подобное пока не подвластно1141. Известные «Дифирамбы природе», сознательно разбуженной с помощью психотехники ради ее бессознательного и непознаваемого творчества, — результат и логичный, и противоречивый. Природа, признает Станиславский, в своем порыве сметает, отменяет все его собственные «объективные» ограничения1142. В то же время психологические законы этой высшей природной сферы творчества человеком не познаны. А потому и все поименованные ограничения остаются в силе…
Абсолютизация психотехнологической природы актерского творчества приводит Станиславского к неожиданному и не замеченному им самим противоречию. Известно, что, разрабатывая «систему», он мечтал о правдиво «переживающем» актере-художнике в противоположность «представляющему» актеру-имитатору. Можно ли, однако, исполнителя, буквально следующего всем указаниям «системы», назвать художником? Дело не только в том, что в «системе» не учитываются художественно-эстетические критерии и ориентиры. Вопрос возникает и как следствие отчуждения от актера права на авторство, имманентного самому понятию «художник». Безусловно, в театре XX века, как никогда ранее, авторство актера претерпевает принципиальные изменения, превращаясь в соавторство сценического коллектива. Тем не менее и здесь феномен художника неотделим от авторского права на творческое соучастие в создании художественного образа.
В системе Станиславского актер призван оперировать собственными переживаниями. Возможно ли на этом основании считать его автором и автором чего? Между тем личные чувства, переживания по Станиславскому составляют содержательный стержень актерской игры, будучи не только материалом, но и заветной целью сценического исполнительства. Правда, есть еще «предлагаемые обстоятельства», «сквозное действие» и «сверхзадача», имеющие ситуативно-действенную природу. В то же время в системе Станиславского эти объективные категории актерской игры обращены не к художественному образу, а к личностному переживанию актера, по отношению к которому они и реализуют свои регулятивно-коррекционные функции. «Предлагаемые обстоятельства» являются главным связующим звеном между переживающим актером и общим заданием роли и спектакля. «Обстоятельствами», представляющими собой чужеродную актеру и обживаемую им данность, направляются его личные переживания. Могут ли «предлагаемые обстоятельства», внешние исполнителю, восполнить недостающий художественный ориентир «системы», преодолев субъективизм личного переживания и восстановив актера в его авторских правах? Увы, во-первых, «обстоятельства» эти также не содержат в себе достаточных художественно-эстетических параметров. Во-вторых, актер не может напрямую авторизовать «обстоятельства», играть абстракцию «обстоятельств», как бы перенасыщены художественно-эстетическим содержанием они ни были.
Очевидно, что правда переживания сама по себе не обеспечивает ни авторства, ни художественности актерской игры. Если имитация, чуждая Станиславскому, по крайней мере, объектна, то личное переживание субъективно по своей природе1143. Борясь с имитацией ради подлинности сценических чувств, Станиславский бессознательно ограничивает сферу творческой активности актера. При 503 этом эмоциональная возбужденность исполнителя практически замещает в «системе» творческое вдохновение художника-автора, чем и объясняется их тесное сопряжение. Спор о пресловутом «актере-марионетке», имеющий совершенно иное историко-театральное основание, неожиданным образом обнаруживает свою актуальность применительно к системе Станиславского. Объектом же манипуляций при этом оказываются переживания исполнителя.
Скорее всего, основным мотивом написания статьи «О системе Станиславского» стала работа Чехова в собственной актерской студии. Проходя курс «системы» в новом для себя качестве преподавателя, он, вероятно, ощутил потребность в организации учебного материала, уточнении основных положений и формулировок1144. О деятельности Чеховской студии известно немногое. Бывшие студийцы свидетельствовали, что Чехов учил их «по Станиславскому». Подтверждают это и редкие рецензентские отклики на публичные выступления Чеховской студии. Сгущенный психологизм в сочетании с жизнеподобием доминировал в игре учеников вопреки стилю, жанру, поэтике1145.
Верность учителю Чехов сохранил и в журнальном представлении его «системы». В своем пересказе учения Станиславского актер лаконичен, точен, последователен. Индивидуализация «системы», о которой он упоминает, лишь едва намечается в отдельных пунктах1146. Вряд ли что-то можно было возразить Чехову по существу изложения метода. В машинописном экземпляре статьи, хранившемся у Станиславского, кроме пометки «Моя система в передаче М. А. Чехова» и единственного частного дополнения, нет исправлений и замечаний1147. Не исключено, что известный критический отклик Вахтангова был следствием не искажения, а, напротив, ясности и конкретности чеховской редакции «системы». Собранная воедино и впервые представшая в виде опубликованного текста, она неожиданно обнаружила свою психотехнологическую доминанту, ясно обозначившуюся в «конспективном изложении практической части учения»1148. Именно за такую интерпретацию Вахтангов и упрекал Чехова, чувствуя в ней угрозу репутации «системы»1149. Между тем знаменательно, что расслышал (готов был расслышать) характерный акцент чеховской интерпретации никто иной как Вахтангов, в качестве актера, режиссера и педагога прошедший по пути, намеченному «системой», до его логического конца и уже готовый к творческой ревизии собственных театральных верований. Чехов же, обнаживший психотехнологический крен «системы» невольно и для себя неожиданно, заканчивал первую часть публикации сентенцией, поразительной единством проницательности и наивной противоречивости. «Не похоже ли это на “учебник психологии”? Он тоже сух… Несмотря на то, что речь в нем идет о “душе”…»1150. Кого «уговаривал» Чехов? Может быть, самого себя? Подобный финал таил двойную взрывчатую перспективу: осознание неохватности «души» «учебником психологии», несводимости искусства ни к психологическим, ни к душевным процессам.
Почему Чехов, планировавший продолжать изложение метода «работы актера над собой», а далее и «работы актера над ролью», прервал публикацию едва ли ни в самом ее начале? Осуществив в первой части статьи общий обзор «системы», ее основных разделов и принципов, во второй он успел рассмотреть лишь вопросы, касающиеся «внимания» и «фантазии». Остановил его не упрек Вахтангова, 504 учтенный и снятый Чеховым1151. Весьма примечательно, где, когда и как произошла «остановка».
В авторской редакции системы Станиславского чеховской «фантазии» соответствует «воображение». Действительно ли соответствует и в какой мере? Дело в том, что Станиславский употребляет оба термина, однако разделяет их понятийные значения. Фантазия свободна от ограничения логикой и действительностью, а потому подвластна разве что сфере стихийного «творчества природы». «Фантазия — то, чего нет, чего в действительности мы не знаем, чего никогда не было и не будет. <…> Фантазия все знает и все может»1152. В творческом процессе переживания воплотить фантастическое можно, лишь приблизив его к действительности1153. Функция же управляемого воображения как раз и состоит в том, чтобы «превращать вымысел пьесы в художественную сценическую быль». «Воображение создает то, что есть, что бывает, что мы знаем»1154. Определение фантазии, предложенное Чеховым, не противоречит «фантазийности» Станиславского и противоположно «воображению» «системы». «Свободное, не соответствующее действительности соединение и сочетание различных образов называется фантазией»1155. Противоречие кроется в том, что свободная «фантазия» Чехова соответствует сфере «чувств», связанной у Станиславского как раз с «воображением». И хотя далее Чехов «исправляется» и замыкает фантазию рамками чувства и психологизма едва ли ни плотнее, чем сам Станиславский делает это с воображением, «прокол» очевиден. В этот-то прокол вскоре и хлынет оригинальное творчество Чехова — педагога и теоретика. Позднее в его педагогическом языке также утвердится термин «воображение», который будет чередоваться с термином «фантазия», принципиально не различаясь с ним по смыслу. К тому времени в концепции Чехова фантазия освободится и от обязательного сопряжения с «чувствами», «переживаниями», тем более — с переживаниями личными. Фантазию, воображение Чехов будет рассматривать в связи с центральным для него понятием «образ», едва мелькнувшим в «фантазийной» формуле ранней журнальной статьи.
В своей статье Чехов впервые добросовестно следует за Станиславским не в учебном, а в аналитическом процессе обнаружения и вскрытия логики и внутренних связей «системы». Движение это внезапно обрывается именно на «фантазии». Случайное ли это совпадение или принципиальный момент? Известно, что воображение самого Чехова-художника было феноменальным. Природа же его творческой личности противилась всякому насилию. Почувствовал ли начинающий «теоретик», только что изложивший «системную» версию «воображения», это насилие тотального «переживания»? Заподозрил ли здесь изначальное противоречие? Напомним, что замкнутость рамками психологического метода была одним из факторов, обусловивших глубокий душевный кризис самого Чехова1156. Именно в эту пору, отказавшись от собственных сценических выступлений, он и создал свою студию.
Аналитико-педагогическая деятельность помогла поиску выхода, впервые позволила Чехову взглянуть на собственный исполнительский метод «объективно», со стороны. Ученики Чеховской студии вспоминали частые рассказы Чехова о его работе над сценическими образами Фрэзера, Мальволио, Эрика, Хлестакова, игравшимися и репетировавшимися параллельно преподаванию. Чехов преподавал, пропуская «учебный материал» через собственную актерскую лабораторию, 505 внимательно и подробно анализируя свою игру1157. Актерская эволюция Чехова и процесс формирования его педагогического метода были взаимозависимыми, равно влияли друг на друга. Результатом явилось радикальное изменение метода в игре самого Чехова и его уход из собственной студии.
За два месяца до появления в печати статьи о системе Станиславского на сцене «Летучей мыши» в роли Божазе из «Спички между двух огней» реализовался первый «эксцентрический» опыт Чехова-актера. В августе 1919 г.1158 он приступил к работе над своим знаменитым гротескно-эксцентрическим образом Хлестакова. Теоретическая деятельность по осмыслению и публикации «системы» в театральной судьбе Чехова нанизана на соединяющую эти два образа художественно-хронологическую ось. Противоречие между сценической практикой и педагогической теорией слишком явное, чтобы быть не замеченным, не прочувствованным «аналитиком» и «сенсорикой». В 1921 г. по окончании работы над Эриком и через день после премьеры «Ревизора» Чехов отказывается от руководства собственной студией, ссылаясь на отсутствие времени1159. Мотив, выдвинутый им, представляется абсолютно формальным1160. Существеннее, что уходу Чехова из его студии предшествовал состоявшийся незадолго до того этапный показ работ учеников, обнаруживший их исключительную приверженность психологическому методу «переживания». Так закончился период «ученического учительства» М. Чехова. Ни к преподаванию, ни к апологетическому изложению системы Станиславского он больше никогда не возвращался. Чеховской студии, возникшей на переломе собственной творческой судьбы актера, не суждено было сложиться в самостоятельный театральный коллектив. В то же время художественный итог первого педагогического опыта и в собственном исполнительстве, и в теоретико-педагогическом поиске Чехова был в высшей степени плодотворным и перспективным.
Книга М. Чехова «О технике актера», изданная в Америке в 1946 г., открывается главой, посвященной воображению1161. Воображению образов. Образ, мир образов — вокруг них и ради их художественного воплощения выстраивается чеховский «метод имитации». Встреча актера с образом, общение с ним, проявляющее образ до той степени яркости, когда невоплощенным он быть попросту не может, происходит в воображении. В воображении проявленный образ свободно проигрывает себя. Процесс воображения, по Чехову, является первым, важнейшим способом репетирования. Внимание, также представляющее собой процесс и сопутствующее воображению, призвано помочь актеру фиксировать, удерживать ускользающий образ во внутреннем видении. В центрированной на образ чеховской системе координат средства, «процессуальность» не могут подменить собой цель. Образ содержит в себе всю полноту необходимого актеру идейного, эстетического, этического содержания, все связи, соединяющие его с миром пьесы и будущего спектакля. «Информация» эта открывается актеру не в рассудочном знании и не в эмоциональном переживании, а «видимо» и «слышимо», активно, наконец — в действиях и поступках образа. Ставя во главу угла понятие «образ», Чехов замыкает работу актера на тот самый сценический художественный результат, который не предусмотрен «процессуальной» системой Станиславского. При этом работа актера над собой и работа актера над ролью в методе Чехова изначально слиты и подчинены образу.
506 Казалось бы, очевидно, что свободное творческое воображение является безусловным качеством художника в любом виде искусства, необходимой составляющей художественного дарования. В психологическом театре, однако, ввиду широкого распространения и укоренения системы Станиславского, эта очевидность нуждалась в реабилитации. Не случайно момент абсолютной раскрепощенности воображения в системе Чехова порой комментировался как субъективный, неоправданно суживающий круг ее возможных пользователей1162. Чехов же заявлял, что, следуя его методу, «в идеале актер может сыграть все, что может созерцать» в сфере воображения1163. Нет, Станиславский и сам утверждал, что без воображения актер немыслим. В то же время, связав воображение несвойственной ему функцией «ограничителя», «преобразователя» вымысла в достоверность, автор прославленной «системы» невольно исказил его природу «с точностью до наоборот». Причина крылась все в той же пресловутой сосредоточенности на «переживании», абсолютизации его значения, ибо реальны, жизненно достоверны сами переживания, которые не могут быть иными1164. Понимая это, Чехов начал формирование собственной системы с принципиального отказа от личных «переживаний».
Вопросы упомянутой выше анкеты ГАХН1165 о психологии актерского творчества составлялись если и не вслед системе Станиславского, то, по крайней мере, с учетом ее важнейших положений. Новейшая программа Чехова зачастую утверждалась здесь «от противного». Отвергая обусловленность актерской игры личными эмоциональными «аффективными воспоминаниями», всегда находящимися «в сфере эгоизма»1166, Чехов отклоняет как непригодные для сцены «жизненные личные» («эгоистичные») переживания вообще, противопоставляя им переживания «объективные», «творческие», «нежизненные», «внеличные», «сверхличные» и проводя между ними непроницаемую границу1167.
На репетициях «Гамлета» Чехов убеждал партнеров — своих однокашников по учебе у Станиславского, — что «актерски мы воспитаны на эмоциях в области животной», а потому должны «почувствовать отвращение к так называемой тонкой игре, так как такая игра находится целиком в животном плане и не годится для “Гамлета”»1168. Распространяя это утверждение за пределы шекспировской трагедии, Чехов уточнял: «Мы идем к сверхэмоциям, эмоциональный театр должен отойти»1169, — а направляемые им режиссеры спектакля предостерегали исполнителей от подстановки личного в содержание воплощаемого образа, дабы ни в коем случае не «переживать», не возвращаться к прежней привычной манере игры1170. Эмоции, чувства, по утверждению Чехова, являются лишь элементом внутреннего актерского аппарата1171, а потому, даже «очистившись» от «личного» субъективизма, они должны были занять в ряду выразительных средств актера соответствующее, подобающее им место.
Впервые излагая свой метод «системно» на занятиях Педагогического Совета МХАТ 2, Чехов окончательно формулировал отличие сценических «личных» и так называемых «художественных» переживаний. «Не надо на сцене переживать лично. Эти переживания должны умолкнуть. Их место должны занять художественные переживания, которые суть ничто иное как переживания видимого и слышимого нами в мире фантазии, отдельного от нас и самостоятельного образа. Образ обладает способностью переживать особенно <…>. Когда актер начинает 507 играть, то в нем себя переживает образ, а актер только захвачен образом, только отдает ему себя». «Актер должен быть инструментом, а переживает образ, а не актер»1172, — настаивал Чехов, полемически обостряя тезис о посреднической функции актера. На вопрос же о том, как освободиться от сковывающих прежних исполнительских навыков и от чего следует освобождаться, Чехов отвечал, что на первом этапе отказываться придется от немногого. Прежде всего «изгоняются пока личные переживания и работа с аффективными воспоминаниями»1173, ибо стремление «видеть образ» прямо противоположно стремлению «переживать»1174. Опасения товарищей по поводу возможных трудностей осуществления нового «имитационного» подхода Чехов парировал: «Трудность возникает только тогда, когда хочешь “пережить”. При имитации образа все легко»1175.
С торжеством театра «переживания» Чехов связывал и широко укоренившуюся в актерской игре подмену вдохновения темпераментом, имеющим «телесную», «животную» природу и родственным стремлению «лично переживать эмоции роли». «В случае переживания человек дает своей маленькой личности излиться в темпераменте», — утверждал он. Заразительность такой игры опасна тем, что провоцирует аналогичную «животную» реакцию зрительного зала, порабощает его, исчерпывается «истерическим раздражением нервной системы». В конце концов «при переживании <…> личность не делает ничего больше, как только изживает в темпераменте свои страсти»1176. Потому-то Чехов и относил такую игру к сфере самодовлеющего эгоизма.
Очевидно, что последовательный поход Чехова против «переживания» в пользу имитации воображаемого образа был для него программным. Подчиняя процесс результату, стремясь максимально объективировать их, отвергая переживание и перевоплощение ради воплощения, Чехов и в материале своего творчества, и в способе его организации, и в собственном педагогическом методе решительно отказывался от психологического жизнеподобия ради вымысла. На занятиях с актерами МХАТ 2, отвечая на вопрос о качествах, необходимых актеру для усвоения его метода, Чехов выделял два основополагающих: «нужно обладать фантазией, способной проникать в мир образов», «нужно иметь данные, при помощи которых образ будет осуществлять себя»1177. Так, через раскрепощение воображения возвращался Чеховым актеру «статус» художника… Возвращался ли? Для окончательного ответа необходимо прояснить вопрос об «авторских правах» актера теперь уже в системе М. Чехова. Тем более что в приведенных высказываниях и положениях метода Чехова обращает на себя внимание крайняя автономизация образа от воплощающего его актера.
«Образы фантазии живут самостоятельной жизнью»1178. Этим утверждением открывается глава «Воображение и внимание» — первая и ключевая в книге «О технике актера». Действительно, раскрепощая актерское воображение, Чехов тут же и абсолютизирует его предмет, отчуждая воображаемое от личности исполнителя1179. Образ, мир образов для Чехова является идеальным, извечным, самодостаточным, независимым в своем существе от какой бы то ни было — в том числе и художнической — воли. Актер, как и всякий художник, отличается от иного смертного тем, что ему дано порой проникать в этот мир. Отказавшись от собственной 508 личности, он призван «транслировать» образы в мир реальный, осуществляя высокую духовную и эстетическую миссию служения. От его вопросов, задаваемых образу, от гибкости его воображения зависит лишь, до какой степени полноты и резкости образ проявит себя в его видении, какие стороны своего универсума откроет ему.
Художник-медиатор, художник-мист, художник как инструмент Бога, наконец, отражающий вечную космическую истину в мистическом таинстве воплощения. Такая концепция творчества не только не нова, но, по сути, и не анализируема в понятиях профессии и эстетики, если воспринимать ее буквально. Мистический абсолют Истины ничуть не яснее извечного абсолюта Природы. Метафора художественного образа переходит здесь в категорию веры. Кажется, остается только развести руки, что и делали многие комментаторы чеховского метода, пасуя перед «идеализмом», «мистицизмом» его исходной посылки и отыскивая конструктивные моменты в более локальных и частных аспектах рассматриваемой театральной модели. Тем не менее Чехов, выстраивающий учение на «мистическом» постулате, реально, а не идеально следует ему в своем творчестве, преподает его актерам, ничуть не превращаясь при этом в служителя отвлеченного культа. Чехов настаивает на том, что предлагаемое им — «не мистика», что, восприняв его метод, «театр мастерства непременно должен стать во сто крат больше»1180. А что если все-таки вернуть метафоре ее метафорический смысл, попытаться понять логическое основание чеховского абсолюта и перевести его на язык понятий?
Художническая суть самого Чехова, художественная природа его метода проявляются в их изначальной ориентированности на образ. Не «роль», не «персонаж», не «характер», не «тип», не «герой», а образ, вмещающий в себя неделимую целостность всех перечисленных понятий, но ими не исчерпывающийся. Если и мелькают они изредка в словаре Чехова, то чаще в словосочетаниях, подобных «образу роли», в интегрально-процессуальных значениях вроде «характеризации». Самодостаточность «образа» у Чехова — оборотная сторона и следствие его крайней универсализации. Понятие «образ», принципиально деперсонифицированное, вбирает в себя потенциал межличностных связей пьесы и спектакля. Более того, в системе Чехова оно предполагает имманентную пронизанность, превращенность, спаянность всех элементов и черт образа стилевым, жанровым, идейным и прочими смысловыми и художественно-эстетическими «определителями»1181. Не в отвлеченной ситуативной форме, а через образ открываются ему обстоятельства, действие и прочие категории пьесы и спектакля. Показателен пример определения «сквозного действия» «Гамлета» на репетициях в МХАТ 2. Не расставшись еще с терминами системы Станиславского, Чехов и его партнеры меняют их смысловое наполнение. Так, говоря о монизме шекспировской трагедии, Чехов уточняет: «Монизм же для меня прежде всего звучит как сквозное действие». И далее, найдя окончательную формулировку: «Сквозное действие — Гамлет»1182. Образ как сквозное действие… Категория действия, открывающаяся актеру, будучи растворенной в понятии «образ»… Судьба Гамлета, индивидуально воплощенная Чеховым, и стала «сквозным действием» спектакля…
Образность видения, мышления, фантазирования, мировосприятия художника для Чехова настолько безусловна, что он на этом специально попросту не останавливается. Образность — качество объективное, данное художнику, а потому 509 само собой разумеющееся. Вполне возможно, что среди прочих обстоятельств это также повлияло на сложение чеховской концепции извечного и самодостаточного мира образов. Как и в случае с воображением, мы сталкиваемся с изначальным ограничением системы Чехова, которое тем не менее и здесь вряд ли может быть оспорено, если, конечно, действительно признавать актера художником. В то же время, именно ввиду замкнутости на «образ» столь значительной художественно-смысловой нагрузки в системе Чехова, понятие это требует более пристального рассмотрения.
«В конце концов образ создается из элементов, неизвестно откуда пришедших и для меня самого неожиданных и новых»1183, — писал актер Чехов в анкете 1923 г. На репетициях «Гамлета» самодостаточный мир образов возводился им к абсолютному царству абстрактного позитива истины, Духа, вечности1184. Где-то недалеко от этой сферы мыслил Чехов обиталище образов и в дальнейшем. Пожалуй, в галерее героев самого Чехова указанный «адрес» безусловен лишь для его лирико-трагедийного Гамлета. Но как же быть с «облезлым» Фрэзером, с эротоманом Мальволио, с «фитюлькой» Хлестаковым, с «орангутангом» Аблеуховым? Да, гуманизм Чехова заявлял о себе в полный голос и в этих образах, отнесенных А. Белым к архетипическому уровню характеризации1185. И все же смысл, содержание противоречивых чеховских созданий были гораздо шире и глубже в своем остром драматизме. Актер Чехов превосходит Чехова теоретика и педагога и масштабом своего мировоззрения, и красочностью, яркостью используемой художнической палитры. В системе Чехова нет непосредственного отражения парадоксальной, гротесково-эксцентрической природы его дарования. Отчасти это можно объяснить высоким уровнем абстракции и объективизма анализируемых универсальных закономерностей, который выдерживает Чехов в своей теории. Затратив столько душевных сил на преодоление «окаянства» собственной противоречивой личности, Чехов избегает опасных перекрестков острого парадокса, выплескивая с «личностью» и саму зиждительную противоречивость. Исследуя пространственно-временную природу актерского искусства в этих атрибутивных категориях, Чехов не вспоминает о том, как, играя Божазе, «рассыпал» свое тело «в ряд передвигающихся в пространстве точек»1186, балансируя на грани бытия и призрачности в блестящей пластической метафоре. Размышляя о выразительных возможностях «борьбы атмосфер», «забывает», как мгновенно прокалывал эти атмосферы в «Ревизоре» внезапным острым эксцентрическим трюком…
И все-таки, заявляя о самодостаточности идеального мира образов, Чехов порой явно колеблется. В формулировке, предложенной им на занятиях в Педагогическом Совете, ощутим осторожный шаг, стремление образа и воплощающего его актера навстречу друг другу. Образ «создается сложными внесознательными и отчасти и вне человека лежащими процессами»1187. Это встречное движение представляется гораздо более интенсивным, если заглянуть за букву чеховской теории. Совершенно очевидно, что индивидуальность художника реализует себя уже в видении, «предчувствии образа», вспыхивающем при первом знакомстве с пьесой. Чехов и сам пишет о сопутствующем этому периоду энергичном, активном, творческом состоянии актера1188. Качества образа зависят и от того, как и какие вопросы предлагает ему «проявляющий» его актер. В дальнейшем образ корректируется складывающимися образами других участников спектакля1189, тем более, что постоянная готовность к изменению является природной чертой образа1190. Чехов 510 добивается того, чтобы актер-художник был «над идеей»1191, видел образ «сверху»1192, стараясь в каждое мгновение охватить его «целое» в «целом» спектакля. Повествуя о том, как преследовал его образ Дон Кихота, требовавший воплотить себя, невзирая на несоответствие данных актера, представлявшееся самому Чехову необоримым, художник рисует картину непроизвольного овладения образом. Доказывая Дон Кихоту свою очевидную непригодность, он «ему рисовал его самого». «Я его пронизал своей мыслью, и чувством, и волей! Я кончил <…> Он стоял передо мной… как победитель! <…> Весь пронизанный стрелами мыслей и чувств моих, волей моей укрепленный! <…> Он указал на себя и властно сказал: “Теперь это — ты. Теперь это — мы!” <…> он победил. Я же принял судьбу его, я — поражен. И в своей неудачной борьбе, в пораженье я стал — Дон Кихотом»1193. Как видим, уже в процессе воображения, фантазирования актер имеет и неизбежно реализует массу возможностей не только «проявлять», но и формировать образ. Другое дело, что Чехов, добивающийся объективации творческого процесса, бдительно предохраняет его от воздействия актерской личности. В конце концов яркий, сложившийся (но живой и подвижный), «идеально» прорепетированный в воображении исполнителя, требующий своего воплощения «безусловный» образ «имеет право продиктовать себя актеру»1194.
«Момент воплощения образа есть момент вдохновения, которое приходит с неизбежностью, если существо актера путем творческой проработки по данному методу сделало себя способным принять его в себя»1195. В то же время, по Чехову, «вдохновение — это мгновенное проникновение в истину»1196. «Истинность», «вдохновенность» обеспечиваются соучастием в процессе воображения некоего «идеального» начала, поскольку «образ <…> сознается мною одновременно как мое собственное исполнение [в воображении. — А. К.] и как исполнение кого-то, кто превосходит мои способности во много и много раз»1197. Допустимо предположить, что таинственным «кто-то» являются возможности собственного воображения актера, формирующего в себе идеальный образ, свободный не только от рамок личности, но и от ограничений физической природы1198. Думается, что метод Чехова, в котором традиционно подчеркивается момент имитирования, точнее было бы назвать «методом фантазирования и имитации образа».
В движении, развитии театрально-педагогических и теоретических взглядов Чехова очевидно обострение принципиального отказа актера от личностного аспекта в искусстве. Изгнание личных переживаний, недопущение личности в процесс воображения и воплощения образа — освобождение творческого процесса и внутреннего мира самого художника от всего личного превращается у Чехова в некую манию, своего рода «идею фикс». Собственно, абсолютное отчуждение личности и определяет «религию» и «мистику» его системы. По существу, это ее единственный абсолют: абсолют неприятия. Возможных причин столь негативного отношения Чехова к личности в искусстве множество, и все они связаны между собой. Некоторые из них уже были рассмотрены. Это и изживание мучительной и страстной противоречивости собственной личности; и своеобразная реакция отторжения на лично пережитые и объективно осмысленные тупики пройденной и усвоенной им системы Станиславского; и следствие уникальной свободы и возможностей собственного художнического воображения; и обостренная потребность свойственного Чехову и необычайно ценимого им «ощущения 511 и даже предощущения целого»1199, не умещающегося в личностные пределы. Не последнюю роль в этом процессе играет и окружающий Чехова ближайший и более широкий театральный контекст. Актер начинает свои занятия с однокашниками по Первой студии, пытаясь практически вывести их, вчерашних учеников Станиславского, из того же рокового лабиринта, в котором оказался сам. Он разрабатывает свою систему для российских и американских актеров в то время, когда театральная жизнь не только России и Америки, но, в значительной степени, и Европы глубоко пропитана и продолжает питаться «религией» системы Станиславского, родственных ей и производных от нее школ и течений. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что в своей системе Чехов обращается не к уникальным гениям, одаренность которых гарантирует и свободу, и внеличностный масштаб искусства, а к широкому кругу весьма «личностных» актеров, ориентируясь прежде всего на них…
Среди причин и источников остался неназванным еще один — антропософия. Именно на счет последней чаще всего относится «внеличный мистицизм» чеховской системы. При этом, однако, в театральной литературе практически не делалось попыток заглянуть в ее существо, «расшифровать» черты, приметы, смысл антропософии в театральных взглядах и деятельности Чехова1200. Антропософия, хотя и формирующаяся на основе и вокруг христианства, сама по себе, строго говоря, религией не является. Сокровенное чаяние антропософии — обнажить и актуализировать духовную сущность человека и его деятельности. Антропософская суть состоит в признании причастности, принадлежности реального живого человека абсолютной сфере космического. Здесь, в пространстве антропософии и исповедуемых Чеховым ее уложений, обнаруживается магистраль, непосредственно соединяющая человека с высшими мирами и вечными, идеальными ценностями.
Согласно антропософии, существо человека, вмещающее «низшее» и «высшее» «я», — двуедино. Через воплощение Иисуса («земное») Христа («небесное») человечество оказалось не только породненным с Божественным, но явило собой и в себе пересечение горизонтали («земное») и вертикали («небесное»), выразившееся в символе креста. Антропософия признает присутствие Божественного начала в каждом человеке (хотя и не свободного в нем), ибо Христос растворен в человечестве. Переводя диалектику низшего и высшего «я» в диалектику соответствующих понятий «личности» и «индивидуальности», Чехов основывает на ней свое понимание феномена художника и его миссии1201. Теме диалектической оппозиции «личности» и «индивидуальности» актер посвятил специальное занятие в Педагогическом Совете МХАТ 2.
Личность и индивидуальность находятся в постоянной борьбе друг с другом. И если обычный человек может не осознавать этот внутренний процесс, то художник обязан сделать сознательный выбор в пользу индивидуальности. «В области искусства личность стремится проявить и изжить себя самое, — индивидуальность же, напротив, хочет сделать личность только орудием, только средством выражения и проявления творческой идеи». «Личность в искусстве пользуется толпой для себя, она ведет паразитическое существование», порабощая, угнетая собой зрителя. Действие личности на искусство «огрубляющее», «сужающее». Желая проявить себя, она неизбежно порождает лишь натурализм. Личность и в «царстве иллюзии» остается только «самой собой». Воздействие же на искусство неэгоистической, 512 разомкнутой в мир индивидуальности прямо противоположно («расширяющее», «углубляющее»). Индивидуальность «проявляет себя в искусстве как существо, выходящее за пределы обыденного». Она стремится «воплотить и сделать реальностью не то, что уже есть, но то, что будет, что должно быть». «Индивидуальность, поднимаясь своим видением над обыденной жизнью, над сложившейся и готовой к окостенению реальностью, стремится вывести эту жизнь из окостенения». Раскрепощая зрителя для свободного сотворчества, индивидуальность «служит толпе — она вестник того, что должно быть сказано через искусство в данное время человечеству»1202. Вывод Чехова нетрудно предугадать. Если результатом возбуждения личности является лишь пресловутый «животный темперамент», то стихия индивидуальности — противоположное ему по своей природе «вдохновение». «Вдохновение есть дар, нисходящий на художника из тех светлых сфер сознания, где проявляется деятельность его индивидуальности»1203. Как видно, зерно антропософии упало на благодатную почву художнического сознания и опыта Чехова. Через освобождение от личности, через индивидуальность в его концепции окончательно «воссоединяются» в процессе вдохновенного творчества актер-художник и воплощаемый им художественный образ.
Индивидуальность актера, допущенная в мир идеального, активно формирует образ, осуществляя авторство исполнителя. Однако и этим не исчерпываются ее широкие авторские полномочия. По существу, именно индивидуальность является тем «медиатором» и «охраняющим входы», который реагирует или не реагирует на «внешний импульс» пьесы. Оплодотворение воображения актера, зарождение в нем образа возможно лишь тогда, когда возбуждена художническая индивидуальность. Один из вопросов анкеты 1923 г. должен был прояснить, какая сфера является первичной для актера, что открывается ему в первую очередь: психологический, пластический или звуковой образ роли. Различно, отвечает Чехов, то, «что в данной роли больше соответствует моей (индивидуальной) творческой идее, моей тенденции (могущей быть для меня и не осознанной)». Далее актер уточняет, что речь идет не о какой-то оригинальной идее, «возбужденной» в нем ролью, но об «идее», «заложенной во мне от рождения, об идее, которую я (сознательно и бессознательно) выражаю в течение всей моей активной жизни и в каждой роли»1204. Другими словами, очевидно, что первичной для Чехова является его художническая индивидуальность. Это «соло» индивидуальности проходит сквозной темой через всю анкету. «Забываюсь целиком в роли или в отдельных местах ее… только в том случае, когда изливается на сцене моя индивидуальная идея»1205. Любовь к тому или иному образу также основывается на его близости «индивидуальной идее»1206. «Чувство радости, всегда испытываемое в творческом состоянии, вызывается: 1) освобождением от собственной личности и 2) осознанием (или, вернее, переживанием) той творческой идеи (п. 9), которая недоступна обычному моему сознанию»1207. Как видим, «индивидуальная идея» открывается ему самому — художнику — лишь в творческом процессе: в образной форме, через образ.
«Нарастание» индивидуального в творческом методе самого Чехова и в его теории прямо пропорционально «убыванию» личного. Такая «связанность», взаимозависимость двух противостоящих сфер у кого-то может породить предположение о «преемственности» индивидуального (в методе Чехова) по отношению 513 к личному (в системе Станиславского). Может возникнуть подозрение, что принципиального отличия вовсе и нет, что индивидуальность на некоем ином уровне наследует и осуществляет те же функции, что и личность. Подозрение это рассеивается, во-первых, тем, что для Чехова личность и индивидуальность противоположны, во-вторых, последовательным очуждением образа в системе Чехова (содержащемся уже в понятии «имитации») и на этапе фантазирования, и в момент воплощения. На репетициях «Гамлета» Чехов постоянно предостерегал партнеров-учеников: «Имитируя, изображая то, что дает мне моя фантазия, не стремиться очутиться внутри этого образа, потому что при этом актер перестает быть художником, а превращается в сумасшедшего»1208. Так же точно Чехов категорически возражал и против «присвоения» образа актером. «Не нужно принимать черт образа на свой счет»1209, — настаивал он. Отличие индивидуальности и личности, разновысотность соответствующих им «уровней» человеческого существа столь разительны, что одни и те же «механизмы» на них попросту «не работают». По Чехову, актер не только не в праве отягощать образ собой, но и не должен тяготиться образом, имитируя его легко и свободно, в любой роли добиваясь веселого, радостного самочувствия1210. Не случайно своим коллегам по МХАТ 2 Чехов говорил о том, что при усвоении нового метода «вся наша актерская психология должна быть перевернута…»1211.
Освобожденные, «расширенные» в методе Чехова возможности исполнительского авторства закономерно раздвигают и рамки доступного актеру диапазона ролей. Уже в анкете о психологии творчества Чехов признается, что воображаемый, фантазируемый им образ совершенно свободен от оглядки на его собственные актерские данные1212. На репетициях «Гамлета» и на занятиях в Педагогическом Совете Чехов включает этот принцип в систему преподаваемого им нового метода, при котором «пределы актерских возможностей… очень расширяются»1213. В специальной анкете, посвященной проблеме амплуа актера, Чехов принципиально отрицает это ограничение исполнительской специализации в любых его видах, заявляя, что «амплуа должно быть изжито»1214. Существенно, какие ориентиры, какие ценностные критерии актерского художнического мировоззрения, по мнению Чехова, способствуют исполнительской универсализации. Ограниченность личных данных, пишет Чехов, преодолевается максимальной «степенью интереса со стороны актера к человеку вообще» и неустанным совершенствованием исполнительской техники1215. Необходимость техники очевидна. Не менее важно, однако, что и в разрешении, снятии проблемы амплуа главную роль для Чехова играет авторский (через индивидуальность) подход актера к роли.
Авторство исполнителя в свою очередь служит основой для свободной импровизации. Строго говоря, применительно к игре и системе Чехова понятие импровизации, как и вдохновения, не является характеристикой исполнения и самочувствия актера в отдельные наивысшие моменты творчества. Импровизационное самочувствие характеризует каждый момент сценического творчества актера, подобно тому как вдохновение неизменно сопутствует воплощению образа1216.
Подробное рассмотрение чеховской «техники актера», специфики основных выразительных средств его театра и принципов их организации — тема отдельной будущей работы. Очевидно, что уровень технической оснащенности исполнителя, 514 адекватно имитирующего-воплощающего свободные образы фантазии, должен быть необычайно высок. Как, например, сыграть воображаемого Чеховым Дон Кихота, который весь «из пламени»1217? Имитация фантастических образов, не подчиняющихся законам физического мира, с неизбежностью требует актерской метафоры. Исследование знаменитых сценических метафор и гипербол самого Чехова призвано дополнить, обогатить анализ его метода. Как предмет изучения теории театрального искусства материал этот необычайно ценен, хотя вопрос о возможности его широкого практического применения остается открытым. Тем не менее, если даже индивидуальный опыт и метод Чехова не всегда доступны в качестве учебного руководства актера, по многим направлениям они дают перспективу, «идеальный» ориентир дальнейшего развития, движения, и это немало. В конце концов, учебное пособие на тему о том, как стать художником — очевидный нонсенс.
Между тем, даже минуя детальный анализ техники, можно утверждать, что и в сфере исполнительских выразительных средств сохраняются уже знакомые нам основополагающие ориентиры чеховской системы, определяющие ее интегрально-архетипическую природу. Чехов подробно исследует архетипы жеста и звука, пытаясь обнаружить их самодовлеющие эстетические значения. Он выявляет глубинные связи между различными сферами актерской выразительности, синтезируя соответствующие им средства. Так возникают понятия «психологического жеста», «поющего жеста»1218, «жеста буквы», «видимой речи»1219. Так появляются требования, вроде «ваяния воздуха силами речи»1220. Так рождаются чеховские формулы: «в жестах заключено слово», «жест обуславливает слово»1221.
Очевидно, что жест, имеющий пластическую, пространственную природу, как раз и является неким катализатором, основой синтеза различных выразительных средств актера, пронизывая и определяя и психологическую интенцию, и звучащую речь, и, наконец, сценическое пространство, творимое, организуемое, трансформируемое посредством вектора, силовой линии актерской пластики1222. В результате выдвигаются понятия «воображаемого центра», «рук-лучей»1223, задания «расширять пространство», «растворяться в пространстве»1224. Пластическая, пространственная характеристика образа для Чехова имеет значение первоочередное и универсальное. Не случайно он призывал исполнителей сначала проигрывать отдельные сцены и роль целиком без слов, в жестах1225. Известно признание Чехова о том, что, репетируя «Гамлета», «от движения мы шли к чувству и слову»1226. Наконец, уместно воспроизвести отзыв А. Белого о чеховском Гамлете, неоднократно цитировавшийся в театроведческой литературе. «В паузе [Чехова. — А. К.] — силища потенциальной энергии, данной кинетикой жеста в миг следующий, где все тело, как молния; из острия этой молнии, как из разряда энергии — слово: последнее всех проявлений»1227.
Доминанта «целого» объясняет первенство интегральных и интегрирующих категорий в системе Чехова. Едва ли не важнейшей среди них является ритм. Посвящая этой теме специальное занятие в Педагогическом Совете МХАТ 2, Чехов рассматривает ритм как гармонию, как целое, как средство и результат организации целого1228. Ритм ценен для него еще и необычайной силой воздействия на зрительный зал в сочетании с чрезвычайной доходчивостью. «Ритм нельзя не воспринять. Мысль можно не донести, а ритмический акт непременно дойдет. 515 <…> Ритм — общечеловеческий язык. Мысль взвита и гофрирована… А ритм понятен всякому»1229. Изменение ритма может принципиально менять содержание ритмически организуемого материала. Эта выразительная возможность ритмической трансформации образцово иллюстрируется и игрой самого Чехова. Известны описания, принадлежащие С. Г. Бирман (Фрэзер)1230 и П. А. Маркову (Муромский)1231, свидетельствующие, как одной переменой ритма, не меняя прочих выразительных средств, Чехов переключал жанровую тональность своей игры в противоположный регистр, таким именно образом осуществляя жанровый синтез трагифарса. По законам ритма организуются в Театре Чехова пространство и время. Собственно, ритм и является стержнем архитектоники пространственно-временной организации роли и спектакля.
Интегральное понятие «атмосфера» в системе Чехова также принадлежит к выразительным средствам, доступным и необходимым индивидуальному исполнителю. В методе Чехова атмосфера — еще один способ репетирования и сценического существования актера — также представляет собой процесс. Создаваемый актером образ учитывает партитуру атмосфер роли как объективное обстоятельство. Подобно «судьбе» чеховских персонажей, атмосфера объединяет в себе объективное и субъективное, общее и индивидуальное. «Изумительно, что Вы сделали с Гамлетом: Вы играли как бы в двух планах; собственной особой и другими; Вы были во всей “атмосфере”»1232, — писал Белый Чехову после генеральной репетиции шекспировской трагедии. Образы Чехова переживают атмосферами, их изменениями, столкновениями, борьбой, обеспечивая те самые «внеличные», «неэгоистические», «объективные» переживания исполнителя. «Атмосферическая» природа, «атмосферический» уровень определяют характер переживания и в системе, и в собственной игре М. Чехова.
Изучение архитектоники, «биомеханики» выразительных средств актера и овладения ими в системе Чехова не является самоцелью. Если актер и обнаруживает абсолютные архетипы жеста и звука, то абсолютной в них для него является форма, законы формообразования. Составляя фантастические художественные звуковые сочетания, ученик должен сформировать в себе чувство многокрасочной выразительности речи1233. Чехов призывает его «разложить все краски на палитру»1234, начиная прослушивание роли «со стороны звуко-музыкальной», «как музыки»1235. Своих партнеров по «Гамлету» он просит «рисовать» голосом, словами, ритмами1236. «Полюбите движение как таковое», — заклинает Чехов товарищей, актер должен получать эстетическое наслаждение от делания движений1237. Необходимо воспитать в себе эстетическое чувство жеста и звука. «Как художники мы должны получать образы из мира эстетики»1238, — утверждает Чехов.
Не следует задавать образу вопрос что, предостерегает Чехов актеров МХАТ 2, спрашивайте его как. «Нужно учиться очаровывать путем “как”, а не гипнотизировать путем “что”». «Что» само родится из «как», оно содержится в нем, потому что художественная форма содержательна и содержание ее раскрывается прежде всего в образе. «Что» утомляет зрителя, уверяет Чехов, «как» оставляет его свободным1239. Смысл эпизода или всей роли, всего спектакля откроется из его ритма1240, уверяет актер, начинающий анализ сцен «Гамлета» с выявления их ритмической структуры. «Нужно воспитать в себе переживание ритма». Ритм — «источник всякого вдохновения», ибо он — целое. Всякая гармония — «результат воздействия ритма на что-либо»1241.
516 Чеховская «техника», по его собственному определению, — «орган индивидуальности и путь к вдохновению»1242. Потенциально она в немалой мере содержит в себе существенные качества будущего художественного образа, ибо должна быть готова принять в себя и воплотить любые его черты и свойства. Овладение этой техникой, раскрывающейся навстречу образу еще в период его фантазирования, означает полное «перерождение организма» актера, предупреждает Чехов1243. Такое «перерождение» предполагается и этической программой, и духовным аспектом чеховской системы. Даже мимолетное прикосновение к этим сферам через диалектику «личности» и «индивидуальности» позволяет почувствовать их глубину и необычайную актуальность для Чехова. Собственно театральный ракурс и путь духовных исканий в Театре Чехова и в его собственной творческой судьбе сливаются воедино.
Чехов вышел из системы Станиславского. И уходил «из нее» все дальше. Может быть, и не вполне корректно поверять «систему» художнической судьбой и творчеством гения, априори не умещающегося ни в какие рамки. Тем не менее, прорвавшись за них «изнутри», Чехов обнаружил наиболее слабые звенья и спорные моменты взрастившего его учения. Вслед за ним и благодаря ему обнаруживаем их и мы. В конце концов, невольный «экзамен» «системы» состоялся не ради определения ее абсолютной ценностной величины. Худшим же наказанием за проявленную дерзость могла бы стать лишь канонизация чеховского метода, из которого в будущем кому-то придется «выводить» кого-то другого.
И все же личность человека довлеет художнику, составляя вечный парадокс актерской профессии. Совмещение в одном лице актера-человека и художника-творца по-прежнему искушает нас заблуждением.
Между жизнью и искусством — не дистанция. Между жизнью и искусством — бездна. Бездна, пролегающая между художником и человеком. Но именно за этой бездной и открывается перспектива и высший идеал Театра Михаила Чехова. В конце концов, на то и идеальна природа искусства, чтобы вечно стремиться к идеалу, не передоверяя его иным институтам и видам духовной деятельности.
Кому и в какой мере дано преуспеть на этом поприще — вопрос индивидуальный. На пути к идеалу Театр Михаила Чехова всегда готов помочь лицедею, решившемуся перешагнуть черту собственной личности в художественном акте творения.
517 ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Российская еврейская энциклопедия: В 3 т. М., 1994. Т. 1. С. 52.
2 In: Lexicon Of Yiddish Theatre, N Y., 1931. Vol. 1. P. 172 (пер. с идиш Б. Ентина).
3 Канцедикас А. Семен Ан-ский и «Альбом еврейской художественной старины» // Канцедикас А., Сергеева И. Альбом еврейской художественной старины Семена Ан-ского. М., 2001. С. 55.
4 Письмо барона В. Г. Гинцбурга С. А. Ан-скому от 30 января / 12 февраля 1914 г. Париж. [Автограф] // Институт рукописей, отдел фонда иудаики при Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского (далее — ИР ОФИ НБУВ). Ф. 339. Ед. хр. 312. Вероятно, в силу того, что барон Гинцбург пишет из Франции, где принят григорианский календарь, адресату, находящемуся в России, где все еще принят юлианский календарь, он датирует письмо как по новому, так и по старому стилю. Документ готовится к печати в составе издания «С. А. Ан-ский: Документы и материалы в архивах Киева и Москвы. Каталог» (название рабочее). Почерк Гинцбурга содержит немало головоломных текстологических проблем, справиться с которыми мне помогла Мария Иванова.
5 С. А. Ан-ский: Дневники. 1 января – 13 февраля 1915 г. Тетрадь № 14. [Автограф] // РГАЛИ. Ф. 2583. Оп 1. Ед. хр. 2. Л. 1.
6 С. А. Ан-ский: Дневники. 9 – 30 сентября 1915 г. Тетрадь № 25. [Автограф] // РГАЛИ. Там же. Ед. хр. 3. Л. 6.
7 Письмо С. А. Ан-ского Н. А. Попову от 13 августа 1914 г. СПб. [Автограф] // РГАЛИ. Ф. 837. Оп 1. Ед. хр. 20. Л. 1.
8 Там же. Л. 2.
9 Письмо Г. Высоцкого С. А. Ан-скому от 4 сентября 1915 г. [Автограф] // ИР ОФИ НБУВ. Ф. 339. Ед. хр. 266. Л. 1.
10 С. А. Ан-ский: Дневники. 1 января – 13 февраля 1915 г. Тетрадь № 14. [Автограф] // РГАЛИ. Ф. 2583. Оп 1. Ед. хр. 2. Л. 8.
11 Там же. Л. 10 об. – 11.
12 С. А. Ан-ский: Дневники. 9 – 30 сентября 1915 г. Тетрадь № 25. [Автограф] // РГАЛИ. Ф. 2583. Оп 1. Ед. хр. 3. Л. 13 об. — 14 об.
13 С. А. Ан-ский: Дневники. 1 – 10 октября 1915 г. Тетрадь № 26. [Автограф] // Там же. Л. 30 об. – 31.
14 С. А. Ан-ский: Дневники. 9 – 30 сентября 1915 г. Тетрадь № 25. [Автограф] // Там же. Л. 25 об.
15 С. А. Ан-ский: Дневники. 1 – 10 октября 1915 г. Тетрадь № 26. Автограф // Там же. Л. 33 об – 34 об.
16 Там же. Л. 37 об.
17 Там же. Л. 41.
18 Там же. Л. 43.
19 С. А. Ан-ский: Дневники. 10 – 29 октября 1915 г. Тетрадь № 27. [Автограф] // Там же. Ед. хр. 4. Л. 18.
20 518 Письмо З. И. Гржебина К. С. Станиславскому от 19 декабря 1915 г. Петроград. [Автограф] // ИР ОФИ НБУВ. Ф. 339. Ед. хр. 996. Л. 1.
21 Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1998. Т. 8. С. 424.
22 Там же. С. 541.
23 Хроника // Театральная газета. М., 1917. № 2. 8 января. С. 6.
24 «Габима» // Еврейская неделя. Пг., 1917. № 9. 26 февраля. С. 40.
25 Сохранилась запись автора: «“Игра в плаху”. Написана в 1920 году в г. Одессе и поставлена в Одессе в Теревсате и в Харькове в 1921 году режиссером Р. Унгерн» // РГАЛИ. Ф. 358. Оп 1. Ед. хр. 10. Л. 2.
26 См.: Александров Р. История «Игры в плаху» // Книжное обозрение. 1987. 27 марта.
27 Там же.
28 Там же. А в начале февраля 1923 г. в «Художественной мысли» (в рубрике «Официальный отдел») публикуется рекомендованный репертуар — длинный список разрешенных к представлению (надо сказать, на редкость разнокачественных) пьес. Рядом с сочинениями Г. Гауптмана, Р. Роллана, А. Шницлера, С. Ан-ского, Г. Гейерманса и Э. Толлера названы новые вещи отечественных драматургов, в том числе В. Маяковского и К. Гандурина, В. Катаева и А. Луначарского, Ю. Олеши и П. Керженцева (см.: Художественная мысль. Харьков. 1923. № 4. 8 – 15 февраля. С. 15).
29 Экран. 1921. № 12. 6 – 9 декабря. С. 13.
30 Барон Рудольф Александрович (Адольфович) Унгерн фон Штернберг, литератор и режиссер, с 1 декабря 1912 г. по 7 января 1928 г. — член Союза драматических и музыкальных писателей (См.: Личное дело № 354 члена Драмсоюза: РГАЛИ. Ф. 675. Оп 2. Ед. хр. 648). Подробно о личности и театральных работах Р. А. Унгерна см. наст. изд., примеч. к публ. В. В. Иванова «Когда весь мир — чужбина…».
Ни в одном из документов — многочисленных автобиографиях, опросных листах и анкетах, включая самые поздние, — Олеша ни разу не вспомнит о пьесе «Игра в плаху» и опытах ее театральных воплощений — возможно, из-за опасных родственных связей первого постановщика: «черный барон» Р. Ф. Унгерн был расстрелян 15 сентября 1921 г.
31 Пролетарий. Харьков, 1921. № 223. 30 октября.
32 Росций — Лобунько Павел Дмитриевич (Домиантович) — актер, деятель театра.
33 Цапок Георгий Антонович (1896 – 1971), украинский художник театра, график. В 1914 – 1918 гг. учился в Харьковском художественном училище. В годы гражданской войны работал над плакатами, расписывал агитпоезда.
34 Экран. 1922. № 18. С. 10.
35 См.: Александров Р. Указ. соч.
36 Художественная мысль. Харьков, 1922. № 9. 16 – 22 апреля. С. 20.
37 Арзамасцева И. Н. Идейно-эстетические взгляды Ю. К. Олеши (на материале прозы 20-х годов). 1995. Рукопись. С. 22.
38 Брюсов В. Поэма «Слава толпе» // Избр. соч. М., 1980. С. 217.
39 Олеша Ю. К. Есть целый ряд тем и сюжетов… // РГАЛИ. Ф. 358. Оп 2. Ед. хр. 509. Л. 2.
40 Годом позже пьеса появилась еще и на страницах газеты «нового зарубежья» (Вечерняя Одесса. 1988. № 241 (4576). 20 октября), где ее опубликовал Евг. Голубовский по тексту, сохранившемуся в архиве писателя С. А. Бондарина. За сообщение благодарю М. С. Петровского.
41 519 Письмо Н. Н. Евреинова Ю. Л. Ракитину от 31 июля 1931 г. Париж. [Автограф] // Театральный музей автономного края Воеводина (Нови Сад). Архив Ракитина. См. наст. изд.: Переписка Николая Евреинова с Юрием и Юлией Ракитиными.
42 Письмо Н. Н. Евреинова Ю. Л. Ракитину от 9 сентября 1931 г. Париж [Автограф] // Там же.
43 Письмо Е. Р. Сверчевского Н. Н. Евреинову от 4 ноября 1931 г. Варшава. [Автограф] // РГАЛИ. Ф. 982. Оп 1. Ед. хр. 250. Л. 7.
44 Сольский Людвик (наст. имя и фам. Людвик Наполеон Сосновский; 1855 – 1954) — польский актер, режиссер, театральный деятель. С 1893 г. — в краковском Театре им. Ю. Словацкого (с 1894 г. — главный режиссер). В 1900 – 1905 гг. — в Городском театре (Львов). В 1905 – 1913 гг. — директор Театра им. Ю. Словацкого; в 1913 – 1914 гг. — главный режиссер, в 1923 – 1924 гг. — директор театра «Розмаитости» в Варшаве. В 1916 – 1917 гг. — директор Театра Польски в Варшаве. С 1924 г. — в Театре Народовы (Варшава), в 1935 – 1938 гг. — директор этого театра.
45 Брыдзинский Войцех (1877 – 1966) — польский актер и режиссер. Сценическую деятельность начал в 1894 г. До 1906 г. работал на провинциальных сценах, а также в Кракове, Лодзи, Варшаве. В 1903, 1906 гг. гастролировал в Петербурге (с театром из Лодзи). С 1906 по 1914 г. постоянно выступал на трех сценах варшавских правительственных театров: Большого, «Розмаитости», Летнего. С августа 1914 г. перешел в Театр Польски Арнольда Шифмана, где считался главным — наряду со Стефаном Ярачем — актером этой сцены. До первой мировой войны стал известен как один из самых одаренных польских артистов. С 1915 по 1918 г. — в эвакуации в России. Выступал в польских театрах в Киеве и Москве, где также сотрудничал с киностудиями (Ханжонкова и др.). В 1918 г. вернулся в Варшаву — в Театр Польски. С 1926 г. постоянно жил в Варшаве. Выступал главным образом в Театре Народовы, а с 1928 г. и в Новом театре.
46 Письмо Е. Р. Сверчевского Н. Н. Евреинову от 10 апреля 1932 г. Варшава. [Автограф] // РГАЛИ. Ф. 982. Оп 1. Ед. хр. 250. Л. 17.
47 Правильно: Фрыч Кароль (1877 – 1963) — польский театральный художник, режиссер. Образование получил в Мюнхене (изучал архитектуру), Кракове, Вене, Париже и Лондоне. Художественную деятельность начал в краковским кабаре «Зелены балоник» («Зеленый шарик»); был декоратором костелов, а также дворцов, кафе. С 1913 г. сотрудничал с Театром Польски в Варшаве. С 1919 по 1921 г. — на Дальнем Востоке как культурный атташе Польши в Токио и Сибири. Преподавал в Японии. С 1921 г. — в Польше, работал в театрах Польски, Малы, Народовы, им. Словацкого и др. С 1930 г. — профессор Академии Художеств. Был мастером стилизации, знатоком искусства, выдающимся создателем исторического костюма и педагогом — воспитал многих польских художников, в том числе Тадеуша Кантора.
48 Громницкая Хелена (1896 – 1962) — польская актриса. Сценическую деятельность начала в 1915 г. в Театре им. Словацкого под псевдонимом Ядвига Дыгатувна. С 1917 г. — в Театре Польски. В сезоне 1918/19 г. играла на сцене театра «Розмаитости», с 1919 до 1921 г. — в театре «Редута». С 1926 по 1932 г. выступала главным образом в Театре Народовы. В 1932 г. уехала из Польши с мужем, польским дипломатом. После войны осталась в эмиграции и не вернулась на сцену.
49 Соха Артур (1896 – 1943) — польский актер. В 1915 г. был эвакуирован из Польши в Россию. Во Владивостоке в Польском доме ставил спектакли. После возвращения в Польшу в 1922 – 1923 гг. начал сценическую деятельность в Театре Польски (Катовице), с 1923 по 1928 г. — в Театре им. Ю. Словацкого, с 1928 по 1929 г. — в Городском театре (Лодзь), с 1929 г. постоянно работал в театрах Варшавы: Атенеум, Народовы, Новый.
50 Письмо Е. Р. Сверчевского Н. Н. Евреинову от 24 мая 1932 г. Варшава. [Автограф] // РГАЛИ. Ф. 982. Оп 1. Ед. хр. 250. Л. 11.
51 520 Письмо С. Ю. Высоцкой Н. Н. Евреинову от 29 августа 1932 г. Варшава. [Автограф] // РГАЛИ. Ф. 982. Оп 1. Ед. хр. 165. Л. 16.
52 Письмо Ю. Л. Ракитина Н. Н. Евреинову от 17 декабря 1933 г. Белград. [Автограф] // Bakhmeteff Arhive, Rare Bookand Manuscripts Library, Columbia University; BAR: Evreinov’s Papers. Box 2. См. наст. изд.: Переписка Николая Евреинова с Юрием и Юлией Ракитиными.
53 Теляковский В. А. Воспоминания. Пг., 1924. С. 165.
54 Подробнее об этом см. в кн.: Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров. 1898 – 1901. Москва. М., 1998.
55 Сумбатов-Южин А. И. Записи. Статьи. Письма. М., 1951. С. 111, 119.
56 Теляковский В. А. Воспоминания. С. 165.
57 Младший сын Теляковского Всеволод (1894 – 1963) — художник-декоратор, ученик А. Я. Головина. Работал в Петроградском (Ленинградском) Малом театре оперы и бале та, в Ленинградском театре Красной Армии; в 1935 г. был выслан в Казахстан, в г. Атбасар как сын дворянина и царского чиновника. Умер в Ленинграде.
58 В сентябре 1918 г. Теляковский был арестован вторично. Единственным свидетельством этого служит фраза Ф. И. Шаляпина из его письма к И. И. Шаляпиной 22 сентября: «На днях арестовали Теляковского, и вот пришлось хлопотать об его освобождении, слава богу, выпустили, и вчера я его видел у себя» (цит. по: Летопись жизни и творчества Ф. И. Шаляпина: В 2 кн. Л., 1985. Кн. 2. С. 132).
59 Дневниковая запись 3 марта 1917 г. (Здесь и далее дневниковые записи Теляковского при водятся по рукописи, хранящейся в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, ф. 280, № 1325).
60 Батюшков Федор Дмитриевич (1857 – 1920) — филолог, литературовед, театральный деятель. В 1917 г. — главный уполномоченный Временного правительства по петроградским государственным театрам.
61 Дневниковая запись 25 апреля 1917 г.
62 Дневниковая запись 29 апреля 1917 г.
63 Дневниковая запись 9 мая 1917 г.
64 Переписка Теляковского с Гликерией Николаевной Федотовой (урожд. Познякова; 1846 – 1925; актриса Малого театра с 1862 по 1905 г.) находится в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина: письма Федотовой — в фонде Теляковского (ф. 280, № 746 – 768), Теляковского — в фонде Федотовой (ф. 292, № 447 – 479; здесь цитируется письмо от 9 января 1918 г., № 463).
Теляковский был очень высокого мнения о Федотовой: «Вы и есть, действительно, самая умная, развитая, наблюдательная русская артистка» (30 июля 1924 г., № 478).
Вскоре после февральских событий Федотова писала Теляковскому: «Мне так хотелось услышать от Вас хотя одно словечко, как Вы отнеслись ко всем нашим новшествам и что изменилось в Вашем положении. Верьте, это не просто любопытство, а искренне серьезное расположение, которое я сохраню на всю жизнь и которое, где бы Вы ни были, никогда не изменится» (это письмо от 26 марта 1917 г. за № 746 — последнее среди писем актрисы к Теляковскому, написанное ее рукой, все последующие продиктованы ею Е. И. Большаковой и лишь подписаны Федотовой).
521 На эту просьбу Теляковский живо откликнулся. В двух письмах, разделенных одним годом, он с особой откровенностью, отличающей его письма к Федотовой, делится своими размышлениями над происходящим в России:
«<…> В России совершилось то, что совершиться должно было. Мне, давно наблюдавшему за публикой, служащими, правителями и рабочими, ясно было, что переворот неминуем, ибо так идти делу, как оно шло последние года, было невозможно, а в этом году даже уступки и перемены были бы запоздалыми. Слишком много было прямо провокации власти — и провокации прямо нелепой и глупой. Россию вели к погибели, и чем раньше переворот, тем лучше. Кафтан власти рвался уже не по швам, а везде — и еще немного, не осталось бы ни куска цельного. Бескровность революции лучший показатель, что ей все сочувствовали. Не мало я лично переносил трений последние года — было невыносимо трудно <…>» (31 марта 1917 г., № 462).
«<…> Страшное, позорное и в то же время донельзя глупое время мы переживаем, особенно принимая во внимание, что живем в XX веке. Обучались наукам, слушали профессоров, читали философов, изобрели телефоны, применили радио — словом, развились и поумнели настолько, что совсем не научились не только жить, но и понимать назначение человека, цель жизни и пользу цивилизации. Россия, с позволения сказать, с свиным рылом по брюхо уткнулась в навоз, и ее теперь порят и будут еще пороть и палкой бить по голове, сердцу, самолюбию и постараются лишить понятия чести и долга перед Родиной <…>
И не одни большевики виноваты. Вы только посмотрите на всех, кому попала теперь власть — хотя бы в Малом театре, о котором Вы мне пишете — что они разделывают во имя свободы и равенства на земле <…>
Маски сброшены, себя обнаружили вполне — и себя народу показали, да и народ показался. Разыгрывали революцию, а разыграли голый грабеж. На крючки брошен был червяк свободы, а когда клюнули, попали на удочку полного произвола пролетарского деспотизма <…> Главное, как глупо, как донельзя глупо <…>» (9 мая 1918 г., № 464).
На это письмо Федотова ему отвечала: «Я так благодарна Вам за Ваши всегда мудрые, интересные письма, — читаю, перечитываю и не начитаюсь: такое верное, яркое, мудрое определение всего происходящего» (21 мая 1918 г., № 749).
65 Южин ежегодно поздравлял Теляковского в день его именин 15 июля. Письмо от 4 июля 1917 г. в архиве Теляковского отсутствует.
66 4 июля 1917 г. в Петрограде произошли столкновения демонстрантов (более 500 тысяч человек) с юнкерами и офицерами, во время которых было убито 56 и ранено 650 человек. Эти события вошли в историю как Июльский кризис Временного правительства — третий после Апрельского и Июньского.
67 С 1879 г., по выходе из Пажеского корпуса, Теляковский служил в лейб-гвардии Конном полку, в 1888 г. окончил Николаевскую академию Генерального штаба. 2 мая 1898 г. был назначен управляющим Московской конторой Императорских театров, 7 июня 1901 г. занял пост директора Императорских театров с переменой военного чина полковника на гражданский — статского советника (в 1903 г. произведен в чин действительного статского советника, в 1909-м — тайного). Указом Временного правительства от 6/18 мая 1917 г. был уволен в отставку с назначением пенсии в 9000 рублей в год, позднее отмененной большевистским правительством. С 1918 по 1923 г. находился на советской службе — финансовым инспектором отделения Народного банка при Николаевской железной дороге, при которой в 1920 г. организовал сапожную мастерскую.
68 Теляковский имеет в виду занимаемую им до отставки казенную квартиру в здании дирекции Императорских театров.
69 4 марта 1917 г. труппа Малого театра на собрании, созванном по инициативе Южина, подтвердила его полномочия управляющего труппой, каковым он являлся с 1909 г. 6 марта 522 того же года приказом комиссара Государственной думы Н. Н. Львова Южин был назначен «уполномоченным комиссаром по управлению Большим и Малым театрами». 27 марта управление этими театрами было разделено, и Южин остался управляющим Малым театром на правах его директора до 1 августа.
Подробно об организационных процессах, происходивших в Малом театре с февраля 1917 г., см.: Кашин Н. П. Исторический очерк управления Малого театра, ч. V // Московский Малый театр. 1824 – 1924. М., 1924.; Советский театр: Документы и материалы: Русский советский театр. 1917 – 1921. Л., 1968; Дмитриев Ю. А. Академический Малый театр. 1917 – 1941. М., 1984.
70 Правдин Осип Андреевич (наст. имя и фам. Оскар Августович Трейлебен; 1849 – 1921) — артист Малого театра с 1878 по 1921 г. С 1 августа 1917 г. утвержден товарищем комиссара Временного правительства по московским государственным театрам и управляющим труппой Малого театра.
71 7 ноября 1917 г. общее собрание работников Малого театра выдвинуло принцип полного самоуправления, на основе которого Временная организационная комиссия под председательством Южина занялась разработкой нового Устава театра. 13 мая 1918 г. А. В. Луначарский утвердил «Временное положение», закрепляющее за Малым театром право на автономию управления в лице избираемых Совета (состоящего из пятнадцати работников театра и трех человек, делегируемых Наркомпросом) и Правления (в составе трех человек). Председателем Совета был избран Южин, членами Правления — И. С. Платон, П. М. Садовский, И. А. Рыжов, вскоре замененный С. А. Головиным.
О том, как непросто шел этот процесс, явствует из письма Е. К. Малиновской к Луначарскому начала 1918 г., в котором она, в частности, сообщала:
«Малый (драматический) театр встретил нас сдержанно-приветливо. В нем два течения: крайнее правое с Южиным во главе и крайнее левое — Правдин и сравнительно молодые артисты.
Центр безразлично относится ко всему, кроме контрактов. С левой я весь год была в лучших отношениях. Все они, однако, относясь хорошо ко мне, очень недоверчиво относились к большевистской власти.
Нам было заявлено весьма в ультимативной форме следующее: они восемь месяцев работали и выработали статут, кот[орый] в ближайшее время представят нам на рассмотрение. Мы примем его — они останутся, не примем — уйдут все.
Легко удалось доказать, что ультиматум неуместен» (цит. по: Советский театр… С. 39).
72 Жихарева Елизавета Тимофеевна (1875 – 1967) — драматическая актриса, с 1915 по 1918 г. — в Малом театре.
73 Написано на почтовой карточке.
74 17 апреля 1917 г. Теляковский записал в дневнике: «Не стоило делать революцию и говорить об автономии театров, чтобы дойти до назначения Правдина управляющим труппой. При самом реакционном казенном театре до этого бы не додумались. Единственная заслуга Правдина — старость, рутина, иностранное происхождение и многими годами доказанная бездарность, кроме того, капризный, мелочный характер; противник всего нового — вот что из себя представляет О. А. Правдин. Если Южин не человек современных требований, то Правдин гораздо ниже его во всех отношениях».
75 Письмо Федотовой от 10/23 июля 1918 г. хранится в СПб ГМТиМИ (фонд Теляковского, гик 12672/2, ору 12303).
«Глубокочтимый, дорогой Владимир Аркадьевич!
Поздравляю Вас с днем Ангела, многоуважаемую Гурли Логиновну с дорогим именинником. Да защитит Вас Ваш Ангел хранитель от всех бед, напастий и грядущих ужасов!
Много убийств на их душе, но последнее до того возмутительно, тяжело, горько, больно. До сих пор не могу опомниться и не вполне верю. А если это правда, невыносимо жаль покойного Государя! Когда же Господь покарает этих извергов!
523 В мае писала Вам, не знаю, дошло ли мое письмо, в подтверждение посылаю квитанцию. Неужели Вы не бываете и никогда не будете в Москве? Это очень грустно: так бы хотелось с Вами побеседовать, сказать очень много хочется, а описать всех своих дум и мыслей не сумеешь.
Сердечный привет Гурли Логиновне.
Любящая вас Гликерия Федотова».
Теляковская Гурли Логиновна (урожд. Миллер, по первому мужу баронесса Фелейзен; 1852 – 1922) — жена Теляковского.
76 Письмо написано на бланке Председателя Совета государственного Малого театра, дата проставлена на штампе бланка.
77 Премьера драмы А. К. Толстого «Посадник» в постановке А. А. Санина, с Южиным в роли Глеба Мироновича состоялась 22 октября 1918 г.; мольеровского спектакля в постановке С. В. Айдарова — 19 декабря 1918 г.; «Старика» Горького в постановке И. С. Платона — 1 января 1919 г.
78 Луначарский Анатолий Васильевич (1875 – 1933) — драматург, критик, в 1917 – 1929 гг. — нарком просвещения.
79 В сезон 1918/19 г. в окраинных районах Москвы Малый театр по инициативе Правдина начал давать спектакли (иногда старые, но в облегченном оформлении, иногда новые специальные постановки), в которых участвовали лучшие актерские силы театра.
80 Малиновская Елена Константиновна (1875 – 1942) — общественный и театральный деятель, с 1918 г. — управляющая московскими государственными, с 1920 г. — академическими театрами, одновременно в 1919 – 1920 гг. — член директории, в 1920 – 1924 и 1930 – 1935 гг. — директор Большого театра.
81 Имеется в виду письмо Федотовой от 28 декабря 1918 г. (№ 750):
«Глубокочтимый, дорогой Владимир Аркадьевич!
В течение многих лет я привыкла посылать Вам хоть несколько слов к Новому году, но сейчас я решительно затрудняюсь, с чем же поздравлять. Если будущий год будет таким же страдным, каким был прошлый, я не нахожу возможным поздравлять.
Тем не менее прошу Гурли Логиновну и Вас принять мой сердечный привет и мою бесконечную привязанность. Всегда вспоминаю о Вас с теплым благодарным чувством.
А теперь примите мою жалобу: за что я обречена на такую долгую ужасную жизнь и должна переносить холод и голод? Не лишайте меня Ваших прекрасных писем, которые я всегда с таким интересом жду и читаю.
Сердечно преданная и любящая Гликерия Федотова».
82 Обухов Сергей Трофимович (1856 – 1928/9) — офицер, пытался начать карьеру оперного певца при поддержке Теляковского, принявшего его в труппу Большого театра, где он пел (под фамилией Волынский) с 1899 по 1902 г. В 1903 г. занял пост заведующего монтировочной частью Московских Императорских театров, с 1910 по 1917 г. был управляющим Московской конторой Императорских театров.
83 Дата проставлена карандашом, возможно, Теляковским.
Письмо вернулось к Южину из-за ошибки в адресе, он вторично отослал его 2 мая, сделав следующую приписку:
«В общем на театре отзывается общее расстройство жизни: оно кладет свой отпечаток и на труппу, и на репертуар. Пьес новых, мало-мальски интересных — ни одной, и будущий сезон предполагаю заполнить исключительно классическими: “Ревизором”, который у нас не шел после Вас, “Ричардом III”, “Самозванцем” Островского, “Марией Стюарт”, “Фигаро”, “На всякого мудреца”… По крайней мере, здоровая пища».
524 Из перечисленных Южиным названий были поставлены: «Ревизор» Н. В. Гоголя (24 сентября 1919 г., режиссер И. С. Платон), «Король Ричард III» У. Шекспира (19 января 1920 г., режиссеры А. А. Санин и Н. О. Волконский), «Женитьба Фигаро» Бомарше (18 апреля 1920 г., режиссер И. С. Платон) и «Мария Стюарт» Ф. Шиллера (4 марта 1922 г., режиссеры А. А. Санин и И. С. Платон).
84 «Измена» — пьеса Сумбатова-Южина, опубликованная в 1900 г. и поставленная в Малом театре в 1903 г., в Александринском — в 1906-м.
85 Южин имеет в виду Постановление Наркомпроса о реорганизации управления государственными театрами и учреждении в театрах директории, принятое не позднее конца февраля 1919 г.
27 – 28 февраля 1919 г. состоялось общее собрание работников Малого театра, на котором были приняты «Основные положения Государственного Московского Малого театра», выработанные комиссией в составе Южина, Правдина и Головина и утвержденные Луначарским 25 марта. По этому документу все пять директоров выбирались; слово «директория» было заменено на «дирекцию» (см.: Основные положения Государственного Московского Малого театра. М., 1919).
86 Садовский Пров Михайлович (1874 – 1947) — артист Малого театра с 1895 по 1947 г., в 1919 г. избран заведующим художественной частью театра.
87 Головин Сергей Аркадьевич (1879 – 1941) — артист Малого театра с 1902 г., в 1919 г. избран заведующим административно-хозяйственной частью театра.
88 Платон Иван Степанович (1870 – 1935) — артист Малого театра с 1892 по 1899 г., режиссер с 1899 по 1935 г., в 1919 г. избран заведующим финансово-счетной частью театра.
89 Остужев (наст. фам. Пожаров) Александр Александрович (1874 – 1953) — артист Малого театра с 1898 по 1953 г., кроме сезона 1902/03 г., в 1919 г. избран рабочими и служащими заведующим по хозяйственной части театра.
90 Ермолова Мария Николаевна (1853 – 1928) — артистка Малого театра с 1871 по 1921 г.
91 Алексеева Клавдия Ивановна (1876 – 1963) — артистка Малого театра с 1898 г.
92 Яковлев Николай Капитонович (1869 – 1950) — артист Малого театра с 1893 по 1950 г.
93 Лешковская Елена Константиновна (1864 – 1925) — артистка Малого театра с 1888 по 1925 г.
94 Лёвшина (урожд. Чулкова) Анастасия Александровна (1870/72 – 1958) — артистка Малого театра с 1904 по 1922 г.
95 См. примеч. к письму 6. [В электронной версии — 83]
96 Речь идет о письме Федотовой от 5/18 апреля 1919 г. (№ 751):
«Глубокочтимый, дорогой Владимир Аркадьевич,
Давно собираюсь Вам написать, но когда вспомню о Вашем бедственном положении, почувствую такую острую жалость и не нахожу слов. За что, за что мы все это терпим. Очевидно, конца мы не дождемся. Но да будет Его святая воля!
Поздравляю Гурли Логиновну и Вас с наступающим Светлым Праздником, хотя он и не будет для нас таким светлым и радостным, каким мы привыкли встречать и проводить многие годы этот великий из праздников праздник.
Конечно, Вы такой мудрый, Вы умеете мириться со всеми тяжелыми обстоятельствами, что я вижу по Вашим письмам, но не может быть, чтобы и Вы наконец не замучились от этих современных событий.
Дорогой Владимир Аркадьевич, у меня к Вам есть просьба. У меня много Ваших хороших, интересных, мудрых писем, не разрешите ли Вы отдать их в Музей Академии наук, о чем у меня очень ходатайствует Бахрушин. Без Вашего разрешения я этого сделать не посмела. Если же Вы позволите, то я выберу, конечно, самые интересные, хотя они и все на редкость хороши.
Современные события стали так тяжело отзываться на некоторых, что многие психически заболевают. А на меня Господь прогневался: я все еще живу, о чем ужасно грушу.
525 Как переживает все это дорогая Гурли Логиновна? Ведь Вы оба должны страдать не столько за себя, как за Ваше молодое поколение.
Я начала продавать мои подношения, только это и дает возможность покупать картошку по 10 рублей фунт, а пуд муки 1200 рублей — этого и не укупишь.
Простите, что пишу Вам такие неинтересные сообщения, но большинство теперь только этим и занято.
Буду с нетерпением ожидать весточки, как Вы живете. А теперь шлю Гурли Логиновне и Вам мой сердечный привет и всегда буду с любовью вспоминать вас обоих.
Бесконечно преданная Гликерия Федотова».
На просьбу Федотовой о передаче писем Бахрушину Теляковский ответил согласием, но по неизвестной причине передача эта не состоялась. 30 августа 1924 г. Федотова в письме к Теляковскому сокрушалась: «Мне не хочется, чтобы после моей смерти остались Ваши мудрые, трогательные и прекрасные письма. Сжечь их жалко и потому решила отослать их Вам» (№ 768).
97 Вероятно, Южин имеет в виду Декрет Совнаркома об объединении театрального дела от 26 августа 1919 г. (см. о нем: Советский театр… С. 26 – 28).
98 Стахович Алексей Александрович (1856 – 1919) — адъютант московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, пайщик, член правления, актер Московского Художественного театра. 13 марта 1919 г. покончил жизнь самоубийством. Миша — его брат, Стахович Михаил Александрович (1861 – 1923), предводитель дворянства Орловской губернии, публицист.
99 Волконский Сергей Михайлович, князь (1860 – 1937) — актер-любитель, теоретик театрального искусства, директор Императорских театров с 1899 по 1901 г. В апреле 1919 г. был назначен в состав директории Государственного Большого театра, возглавляемой Вл. И. Немировичем-Данченко. 21 июля подал заявление о выходе из состава директории. Драматические курсы при Малом театре вновь открылись в октябре 1918 г. До своего отъезда из России в сентябре 1921 г. Волконский читал лекции о театральном искусстве в различных учреждениях (см.: Волконский С. Мои воспоминания: В 2 т. М., 1992. Т. 2. Родина).
100 Письмо написано на бланке Театрального отдела Наркомпроса. Дата проставлена на штампе бланка.
101 В письме от 10/23 июля 1919 г. (№ 752) Федотова, в частности, писала:
«<…>Пожалейте Вы меня, милый Владимир Аркадьевич: еле дышу, слаба, худа, страшна — не узнали бы — а все еще живу. Временами нападает такая смертельная тоска, что ждешь единственного утешения — смерти.
Люди все изменились — ни говорить, ни рассуждать ни с кем, ни о чем нельзя, кроме еды, да оно и понятно, когда у всех весь интерес сосредоточен на пропитании, а средств никаких хватить не может <…>»
102 Шлоссер (Schlosser) Фридрих Кристоф (1776 – 1861) — немецкий либеральный философ, автор «Всемирной истории» в 19-ти томах.
103 12 февраля 1920 г. исполнилось 50 лет сценической деятельности М. Н. Ермоловой. Торжественный спектакль по этому случаю состоялся 2 мая. С участием юбилярши шел 3-й акт «Марии Стюарт» Шиллера.
104 526 Основной целью приездов Теляковского в Москву в августе и октябре 1919 г. была продажа ценных вещей и покупка продуктов, в чем ему помогала жена Южина Мария Николаевна (урожд. Корф; 1860 – 1938). Останавливался он у Южиных: «Многоречив не буду, скажу только, что чувствовал себя у Вас, как в родной семье, и никогда не забуду Вашего ко мне сердечного отношения», — признавался он по возвращении в Петроград 13 августа 1919 г. В свою очередь Южин на следующий день писал: «Мы все с огромным удовольствием вспоминаем наши беседы, Ваши рассказы, воспоминания, а для меня несколько дней, проведенных с Вами, были настоящим моральным отдыхом от… от всего, с чем приходится сейчас жить и сталкиваться» (№ 891).
105 Гоц Яков Максимович — секретарь главного комиссара Народного банка.
106 Речь идет о дневниках, которые Теляковский вел с момента поступления на службу в Императорские театры до своей отставки (первая запись сделана 13 октября 1898 г., последняя — 8 июня 1917 г.) — всего 50 рукописных переплетенных тетрадей, хранящихся в данное время в фонде Теляковского в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. Первые десять тетрадей, содержащие записи 1898 – 1903 гг., опубликованы издательством «Артист. Режиссер. Театр» в двух книгах: Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров. 1898 – 1901. Москва. М., 1998 и Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров. 1901 – 1903. Санкт-Петербург. М., 2002.
4 марта 1917 г. Теляковский записал в дневнике: «Сегодня утром меня кто-то вызвал к телефону и очень грубым голосом на “ты” мне объявил, что через несколько времени ко мне явится, чтобы меня опять арестовать вместе с моим дневником. Я думаю, что это угроза и провокация кого-нибудь из артистов или служащих, знавших, что я каждый день записываю. Тем не менее я сообщил об этом комиссару, который мне посоветовал дневник опечатать и приложить его письмо, запрещающее кому бы то ни было трогать дневник и бумаги, мне принадлежащие».
Недостаток сведений не позволяет точно проследить последовательность событий, но по отдельным фактам можно предположить одно из двух: либо, еще более обеспокоенный судьбой дневников после октябрьских событий, Теляковский срочно переправил их в Москву, либо они по неизвестным причинам попали туда ранее (причем не все — 10 первых тетрадей остались у Теляковского в Петрограде). В Москве же К. А. Коровин, пользовавшийся безусловным доверием Теляковского, поместил их для сохранности в сейф, арендованный в банке «Лионский кредит».
На заседании ЦИК 14 декабря 1917 г. был принят декрет «О ревизии стальных ящиков в банках», согласно которому владельцы ящиков-сейфов должны были явиться в трехдневный срок с ключами; не явившихся же грозили объявить «злонамеренно уклонившимися лицами», сейфы вскрыть и хранящееся в них имущество конфисковать Государственным народным банком «в собственность народа».
Коровин в этот момент лечился в Ялте, присланные им в Москву доверенность на имя Теляковского и ключ от сейфа попали к С. Т. Обухову, который ключ потерял. Как явствует из данного письма, попытки Теляковского получить содержимое сейфа оказались тщетными. Очередные хлопоты были вызваны новым декретом Совнаркома от 15 апреля 1920 г. «О прекращении выдачи ценностей из сейфов бывшего Народного банка и из ссудных касс» (в связи с упразднением Народного банка). В августе была образована Сейфовая комиссия (Бюро по сейфам).
107 21 апреля Теляковский подал на имя Я. М. Гоца в Бюро по сейфам следующее заявление:
527 «Подано 21 апреля 1920 г.
Москва
В Бюро по сейфам
(Якову Максимовичу Гоцу)
Финансового инспектора ж. д. отд.
Народного банка
Владимира Аркадьевича Теляковского,
проживающего Петроград Улица Красных Зорь
(Каменноостровский проспект) д. 73 кв. 34
Заявление
В ноябре 1919 года мною подано было заявление И. А. Позерну по поводу сейфа № 471, находящегося в Банке Лионского Кредита в Москве. Не получая до сих пор ответа, обращаюсь с вторичным заявлением, прилагая копию первого заявления.
“В 1917 году художник Константин Алексеевич Коровин по моей просьбе арендовал в Банке Лионского Кредита в Москве ящик сейф № 471 на свое имя, чтобы спрятать оставшиеся у меня в Москве записки, рукописи и газетные вырезки по театру. В прошлом году ключ от этого ящика сейфа был утерян. В настоящее время вследствие объявления об обязательном очищении ящиков сейфов их владельцами — прошу в случае взлома упомянутого ящика сейфа № 471 меня уведомить о времени взлома, дабы я мог прибыть в Москву и получить упомянутые записки по Театру. При этом присовокупляю, что никаких ценностей в ящике № 471, кроме упомянутых записок, не находится, и я имею засвидетельствованную доверенность от К. А. Коровина на право выемки содержимого из ящика № 471. О времени, назначенном для взлома ящика сейфа, прошу меня уведомить заблаговременно по месту моего жительства — Петроград Улица Красных Зорь (Каменноостровский проспект) д. 73/75 кв. 34 Владимир Аркадьевич Теляковский, финансовый инспектор ж[елезно-]дор[ожного] отдел[ения] Народного банка при Николаевской ж[елезной] дор[оге].
В. Теляковский”
Все вышеизложенное вторично повторяю с просьбой поставить меня в известность относительно времени и возможности получить содержимое в ящике № 471.
21 апреля 1920 г. Москва
В. Теляковский»
(Заявление печатается по черновику, находящемуся в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, ф. 280, № 1132).
108 Федор Иванович — Шаляпин.
109 Мария Федоровна — Андреева (наст. фам. Юрковская, по мужу Желябужская) Мария Федоровна (1868 – 1953) — драматическая актриса; с 1918 г. — комиссар Петроградских театров, с 1919 по 1921 г. — заведующая отделом театров и зрелищ Комитета просвещения Союза коммун Северной области.
110 Письмо написано на внутренней стороне складного конверта.
111 Теляковский частично пересказывает, частично цитирует следующее высказывание А. С. Пушкина из статьи 1830 г. <О втором томе «Истории русского народа» Полевого>:
528 «Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада. — Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном, и события жизни человеч<ества> были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра. Ум ч<еловеческий>, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., 1949. Т. 11. С. 127).
112 Свои воспоминания о театре Теляковский писал на основании дневников, но избирая более высокую точку зрения — давая взгляд на сезон в целом и выделяя в нем наиболее значительные события. Он довел эту работу до 1910 г. Рукопись объемом более 4500 страниц (большая часть из них — на бланках Народного банка) хранится в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина под названием «Мемуары» (ф. 280, № 1327 – 1339). Уже после смерти Теляковского Е. М. Кузнецов обработал и издал фрагмент рукописи, озаглавив его «Императорские театры и 1905 год» (Л., 1926).
113 Ежегодник — «Ежегодник Императорских театров», издание дирекции Императорских театров, содержащее разнообразные сведения о деятельности всех петербургских и московских Императорских театров за сезон.
114 1 мая 1920 г. комиссия московского Совдепа осмотрела здание Малого театра и признала неотложной необходимостью приступить к ремонту закулисных и служебных помещений. Предполагалось произвести его до начала сезона.
115 МОНО — Московский отдел народного образования; ТЕО — Театральный отдел Нарком проса.
116 С 9 по 11 мая 1900 г. в Ярославле проходили торжества, посвященные созданию русского профессионального театра. Теляковский присутствовал на них как управляющий Московскими Императорскими театрами; Южин в своей речи говорил о великих людях, которых дала русскому театру Волга, и в первую очередь о Ф. Г. Волкове.
117 В Петербурге в состав Императорских театров входили четыре труппы: оперная, балетная, драматическая и французская; в Москве — три: оперная, балетная и драматическая.
118 Письмо написано на бланке Председателя Дирекции государственного московского Малого театра. Дата проставлена на штампе бланка.
119 Декрет Совнаркома «О прекращении выдачи ценностей из сейфов бывшего Народного банка и из ссудных касс» от 15 апреля 1920 г.
120 Описание этого эпизода см. в кн.: «Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров. 1901 – 1903. Санкт-Петербург». М., 2002. С. 16 – 17.
121 Всеволожский Иван Александрович (1835 – 1909) — директор Императорских театров с 1881 по 1899 г., дядя С. М. Волконского, сменившего его на этом посту.
122 529 Альский А. О. (1892 – 1939) — заместитель наркома финансов РСФСР в 1921 – 1927 гг.
123 Письмо написано на внутренней стороне складного конверта, край которого с окончанием письма оборван.
124 Ошибка Теляковского — он имеет в виду письмо от 15 января.
125 Малый театр открылся после ремонта 5 апреля. 27 апреля 1921 г. Южин писал Теляковскому: «<…> Не могу, по старой привычке, не поделиться с Вами одним отрадным со общением: удалось в 1-ую неделю дать следующий репертуар в Малом театре. 5 апреля — Грибоедов (“Горе от ума”), 6 апреля — Лопе де Вега (“Собака садовника”), 7-го — А. Толстой (“Посадник”), 8-го — Бомарше (“Женитьба Фигаро”), 9-го — Гоголь (“Ревизор”), 10-го — Шекспир (“Король Ричард III”) <…>»
126 С этого сезона Теляковский занял пост директора Императорских театров и переехал в Петербург.
127 Имеется в виду письмо Федотовой от 11/24 июля 1921 г. (№ 756).
128 Письмо является ответом на письмо Южина, которое тот начал писать 27 декабря и лишь 5 января передал с ехавшей в Петроград Евдокией Дмитриевной Турчаниновой (1870 – 1963; артистка Малого театра с 1891 по 1959 г.). В нем Южин в основном рассказывал, как он решает финансовую проблему содержания труппы.
129 В коротком письме от 5 апреля 1922 г. (№ 869), спешно посланном с оказией, Южин поздравлял Теляковского с наступающей Пасхой, прибавляя: «Как бы хотелось, чтобы те пожелания, которые так и просятся на язык, осуществились хоть отчасти. Неужели так и будем жить дальше, как жили до сих пор, точно задавленные обрушившейся шахтой?»
130 Кони Анатолий Федорович (1844 – 1927) — юрист, общественный деятель, писатель.
131 Южин сыграл Отелло в начале 1890-х гг. в провинции; на сцене Малого театра впервые в этой роли выступил 24 января 1908 г. в бенефис за 25-летнюю службу.
132 «Цепи» — драма Сумбатова-Южина, опубликованная в 1888 г., поставленная в том же году в Малом театре и в 1890-м — в Александринском.
133 Южин служил в Малом театре актером с 1882 г.; входил в Репертуарный совет, учрежденный в 1901 г., нередко председательствуя в нем; с введением в 1900 г. очередного режиссерства выступал в качестве постановщика спектаклей; состоял членом Театрально-литературного комитета с 1899 по 1913 г.; в 1909 г. занял пост управляющего труппой.
134 530 Южин имеет в виду свое письмо к Теляковскому от 19 сентября 1922 г. (№ 898). В нем он благодарил его за поздравление с юбилеем: «Ваше письмо было для меня одним из самых отрадных, самых дорогих в день, когда я подводил свои итоги. Глубоко и искренне благодарю Вас за него. Это мой лучший аттестат».
135 29 октября 1922 г. от воспаления легких умерла Г. Л. Теляковская.
Теляковский, сообщая об этом Федотовой, писал 5 марта 1923 г. (№ 473):
«<…> Зная нас обоих, Вы можете себе представить, что я потерял <…> у Гурли Логиновны было для многих немало недостатков, но дело в том, что для меня особенно ценны были именно те черты ее характера, которые принято называть недостатками <…> Она, например, не была, что называется, доброй, приветливой женщиной, но была чиста, глубоко чиста и для нее существовало одно главное, это беспредельная любовь ко мне. Длилось это с 1880 года до последней минуты ее жизни <…> Гурли Логиновна для меня была не только единственная любимая мною женщина, но она была мне матерью в молодости, женщиной в зрелом возрасте, товарищем и неизменным спутником-другом всю жизнь. Первый раз я ее увидел, когда мне было 13 лет, а ей 23. Второй раз, когда ей было 30 лет, а мне 20. Третий раз, когда ей было 33, а мне 23 — и этот третий раз определил все, т. е. и она, и я поняли, что никогда мы уже расстаться не можем. Но так как она была замужем, имела 3-х детей, а я был мальчишка, то будущность была совершенно неизвестна. Ни она, ни я, по нашим взглядам, не нарушили бы семейных уз <…> Чем все должно было кончиться, ни она, ни я даже не задавали себе вопроса. Ясно было одно, что пока мы живы — мы должны друг друга видеть и, если это возможно, больше ничего и не надо. Судьба над нами сжалилась. В 1889 году она овдовела, материально была разорена и вместе со мной пережила все последствия перемены обстановки и людских отношений. Я сам средствами никогда не обладал. Но ни ей, ни мне ничего и не нужно было — раз у нас была настоящая любовь. Все это кажется сентиментальным и из романов. Но, уверяю Вас, что бывает и в настоящей жизни <…>»
136 Княжна Софья Андреевна Гагарина была дочерью княгини М. Д. Гагариной — сестры друга Теляковского князя Н. Д. Оболенского.
137 Добужинский Мстислав Валерианович (1875 – 1957) — живописец, график, театральный художник.
138 Экскузович Иван Васильевич (1882 – 1942) — театральный деятель, с 1918 г. — управляющий петроградскими государственными театрами, в 1924 – 1928 гг. — управляющий государственными академическими театрами Москвы и Ленинграда.
139 О приглашении Теляковского к сотрудничеству с государственными академическими театрами сообщила «Петроградская правда» 18 февраля 1923 г.: «Бывший директор императорских театров назначается заведующим организационно-хозяйственной частью актеров».
140 Статья Теляковского о Вс. Э. Мейерхольде была помещена в журнале «Жизнь искусства», 1923, № 14.
141 Дарский (наст. фам. Псаров) Михаил Егорович (1865 – 1930) — артист, режиссер. Теляковский, зная Дарского по его работе в Ярославле (1900/01), куда тот приехал после сезона в Московском Художественном театре (1898/99), пригласил его в качестве режиссера и актера в Александринский театр, где Дарский проработал с 1902 по 1924 г.
142 В этот день отмечалось 25-летие творческой деятельности Вс. Э. Мейерхольда.
143 Головин Александр Яковлевич (1863 – 1930) — живописец, график, театральный художник, с 1900 г. привлеченный Теляковским к работе в Императорских театрах.
144 То есть в пенсионеры.
145 531 Балашова Александра Михайловна (1887 – 1979) — артистка балетной труппы Большого театра с 1905 по 1921 г. В 1909 и 1914 гг. гастролировала в Лондоне, с 1921 г. жила и работала в Париже.
146 Шаляпин покинул Россию 29 июня 1922 г.
147 16 января 1923 г. в Малый театр был назначен директором-распорядителем М. О. Скороходов, попытавшийся противопоставить молодежь основному составу и настроить ее против Южина.
148 Премьера «Снегурочки» А. Н. Островского состоялась 21 декабря 1922 г. (реж. П. М. Садовский и Ф. Н. Каверин), «Недоросля» Д. И. Фонвизина — 23 марта 1923 г. (реж. Н. О. Волконский).
149 По возвращении Южина, 12 марта 1923 г. труппа обратилась к нему с письмом, выражающим возмущение действиями Скороходова и подтверждающим ее доверие Южину. Скороходов из театра был удален.
150 24 марта 1923 г. Президиум коллегии Наркомпроса принял «Положение об управлении государственными театрами», согласно которому все академические театры поступали в ведение Управления государственными театрами, назначавшего в каждый из них директора, утверждаемого Наркомпросом.
151 Речь идет об актере Михаиле Александровиче Чехове (1891 – 1955).
152 «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка был выпущен Мейерхольдом 25 апреля 1922 г. (Театр Актера. Вольная мастерская Вс. Мейерхольда при Государственных высших театральных мастерских), «Земля дыбом» С. Третьякова по М. Мартине — 4 марта 1923 г. (Театр им. Вс. Мейерхольда).
153 В конце 1922 г. в качестве подготовки к денежной реформе был проведен 1-й этап деноминации, в результате чего установилась система параллельного обращения двух валют: червонца (на 25 % обеспеченного золотом) — устойчивой валюты и совзнака — падающей валюты. Денежная реформа была завершена в 1924 г.
154 Кубацкий Виктор Львович (1891 – 1970) — виолончелист, солист оркестра Большого театра с 1914 г., в 1917 – 1923 гг. — заведующий музыкальной частью театра; Лосский Владимир Аполлонович (1874 – 1946) — певец, оперный режиссер и педагог, заведующий оперной труппой Большого театра.
155 Письмо гласило:
«Собрание корпорации артистов Государственного Академического Московского Малого театра от 19 апреля 1923 года постановило:
Ввиду неоднократных заявлений А. И. Южина о колебаниях с его стороны в вопросе принятия на себя дальнейшего руководства по управлению жизни Малого театра корпорация артистов Малого театра считает необходимым просить А. И. Южина не отказываться от дальнейшего управления театром и со своей стороны приложит все усилия к тому, чтобы всемерно облегчить Александру Ивановичу все те тяготы, с которыми связаны управление и реорганизация Малого театра».
Письмо отпечатано на машинке, под ним — подписи 51 члена труппы театра.
Во втором письме (также в машинописном виде с рукописной припиской: «Это письмо мы предназначаем только для Вас, Александр Иванович, т. к. оно составлено наспех и, конечно, по форме нуждается в обработке») сформулированы пожелания труппы по трем основным вопросам:
«I. Тяжелое экономическое положение Малого театра в настоящем и необходимость тех или иных мер к его облегчению в будущем.
II. Необходимость использования столетнего юбилея Малого театра как благоприятного фактора для возбуждения перед Правительством настойчивых представлений о создании нормальных экономических условий для жизни и развития этого великого национального театра.
532 III. Расширение идеологического влияния Малого театра как театрального направления и задачи театра по воспитанию и подготовке молодежи».
Далее эти положения развиваются подробнее. Письмо также подписано большим числом артистов театра (РГАЛИ. Ф. 878. Оп 1. Ед. хр. 124).
156 Письмо написано на бланке директора государственных театров.
157 Комиссаржевский Федор Федорович (1882 – 1954) — режиссер, педагог, художник, театральный писатель и переводчик. Придя в 1913 г. в Малый театр, поставил там лишь два спектакля, причем, если «Огненное кольцо» С. Л. Полякова шло на протяжение трех сезонов (1913 – 1915), то «Лекарь поневоле» Мольера, готовившийся для спектакля в память М. С. Щепкина, был из этого спектакля исключен по настоянию Южина, назвавшего его «дрянным искусством», но при этом заметившего: «… из Ком[иссаржевского] может быть, в твердых руках, без покровительства высших чинов, толковый режиссер» (Сумбатов-Южин А. И. Записи. Статьи. Письма. С. 163).
158 Броневский (Боянус) Семен Карлович — артист Александринского театра с 1901 по 1905 г., педагог, режиссер, театральный писатель. Проработал в Малом театре два сезона (1910 – 1912), поставив «Пир жизни» С. Пшибышевского и «На полпути» А. Пинеро.
159 Е. Н. Рощину-Инсарову в 1911 г. Теляковский вопреки желанию Южина пригласил в Малый театр; в 1913 г. она была переведена в труппу Александринского театра.
160 Саничка — Яблочкина Александра Александровна (1866 – 1964) — артистка Малого театра с 1888 по 1964 г.
161 Теляковский обыгрывает значения французских артиклей: неопределенного (un) и определенного (le).
162 Стоит сравнить эти сетования Южина с его словами полуторагодовалой давности: «<…> наш театр, пожалуй, наименее других отличается от прежних порядков. Кстати, у нас одних управление (Дирекция) пока бессменно выборная, а не назначенная, и к нам мало вмешиваются многочисленные профессиональные органы союзов и бесчисленных Тео <…>» (из письма Теляковскому от 27 декабря 1921 г. – 5 января 1922 г., № 896).
163 Никулина Надежда Алексеевна (1845 – 1923) — артистка Малого театра с 1861 по 1914 г.
164 Над письмом карандашом приписано: «Большое спасибо за последнее письмо».
165 Мейерхольд находился в Германии.
166 В своем заявлении на имя наркома просвещения Луначарского Теляковский писал:
«Ввиду сорокасемилетней службы моей, из которой почти половину я посвятил б. Императорским театрам, в которых 3 года был Управляющим Московскими, а 16 лет Директором всех казенных театров, а затем 5 лет до весны сего года состоял на Советской службе — я решаюсь обратиться к Вам с убедительною просьбой оказать Вашу поддержку моему ходатайству перед Наркомсобесом о назначении мне персональной пенсии.
533 Основанием моего обращения к Вам, тов. Народный Комиссар, является то обстоятельство, что я усиленно занят теперь работой над моей книгой по истории б. Императорских театров по данным моего дневника, который я в течение 20 лет вел и который, как меня уведомил А. И. Южин, я получил исключительно благодаря Вашему разрешению — за что и приношу, пользуясь случаем, мою глубокую признательность.
Мне 65 лет. Это 25-летний труд, три тома коего, т. е. около половины, почти закончены, работа эта отнимает у меня все время и силы, и при моем возрасте я уже не в силах одновременно нести какую-нибудь службу, а средств к жизни у меня нет, ибо всю жизнь я жил исключительно службой.
Вот почему я позволяю себе Вас беспокоить и просить возбуждаемое мною перед Наркомсобесом ходатайство о назначении мне персональной пенсии поддержать, приложив эту поддержку к подаваемому мною прошению в Наркомсобес» (ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, ф. 280, № 1245. Черновой автограф).
167 Красовская Ирина Владимировна (1896 – конец 1950-х) после окончания Сельскохозяйственного института была оставлена в нем на работе.
168 Посников Петр Павлович — управляющий финансово-хозяйственной частью Малого театра.
169 Уведомляя Теляковского 18 ноября 1923 г. (№ 907) о благополучном исходе пенсионных хлопот, Южин заметил: «С Мейерхольдом я встретился на заседании Театрального Совета еще в 1-й половине октября, когда дело еще не рассматривалось. Он с большой готовностью обещал поддержать своей бумагой, но обещание осталось обещанием <…>»
170 Телеграмма в архиве Теляковского не обнаружена.
171 Теляковский Аркадий Захарович (1806 – 1891) — военный инженер, генерал-лейтенант; участвовал в русско-турецкой войне в 1828 – 1829 гг.; преподавал курс фортификации в казенных военных учебных заведениях; написал первый в России труд «Фортификация», удостоенный Демидовской премии и переведенный на иностранные языки.
В фонде Теляковского хранится его неопубликованная рукопись, озаглавленная «Моя биография и несколько слов о современном обществе и театре» (№ 1548). В ней он, в частности, сообщает: «Отца своего я знал лишь в преклонном возрасте, ибо родился я, когда ему было около 60 лет от роду и когда он уже бросил службу», и далее подробно описывает, как и почему отец вышел в отставку.
Тотлебен Эдуард Иванович, граф (1818 – 1884) — военный инженер и военачальник; Милютин Дмитрий Алексеевич, граф (1816 – 1912) — генерал-фельдмаршал, военный министр с 1861 по 1881 г.
172 Очерк «Балетоманы. Из прошлого петербургского балета» впервые был напечатан в театральном альманахе «Арена» (Пг., 1924), перепечатан в кн.: Теляковский В. А. Воспоминания. Л.; М., 1965.
173 «Воспоминания. 1898 – 1917» вышли в январе 1924 г. в петербургском издательстве «Время» тиражом 3000 экземпляров; переизданы в 1965 г. (Л.; М.: Искусство) с включением других мемуарных произведений Теляковского.
174 О взаимоотношениях с премьерами Александринского театра: Марией Гавриловной Савиной (урожд. Подраменцева-Стремлянова; 1854 – 1915) и Владимиром Николаевичем Давыдовым (наст. имя и фам. Иван Николаевич Горелов; 1849 – 1925), а также прима-балериной 534 Мариинского театра Матильдой (Марией) Феликсовной Кшесинской (1872 – 1971), см.: Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров. 1901 – 1903. Санкт-Петербург. М., 2002.
175 Оттиск статьи «Балетоманы» с дарственной авторской надписью Теляковского в архиве Южина не найден.
176 Утверждая, что «через лазейку балетоманства обделывались крупные дела», Теляковский замечает: «Недаром еще в давние времена именно танцами добивались своего Саломеи…» (Балетоманы: Из прошлого петербургского балета // Теляковский В. А. Воспоминания. Л.; М., 1965. С. 421).
177 Письмо дошло до Южина позже, так как Кузнецов, с которым оно было послано, не смог с ним встретиться.
178 Кузнецов Евгений Михайлович (1900 – 1958) — театральный критик и театровед, впоследствии специализировался в области эстрады, цирка и массовых зрелищ. Посвященный, как видно из этого письма, в литературные планы Теляковского, он, уже после смерти последнего, выпустил в издательстве «Academia» две книги: «Императорские театры и 1905 год» (Л., 1926) и «Мой сослуживец Шаляпин» (Л., 1927), составив их из разных фрагментов мемуарных текстов Теляковского.
179 В петроградском еженедельнике «Театр» Теляковский опубликовал следующие очерки: «Дипломатическая интрига» (1923, № 10), «Воспоминания о закулисной жизни императорских театров» (1923, № 9, 13), «Двенадцать спящих дев» (1924, № 5 – 6), «То, чего публика не знает» (1924, № 14). Печатался он и в журналах «Жизнь искусства» и «Зрелища».
180 В тексте «Воспоминаний» эта фраза выглядит так: «И если мой ум, интересы и новые искания были в Петербурге, в Александринском театре, более податливом и гибком на все новое, то сердце застряло в московском Малом — этом необыкновенно красивом, благородном, убеленном сединами старце, все еще стоящем в ожидании…» (Теляковский В. А. Воспоминания. 1898 – 1917. Пг., 1924. С. 286).
181 Федоров Василий Васильевич (1891 – 1973) — секретарь дирекции Малого театра, театральный и музейный работник.
182 Этого письма Немировича-Данченко в архиве Теляковского нет.
183 Федотова ответила Теляковскому на присылку «Балетоманов» 3/16 мая, а 13/26 июля сообщила, что прочла его «Воспоминания»: «По всей книге скользит здоровый русский юмор, даже для самого автора незаметный <…>» (№ 766, 767).
184 Автор неподписанной статьи, опубликованной в № 5 «Последних новостей» от 4 февраля 1924 г., одобрительно оценивает характеристики, данные Теляковским и деятелям театра, и представителям прессы, и высшему обществу, отмечая наблюдательность автора, простоту и ясность его литературного слога.
185 Журнал «Жизнь искусства» в № 9 за 1924 г. поместил рецензию «Темное прошлое царских театров», которую написал В. Г. Вальтер (1865 – 1935), скрипач и капельмейстер оркестра Мариинского театра с 1890 по 1924 г., музыкальный критик, — он счел, что книга «не оправдывает ожиданий читателей», что фигура самого Теляковского заслонила тех, о ком он пишет, что иронические интонации авторских характеристик «обнаруживают дурной литературный вкус».
186 См. примеч. 2 к письму 44 [В электронной версии — 178].
187 535 В «Воспоминаниях» Теляковский так охарактеризовал Южина: «Будучи не только артистом, но, кроме того, и драматическим писателем, он был вместе с тем умен, образован, не лишен некоторой грузинской хитрости и отлично знал достоинства и недостатки своих коллег по труппе» (С. 165).
188 Теляковский явно ошибся, проставляя дату: письмо могло быть написано не 2 марта, а 2 апреля, ибо является ответом на письмо Южина от 22 марта.
189 Письмо Вл. И. Немировича-Данченко хранится в фонде Теляковского в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина (№ 486):
Не сразу ответил Вам, потому что узнал, что вышла книжка Ваших воспоминаний, купил ее и вот дочитываю.
Книжка читается с большим интересом. Во-1-х, потому, что самое содержание шире интересов только театральных. Право, из Вашей книги я больше черпаю воспоминаний о Петербурге предреволюционного 20-летия, чем, например, из воспоминаний Витте, хотя тот и ближе был к правящим сферам. Затем, Вы рассказываете просто, искренне, — как раз так, как будто Вы не пишете, а, как прежде, беседуете. Это уже талант рассказчика — не становиться на ходули, не пыжиться вместе с тем, как перо обмокнуто в чернила, не подчеркивать, не злоупотреблять курсивом. Наконец, именно благодаря тому, что события записывались на свежую память, они и сейчас сохраняют в Ваших рассказах свежесть. Точно это вот вчера было.
Некоторое время мне казалось недостатком общим, важным, что не чувствовалось ясного, четкого ответа, не чувствовалось от строк, между строк — ответа на тайный вопрос читателя: что же автор любит, любит по-настоящему, глубоко? Казалось, что автор может так рассказывать, так не делать различия между тем, другим, третьим — Двором, чиновниками, искусством, личностями и пр. и пр., рассказывать с одинаковым беспристрастием, почти бесстрастием, может быть, потому, что ничего из этого не любил больше всего, прежде всего, как цель жизни.
Но против такой критики моей возражает непрерывная энергия, непрерывное внимание, непрерывная устремленность, — в рассказах как раз так же, как это всегда замечал я и в Вас лично. Каким Вас помню, интересующимся всем, решительно всем, что попадало в круг Ваших наблюдений, потому что все делала в Ваших глазах жизнь. Вы любили жизнь, какая кипела в районах Вашего дела. Конечно, Шаляпина, Головина, Коровина, Южина больше, других — меньше, но не с такой резкой разницей, как это можно было бы встретить, если бы рассказ шел от другой личности.
Нет, это не недостаток. Это рассказ директора театров, прирожденного директора, необыкновенно типичного для эпохи, умевшего оставаться честным, прямым, простым среди лжи, изворотливости и пр. и пр.
Не знаю, приедем ли в П-бург. Мне хочется привезти сразу все мои последние постановки: “Анго”, “Периколу”, Аристофановскую “Лизистрату” — и вот ту, над которой работаю сейчас — “Кармен” Бизе [Спектакли Музыкальной студии. — примеч. публ.], но с новым текстом и в совершенно новой трактовке. — Удастся ли это сделать этой весной, — сомневаюсь.
Однако, надеюсь, свидимся.
Я очень, очень соболезную, что Вы остались одиноки. Надеюсь, в театрах Вас ласкают?..
Крепко жму Вашу руку.
Вл. Немирович-Данченко
536 P. S. Не могу удержаться, — хотя и следовало бы: тем, что Художественный театр Вы упорно везде называете “театром Станиславского”, — чего фактически никогда не было, — я обязан, я думаю, Царство ему небесное, — Стаховичу?
Я припоминаю, как в одном Петербургском журнальчике появился мой портрет с подписью “правая рука Станиславского” и на это Кугульский [Кугульский (наст. фам. Кегулихес) Семен Лазаревич (1862 – ?) — театральный критик, редактор-издатель газеты “Новости сезона”. — примеч. публ.] ответил в своем журнале: “С таким же успехом можно напечатать портрет Станиславского и подписать "левая рука Немировича-Данченко"”.
Только года за три до смерти Стахович понял, как он плохо разбирался в том, что такое истинное лицо того или другого явления…
Впрочем, это длинная история!
Ваш Вл. Немирович-Данченко
23 марта 1924».
190 Два тома «Воспоминаний» графа Сергея Юльевича Витте (1849 – 1915), государственного деятеля, занимавшего в разные годы высокие посты в правительстве, вышли в 1923 г. (М.; Пг.: ГИЗ).
191 К этому письму Теляковский приложил две названные рецензии (см. о них в примеч. 4 и 5 к письму 45 [В электронной версии — 184 и 185]).
192 Фредерикс Владимир Борисович, барон, позднее граф (1838 – 1927) — с 1897 по 1917 г. министр Министерства императорского двора и уделов, в ведении которого находились Императорские театры. Теляковский знал его еще по службе в лейб-гвардии Конном полку, которым тот раньше командовал.
193 Письмо написано на бланке Председателя Общества русских драматических писателей и оперных композиторов.
194 Абаза Юлия Федоровна (? – 1915) — жена государственного деятеля А. А. Абазы, певица-любительница, с которой Теляковский был знаком еще до поступления на службу в Императорские театры.
195 После юбилейных торжеств Южин подал в отставку, которая не была принята. Получив годовой отпуск, он уехал во Францию, откуда в конце 1925 г. вновь подал прошение об отставке. Постановлением Наркомпроса от 30 декабря 1925 г. назначен почетным директором Малого театра и председателем Художественного совета. 17 сентября 1927 г. скончался на юге Франции.
196 Ведринская Мария Андреевна — с 1906 по 1924 г. артистка Александринского театра, с 1924 г. работала в Театре русской драмы в Риге. Вероятно, она посетила Теляковского накануне своего отъезда за границу.
197 Весь ход этих событий последовательно и подробно зафиксирован в дневнике Теляковского (№ 1294), начиная с записи 13 февраля 1907 г.: «<…> Ермолова в конце разговора со мной, жалуясь на неуспех Малого театра, сказала, что необходимо нам взять нового заведующего репертуаром, и с отчаянием сказала, что только один человек может спасти театр — это Немирович-Данченко. То же самое я слышал от Ленского, и только хитрый Южин этого не сказал…»
537 В следующий приезд в Москву в марте месяце Южин в ночной беседе с Теляковским «<…> признал вину премьеров, клялся, что они виноваты, и тоже предлагал Немировича, находя, что он один может поднять театр, но при этом сказал, что, может быть, именно его, Южина, он раньше других съест. Потом Южин предложил Ленского в главные режиссеры, думая, что Ленский поправит дело <…>» (запись 31 марта).
На следующий же день Теляковский встретился с Ленским и предложил ему руководство Малым театром, от которого тот отказался, заявив, что мечтает об отставке.
Второго апреля Теляковский послал заведующего репертуаром Малого театра Владимира Алексеевича Нелидова (1869 – 1926), которому нередко поручал вести конфиденциальные переговоры, к Немировичу-Данченко.
В этот же день у Теляковского состоялись одна за другой две беседы — в 3 часа опять с Ленским и в 5 часов — с Немировичем-Данченко. Ленский на этот раз согласился принять место главного режиссера Малого театра. Немирович-Данченко, объяснив, что в данный момент не может оставить Московский Художественный театр, развернул, по выражению Теляковского, «проект грандиозный», доходящий до фактического слияния обоих театров в один субсидируемый (в сентябре подобные планы Теляковскому довелось обсуждать и со Станиславским).
В результате с начала сезона 1907/08 г. Ленский встал во главе Малого театра (официально назначен с 17 апреля 1907 г.), в сентябре 1908 г. он подал прошение об отставке, а в октябре скончался.
В феврале опять возник разговор о Немировиче-Данченко — о его переходе в Малый театр с некоторой группой актеров Художественного.
Но наиболее реальны были переговоры, который Теляковский начал вести с Южиным еще до отставки Ленского. Официальное назначение Южина управляющим труппой Малого театра состоялось 31 марта 1909 г.
198 Пьеса драматурга и критика Александра Ивановича Косоротова (1868 – 1912) «Коринфское чудо», посвященная проблемам раннего христианства, была поставлена в Малом театре 12 октября 1907 г. не Ленским, а Николаем Александровичем Поповым (1871 – 1949), режиссером Малого театра с 1907 по 1909 г. Спектакль прошел восемь раз и был снят менее чем через месяц после премьеры, по словам Теляковского, «вследствие нехудожественного исполнения» (запись 30 октября 1907 г.).
199 На этом письме переписка обрывается — 28 октября 1924 г. Теляковский скончался.
200 С. М. Эйзенштейн: Мемуары / Сост., предисл. и коммент. Н. И. Клеймана: В 2 т. М., 1997. Т. 2. С. 23.
201 Театральные тетради С. М. Эйзенштейна / Публ., вступ. текст, примеч. и текстология М. К. Ивановой и В. В. Иванова; При участии И. Ю. Зелениной // Мнемозина: Документы и факты из истории отечественного театра XX века. Вып. 2. М., 2000. С. 233.
202 Барбюс А. Собр. соч.: изд. 2-е. М.; Л., 1930. Т. 3. С. 92.
203 Холичер (Голичер) Артур (1869 – 1941) — немецкий писатель леворадикальных взглядов. Родился в Будапеште. Жил в Берлине. В 1933 г. переехал в Швейцарию. Наиболее успешно выступал в жанре путевых заметок. Несколько раз посещал СССР.
204 538 Садуль Жак (1881 – 1956) — деятель французского рабочего движения. В 1903 г. вступил во Французскую социалистическую партию. В сентябре 1918 г. был назначен атташе при французской военной миссии в Петрограде. Под влиянием бесед с В. И. Лениным отказался служить французскому правительству. В конце ноября 1919 г. вступил в Красную Армию, за что во Франции был заочно приговорен к смертной казни. После возвращения во Францию (1924) стал деятелем Французской компартии.
205 Захаров Базиль (1849 – 1936) — международный торговец оружием и финансист, один из богатейших людей в мире. Его называли «торговцем смертью» и «самым таинственным человеком в Европе». Во время первой мировой войны был агентом Антанты на самом высоком уровне. Французское правительство присвоило ему одно из высших офицерских званий кавалера Почетного легиона, Великобритания наградила большим рыцарским крестом ордена Бани.
206 Раппопорт Шарль (1865 – 1941) — французский политик левой ориентации, публицист. Родился в Литве. В 1883 г. вступил в группу революционеров, связанную с петербургской террористической фракцией партии «Народная воля». В 1887 г. бежал за границу. Был одним из учредителей Французской компартии. В 1938 г., потрясенный «московскими процессами», Раппопорт демонстративно вышел из рядов компартии.
207 «Фигаро» — консервативная французская газета, лоббировала размещение на территории Эльзаса-Лотарингии германских военных промышленных предприятий, в том числе связанных с «Круппом», одной из крупнейших промышленных монополий Германии, выпускавшей в том числе и различные виды вооружения. Название концерна происходит от фамилии германского промышленника Фридриха Круппа, который в 1811 г. основал в г. Эссен сталелитейный завод. Владельцы концерна были тесно связаны с вождями германского фашизма.
208 «Якубовский, бывший русский военнопленный, был казнен в феврале 1926 г. по приговору суда. Взятый в плен на германском фронте, Якубовский поселился в меклебургском местечке Палинген и нанялся к одному из местных домовладельцев. В ноябре 1924 г. он был арестован по подозрению в убийстве 4-летнего Эвальда — сына своей сожительницы. Суд приговорил его к смертной казни. Якубовский до последней минуты утверждал, что он невиновен, но не мог это доказать. Теперь это окончательно установлено. Братья умершей сожительницы Якубовского и сосед их по квартире сознались, что ребенок был убит по уговору между ними. Осуждение Якубовского вызвало в свое время многочисленные протесты, но судебные власти отказались допустить возможность судебной ошибки» (Разоблачение судебной ошибки в деле Якубовского // Известия. М., 1928. № 112. 16 мая. С. 1).
209 Пилсудский Юзеф (1897 – 1935) — фактически диктатор Польши после организованного 12 – 13 мая 1926 г. военного переворота, глава «санационного» (оздоровительного) режима. Его правление отмечено массовыми репрессиями против оппонентов в среде как буржуазных политиков, так и рабочего движения. В 1926 – 1928 гг., 1930 г. — премьер-министр.
210 Одной из крупнейших в Индии 1920-х гг. забастовок явилась всеобщая стачка текстильщиков Бомбея, происходившая с 2 января по 5 февраля 1925 г. В ней принимало участие свыше двухсот тысяч человек. Вызванные предпринимателями английские войска открыли стрельбу по бастующим.
211 11 декабря 1927 г. в Кантоне (Гуаньчжоу), главном городе провинции Гуандун, началось восстание рабочих и солдат. Был образован Совет народных комиссаров («Кантонская коммуна»). Во время уличных боев американский корабль «Сакраменто» и английский корабль «Мореон» перебрасывали в Кантон гоминдановские части. Японские канонерки подвергли город тяжелому артиллерийскому обстрелу. За три дня было казнено семь тысяч человек.
212 Неясно, что конкретно имеет в виду Эйзенштейн. В Тяньцзине, одном из центров национально-освободительного движения, жестокие столкновения происходили регулярно, но не достигали масштаба кантонских событий.
213 «Синг-Синг» — знаменитая американская тюрьма штата Нью-Йорк. Основана в 1825 г., закрыта в 1969-м. Здесь имеется в виду электрический стул, использовавшийся в этом исправительном заведении для приведения в исполнение смертных приговоров. Тезис о 539 «гуманности» «мгновенной» смерти на электрическом стуле не соответствовал действительности.
214 Свастика — арийский символ, возникший в VI тыс. до н. э.; по традиционному толкованию, разновидность горизонтального креста. Нацистами истолковывался как солярный знак, символ силы и мощи, знак плодородия, точнее, способствующий плодородию, продолжению рода.
215 Имеется в виду Фридрих II (1712 – 1786) — прусский король с 1740 г., из династии Гогенцоллернов. В результате его завоевательной политики территория Пруссии почти удвоилась. Культовая фигура в идеологии нацизма.
216 См.: Эккерман И.-П. Разговоры с Гете в последние годы. М., 1981. С. 352.
217 Имеется в виду издание: Barbusse Henri. Faits divers. Paris, 1928.
218 Барбюс А. Указ. соч. С. 87.
219 См.: Там же. С. 92.
220 Речь идет о Бенито Муссолини (1883 – 1945), фашистском диктаторе Италии (1922 – 1943).
221 Реминисценция из статьи В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература» (1905).
222 Период с 1923 по 1926 г. стал временем обострения индусско-мусульманских отношений. Наиболее сильные вспышки розни происходили в Калькутте.
223 Возможно, Эйзенштейн имеет в виду серию публикаций в газете «Известия» (1927 – 1928), принадлежащую перу французского публициста О. Гервье, под общим названием «Комедия разоружения».
224 Две строчки из данного письма были процитированы в содержательных комментариях к публикации Н. В. Котрелева и Ф. Мальковати: Вяч. Иванов в переписке с В. Э. Мейерхольдом и З. Н. Райх. 1925 – 1926 // Новое литературное обозрение. 1994. № 13. С. 261 (с ошибочной датой «20 апреля 1928 г.», уточненной при вторичном упоминании того же документа на с. 267).
225 Троцкий (наст. фам. Бронштейн) Лев Давыдович (1879 – 1940) — политический деятель, публицист, литератор. Член ЦК ВКП (б) в 1917 – 1927 гг. Глава «левой оппозиции», идеолог «троцкизма». Выслан из СССР в декабре 1929 г. Убит в эмиграции (в Мексике) посланцем Сталина.
226 Цит. по: Мацкин А. Время ухода // Театр. 1990. № 1. С. 49.
227 См.: Разгром левой оппозиции в СССР: Письма ссыльных большевиков (1928) / Публ. Ю. Фельштинского // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 7. Paris: Atheneum, 1989. С. 255.
228 Каменев (наст. фам. Розенфельд) Лев Борисович (1883 – 1936) — член ЦК ВКП (б) с 1917 по 1927 г. В 1918 – 1927 гг. — председатель Моссовета. Репрессирован в связи с делом «марксистов-ленинцев», делом троцкистско-зиновьевского «Объединенного центра». Посмертно реабилитирован.
229 Уханов Константин Васильевич (1891 – 1937) — с 1926 г. — председатель исполкома Моссовета, с 1929 г. — Мособлисполкома. В 1936 – 1937 гг. — нарком легкой промышленности РСФСР. 21 мая 1937 г. арестован, 26 октября приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1955 г.
230 Зиновьев (наст. фам. Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883 – 1936) — член ЦК ВКП (б) с 1907 по 1927 г. С декабря 1917 по 1927 г. — председатель Петроградского горсовета. В 1925 г., 540 вытесняемый Сталиным, начинает терять власть. Переходит в оппозицию. Исключен из партии вместе с Троцким. Репрессирован по тем же «делам», что и Каменев. Посмертно реабилитирован.
231 Комаров Николай Павлович (наст. имя и фам. Федор Евгеньевич Собинов; 1886 – 1937) — в 1926 – 1929 гг. — председатель Ленинградского городского и губернского исполкомов. С 1931 г. — нарком коммунального хозяйства РСФСР. Член ЦК ВКП (б) в 1921 – 1922 гг. и 1923 – 1934 гг. Член Президиума ВЦИК. Репрессирован. Посмертно реабилитирован.
232 Цит. по: Вайскопф М. Писатель Сталин. М., 2001. С. 348.
233 Керженцев (наст. фам. Лебедев) Платон Михайлович (1881 – 1940) — партийный и хозяйственный работник. Выпускник Московского университета, литератор, теоретик искусства, автор нескольких книг. С 1928 по 1930 г. — заместитель заведующего Агитпропом ЦК ВКП (б). 17 января 1936 г. решением Совета Народных Комиссаров назначен председателем Всесоюзного комитета по делам искусств при СНК Союза ССР. Снят 17 января 1938 г., ровно через месяц после появления в «Правде» его статьи «Чужой театр». Подробнее о нем см.: Максименков Л. Сумбур вместо музыки: Сталинская культурная революция. 1936 – 1938. М., 1997. С. 65 – 67.
234 «<…> У Мейерхольдов по пятницам, оказывается, литературно-художественный “салон”, — пишет О. М. Брик своей будущей второй жене, Е. Г. Соколовой, в начале 1930 г. — Бывают поэты, музыканты и высокие гости, вроде Керженцева, Раскольникова, Агранова и т. п.» (цит. по: В. В. Маяковский в переписке современников / Публ. И. И. Аброскиной // Встречи с прошлым. Вып. 8. М., 1996. С. 418).
Агранов Яков Саулович (1893 – 1938) — в то время заместитель наркома внутренних дел, уполномоченный НКВД по Москве и Московской области.
235 Затевалось издание альманаха «Театральный Октябрь». Письмо Горького (опубликованное в кн.: В. Э. Мейерхольд: Переписка. 1896 – 1939. М., 1976. С. 248) было ответом на два деловых письма Мейерхольда и Райх от 20 августа 1925 г., в которых они просили Горького о статье для альманаха (чтобы он переслал ее экспресс-почтой на имя Керженцева в Рим). Писатель ответил тогда отказом.
236 Мацкин А. Указ. соч. С. 35.
237 См.: Райх З. Н. Записные книжки. 1928 г. 16 февраля – сентябрь. [Автограф] // РГАЛИ. Ф. 998. Оп 1. Ед. хр. 3657.
238 Письмо В. Н. Яхонтова В. Э. Мейерхольду 18 января 1924 г. // В. Э. Мейерхольд: Переписка. С. 226 – 230.
239 Доклад Дирекции ГосТИМа на заседании заведующих отделами Главискусства о производственном и финансовом положении театра 9 ноября 1928 г. [Машинопись] // РГАЛИ. Ф. 998. Оп 1. Ед. хр. 2818. Л. 5 – 7.
240 Рыков Алексей Иванович (1881 – 1938) — партийный и государственный деятель. После смерти Ленина с 1924 по 1930 г. возглавлял Правительство СССР. Репрессирован. Посмертно реабилитирован. Сохранился (к сожалению, недатированный) отзыв Рыкова на спектакль «Лес» в ГосТИМе: «В театре Мейерхольда был в первый раз. Признаюсь, избегал его после того, как увидел [постановку] “Рогоносца”. “Лес” изменил совершенно мое отношение. Это несомненно революционно-общественный театр. С революцией живет, ее отражает и будет жить дальше вместе с ростом культуры рабочего класса. Желаю успехов. А. И. Рыков». Факсимиле записи впервые опубликовано в кн.: Шелестов Дм. Время Алексея Рыкова. М., 1990.
241 Рыкова Нина Семеновна (урожд. Маршак; 1884 – 1938) — член ВКП (б) с 1903 г. С 1913 г. жена А. И. Рыкова, с которым познакомилась в Париже, в квартире Ленина на ул. Мари-Роз. Работала сотрудником Политического Красного Креста, организованного В. Н. Фигнер и Е. М. Пешковой. В 1937 г. арестована, 22 августа 1938 г. расстреляна.
242 Бухарин Николай Иванович (1888 – 1938) — член ЦК ВКП (б) с 1917 по 1934 г., член Политбюро ЦК ВКП (б) в 1924 – 1929 гг. Многолетний редактор «Правды». До 1928 г. — союзник Сталина, с 1928 г. в «правой оппозиции», теряет власть, увольняется со всех постов. Главный обвиняемый на процессе 1938 г. Расстрелян. Посмертно реабилитирован.
243 541 Локшина Хеся Александровна (1902 – 1982) — режиссер, жена Э. П. Гарина. В эти месяцы преданная подруга Райх и страстная сторонница Мейерхольда.
244 Февральский Александр Вильямович (1901 – 1984) — театровед, сотрудник Мейерхольда, ученый секретарь ГосТИМа.
245 Мологин (Мокульский) Николай Константинович (1892 – 1951) — актер ГосТИМа.
246 Логинова Елена Васильевна (1902 – 1966) — актриса ГосТИМа.
247 Нестеров Александр Евгеньевич (1902 – 1943) — режиссер ГосТИМа.
248 Сарабьянов Владимир Николаевич (1886 – 1952) — профессор философии, читал лекции по марксистско-ленинской эстетике во ВХУТЕМАСе, Московском архитектурном институте, Институте им. В. Сурикова.
249 Письма Х. А. Локшиной З. Н. Райх в июле – августе 1928 г. (к сожалению, недатированные). [Автограф] // РГАЛИ. Ф. 998. Оп 1. Ед. хр. 3702. Л. 3, 6 – 7, 12, 17 – 18, 22 об., 25 об, 25. На обороте одного из писем Локшиной — письмо А. В. Февральского Мейерхольду.
250 Незлобин (наст. фам. Алябьев) Константин Николаевич (1857 – 1930) — антрепренер, режиссер.
251 Примерно та же сумма долга оставалась за ГосТИМом и год спустя. «В безобразном со стоянии находится театр Мейерхольда, — писал секретарь ЦК ВКП (б) А. П. Смирнов в докладной записке “О работе Главискусства РСФСР” 5 августа 1929 г., — руководить которым мешали (убыток около 125 тыс. рублей)…» (цит. по: Власть и художественная интеллигенция: Документы. 1917 – 1953. М., 1999. С. 117). Осенью же 1928 г. А. И. Свидерский, выступая с докладом на Пленуме ЦК Всерабис, говорил: «Положение в театре Мейерхольда следующее: театр, как это опубликовано в правительственном постановлении, является убыточным, и это все должны знать. Кассовая его посещаемость упала до 40 %, а в перспективе будет 35 % и ниже, посещаемость вообще по отношению к емкости театра 73 %. <…> Из этих цифр можно сделать ясный вывод, отвечает ли этот театр настроению рабочего населения? Не отвечает. Это не только кризис хозяйства театра <…> но это кризис идеологический. Никто не пытался встать на путь анализа этих цифр, которые имеют громадное идеологическое значение. В то время, как в старых театрах 100 % посещаемости, в театре им. Мейерхольда посещаемость падает» (Свидерский А. И. Заключительное слово // Задачи Главискусства ЦК Всерабис: Доклад начальника Главискусства тов. Свидерского на Пленуме ЦК Всерабис (октябрь 1928 г.). Прения по докладу и постановление Пленума ЦК Всерабис / Под ред. А. А. Алексеева, А. А. Гольдмана. М., 1929. С. 111 – 112). Соглашался с ним и Луначарский, подтверждавший, что из академических театров «огромное большинство обходится вообще без всяких субсидий». Между тем «факты говорят, что театр им. Мейерхольда умел распродавать лишь одну треть имеющихся у него мест, другая треть распространялась бесплатно. Но даже и при этом театр пустовал на одну треть. <…> Сборы во всех остальных театрах неизмеримо выше, чем в театре им. Мейерхольда, посещаемость также несравнимо выше» (Вынужденное объяснение // Комсомольская правда. 1928. 1 ноября). Но в уже цитировавшемся докладе дирекции ГосТИМа Главискусству 9 ноября 1928 г. приводятся иные факты: «Из репертуарного тупика он [ГосТИМ. — В. Г.] начинает выходить. <…> Непокрытие старой задолженности в дефиците прошлого года создало катастрофическое положение финансов театра. 28/29 г. также будет еще дефицитным. Театр должен и может изжить свою убыточность путем разрешения проблемы новых постановок. Никоим образом нельзя считать наш театр обреченным на перманентную дефицитность. <…> Я могу вам заявить, что прошедшие 20 дней с момента открытия сезона показали, что интерес к нашему театру, даже при его старом репертуаре, несомненно налицо. Мы имеем небывалую посещаемость: 923/4 %. Мы должны будем закрепить эти достижения путем разрешения проблемы новых постановок» (РГАЛИ. Ф. 998. Оп 1. Ед. хр. 2818. Л. 9).
252 Бедный Демьян (наст. имя и фам. Ефим Алексеевич Придворов; 1883 – 1945) — поэт, публицист, сатирик. Обладал немалым общественным влиянием до конца 1920-х гг., которое позднее утратил.
253 542 Скворцов-Степанов Иван Иванович (1870 – 1928) — партийный публицист, с 1925 г. — главный редактор газеты «Известия». Был создателем специальной комиссии по организации встречи М. Горького весной 1928 г.
254 Рязанов (наст. фам. Гольдендах) Давид Борисович (1870 – 1938) — в 1926 г. входил (вместе с И. И. Скворцовым-Степановым) в комиссию, рассматривавшую вопросы цензуры. В 1921 – 1931 гг. — директор Института К. Маркса и Ф. Энгельса. В 1931 г. приобрел за границей для Института рукописи и письма Маркса и Энгельса. По возвращении был исключен из партии по обвинению в связях с заграничными меньшевиками. Позднее репрессирован.
255 Н. Осинский (наст. имя и фам. Валериан Валерианович Оболенский; 1887 – 1938) — партийный и хозяйственный работник. Член РСДРП с 1907 г. В 1921 – 1923 гг. — заместитель наркома земледелия. В 1925 – 1928 гг. — управляющий ЦСУ. Входил в «левую оппозицию», затем раскаялся. С 1925 по 1937 г. — кандидат в члены ЦК ВКП (б). Репрессирован.
256 По-видимому, Райх хочет сказать «покровителя», того, кто мог бы протежировать Мейерхольду.
257 Угланов Николай Александрович (1886 – 1937) — с 1921 г. — член ЦК ВКП (б). В 1926 – 1929 гг. — кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП (б). В 1924 – 1929 гг. — секретарь ЦК, одновременно в 1924 – 1928 гг. — первый секретарь МК и МГК ВКП (б). В 1928 – 1930 гг. — нарком труда СССР. В 1928 г. поддержал Бухарина против Сталина и потерял власть. В октябре 1932 г. исключен из партии по делу «Союза марксистов-ленинцев» (группа М. Н. Рютина), в феврале — апреле 1933 г. в заключении, затем выпущен, вновь арестован в августе 1936 г. и в мае 1937 г. расстрелян. Реабилитирован в 1989 г.
258 Парижские выступления «Летучей мыши» происходили в помещении театра «Фемина» на Елисейских полях (с декабря 1920 по апрель 1921 г.).
259 Гест Морис (1881 – 1942) — американский антрепренер, организатор американских гастролей Художественного театра 1923 – 1924 гг. Гастроли «Летучей мыши» в США начались в феврале 1922 г. Первое сообщение о подготовке американских гастролей появилось в отделе театральной хроники «Последних новостей» (Париж) 3 марта 1921 г.
260 Практическая академия коммерческих наук, как следует из ее Устава, была создана «для доставления детям почетных граждан, купцов, мещан и иностранцев общего и специального образования, подготовляющего к коммерческой деятельности». Официально статус получила в 1810 г. Существовала вплоть до 1917 г. Относилась к разряду средних учебных заведений.
261 Согласно хронологии, предложенной Балиевым, он, будучи восемнадцати лет отроду, закончил Практическую академию коммерческих наук, после чего вернулся в Ростов-на-Дону и тут же за проявленные театральные наклонности был сослан отцом в Луганск. Если опираться на общепринятую дату его рождения (1877), Балиев приехал в Луганск во второй половине (или в конце) 1895 г. и пробыл там года два, так как свой двадцать первый год жизни провел в армии (1898 – 1899), а между Луганском и армией немало дней про мелькнуло в Ростове-на-Дону.
Однако Е. Н. Рощина-Инсарова дебютировала на сцене только в 1898 г. в Виннице, в Луганске же она выступала в труппе известного провинциального антрепренера В. И. Никулина с начала мая по конец июня 1902 г., где «исполнила все роли ingénue, как комические, так и драматические». Впоследствии вспоминала: «В Луганске был первый 543 бенефис. С Луганском связаны лучшие воспоминания. Представьте маленький городок, весь утопающий в вишневых садах… Что-то тургеневское, что-то гоголевское, что-то чеховское… Нет, вы не знаете украинской ночи, если не побывали в Луганске…» (Сегодня вечером. Рига, 1925. 22 апреля). Встретиться с нею тогда Балиев не мог, потому что жил в Ростове-на-Дону. Но такая возможность у него была чуть позже в сезоне 1902/03 г., когда Рощина-Инсарова состояла в труппе С. Крылова, выступавшей в Ростове-на-Дону и одновременно дававшей спектакли в Нахичевани.
262 «Капустник», устроенный в пользу пенсионного фонда артистов Художественного театра, был сыгран 8 марта 1910 г. Этой благотворительной акции придавалось большое значение. В ней принимала участие едва ли не вся труппа, начиная со Станиславского и Немировича-Данченко. Продуманным был и состав зрительного зала, где присутствовали градоначальник А. А. Адрианов и губернатор В. Ф. Джунковский.
263 Газеты отмечали, в частности, Балиева, который «талантливо реферировал номерами» (Русское слово. М., 1910. 9 марта), и достаточно подробно останавливались на отдельных номерах, не упоминая пьесу «Графиня Эльвира, или Шелковый платок» с участием солдат Покровских казарм. Но в том же году в Литейном театре (СПб.) была поставлена пьеса Е. А. Мировича (Дунаева) «Графиня Эльвира. Шарж в 2-х действиях на солдатский спектакль в Н-ском полку», обыгрывающая этот сюжет. Премьера — 6 октября 1910 г.
264 Имеется в виду Крыленко Николай Васильевич (1885 – 1938) — советский партийный и государственный деятель, с 9 ноября 1917 г. — Верховный главнокомандующий.
265 Кузнецов Степан Леонидович (1879 – 1932) — актер. В 1897 г. начал выступать в любительских спектаклях. С 1901 г. — на профессиональной сцене. В пользу того, что Балиев мог тогда встречаться с Кузнецовым, свидетельствует сохранившаяся портретная фотография артиста с его дарственной надписью «Любови Яковлевне Хенкиной», датированная 5 июлем 1901 г., на которой приписано: Ростов-на-Дону (РГАЛИ. Ф. 2019. Оп 1. Ед. хр. 129).
266 Боттен Себастьян (1764 – 1853) — французский администратор и статистик. Выпускаемый им «Статистический ежегодник Нижнего Рейна» стал первым изданием такого рода во Франции. Но особую популярность приобрел альманах коммерции под названием «Боттен», выходивший с 1798 по 1853 г. В 1857 г. был объединен с «Общим ежегодником коммерции», затем преобразован в «Коммерческий ежегодник Дидо-Боттен», больше известный под названием просто «Боттен». Продолжающееся издание.
267 «Битая баккара» (франц.) — игра слов, основанная на том, что баккара обозначала как хрустальную посуду, так и карточную игру. Употребление выражения «Punie Baccarat» во время игры в chemin de fer объясняется тем, что в некоторых случаях одна и та же игра могла называться и баккара, и «железка».
268 Морозов Савва Тимофеевич (1862 – 1905) — текстильный фабрикант, меценат. Был в числе первых членов Товарищества для учреждения Общедоступного театра (МХТ), в 1902 г. стал содиректором МХТ, финансировавшим дело.
269 24 января 1904 г., когда японский посол в Петербурге вручил российскому министру иностранных дел В. Н. Ламздорфу ноту о разрыве дипломатических отношений, соединенный японский флот вышел в море, а вечером 26 января без объявления войны атаковал порт-артурскую эскадру.
270 «Гейша» — оперетта С. Джонса.
271 «Мальбрук в поход собрался» (франц.) — популярная во Франции в начале XVIII в. сатирическая песенка о предводителе английских войск герцоге Мальборо (1650 – 1722).
272 5 сентября 1905 г. в Портсмуте (США, штат Нью-Хэмпшир) между Россией и Японией был подписан мирный договор (Портсмутский мир), согласно которому Россия признала Корею сферой влияния Японии, уступила ей Южный Сахалин и права на Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним. Договор потерял силу после капитуляции Японии во второй мировой войне.
273 Тарасов Николай Лазаревич (18827 – 1910) — владелец крупного состояния, первый вкладчик-меценат МХТ (с 1906 г.). Вместе с Н. Ф. Балиевым создал артистический клуб «Летучая мышь».
274 Правильно — Московский литературно-художественный кружок (1899 – 1918). В состав директоров входили А. И. Южин, Н. Д. Телешов, С. С. Мамонтов, В. Я. Брюсов. В 1904 г. переехал 544 в дом Востряковых на Большой Дмитровке, 15 (в перестроенном здании по этому адресу теперь размещается Генеральная прокуратура Российской Федерации). Здесь ставились спектакли, устраивались выставки, проводились литературные вечера и диспуты. Выпускался журнал «Известия московского Литературно-художественного кружка» (1913 – 1917). Однако главной причиной популярности его стал игорный клуб, располагавшийся в бельэтаже. Здесь шла крупная игра, в которой терялись иногда огромные состояния. Преобладали баккара и запрещенная «железка» См.: Гиляровский Вл. Москва и москвичи. М., 1956. С. 175 – 188; Ходасевич Вл. Колеблемый треножник. М., 1991. С. 374 – 382.
275 Востряков Родион Дмитриевич (? – 1923) — потомственный почетный гражданин Москвы, почетный член Московского филармонического общества, попечитель Неглинного городского училища. Умер в Висбадене.
276 Портреты М. Н. Ермоловой и Ф. И. Шаляпина были написаны В. А. Серовым по заказу Московского литературно-художественного кружка в 1905 г.; с 1935 г. находятся в Третьяковской галерее. Картины были вывешены в «портретной» комнате.
277 Начиная с 1905 г. Литературно-художественным кружком ежегодно выделялись значительные средства на приобретение произведений изобразительного искусства. По замечанию историка и очевидца, «так образовалось одно из лучших в Москве собраний картин» (Грабарь И. В. А. Серов: Жизнь и творчество. 1865 – 1911. М., 1965. С. 166).
278 Киселевский Иван Платонович (1839 – 1898) — актер. На профессиональной сцене с 1871 г. Играл в театрах Курска, Казани, Смоленска, Одессы, Киева и др. городов. В 1879 – 1882, 1888 – 1894 гг. — актер Александринского театра, в 1891 – 1894 гг. — в московском Театре Корша. С 1894 г. и до конца жизни работал в Театре Соловцова в Киеве.
279 Балиев преувеличивает значение идейных и моральных соображений при принятии решения о заграничных гастролях Художественного театра. Решающим было то обстоятельство, что публика перестала ходить в театр, сборы пали, финансовое положение труппы пошатнулось.
280 Гастроли Художественного театра в Берлине открылись 10 февраля 1906 г. спектаклем «Царь Федор Иоаннович»; кроме того, были показаны: «Дядя Ваня», «На дне», «Три сестры», «Доктор Штокман». 6 марта на спектакле «Царь Федор Иоаннович» присутствовал германский император Вильгельм II с семьей.
281 12 марта 1906 г. труппа Художественного театра выехала из Берлина в Дрезден, оттуда 19-го переехала в Лейпциг. 22 марта труппа отправилась на гастроли в Прагу. 29-го давали первый спектакль в Вене. 10 апреля прибыли во Франкфурт-на-Майне, откуда выезжали на спектакли в Карлсруэ и Висбаден, где снова играли «Царя Федора Иоанновича» в присутствии Вильгельма II и свиты. Затем следуют Дюссельдорф, Ганновер, Варшава. Так что в Россию труппа Художественного театра вернулась 4 мая 1906 г.
282 Имеется в виду театральная школа при Художественном театре, открытая в 1901 г.
283 Балиев имеет в виду Леонида Александровича фон Фессинга (1847 – 1920), занимавшего гораздо более скромную должность, чем интендант в европейской табели о рангах. Он был инспектором Художественного театра с его основания и до конца своих дней. Вступил в эту должность, будучи с 1890 г. полковником в отставке. Его подчеркнутая строгость и добросовестность были предметом актерских шуток и темой капустников. Отдал дань «полковнику Художественного театра» и Балиев, например, в пародии на крэговского «Гамлета».
284 Балиева подводит память. За Малым театром закрепилось название «Дом Островского».
285 Балиев не вполне точен. МХТ открылся 14 октября 1898 г. пьесой А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович», а премьера «Чайки» А. П. Чехова состоялась два месяца спустя — 17 декабря.
286 Скорее всего, критиком, чей портрет был вывешен в фойе Художественного театра, был Николай Ефимович Эфрос (1867 – 1923), который с возникновения Художественного театра следил за его движением, не пропуская, кажется, ни одного спектакля; к 15-летию Художественного театра опубликовал работу «Детство Художественного театра». Впоследствии выпустил ряд монографий: «Станиславский» (1918), «Три сестры» (1919), «Вишневый сад» (1919), «На дне» (1923), «Качалов» (1919), «Московский Художественный театр. 1898 – 1923» (1924). Но менее всего к его критической работе применимы 545 балиевские слова о резкой критике всей деятельности Художественного театра. Вероятно, в памяти мемуариста объединились фигуры Н. Е. Эфроса и А. Р. Кугеля (1864 – 1928).
287 Балиев неточно цитирует известные пушкинские строки: «Москва… как много в этом звуке / Для сердца русского слилось! / Как много в нем отозвалось» («Евгений Онегин». Глава седьмая. XXXVI).
288 При всех забеганиях вперед и возвращениях назад Балиев следует хронологии событий. Под рубрикой «Вне очереди» он дает наброски отдельных разрозненных эпизодов, которые предполагал вставить на соответствующее хронологии место в окончательном тексте.
289 Премьера «Горя от ума» А. С. Грибоедова состоялась 26 сентября 1906 г. Художники В. А. Симов, Н. А. Колупаев.
290 Возвращение к доцензурной музейной рукописи осуществляла специальная комиссия, в которой были собраны академические силы: В. В. Каллаш, П. Д. Боборыкин, А. Н. Веселовский и В. В. Якушкин.
291 А. А. Стахович вышел в отставку в 1907 г. в чине генерал-майора.
292 Балиев ошибается. В пьесе Грибоедова Скалозуб носит чин полковника и только «метит в генералы».
293 Режиссерами спектакля «У царских врат» К. Гамсуна, премьера которого состоялась 9 марта 1909 г., были Вл. И. Немирович-Данченко и В. В. Лужский, что не исключает участия К. С. Станиславского в репетициях. Ошибся мемуарист и относительно недолгой жизни спектакля, который был сыгран 367 раз. Но, возможно, Балиев твердо запомнил только имя автора и ошибся в названии пьесы, имея в виду «Драму жизни» К. Гамсуна, поставленную К. С. Станиславским и Л. А. Сулержицким. Художники В. Е. Егоров и Н. П. Ульянов. Музыка И. А. Саца. Премьера — 8 февраля 1907 г. Спектакль успеха не имел и прошел 27 раз.
294 Премьера «Гамлета» состоялась 23 декабря 1911 г. Постановка Гордона Крэга. Режиссеры К. С. Станиславский и Л. А. Сулержицкий. Костюмы по эскизам К. Н. Сапунова. Музыка И. А. Саца. Хотя спектакль сыграли всего 47 раз и отзывы прессы были разноречивы, он вошел в историю как одно из крупнейших явлений русского и — шире — европейского театрального модернизма. См.: Чушкин Н. Н. Гамлет — Качалов. М., 1966; Бачелис Т. И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
295 Вечер «Летучей мыши», посвященный «Гамлету» в Художественном театре, состоялся 14 января 1912 г. См.: Тихвинская Л. Кабаре и театры миниатюр в России. 1908 – 1917. М., 1995. С. 27 – 29.
296 Достоверность новеллы о затхлом подвале и гнездившихся в нем летучих мышах, воспроизводившейся Балиевым многократно, вызывает определенные сомнения. Дело в том, что первым пристанищем «Летучей мыши» стал дом З. А. Перцовой (Пречистенская на бережная, 35). Построенный по проекту архитектора С. В. Малютина (совместно с архитектором Н. К. Жуковым) в 1905 – 1906 гг., он вряд ли уже в 1909 г. мог достичь той степени запущенности, о которой свидетельствует Балиев.
297 Бравич (наст. фам. Баранович) Казимир Викентьевич (1861 – 1912) — актер. Входил в труппу Театра А. С. Суворина (1897 – 1903), Театра В. Ф. Комиссаржевской (1903 – 1908), Малого театра (1909 – 1912).
298 Адрианов Александр Александрович (1861 – 1917) — генерал-майор, с 1908 по 1915 г. — московский градоначальник.
299 Ракитин Юрий Львович (наст. фам. Ионин; 23 мая 1882, Харьков — 21 июля 1952, Нови Сад, Югославия) — актер, режиссер. Работал вместе с Мейерхольдом в Товариществе новой драмы и в Студии на Поварской. В труппе МХТ с 1907 по 1911 г. Затем работал как 546 актер и режиссер в Александринском театре. В марте 1920 г. Ракитин с женой Юлией Валентиновной (урожд. Шацкой; 1892 – 1977) эвакуируется из Феодосии в Константинополь. В Сербии — с ноября 1920 г. С 1921 по 1946 г. — режиссер белградского Национального театра. С 1947 по 1952 г. — художественный руководитель Сербского народного театра (Нови Сад). Подробнее см.: Вагапова Н. М. Юрий Ракитин — трагический весельчак // Мнемозина: Документы и факты из истории русского театра XX века. Вып. 1. М., 1996. С. 266 – 287; Арсеньев А. Б. У излучины Дуная. М., 1999. С. 192 – 204.
300 «Дорогой шкаф», или, если ближе к чеховскому оригиналу, «Дорогой, многоуважаемый шкап» в отчетный вечер 13 марта 1933 г., согласно газетному описанию, выглядел следующим образом: «Чествование открылось исполнением всей труппы специально для этого написанной кантаты, а затем А. А. Архангельский произнес на английском языке краткую речь, в которой перечислил заслуги Н. Ф. Балиева перед русским и международным искусством. Приветствия были произнесены и пропеты другими сотрудниками и артистами труппы. Юбиляру были поднесены цветы, именинный пирог с двадцати пятью зажженными свечками и “стило для подписывания контрактов еще в течение двадцати пяти лет”. <…> Официальная часть чествования закончилась пением многолетия юбиляру и его театру, а потом гостям было предложено перейти на сцену, где была сервирована на русский лад обильная закуска с водкой и вином. Чествование перешло в непринужденное русское веселье. Хоровое пение, романсы и песенки, исполненные русскими и английскими артистами, пляски, краткие приветствия, общие танцы под рояль затянулись до утра» (Последние новости. Париж, 1933. № 4378. 18 марта. С. 4).
301 Балиев остроумно неточен. На протяжении 20 – 30-х гг. Ф. Ф. Комиссаржевский (в эмиграции с 1919 г.) интенсивно работал в Англии. Список его работ занял бы слишком много места. Достаточно сказать, что в период с 1932 по 1939 г. режиссер осуществил цикл шекспировских постановок в Шекспировском Мемориальном театре (Стратфорд-на-Эйвоне). Премьера «Макбета» состоялась в 1933 г.
302 22 декабря 1931 г. исполнилось ровно десять лет, как «Летучая мышь» впервые появилась перед парижской публикой на подмостках театра «Фемина». С тех пор были покорены не только Париж, но и Лондон, Нью-Йорк и многие другие мировые центры. Круглая дата была отмечена в Париже соответствующими торжествами. Но именно тогда перед Балиевым встал вопрос об исчерпанности прежних путей театра. Как несколько позже он признавался в газетном интервью: «Все, что можно было сказать, уже сказано, все темы русской жизни исчерпаны, пришлось бы повторяться, давать перепевы, а это скучно. Новая русская жизнь? Но как поймаешь ее, как охватишь, чтобы сделать предметом художественной обработки? Да и не только темы… Уходят русские актеры» (Последние новости. Париж, 1931. № 3584. 14 января. С. 5).
Балиев пошел на решительную попытку обновить творческое лицо театра. Теперь предполагается, что «Летучая мышь» будет знакомить иностранную публику с шедеврами русской дореволюционной литературы. Первым шагом на этом пути стала новая версия «Пиковой дамы». (Первая постановка была осуществлена в 1916 г.) В сорежиссеры был приглашен Федор Комиссаржевский. Композитор — А. А. Архангельский. Эскизы декораций и 110-ти костюмов сделал Юрий Анненков. Именно в «Пиковой даме» Балиев находил «все нужные элементы»: «… есть и мистицизм, и символизм, и, что важнее всего, занимательность. Игра, игроки, фортуна — кто из нас не игрок? <…> При этом, конечно, пришлось прибегнуть к разным вольностям. Мы эпилог повести сделали как бы прологом. Германн в сумасшедшем доме, и там перед его больным воображением проходит повесть о жизни, приведшая к трагическому финалу» (Там же). В самом выборе материала кроме расчета заключался и экзистенциальный вызов. Сам Балиев был отчаянным игроком. В молодости он проиграл доставшуюся ему часть родительского наследства. В старости проиграл все то, что сколотил собственными руками. Теперь он сделал ставку на карточную 547 тему русской классики и попал в ловушку пушкинского сюжета. Дама пик не спустила дерзости.
Премьера состоялась в Париже 20 января 1932 г. «Пиковую даму» показали в одном спектакле с оперой-буфф А. Соге «Контрабас». Если последняя была принята прохладно и вскоре по просьбе публики была заменена на ряд номеров обычного репертуара «Летучей мыши», то «Пиковую даму» встретили с воодушевлением. Появились не только рецензии (С. Волконский, Н. Чебышев, Михаил Чехов), но и статья, разбирающая сценографию Юрия Анненкова (случай для эмигрантской печати совсем редкий). Спектакль с успехом играли до 22 февраля.
Далее Балиев приступил ко второй части проекта, который укладывался в уже сложившееся обыкновение: репутацию завоевать в Европе, а деньги зарабатывать в Америке. 11 февраля он подписывает контракт с театром «Савой» с тем, чтобы 19 марта «Пиковой дамой» открыть лондонский сезон. Пушкинский спектакль в новой редакции предполагалось играть с новыми артистами и, что особенно важно, на английском языке. И снова спектакль прошел с большим успехом. После Лондона, окончательно уверовав в новую концепцию «Летучей мыши», Балиев был готов к Америке. Нью-йоркские спектакли начались 19 октября в театре «Амбассадор». Осознавая всю остроту ситуации, Балиев сменил даже название театра — «Новая Летучая мышь». В программу первого вечера вошел балет Б. Романова на музыку Моцарта «Романтические приключения итальянской маркизы», новая редакция «Пиковой дамы» и оперетта «1860», поставленная по мотивам Оффенбаха («Прекрасная Елена», «Перикола», «Дочь мадам Анго»). Но ориентации на русскую классику, как и «серьезного Балиева» в целом, американская публика не приняла: «Особенный успех имеет оперетта, которая проходит весело и бойко» («Летучая мышь» в Америке // Последние новости. Париж, 1931. № 3875. 1 ноября. С. 5).
303 Братья Шуберты Ли (1873? — 1953) и Джекоб (18787 – 1963) — крупные американские антрепренеры. В промежутке с 1905 по 1929 г. их власть на Бродвее, казалось, не знала границ. Каждый сезон они показывали не менее дюжины новых шоу и вдвое больше гастрольных спектаклей. Балиев, заключая контракт уже после финансового краха «империи Шубертов», шел на заведомый, возможно, вынужденный риск.
304 «После американского сезона Н. Ф. Балиев со своей труппой будет играть 10 дней в Брюсселе, а 20 мая “Летучая мышь” выезжает в английские колонии Южной Африки, чтобы с 13 июля 1932 года начать в Йоханнесбурге двенадцатинедельный сезон с репертуаром прежней “Летучей мыши”» (Возрождение. Париж, 1931. № 2320. 9 октября. С. 4).
305 Балиев имеет в виду Мамоновский театр, созданный драматургом и критиком С. Мамонтовым, актрисой М. Арцыбушевой и художником Ю. Арцыбушевым (Москва, 1911 – 1915), в котором практиковалась система сеансов, когда в течение вечера шли три представления: в 7, 8.30 и в 10 часов вечера.
306 В 1930-е гг. Ю. В. Ракитина руководила Русской труппой в Белграде, где ставила спектакли наряду с мужем.
307 О сыне Ракитиных Никите см. наст. изд., с. 564, примеч. 2 к письму 30 [В электронной версии — 450].
308 Грандиозный проект постановки «Миракля» К. Фольмеллера в режиссуре М. Рейнхардта (Нью-Йорк, театр «Сенчьюри»; премьера — 15 января 1924 г.) привел Геста на грань разорения, доведя его долги до 600 тысяч долларов.
309 Архангельский Алексей Алексеевич (1881 – 1941) — композитор, заведующий музыкальной частью Театра Корша в Москве, затем театра «Летучая мышь»; после революции — в эмиграции в Париже.
310 Городецкий Юрий Васильевич (? — 1930) — артист. Служил в труппах Н. Н. Синельникова, М. Ф. Багрова и других. После отъезда за границу в 1921 г. поступил в Париже в «Летучую мышь». Нью-йоркская газета «Новое русское слово» сообщала подробности гибели артиста: «Вся местная русская артистическая колония буквально потрясена неожиданной трагической смертью артиста “Летучей мыши”, хорошо известного в Нью-Йорке Юрия Васильевича Городецкого, еще совсем недавно выступавшего в Нью-Йорке в последний приезд “Летучей мыши”. В последнее время Городецкий выступал в русском ресторане “Петрушка”. На прошлой неделе Городецкий был арестован полицией, причем причина 548 ареста до сих пор остается тайной. Что произошло в полицейском участке, не знает никто. Арест совпал с истерической компанией арестов, начавшихся после убийства бандитами репортера Лингля и вызвавших массовые облавы. В участке Городецкий оставался две ночи и день, и затем друзьям его был выдан уже труп его. Городецкий повесился в участке на собственной рубашке. На теле его, как утверждают очевидцы, было много синяков и следов от побоев» (Нью-Йорк, 1930. № 6356. 22 июня. С. 1).
311 Первые гастроли «Летучей мыши» в Англии открылись 2 сентября 1921 г. «На Пиккадили Циркюс, в театре “Павильон”, самом дорогом из лондонских театров, крупнейший антрепренер Кохран, который руководит теперь шестью театрами Лондона, показал лондонской публике “Летучую мышь” Н. Ф. Балиева <…> Лондон оказался покоренным “Летучей мышью” легко, с успехом, превосходившим даже парижский» (Последние новости. Париж, 1921. № 428. 8 сентября. С. 4). Газета также отмечает успех номера «Итальянская опера» с участием Макарова.
312 Бураковская (урожд. Сабурова) Евгения Александровна (? — 1953) — актриса. Руководила русским драматическим кружком в Лондоне.
313 Калин Самуил Исаакович и его жена — петербургские знакомые К. С. Станиславского. После революции в эмиграции.
314 Мунштейн Леонид Григорьевич (псевд. Лоло, Lolo; 1866/7 – 1947) — поэт, драматург, журналист. С 1908 по 1918 г. — редактор журнала «Рампа и жизнь». С 1908 г. — постоянный автор «Летучей мыши». Сотрудничал в берлинском еженедельнике «Театр и жизнь» и других эмигрантских изданиях. В 1923 г. организовал в Риме театр миниатюр «Маски», который с большим успехом гастролировал по Франции, Германии, Италии. С 1926 г. поселился в Ницце.
315 Ильнарская Вера Николаевна (урожд. Ильина; по мужу Мунштейн; 1880 – 1946) — актриса, издательница журнала «Рампа и жизнь» (1910 – 1918).
316 Рощина-Инсарова (урожд. Пашенная) Екатерина Николаевна (1883 – 1970) — актриса. В 1919 г. эмигрировала. С 1921 г. в Париже. В 1922 – 1923 гг. — в труппе Театра русской драмы (Рига). В 1924 – 1925 гг. руководила Камерным театром в Риге. Выступала в Париже. Как актриса первого положения принимала участие в различных русских театральных предприятиях: Русский драматический театр (1927), Новый русский театр (1927 – 1928). Играла на французском языке в театре Питоевых. Ставила спектакли с любителями, затем пробовала себя уже с актерами (Русский зарубежный камерный театр, 1932). С 1933 г. жила в парижском пригороде Бульонь-Бийянкур. Однако слухи о том, что она «окончательно бросила сцену», были сильно преувеличены. Рощина-Инсарова продолжала выступать на всевозможных театральных и литературно-музыкальных вечерах. А в апреле 1934 г. вошла в состав труппы открытого Н. Н. Евреиновым сатирического театра «Бродячие комедианты», участвовала в спектакле «Самое Главное» в постановке автора (1935, апрель). Вошла в руководство Театра русской драмы (1936). В годы оккупации Парижа была содиректором Театра русской драмы (1943 – 1944). Выступала до 1949 г.
317 Германова Мария Николаевна (1884 – 1940) — актриса. С 1902 г. — в МХТ. С 1919 по 1922 г. скиталась по югу России и Европе с «Качаловской группой». С 1922 г. вместе с Н. О. Масалитиновым возглавляла Пражскую группу МХТ. После ухода из Пражской группы (1927) сыграла в труппах Питоева и Бати Ольгу («Три сестры»), Гертруду («Гамлет»), мать Раскольникова («Преступление и наказание»). В 1929 – 1930 гг. работала как режиссер и педагог в Лабораторном театре (Нью-Йорк).
318 Асланов Николай Петрович (1877 – 1949) — актер. Племянник Вл. И. Немировича-Данченко. На сцене с 1904 г. В труппе МХТ и его студиях с 1916 по 1921 г. и с 1943 по 1944 г. С начала 20-х гг. жил в Париже, принимал участие в многочисленных эмигрантских театральных предприятиях: Пражская группа МХТ (1926 – 1929, 1934), Русский зарубежный камерный театр под управлением Б. Эспе (1930 – 1931), Русский интимный театр Дины Кировой (1931), Театр Михаила Чехова (1931), Русский драматический театр (1933), «Летучая мышь» (1933), «Бродячие комедианты» (1934), Камерный театр А. И. Долинова (1934), Русский зарубежный камерный театр (1935), где, как правило, редко задерживался. В хронике начала 549 30-х гг. по преимуществу упоминается как участник всевозможных благотворительных вечеров и «чтений». В 1935 г. вернулся в Москву. С 1935 по 1938 г. работал на киностудиях «Мосфильма» и «Ленфильма», затем в труппе Камерного театра (1938 – 1941) и Московского театра драмы (1941 – 1943).
319 Залесская (в замужестве Эйхенвальд) Евгения Ивановна — давняя знакомая Ю. Л. Ракитина. Они встретились, вероятно, в 1911 – 1912 гг. в «Бродячей собаке», где Ракитин бывал довольно часто и принимал участие в тамошних забавах, а Залесская, случалось, брала на себя роль пианистки. Сохранился план первого тома воспоминаний Ракитина, записанный его рукой. Этот том охватывает период с момента поступления в театральную школу (1901) до приезда в Сербию (1920, ноябрь). Часть IV открывается главкой «Принятие на Императорскую сцену» (осень 1914 г.), название следующей — «Поездка в Египет. Залесская» — подчеркнуто, а рядом в скобках поставлен вопросительный знак. Взаимоотношения с Залесской были настолько существенны, что он собирался посвятить (или посвятил) им главу, хотя, как можно предположить, и испытывал некоторые сомнения морального или психологического свойства.
320 Эйхенвальд Антон Александрович (1875 – 1952) — композитор, дирижер, фольклорист. Ученик Н. С. Кленовского и С. И. Танеева по теории композиции, Н. А. Римского-Корсакова — по инструментовке. С 1894 г. работал хормейстером, оперным и симфоническим режиссером, художественным руководителем оперных театров, антрепренером. Согласно статье в БСЭ (изд. 2. Т. 48. С. 347), в 1927 – 1928 гг. Эйхенвальд гастролировал во Франции, однако парижская печать таковых гастролей не зафиксировала. Ее редкие сообщения относятся к более раннему периоду. 24 января 1925 г. в театре «Гамаюн» состоялась премьера лирической сказки-балета Эйхенвальда «Иван-царевич». 22 октября того же года он аккомпанировал за роялем певице Шафхетнум Мамедовой в Русском артистическом кружке. Можно предположить, что во Франции Эйхенвальд не гастролировал, а просто жил, и жил очень скромно. Его профессиональные дарования оставались невостребованными. Нужда за ставила его отправиться в СССР на постановку оперы «Степь», написанной им на основе башкирского музыкального фольклора (поставлена в 1931 г.). Но, судя по всему, в парижском далеке он не в полной мере оценил значение «великого перелома» и то обстоятельство, что он может сказаться на возможностях пересечения границы, на протяжении 20-х гг. остававшихся весьма вольготными. По письму Е. П. Студенцова, также адресованному Ракитину (30 марта 1930 г.), можно предположить, что Эйхенвальд уехал в СССР именно в 1928 г. (письма Студенцова читатель может прочесть в этом разделе).
321 Давыдов Александр Михайлович (наст. имя и фам. Израиль Моисеевич Левенсон) (1872 – 1944) — артист оперы (лирико-драматический тенор). Выступал в провинциальных оперных театрах. С 1900 по 1914 г. — солист Мариинского театра. В 1924 г. в связи с потерей слуха оставил сцену и уехал за границу. В 1933 – 1934 гг. работал режиссером Русской оперы М. Э. Кашука, в которой пел Шаляпин. 29 сентября 1931 г. состоялось чествование Давыдова по случаю 40-летия его сценической деятельности, в котором приняли участие Шаляпин, Балиев, Рощина-Инсарова, Вертинский и другие. В 1935 г. вернулся в СССР.
322 Эдисон Томас Алва (1847 – 1931) — американский изобретатель и предприниматель. Суть конфликта неизвестна.
323 Румянцев Николай Александрович (1874 – 1948) — врач, актер, театральный деятель. Был принят в МХТ в 1902 г. как актер. Затем в основном переключился на административную деятельность. После американских гастролей 1924 – 1925 гг. расстался с Художественным театром. Умер в Нью-Йорке.
324 Дейкарханова Тамара Христофоровна (1889 – 1980) — актриса. С 1907 по 1911 г. — сотрудница и ученица школы Художественного театра. Впоследствии — одна из ведущих актрис «Летучей мыши». Осталась в США во время американских гастролей театра. Вместе с Акимом Тамировым открыла школу сценического грима, печаталась в театральной прессе. С 1932 г. преподавала на драматических курсах вместе с Марией Успенской; с Андреем Жилинским и Верой Соловьевой создала Школу сценического искусства (Нью-Йорк), во главе которой оставалась до выхода на пенсию в 1971 г.
325 550 Тамиров Аким Михайлович (1899 – 1972) — актер. С 1920 по 1924 г. — в труппе МХТ. После гастролей театра в США остался там и вошел в труппу «Летучей мыши». Здесь встретил свою будущую жену Тамару Никулину (сценич. псевд. Тамара Шайна). Играл на Бродвее, а также в Guild Theatre. После появления звукового кино перебрался в Голливуд, где стал известным характерным актером. С 1958 г. снимался в фильмах Орсона Уэллса: «Платите дьяволу», «Процесс», «Полуночные колокола» и др. Умер в Палм-Спрингс, Калифорния.
326 Никулин Вениамин Иванович (1866 – 1953) — актер, театральный деятель. Отец писателя Л. В. Никулина. С 1886 г. играл в провинции. Выступал как антрепренер с 1897 г. Организатор зарубежных гастролей «Габимы».
327 Далматов Михаил Д. (? – 1964) — артист оперетты. Выступал в Москве, Петрограде, Харькове, Одессе. За границу выехал с труппой «Летучей мыши», с которой прибыл в США. Выступал на Бродвее, затем переехал в Голливуд, где снимался в кино. Умер в Нью-Йорке.
328 Вавич (наст. фам. Плешков) Михаил Иванович (1881 – 1930) — опереточный премьер, исполнитель цыганских и русских романсов. По национальности черногорец. Начал сценическую деятельность в Санкт-Петербурге в 1904 г., затем выступал на сценах Москвы (театр Сабурова и «Эрмитаж»), много гастролировал по стране. Оставался кумиром публики до отъезда из России в 1920 г. (по другим сообщениям — в 1918 г.). Через Константинополь добрался до Парижа, где примкнул к труппе Балиева и оставался в ней три года. С 1923 г. — в США. Работал в Голливуде. Снимался преимущественно в амплуа «злодеев». Был партнером таких кинематографических звезд, как Адольф Менжу, Дуглас Фербенкс, Пола Негри и другие. Председатель русско-американского клуба в Голливуде. Был одно время женат на артистке Татьяне Павловой. Умер от разрыва сердца за рулем автомобиля в результате испуга.
329 Гастроли ГосТИМа в Париже состоялись с 17 по 26 июня 1930 г. в театре Монпарнас. Были показаны «Ревизор» Н. В. Гоголя и «Лес» А. Н. Островского. За короткой балиевской фразой стоит еще не написанная история одного из самых замечательных театральных скандалов XX века, случившегося на «Ревизоре» и лишь отчасти описанного Андреем Седых: «Недаром на генеральной репетиции возник скандал, поднятый Балиевым. Французам, не знакомым с произведением Гоголя и ни слова не понимающим в тексте, совершенно безразлично, что именно говорят актеры. Им нравится конструктивная комната в трак тире, нравится грубый шарж, нравится то, что занавес упразднен и что декорации меняются на глазах у всей публики. Но русскому зрителю, любящему Гоголя, видевшему “Ревизора” в классической постановке, невыносимо больно сидеть на этом спектакле. Спора нет — многое здесь очень талантливо, есть выдумка, есть отличные актеры — хотя бы сам Хлестаков, — есть многое, что можно взять от Мейерхольда. Но с одним нельзя примириться: нельзя самым бесцеремонным образом уродовать великое произведение, всем и каждому известное наизусть. <…> Протест части зрителей на генеральной репетиции был заглушён восторженными поклонниками Мейерхольда <…> Один из французских критиков, шумно возмущавшийся Балиевым, в антракте полюбопытствовал все-таки узнать, в чем собственно дело? — Представьте себе, что Жемье ставит “Федру” или какое-нибудь другое классическое французское произведение при участии жонглеров, негров джаз-бандистов и барменов, изготовляющих по ходу пьесы замысловатые коктейли. Что бы вы делали? Француз ответил: “Я завопил бы от возмущения”» (Сего дня. Рига, 1930. № 171. 22 июня. С. 12).
330 Вероятно, встреча с А. Я. Таировым и А. Г. Коонен состоялась во время парижских гастролей Камерного театра, которые открылись в помещении театра Пигаль 20 мая 1930 г. «Грозой» А. Н. Островского и продолжались по 2 июня. Были также показаны «Жирофле-Жирофля» и «День и ночь» Ш. Лекока, «Любовь под вязами» и «Негр» Ю. О’Нила.
331 Название «Воспоминания и мысли» указано ошибочно. Лев Никулин на протяжении 1932 г. публиковал в журнале «Красная новь» (№ 5 – 12) биографический роман «Время, пространство, движение». В одиннадцатой, ноябрьской книге была помещена глава «Призраки», где даны несколько злых памфлетных портретных зарисовок деятелей русской куль туры. Имена автор не указывал, но они легко угадывались мало-мальски сведущими читателями. В частности, Никулин писал: «Затем бывший фигурант Московского Художественного 551 театра, Фигаро молодых миллионеров, не имевший ничего для успеха, кроме совершенно круглого лица и густых, как пиявки, бровей и врожденной наглости… Тоже призрак, призрак урожайных лет, тень из ночи, наполненной призраками. Он родил русское кабаре с китайскими болванчиками, фарфоровыми курантами и оживающими лубками, с рококо и ампиром, которые так любили на сцене богатые адвокаты и купеческие сынки с университетским дипломом. Жесткий и безжалостный к своим актерам-наемникам, лакейски-угодливый с богатыми, наглое, самодовольное животное, он потерял родину и теперь держал “знамя русского искусства” в бостонских и чикагских мюзик-холлах. Он считал свою “Летучую мышь” — противного, крылатого, рожденного сумерками зверька, — он считал “Летучую мышь” в родстве с незабываемой чайкой Художественного театра» (С. 93).
332 Ф. И. Шаляпин упоминается в той же главе романа Л. В. Никулина, но его «портрет» отсутствует в тексте.
333 Павлова (наст. фам. Зейтман) Татьяна Павловна (1893 – 1975) — актриса, режиссер, педагог. На сцене с 1907 г. Была женой П. Н. Орленева. В 1921 г. эмигрировала в Италию, где в 1923 г. организовала собственную итальянскую труппу. Соответственный «портрет» Никулина выглядит следующим образом: «“Продажная девка” — девушка из русского уездного города, гимназистка, увезенная гениальным бродячим актером из шестого класса Мариинской гимназии. Она стала премьершей бродячей труппы, горничной, сиделкой при алкоголике и замечательном актере-бродяге. Любовь и юность начались для нее с по боев и объятий, голода и скитаний. Но у этой шестнадцатилетней гимназистки была жажда жизни и славы, она была из тех беспокойных и страстных созданий, которые приезжают в столицу в ситцевом платье и рваных туфлях, рисуют, пишут стихи, поют или танцуют, или делают все это сразу. И так как у этих созданий есть главное — невероятная жизнеспособность, неугомонность и жизненная сила и энергия — они пробивают себе дорогу, расталкивая худыми и острыми локтями соперниц. Беспокойный блеск их ненасытных глаз, глухой тембр взволнованного голоса, наивность и вместе с тем хитрость, жадность, честолюбие и страсть имеют такую силу, что перед ней отступают антрепренеры, портнихи, меценаты, губернаторы и критики. К тридцати годам эта женщина по лучила все — драгоценности, первые роли в театре, портреты и статьи в театральных журналах, покровительство табачного фабриканта. Первый мужчина научил эту женщину любви, заразил триппером и навсегда излечил от сентиментальности. Она знала, что значит спать со стариком, и знала, как мерзко царапает кожу небритая щетина. Руки секретных акушерок рвали ей внутренности, врачи-венерологи получали с нее натурой за излечение, портнихи сводили с богатыми лицеистами. Она знала все — интриги, предательство, подлоги и прошла через них. Океаны честолюбия и капля таланта — все-таки она получила все, чего ей хотелось к тому самому дню, когда по Зимнему дворцу выстрелила первая винтовка красноармейца» (Там же. С. 94).
334 Борисов (наст. фам. Гурович) Борис Самойлович (1873 – 1939) — артист театра и эстрады. С 1903 по 1913 г. работал в Театре Корша, в основном играл комедийные роли. Одновременно с 1908 г. выступал на эстраде — в театре-кабаре «Летучая мышь», где был одним из самых популярных артистов. В 1922 г. открыл театр миниатюр «Коробочка». В 1923 – 1924 гг. «король русского смеха» по приглашению Сола Юрока гастролировал в Нью-Йорке. По возвращении из США работал в Театре Корша и на эстраде. В книге воспоминаний, которая называлась «История моего смеха» (М., 1929), Борисов писал о работе Балиева в эмиграции: «Продуктивность его работы совершенно исчезла, за все время своей деятельности на Западе и в Америке он ограничился двумя-тремя новыми программами, которые особого успеха не имели. Большое имя он составил себе в Нью-Йорке, этом сумасшедшем городе рекламы и оригинальности. <…> Огромный успех выпал на долю знаменитой “Катеньки” и “Солдатиков”. Весь Нью-Йорк распевал “Катеньку”, как позднее распевал шаляпинскую “Эй, ухнем!” <…> остальные же номера программы большого успеха не имели» (С. 175 – 176).
335 Пьеса Н. А. Григорьева-Истомина «Нежданчик» входила в репертуар театров миниатюр. Шла в 1917 г. в Никольском театре миниатюр.
336 552 Русский голос. Нью-Йорк, 1926. 19 октября. С. 2.
337 Письмо Н. И. Бутковской Н. Н. Евреинову от 2 ноября 1926 г. Париж. [Автограф] // РГАЛИ. Ф. 982. Оп 2. Ед. хр. 59. Л. 24, 24 об.
338 Письмо Н. И. Бутковской Н. Н. Евреинову от 9 ноября 1926 г. Париж. [Автограф] // Там же. Л. 44, 44 об.
339 Письмо Б. В. Казанского Н. Н. Евреинову от 2 ноября 1926 г. Ленинград. [Автограф] // РГАЛИ. Ф. 982. Оп 1. Ед. хр. 190. Л. 11.
340 Ракитин поставил «Самое Главное» («Главна Ствар») в Национальном театре (Белград). Премьера — 21 июня 1923 г.
341 «L’Illustration» — французский театральный журнал; в качестве приложения выходила серия «Supplément théâtre» (1898 – 1913), где публиковались пьесы. С 1913 по 1937 г. серия издавалась под новым названием — «La Petite Illustration».
342 Правильно — Гавелла Бранко (1885 – 1962) — югославский режиссер хорватского происхождения. С 1921 по 1926 г. — главный режиссер и директор хорватского Национального театра в Загребе. В 1926 – 1929 гг. директор Национального театра (Белград). Был вынужден покинуть пост директора и Белград после поездки в Москву для участия в праздновании 30-летия Художественного театра.
343 Младенович Ранко (1892 – 1943) — поэт, драматург, переводчик. С 1925 по 1929 г. — генеральный секретарь белградского Национального театра; с 1937 по 1939 г. — директор его драматической труппы. С 1935 по 1937 г. — директор Национального театра в Осиеке. Будучи в плену во время второй мировой войны, руководил театром югославских военнопленных в лагере в Нюрнберге (1941 – 1942).
344 Шервашидзе (Чачба) Александр Константинович, князь (1867 – 1968) — театральный художник. С 1920 г. жил в Париже. Умер в Монте-Карло. С Евреиновым его связывали многолетние, начиная со «Старинного театра» (1911 – 1912), творческие и личные взаимоотношения, которые осложнились расхождением, возникшим после возвращения Евреинова из США в 1926 г. На долгие годы всякие связи были прерваны и восстановлены только после начала второй мировой войны.
345 Пелёхин Борис Павлович (1883 – 1943) — дипломат, масон. Окончил Императорское Училище правоведения, 64-й выпуск. 1911 – 1912 гг. — 2-й секретарь посольства в Китае. 1916 г. — 1-й секретарь посольства в Цетинке (Черногория). Советник русской миссии в Белграде. После 1917 г. жил во Франции, служил в банке (1930 – 1936). С 1931 г. — член совета Российского торгово-промышленного и финансового союза. Умер в Биарице.
346 В 1911 – 1917 гг. на сцене Михайловского театра в дни, свободные от представлений французской труппы, шли по сниженным ценам спектакли Александринского театра для учащейся молодежи. «Крещенский вечер, или Все, что хотите» Шекспира в переводе П. П. Гнедича стал вторым спектаклем Ракитина, поставленным с александринской труппой. На премьере 26 сентября 1912 г. роль Мальволио исполнял В. А. Сухарев, чья игра вызвала резкие критические отклики: «Мальволио — глупый фат, пшют, а не шут гороховый» (Театр и искусство. СПб., 1912. № 49. С. 756). Вероятно, позже Ракитин сам ввелся на эту роль.
347 553 «Театр вечной войны» (1928) — пьеса Евреинова, заключительная часть трилогии «Двойной театр», в которую входили также «Самое Главное» (1921) и «Корабль Праведных» (1926).
348 Евреинов имеет в виду следующую заметку: «В Белграде “русское драматическое общество” готовит под режиссерством Ю. Л. Ракитина пьесу Н. Н. Евреинова “Самое Главное”» (Театр и музыка // Последние новости. Париж, 1929. № 2903. 4 марта. С. 5). Возможно, у него были основания сомневаться в достоверности информации.
349 Пьесу «Театр вечной войны» Евреинов поставил с итальянской труппой Татьяны Павловой в театре «Filodrammatici». Премьера — 3 апреля 1929 г. Художники Акиле Броджи и Леон Зак. Переводчица Нальди-Олькеницкая Раиса Григорьевна — итальянская поэтесса русского происхождения. В 20-е гг. успехом пользовался ее лирический сборник «Зеркало» («Lo specchino»). Выступала как переводчица. В середине 20-х гг. в миланском издательстве «Альпес» были опубликованы «Роза и Крест» А. Блока, «Заложники жизни» Ф. Сологуба, сборник пьес Евреинова, куда вошли «Веселая смерть», «В кулисах души» и «Самое Главное». Именно она, по замечанию Евреинова, «меня “устроила” к Пиранделло» (РГАЛИ. Ф. 982. Оп 1. Ед. хр. 120. Л. 13).
350 Премьера оперы Н. А. Римского-Корсакова «Царь Салтан» в Русской частной опере М. Н. Кузнецовой-Массне в постановке Евреинова состоялась 30 января 1929 г. Художники И. Я. Билибин и А. В. Щекатихина. Дирижер Э. Купер. Théâtre des Champs-Elysées (Париж).
351 Премьера оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» в Русской частной опере М. Н. Кузнецовой-Массне состоялась 15 апреля 1929 г. Режиссер Евреинов, художник К. А. Коровин, дирижер А. И. Лабинский.
352 Роговская Ксения Евгеньевна (1896 – 1960) — оперная певица, лирико-колоратурное сопрано. Родилась в Варшаве, училась в Милане. С 1914 г. — в Опере Зимина. В 1920 – 1927 и 1933 – 1935 гг. регулярно выступала в оперной труппе белградского Национального театра. Исполняла ведущие партии. С 1920 по 1925 г. — в Оперной труппе при Сербском народном театре (Нови Сад). Выступала в загребском Национальном оперном театре. Принимала участие в спектаклях Русской частной оперы М. Н. Кузнецовой-Массне: «Князь Игорь», «Царь Салтан» и «Снегурочка» (1929 – 1930). Ее муж Христич Стеван (1885 – 1958) — композитор и дирижер, один из основателей современной сербской композиторской школы. В 1913 – 1914 гг. работал дирижером в Национальном театре (Белград). С 1924 по 1935 г. — директор и дирижер оперной труппы того же театра. Участвовал в создании в 1937 г. Музыкальной академии, где был профессором по классам композиции и инструментовки до 1950 г.
353 Нелидов Владимир Александрович (1887 – 1978) — капитан лейб-гвардейского Преображенского полка. Участник мировой и гражданской войны. Эмигрировал в Сербию. Написал оперу о битве на Косовском поле в XVI в. В 1927 г. поселился во Франции. Сотрудничал с балериной В. Немчиновой в Монте-Карло, с Театром Верди в Италии. Зарабатывал уроками игры на фортепьяно. В Париже возобновил постановки русских опер в концертном исполнении в Зале Гаво («Евгений Онегин», «Демон», «Жизнь за царя», «Снегурочка» и др.). Друг семьи А. Н. Бенуа.
354 Аничков Евгений Васильевич (1866 – 1937) — историк литературы, фольклорист, писатель. Окончил в 1892 г. историко-филологический факультет Петербургского университета. С 1895 г. — приват-доцент кафедры западноевропейской литературы в Киевском университете. В 1901 г. принимал участие в создании парижской Высшей школы общественных наук. С 1902 г. — приват-доцент кафедры западноевропейской литературы в Петербургском университете, член политических и литературных кружков. Во время первой мировой 554 войны сражался во Франции в составе Русской дивизии. В 1917 г. пошел добровольцем в русские части, воевавшие в Сербии на Солунском фронте. С 1918 по 1920 г. преподавал в Париже. Один из основателей и первый президент Русской академической группы во Франции. С 1920 г. — профессор Белградского университета. С 1926 г. — профессор философского факультета в Скопле. Автор многочисленных научных работ. Был в центре культурной жизни русской эмиграции в Европе и Югославии.
355 Пьесу Евреинова в Национальном театре в Скопле ставил режиссер А. А. Верещагин (1931).
356 Пьеса «Бог под микроскопом» (окончательное название «Любовь под микроскопом») была написана Евреиновым летом 1931 г.
357 См. примеч. 1 к письму 1 [В электронной версии — 340].
358 Кривецкий Борис (1883 – 1941) — режиссер. С 1923 г. — в Загребе, ставил оперы и оперетты. После 1934 г. несколько лет работал в Нови Саде. Премьера «Самого Главного» в хорватском Национальном театре (Загреб) состоялась 29 июня 1923 г. Музыка К. Барановича. Сценография и костюмы В. Ульянищева.
359 Премьера «Самого Главного» в Национальном театре (Нови Сад) была сыграна 9 октября 1923 г. Режиссер Брана Войинович. Вскоре спектакль был повторен в Национальном театре Сплита.
360 Союз русских писателей и журналистов в Югославии (Белград, 1925 – 1937) был образован 1 октября 1925 г. в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (название Югославии до 1929 г.). Председателем был избран бывший сотрудник газеты «Новое время» А. И. Ксюнин. Союз устраивал литературные конкурсы, вечера, издавал книги писателей-эмигрантов, вел театральную деятельность, стал инициатором Первого Съезда русских зарубежных писателей и журналистов, прошедшего в сентябре 1928 г.
361 Шмелёв Иван Сергеевич (1873 – 1950) — писатель. В 1910 г. вошел в Товарищество «Знание». Всероссийскую славу ему принесла повесть «Человек из ресторана» (1910). В эмиграции с 1922 г., где примыкал к правому флангу. Жил в Париже.
362 Станислава Высоцкая, польская актриса и режиссер, поставила «Театр вечной войны» в Городском театре (Познань, 4 марта 1930 г.). В письме Евреинову от 19 апреля 1930 г. Высоцкая сообщала: «“Театр вечной войны” прошел с большим успехом уже 15 раз. После праздников опять играем. Много различных толков насчет пьесы. Одни отрицают идею, другие принимают. Вообще интересно все, что было вокруг пьесы» (РГАЛИ. Ф. 982. Оп 1. Ед. хр. 165. Л. 8). Ввиду несомненного успеха Высоцкая была приглашена в Вильно в польский Театр на Погулянце, где «Театр вечной войны» был показан 4 декабря 1931 г. и выдержал 17 представлений.
363 «Театр вечной войны» был поставлен Эдуардом Смилгисом в Художественном театре (Рига) под названием «Маскарад жизни». Премьера состоялась 13 апреля 1929 г.
364 Имеется в виду спектакль, поставленный Евреиновым в итальянской труппе Павловой. Премьера — 3 апреля 1929 г.
365 «Театр вечной войны» в переводе Манлио Мизерокки был опубликован в издательстве «Nemi» (Флоренция) под названием «Il teatro della guerra eterna» (1931).
366 Римский (наст. фам. Курмашев) Николай Александрович (1886 – 1942) — актер кино. Начал сниматься в 1915 г. у Г. И. Липкина (наст. фам. Липкен). Потом работал у И. Н. Ермольева. В Париже с 1920 г. До 1924 г. работал на киностудии «Альбатрос», принадлежавшей А. Каменку и Н. Блоху. Принимал участие в спектаклях Русского зарубежного камерного театра (1935). Умер в оккупированном Париже от случайного отравления газом.
367 О работе над фильмом по сценарию Евреинова «Только не в рот» (1931) А. А. Кашина-Евреинова вспоминала: «Главная ведетта фильма, Николай Римский, страдал запоем, и все крученье проходило в состоянии острого напряженного страха перед припадком запоя, 555 могущим остановить всю работу» (Кашина-Евреинова А. А. Н. Н. Евреинов в мировом театре XX века. Париж, 1964. С. 64).
368 Имеется в виду «Бог под микроскопом».
369 Речь идет о трактате «Откровение искусства», который Евреинов завершил только в 1937 г. (не опубликован).
370 Лавинский Александр Иванович (1894 – 1963) — дирижер, пианист, педагог. С 1921 г. в эмиграции в Париже, профессор Русской консерватории имени С. В. Рахманинова. Был женат на Ираиде (Ирине) Александровне Кашиной-Кашкиной (1906 – 1968), сестре Анны Александровны Евреиновой (урожд. Кашиной-Кашкиной; 1898 – 1981).
371 Извольский Александр Петрович (1856 – 1919) — дипломат. Умер в Париже. Его дочь, Елена (1895 – 1975) — писательница, деятельница экуменического движения, масон. Издавала в Нью-Йорке с 1946 г. до конца жизни журнал «Третий час». Преподавала в Фордамском университете (Нью-Йорк). Первый роман А. А. Кашиной, написанный в соавторстве с Е. А. Извольской на французском языке, назывался «La jeunesse rouge d’Inna» («Красная юность Инны»). Он был опубликован весной 1927 г. в журнале «Revue de France», а в 1928 г. вышел отдельной книгой в издательстве «Editions de France», редактором которого был писатель Марсель Прево. Там же в 1930 г. был издан ее роман «Je veux concevoit» («Хочу зачать»). Третий роман свет не увидел.
372 Унгерн-Штернберг Рольф Рудольфович (1880 – 1942) — дипломат, масон. В октябре 1905 г. поступил во 2-й департамент Министерства иностранных дел. В начале 1909 г. назначен 2-м секретарем русского посольства в Константинополе. С конца 1916 г. — 1-й секретарь русской миссии в Лиссабоне. В августе 1918 г. уехал из Лиссабона и около двух лет провел в Испании. В 1920-х гг. жил в Берлине, с 1931 по 1932 г. — в Нагасаки. Его бракосочетание с Е. А. Извольской состоялось 27 мая 1931 г. Умер в Оита, Япония.
373 Успех Колониальной выставки, открывшейся в Париже 1 мая 1931 г., во многом определило увлечение восточной культурой, которому было суждено в иных случаях перерасти в «паломничество на Восток». Показанные в рамках выставки представления фольклорного театра острова Бали вдохновили Антонена Арто на статью «Балийский театр», которая впоследствии вошла в его знаменитый манифест «Театр и его Двойник» (1938).
374 Речь идет о заметке, которую упоминал Евреинов в письме от 20 сентября 1931 г. Она бы ла опубликована под названием «Известный русский режиссер и писатель Н. Н. Евреинов — член синдиката французских драматургов»: «Ввиду материального успеха во Франции пьес Евреинова “Веселая смерть”, “Комедия счастья” и “Кулисы души”, он получил от французского Союза драматических писателей, членом которого он состоит 10 лет, официальное звание “профессионального драматурга”, каковое (впервые присвоенное русскому драматургу во Франции) обусловило избрание его в качестве равноправного члена в синдикат драматических писателей и киносценаристов, не имевший до сих пор русского представителя» (Русский голос. Белград, 1931. № 24. 20 сентября. С. 3).
375 Премьера «Самого Главного» в постановке Ракитина в русской труппе прошла только перед следующим Рождеством — 11 декабря 1932 г.
376 Премьера комедии Л. Маршана «Бальтазар» в постановке Ракитина состоялась 5 ноября 1931 г.
377 Белградская премьера «Ревизора» в Пражской группе МХТ была сыграна 19 октября 1930 г. Режиссер Ю. Л. Ракитин. Художник В. И. Жедринский.
378 Свой XIII сезон Пражская группа под руководством П. А. Павлова открыла в Париже 3 октября 1931 г. «Ревизором». Среди исполнителей: В. М. Греч, П. А. Павлов, Л. Левицкая, Б. А. Алекин, Б. Н. Эспе и другие.
379 Алекин (наст. фам. Пуль) Борис Александрович (1904 – 1942) — актер. С 1921 г. — в Берлине. Несколько сезонов проработал в театрах Макса Рейнхардта. В 1930 г. вступил в Пражскую группу. Гастролировал с ней на Балканах. С 1931 по 1933 г. — в Театре русской драмы (Рига). С 1934 по 1936 г. совершил с Пражской группой МХТ поездку по Европе и Америке. 556 Работал в «Летучей мыши». С 1936 по 1941 г. снимался в кинематографе, выступал на немецкой сцене. Во вторую мировую войну добровольцем-переводчиком ушел на Восточный фронт, где скончался от тяжелой болезни.
380 Речь идет о собрании инициативной группы в Москве 10 августа 1917 г., на котором был создан Союз мастеров сценических постановок (режиссеров и художников-декораторов). Участники называли его съездом. Во Временное бюро вошли режиссеры Н. Н. Евреинов, Ф. Ф. Комиссаржевский, Вс. Э. Мейерхольд, В. Г. Сахновский, А. Я. Таиров и художники Ю. П. Анненков и А. В. Лентулов. Тогда же как отделение Союза оформилась петроградская комиссия: Евреинов, Мейерхольд, Ракитин, Н. М. Фореггер, Анненков и М. В. Бабенчиков. В московскую комиссию вошли Комиссаржевский, Сахновский, Таиров, Г. Б. Якулов и И. С. Федотов. «<…> Начатую этим объединением разработку принципов авторского права режиссера считали поворотным моментом в формировании самосознания режиссуры как самостоятельной профессии» (Мейерхольд В. Э. Лекции. 1918 – 1919 / Примеч. О. М. Фельдмана и Н. Н. Панфиловой. М., 2000. С. 77).
381 В Музее МХАТ хранится программа «Ревизора» на французском языке, в которой режиссерами спектакля значатся Ю. Л. Ракитин и П. А. Павлов, художником — В. И. Жедринский (фонд 425).
382 В анонсе, который администрация Пражской группы представила в газеты, фамилия Ракитина не упоминается: «Верные традициям лучших русских театров, “художественники” открывают свой XIII сезон в театре “Эден” “Ревизором” в постановке руководите ля группы — П. А. Павлова» (Открытие русского сезона // Возрождение. Париж, 1931. № 2312. 1 октября. С. 4). Аналогичный текст был воспроизведен и в «Последних новостях» (Париж, 1931. № 3844. 1 октября. С. 4).
383 Ракитин невнимательно читал рецензию Н. Н. Чебышева. В ней говорилось: «Алекин, играющий в пьесе еще и другую роль — Лариончика [так в тексте. — В. И.], блеснул чистейшим немецким офицерским говором и дал подлинный тип (говорят, он работал у Макса Рейнхардта)» (Возрождение. Париж, 1931. № 2318. 7 октября. С. 3).
384 В рецензии на «Белую гвардию» Сергей Волконский писал: «Постановка этой пьесы, как и постановка “Ревизора”, раскрывает огромную работу, сделанную группой “пражан”» (Последние новости. Париж, 1931. № 3850. 7 октября. С. 3). Он также выделил Б. Алекина как «прекрасного, с совершеннейшей немецкой речью майора» и «совсем молоденького студентика, едва вылупившегося маменького сынка»: «настоящий комизм, без малейшей натяжки, “самоцветный”».
385 Васич Михайло (1897 – 1953) — актер, режиссер. С 1923 по 1928 г. — режиссер и секретарь Национального театра в Нови Саде, в 1928 – 1929 гг. — актер Национального театра в Сараеве, с 1929 по 1931 г. — актер, режиссер и секретарь Национального театра в Скопле. С 1931 по 1944 г. — актер драматической труппы Национального театра в Белграде.
386 Премьера пьесы Л. Пиранделло «Шестеро персонажей в поисках автора» в постановке Ракитина состоялась 2 июня 1926 г. в белфадском Национальном театре.
387 Голенищев-Кутузов Илья Николаевич (1904 – 1969) — литературовед, переводчик. В 1921 г. эмигрировал. Окончил в 1925 г. историко-филологический факультет Белфадского университета. С 1935 по 1940 г. публиковал статьи по романским и славянским литературам в сербских журналах. В 1955 г. вернулся в СССР. Работал в Институте мировой литературы имени А. М. Горького.
388 557 Штрандтман (Штрандман) Василий Николаевич (1877 – 1963) — дипломат, масон. Родился во Франции (г. По). Учился в Пажеском корпусе в Петербурге (1886 – 1897), после чего был назначен камер-пажом императрицы. С 1901 по 1906 г. — секретарь в Министерстве иностранных дел (СПб.). Секретарь миссии в Дармштадте (1906 – 1908), в Софии (1908 – 1909), секретарь посольства в Константинополе (1910 – 1911), 1-й секретарь посольства в Белграде (1911 – 1914), 1-й секретарь посольства в Риме (1915 – 1917). В 1919 г. назначен адмиралом Колчаком чрезвычайным и полномочным посланником в Белграде, занимал эту должность до 1924 г. Затем (до 1941 г.) — делегат при Государственной комиссии по делам русских эмигрантов в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (Югославия), уполномоченный Красного Креста. Во время оккупации подвергался преследованиям гестапо. В конце войны перебрался в Швейцарию, затем переехал в США (1945).
389 Толь Маргарита Карловна (1860-е – 1942). В. Н. Штрандтман приходился ей родственником по материнской линии.
390 Король Александр I Карагеоргиевич (1888 – 1934) учился в Женеве (начальная школа), в Петербурге (гимназия). В Белграде и позже во Втором кадетском корпусе в Петербурге получил военное образование. Учился в Императорском Училище правоведения. С 22 июня 1914 г. — король Сербии. С 1 декабря 1918 г. — регент Королевства сербов, хорватов и словенцев, с 17 августа 1921 г. — король.
391 Правильно — Спалайкович Мирослав (1869 – 1951) — сербский дипломат. В годы первой мировой войны — посланник Сербии в России. В 1920 – 30-е гг. — посол во Франции.
392 Ксюнин Алексей Иванович (1880 – 1938) — журналист петербургской газеты «Новое время». Во время первой мировой войны был фронтовым корреспондентом, затем находился при штабе Добровольческой армии. Начиная с 1921 г. был одним из редакторов белградской газеты «Политика», сотрудничал в русских газетах, издававшихся в Белграде. Был белградским корреспондентом лондонской газеты «Тайме». Ксюнин — один из основателей Союза русских писателей и журналистов, первый председатель этого союза (1925). Автор нескольких книг, опубликованных в России и Югославии. Существует предположение, что Ксюнин был агентом советской разведки в Белграде. Покончил с собой в со стоянии душевного расстройства.
393 О составе комитета белградская газета «Русский голос» сообщала: «В комитете по чествованию: председатель русского культурного комитета проф. Александр Белич, делегат по русским делам в Югославии В. Н. Штрандтман, А. И. Куприн, А. И. Ксюнин, Вас. И. Немирович-Данченко, Н. Н. Евреинов, Игорь Северянин, балерины Е. Д. Полякова и Н. В. Кирсанова, проф. Е. В. Аничков и др.» (1933. № 98. 19 февраля. С. 3).
394 Премьера пьесы Ж. Деваля «Мадемуазель» в белградском Национальном театре в постановке Ракитина состоялась 16 февраля 1933 г.
395 Пантелеймон Романов. «Товарищ Кисляков. Три пары шелковых чулок». Берлин, 1931. На протяжении 1930 г. роман печатался в рижской газете «Сегодня». В труппе Ю. В. Ракитиной была использована инсценировка Р. А. Унгерна, поставленная в Театре русской драмы (Рига, 26 сентября 1932 г.).
396 Предич Милан (1881 – 1972) — театральный деятель, критик. На протяжении многих десятилетий был тесно связан с белградским Национальным театром. Заведовал литературным отделом (1909 – 1910), был секретарем (1911 – 1914), директором драматической труппы (1918 – 1923). Пост директора Национального театра занимал трижды: 1924 – 1933, 1939 – 1940, 1944 – 1947.
397 Ц[акони]. Юбилей Ю. В. Ракитиной // Возрождение. Париж, 1933. № 2814. 14 февраля. С. 4.
398 558 Некоторые сведения об артистической деятельности Ю. В. Ракитиной можно почерпнуть из статьи И. Голенищева-Кутузова, написанной со слов актрисы: «Ю. В. Ракитина окончила театральную школу недавно умершего А. П. Петровского, играла в Литейном театре (первый ее дебют в пьесе Евреинова “Веселая смерть”). В течение многих лет была партнером Аркадия Аверченко, принимала деятельное участие в петербургской “Комедии”. Покинув Петербург во время гражданской войны, выступала в Харьковском Театре пропаганды (Осваг) под режиссерством Тарханова. Затем в Одессе на главных ролях под режиссерством Озаровского» (Возрождение. Париж, 1933. № 2837. 9 марта. С. 4).
399 Премьера «Трех пар шелковых чулок» П. Романова в Русской труппе под дирекцией Ю. В. Ракитиной прошла 5 марта 1933 г. После спектакля состоялось чествование Ю. В. Ракитиной.
400 Правильно — Войинович Брана (Бранислав) (1892 – 1946) — театральный деятель. С 1923 по 1928 г. — режиссер и директор Национального театра в Нови Саде; с 1928 по 1935 г. — директор Национального театра в Скопле. С 1935 по 1939 г. — генеральный директор Национального театра в Белграде.
401 Караджич Радивой (1887 – 1967) — театральный деятель. С 1919 по 1921 и с 1923 по 1928 г. — директор Национального театра в Скопле. С 1921 по 1922 г. — директор Национального театра в Нови Саде. С 1929 по 1931 г. — генеральный секретарь Национального театра в Белграде. С 1931 по 1934 г. — директор драматической труппы Национального театра в Белграде. В 1934 г. уволен в связи со скандалом вокруг премьеры «Зойкиной квартиры» Булгакова в постановке Ракитина.
402 Чебышев Николай Николаевич (1865 – 1937) — театральный критик. Родился в Варшаве. В 1889 г. закончил юридический факультет Петербургского университета. Служил по судебному ведомству. В 1916 г. был назначен прокурором Московской судебной палаты. Принимал активное участие в Белом движении. Был управляющим отделом внутренних дел при Главнокомандующем вооруженными силами на юге России. Издавал газету «Белое движение» (1919), журнал «Русский сборник». В 1923 г. в Константинополе был назначен бароном Врангелем начальником бюро русской печати, где издавал еженедельник «Зарницы». Активный участник монархических, военных и других правых организаций. С 1923 по 1926 г. — в Белграде. В 1926 г. переехал в Париж, где вошел в число постоянных сотрудников газеты «Возрождение». В последние годы посвятил себя журналистике, не принимая почти никакого личного участия в эмигрантской политической жизни. Умер в Париже.
403 Ю. В. Ракитина либо ошибается, либо сильно округляет сроки своей артистической деятельности. «Веселая смерть» Евреинова в Литейном театре была впервые показана в первой половине ноября 1911 г. В той постановке Коломбину играла премьерша труппы Е. А. Мосолова. 18 апреля 1916 г. «Веселую смерть» возобновили в составе программы, куда также входили «Дуралей», «Тонкая психология» Н. Тэффи, «Когда женщина хочет» А. Аверченко, «Черная опасность» Г. М. Постановка Ф. Н. Курихина. Рецензент «Театра и искусства» отметил в роли Коломбины «Ракитину, дебютантку, актрису, видимо, толковую» (1916. № 17. 24 апреля. С. 343).
404 Грундт-Дюмэ Ксения Федоровна (? – 1979) — артистка балета. Выступала в балетной труппе белградского Национального театра. Много гастролировала (Бельгия, Голландия, 559 Франция, Югославия). Выступала с балетным премьером Игорем Юскевичем в Америке. Также принимала участие в драматических спектаклях. Умерла в Каннах.
405 Премьера пьесы В. П. Катаева «Квадратура круга» в Русской труппе Ю. В. Ракитиной про шла 13 декабря 1930 г.
406 Премьера пьесы Д. С. Мережковского «Петр и Алексей» в труппе Ю. В. Ракитиной состоялась 1 октября 1933 г.
407 Инсценировка «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова была показана в труппе Ю. В. Ракитиной в конце октября – начале ноября 1933 г.
408 Премьера пьесы «Карьера Йошки Пучека» Й. Стодола в белградском Национальном театре в постановке Иосифа Кулунджича состоялась 4 октября 1933 г.
409 Премьера «Фанни» М. Паньоля в белградском Национальном театре в постановке Радомира Веснича была сыграна 13 октября 1933 г.
410 Премьера «Давида Копперфильда» Ч. Диккенса в белградском Национальном театре в постановке Ракитина состоялась 20 октября 1933 г.
411 В сентябре 1935 г. Ракитин в беседе с Ю. В. Офросимовым сообщил: «Другая же моя отдушина — законченные мною мои воспоминания, охватывающие период с моего поступления в императорскую театральную школу В. Н. Давыдова до самых последних лет» (Воз рождение. Париж, 1935. № 3744. 3 сентября. С. 4). Фрагмент воспоминаний под названием «Записки русского актера и режиссера», относящийся к первым годам эмиграции, хранится в архиве режиссера (Театральный музей Воеводины / Pozorisni muzej Vojvodine). Там же хранится и подробное оглавление. Судьба остального текста неизвестна.
412 Книга воспоминаний Н. Н. Чебышева «Близкая даль» была опубликована в Париже в 1933 г.
413 Дуван-Торцов Исаак Ездрович (1873 – 1939) — театральный предприниматель, актер. Окончил юридический факультет Киевского университета. Краткие биографические сведения о себе изложил в белградской газете «Русский голос»: «Антрепренерскую деятельность начал в Вильно, а затем снял театр Соловцова в Киеве. Тут и протекла главная часть моей работы. Незадолго до войны передал театр Синельникову и поехал “учиться” в Москву, где и был принят в состав Художественного театра. Затем два года был директором Московского Драматического театра. Два года был главным режиссером Национального театра в Софии, затем Берлин, русские спектакли в театре “Des Vestens”, кино, главное режиссерство в “Синей птице”, поездка по Европе и Южной Америке со своим театром миниатюр [“Маски”], Пражская группа и турне Полевицкой» (1931. № 115. С. 3).
414 В «Русском голосе» на эту тему выступал А. Ф. Черепов: «… те мелко-тенденциозные пьесы, которые существуют, так слабы и малосценичны, что их никак нельзя предпочесть доброму, испытанному репертуару дореволюционного театра. А кроме того, я не верю, чтобы они могли быть полезны нам в нашем эмигрантском тяжком бытии» (Русский общедоступный театр // Русский голос. Белград, 1933. № 130. 1 октября. С. 5.) Нет никаких сомнений, что той же точки зрения придерживался второй соучредитель театра — И. Е. Дуван-Торцов.
415 «Шпанская мушка», фарс С. Ф. Сабурова, «Дорога в ад», комедия-фарс Г. Кадельбурга, «Девушка с мышкой», комедия И. А. Кочергина, — низкопробный, «низовой» репертуар 1910-х гг., в Белграде использовался полупрофессиональными актерами, собиравшимися на спектакль.
416 В ноябре 1933 г. в эмигрантской прессе появились сообщения о том, что в Париже организован театр для юношества «Веселая сцена» под руководством Анны Кашиной и при участии Евреинова и барона Н. В. Дризена. В репертуаре: комедия М. Сервантеса «Два болтуна», 560 драматический эскиз «Отче наш» Ф. Коппе, фарс «Медведь и паша» Э. Скриба. Генеральная репетиция состоялась 30 ноября 1933 г., премьера — не позднее 2 декабря 1933 г. Дризен (Остен-Дризен) Николай Васильевич, барон (1868 – 1935) — театральный деятель. Вместе с Евреиновым основал в 1907 г. «Старинный театр». Читал лекции по истории русского театра в школе Литературно-художественного общества. В 1909 – 1915 гг. — редактор «Ежегодника Императорских театров». Цензор драматических сочинений. Умер в Париже.
417 Ссора возникла в раннюю пору существования «Старинного театра», усугубилась во время московских гастролей (1912), когда Дризен не включил в афишу Николая Евреинова.
418 Вечер сравнительной пластики был показан в рамках открытия Артистического клуба (не позднее 30 ноября 1933 г.). В него были включены японский танец (Рикухеи Умемойо), индусский (Индра Рамозай), персидский (чета Меджит Резвани), татарский (Борис Князев), андалузский (Конхита), французский (Люсьена Ламбалль), немецкий танец в стиле «Трехгрошовой оперы». Наибольшим успехом пользовал индейский танец в исполнении Оскомона (подробнее см.: Сазонова Ю. Артистический клуб // Последние новости. Париж, 1933. № 4637. 2 декабря. С. 5).
419 Одноактная пьеса Евреинова «Степик и Манюрочка» в переводе А. А. Кашиной и постановке Ш. Сидэри была разыграна русскими артистами М. М. Читау-Карминой и Д. А. Дмитриевым на французском языке. Studio des Champs Elysées. Премьера — 10 ноября 1933 г.
420 Оленина Марьяна Петровна (1901 – 1963) — балерина, хореограф. Родилась в Москве, где получила балетное образование, продолжила его в балетной школе Елены Поляковой (Белград). Совершенствовалась в Париже. С 1923 г. — солистка балетной труппы Национального театра (Белград). В годы второй мировой войны участвовала в народно-освободительной борьбе. После войны художественный руководитель и хореограф ансамбля Югославской народной армии, основатель и хореограф балетной труппы сербского Национального театра (Нови Сад). Умерла в Белграде.
421 Оленин Петр Сергеевич (1870 – 1922) — артист оперы (баритон) и режиссер. В 1898 – 1900 гг. пел в Московской частной русской опере, с 1900 по 1903 г. — в Большом театре, с 1904 по 1915 г. — в Оперном театре Зимина, где работал также режиссером (с 1907 г. — главным). С 1915 по 1918 г. — режиссер Большого театра. С 1918 г. — режиссер Государственного академического театра оперы и балета в Петрограде.
422 Крыжановская Мария Алексеевна (1891 – 1979) — актриса. В Художественном театре с 1915 по 1919 г. Принимала участие в гастролях «Качаловской группы», в зарубежных гастролях МХТ (1922 – 1924). Затем примкнула к Пражской группе. Сезон 1930/31 г. работала в театре Михаила Чехова. Некоторое время играла в театре П. А. Павлова и В. М. Греч. 10 февраля 1934 г. гастрольно выступила в роли Негиной в «Талантах и поклонниках» А. Н. Островского (труппа Ю. В. Ракитиной).
423 Серж Лифарь прибыл в Нью-Йорк в начале ноября 1933 г. В его программу входили: «Творения Прометея» (балет Лифаря на музыку Л. ван Бетховена), «Видение розы» (балет М. М. Фокина на музыку К.-М. Вебера), «Послеполуденный отдых фавна» (балет В. Ф. Нижинского на музыку К. Дебюсси), «Кошка» (балет Дж. Баланчина на музыку А. Соге), а также дивертисмент на музыку П. И. Чайковского и Н. Н. Черепнина с хореографией М. М. Фокина и М. Петипа. После выступления в Нью-Йорке последовали гастроли в Чикаго, Бостоне, Монреале. Гастроли Лифаря, судя по всему, осуществлялись на скромные средства. Критика зафиксировала участие А. И. Лабинского вовсе не в качестве дирижера, но отметила, что «пианисты А. Лабинский и Н. Копейкин заменили оркестр» (Новое русское слово. Нью-Йорк, 1933. 10 декабря. С. 4).
424 561 Альберт I (1875 – 1934) — бельгийский король с 1909 г. Умер 17 февраля 1934 г.
425 Коэн Гюстав Давид (1879 – 1958) — французский литературовед. Почетный профессор Сор бонны. Преподавал в университетах Лейпцига (1905 – 1908), Амстердама (1912 – 1919), Страсбурга (1919 – 1924) и Парижа (1925 – 1950). Наиболее значительные работы посвящены истории средневекового театра, творчеству Кретьена де Труа, П. Ронсара, П. Валери.
426 Евреинов имеет в виду спектакли «Старинного театра» в Петербурге. «Действо о Теофиле» Рютбефа входило в программу первого вечера средневекового цикла (1907, 7 декабря); «Jeu de Robin et Marion» («Игра о Робине и Марион» Адама де ла Аля) была показана во второй вечер средневекового цикла (1908, март).
427 Премьера «Дамы с камелиями» А. Дюма-сына в белградском Национальном театре в постановке Ракитина состоялась 6 марта 1934 г.
428 Премьера «Зойкиной квартиры» М. А. Булгакова в белградском Национальном театре в постановке Ракитина прошла 23 марта 1934 г.
429 Ракитин получил пьесу от Р. А. Унгерна, который поставил «Зойкину квартиру» в рижском Театре русской драмы. Премьера — 9 октября 1930 г.
430 Конфликт Вс. Э. Мейерхольда с В. Ф. Комиссаржевской (Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской, 1906 – 1907) во многом стал конфликтом «века режиссерского» с «веком актерским». Соответственно, разделились голоса театральных критиков и театральной общественности, где большинство было явно не с Мейерхольдом. Страшная смерть Комиссаржевской в 1910 г. вновь всколыхнула общественное мнение, превращая Мейерхольда в косвенного виновника. В это время по приглашению директора Императорских театров В. А. Теляковского режиссер уже работал в Александринском театре (с 1908 г.). Общественное мнение по поводу тех или иных конфликтов Мейерхольда с актрисами мстительно припоминало судьбу Комиссаржевской. Теляковскому в этой ситуации требовалось немало самообладания и твердости.
431 Постановка «Мертвых душ» не была осуществлена.
432 Ведринская Мария Андреевна (1877 – 1948) — актриса. В первой половине 1900-х гг. выступала в Василеостровском театре и Новом театре Л. Б. Яворской, Драматическом театре В. Ф. Комиссаржевской. С 1906 г. — актриса Александринского театра. С сентября 1924-го по весну 1935 г. работала в Театре русской драмы в Риге. Выступления в Белграде начались в мае 1935 г. Работала в антрепризе Е. А. Жукова, в театре П. А. Павлова и В. М. Греч. В первых числах января 1937 г. сыграла в «Сестре Беатрисе» М. Метерлинка (Русский дом, режиссер Ю. Л. Ракитин). В 1939 г. вернулась в Ригу в Театр русской драмы. Ухищрения, к которым приходилось прибегать даже талантливым русским актерам, чтобы привлечь публику, описал Ракитин в письме к Рощиной-Инсаровой от 8 июля 1935 г.: «… наша с Вами товарищ по Александринскому театру Мария Андреевна Ведринская, что только или она, или по ее поручению не пишут здесь про нее в рекламах. “Приехавшая только что из Советской России, из Александринского Императорского театра через Ригу, Берлин, Париж и Америку мировая примадонна Императорской сцены, где она с потрясающим успехом играла "Даму с камелиями"”. Делается стыдно. Мы знаем, сколько времени Мария Андреевна играет в Риге. Знаем, сколько городов Европы она проехала с “Дамой с камелиями”. Кроме Риги была, быть может, в Ревеле и Митаве, вот и все. О Париже, Берлине, Риме и Америке мы не слышали, да это и не подарок. Это я пишу Вам затем, чтобы сказать, что кредит русский подорван» (BAR. Roshchina-Insarova papers. Box. 2). М. А. Ведринская умерла 21 ноября 1948 г. в беженском лагере около Вюрцбурга, Германия.
433 Чарова Вера Сергеевна — актриса. Сезон 1912/13 г. выступала в труппе Корша. Затем играла в провинции: Казань, Иркутск, Ташкент, Нижний Новгород. Сезон 1918/19 г. провела 562 в Театре Корша. Была антрепренером и исполнительницей главной роли в «Пигмалионе» Б. Шоу, поставленном Ю. Л. Ракитиным в Константинополе (1920, 29 июля).
434 «Возрождение» (1925 – 1940) — ежедневная русская эмигрантская газета, с 1936 г. преобразована в еженедельную, выходила в Париже. Создателями газеты были нефтепромышленник А. О. Гукасов (издатель) и философ, экономист, литератор П. Б. Струве (главный редактор с 1925 по 1927 г.). Издание было задумано как умеренно-консервативный, монархический орган. С приходом нового главного редактора Ю. Ф. Семенова позиция газеты смещалась в сторону радикального правого спектра. В 30-е гг. политические разделы газеты определяла доктрина, связывавшая освобождение России с набирающим силы германским нацизмом.
435 Белградский корреспондент газеты «Возрождение» А. Цакони в заметке под названием «Провал “Зойкиной квартиры”» (Возрождение. Париж, 1934. № 3227. 4 апреля. С. 3) писал: «Поставленная на сцене белградского Национального театра в переводе на сербский язык “Зойкина квартира” советского писателя Булгакова скандально провалилась на первом представлении. По-видимому, пьеса будет снята с репертуара».
436 Муратов Михаил Яковлевич (1885 – 1944) — актер, режиссер, антрепренер. Работал в провинции. Затем в Петербурге в Новом драматическом театре, где с успехом сыграл заглавную роль в «Анатэме» Л. Н. Андреева (1909). С 1 мая 1910 г. — в Малом театре. В 1916 г. создал театр «Эрмитаж». После революции работал режиссером в Харькове у Н. Н. Синельникова. Затем, получив большое наследство, эмигрировал в Болгарию, где пытался создать русский театр. С 1921 по 1925 г. вместе с А. Гришиным держал антрепризу в Риге (Театр русской драмы). Затем переезжает в Париж. Работает в Русском интимном театре Д. Кировой (1930), в Русском зарубежном камерном театре под управлением Б. Эспе (1931). Работал также в Болгарии и Румынии. 2 мая 1934 г. в Кишиневе (театр «Экспресс») был отпразднован юбилей его 30-летней театральной деятельности.
437 Вероятно, имеется в виду сатирический театр «Бродячие комедианты», программы которого показывались в Париже на протяжении 1934 г. группой русских артистов во главе с Евреиновым, куда входили миниатюры как самого Евреинова, так и Б. Ф. Гейера.
438 Имеется в виду прежде всего русская монархистская, крайне правая газета «Русский голос», которая выходила в Белграде (1931 – 1941). Общий тон русской общественной жизни в Югославии определяли бывшие военные, участники Белого движения, составлявшие основу русской колонии. Поэтому и русская пресса была без исключения монархистской, уже начиная с «Нового времени» (1921 – 1930). А парижские «Последние новости» (1920 – 1940) по причине их либеральности были запрещены к распространению в Югославии, надо полагать, в результате хлопот тех же кругов.
439 Черепов Александр Филиппович (1892/3 – 1946) — актер и режиссер. Родился в литовском городе Шавли. Сценическую карьеру начал в 1914 г. (Самара). В первой половине 20-х гг. — актер русского Народного театра (Рига). Принимал участие в спектаклях Камерного театра Е. Н. Рощиной-Инсаровой (Рига). Выступал с отдельными спектаклями, которые под час носили низкопробный характер. Примером может служить анонс в рижской газете «Сегодня»: «Под руководством и при участии артиста Московского Художественного театра А. Ф. Черепова “Месть Ву-ли Чанга”, обстановочная инсценировка-феерия. В главной роли А. Ф. Черепов. Эффектные стилизованные танцы. Красочная обстановка. Новые декорации. Участвует вся труппа из 22 человек» (1927. № 97. 3 мая. С. 4). В 1929 г. приехал в Белград, где был поддержан правыми кругами. Здесь он также анонсировал себя как артиста Художественного театра. (В Музее МХАТ не сохранилось свидетельств его причастности к театру Станиславского и Немировича-Данченко.) В помещении Русского дома имени императора Николая II вместе с И. Е. Дуван-Торцовым открыл Русский общедоступный театр (1933). Основу репертуара составила русская классика (Островский, Гоголь, Тургенев, Л. Толстой), обильно разбавленная репертуарными шлягерами предреволюционных лет («Псиша» Ю. Д. Беляева, «Первая муха» В. А. Крылова и др.). За редкими исключениями А. Ф. Черепов был режиссером спектаклей и играл в них главные роли. Количество новых спектаклей не оставляло времени на сколько-нибудь тщательную работу. Тем не менее активность Черепова подавила работу труппы Ю. В. Ракитиной, которая в эти годы 563 была сведена к минимуму. В 1937 г. покинул Русский общедоступный театр и работал режиссером в сербских провинциальных городах (Баня-Лука, 1938 – 1939, и Ниш, 1941). В оккупированном Белграде был директором труппы при Обществе русских сценических деятелей (1941 – 1943). Умер в Германии в больнице для душевнобольных.
440 О Вс. Вяч. Хомицком см. наст. изд., с. 331 – 333.
441 Статья И. Н. Голенищева-Кутузова, опубликованная под названием «Русский театр в Белграде» в «Возрождении» (1934. № 3257. 4 мая. С. 4), была посвящена постановкам пьес Вс. Хомицкого в труппе Ракитиной: «В прошлом году на столбцах “Возрождения” был от мечен успех пьесы “Эмигрант Бунчук” Всеволода Хомицкого в белфадском Русском театре. В начале апреля этого года Русский театр под опытным руководством талантливой артистки Ю. В. Ракитиной поставил вторую пьесу Хомицкого “Вилла вдовы Туляковой”. <…> В настоящее время автор подготавливает к постановке свою новую пьесу из эмигрантского быта “Крылья Федора Ивановича”».
442 Долинский Семен Григорьевич (1895 – ?) — артист, литератор, журналист, масон. Закончил Рижский политехнический университет. Снимался в кино и играл на частной сцене. После прихода к власти большевиков несколько месяцев продолжал играть на сцене. В 1919 г. состоял в Добровольческой армии. В 1920 г. был эвакуирован в Константинополь, где начал литературную деятельность. С 1923 г. — в Праге, артист русской труппы. Затем стал одним из организаторов русского Камерного театра в Праге, работавшего под руководством Ильи Сургучева. Через год ушел из труппы. С 1927 г. в Париже, в газете «Воз рождение», в 1930 г. стал заведующим информационным отделом и вторым секретарем редакции. Возможно, Ракитин познакомился с ним в Константинополе в 1920 г.
443 Не вполне ясно, что имеется в виду. Возможно, завершение письма еще раз отложилось и до Ракитина успело дойти сообщение о премьере комедии В. В. Шкваркина «Чужой ребенок» в Пражской группе МХТ (1934, 19 мая, постановка В. М. Греч), где П. А. Павлов играл одну из главных ролей. Месяцем ранее (14 апреля) в Камерном театре (Париж) состоялась премьера комедий М. М. Зощенко «Свадьба» и В. П. Катаева «Квадратура круга», но Павлов отношения к этому спектаклю не имел.
444 Торжества проводились во многих центрах русской эмиграции (Париж, Белград и др.) в связи со 125-летием со дня рождения Н. В. Гоголя.
445 Премьера пьесы С. Моэма «Письмо» в белфадском Национальном театре в постановке Ракитина состоялась 14 июня 1935 г. Декорации В. И. Жедринского, костюмы М. Бабич-Иованович. Не исключено, что по сложившейся практике ей предшествовала премьера в Русской труппе под руководством Ю. В. Ракитиной.
446 9 октября 1934 г. король Александр Карагеоргиевич был убит в Марселе членами хорватской ультранационалистической террористической организации усташей.
447 См. примеч. 11 к письму 23 [В электронной версии — 437].
448 Ракитины совершили трехнедельную поездку в Париж в ноябре 1937 г.
449 В театральный сборник «Отрыв» (Берлин: Петрополис, 1938) входили пьесы «Корабль Праведных» Н. Н. Евреинова, «Эмигрант Бунчук» Вс. Вяч. Хомицкого, «Каэры» А. П. Матвеева. Во вступительной статье Евреинов так объяснял внутреннее единство издания: 564 «Пьесы, предлагаемые настоящим театральным сборником, объединены, во-первых, одной общей темой, а именно проблемой отрыва человека от его родной почвы, во-вторых, приблизительно схожею сюжетной обусловленностью действия, каковое и в “Эмигранте Бунчуке” Вс. Хомицкого, и в “Каэрах” А. П. Матвеева, и в “Корабле Праведных” Н. Евреинова, — исходя почти из тех же точек отправления и драматических мотивировок, — состоит в коллизиях, могущих вызываться только отрывом человека от его родной почвы, быта, стихии <…>» (С. 5). Судя по письму Евреинова, несмотря на то, что в выходных данных издания значился 1938 г., реально сборник появился в конце 1937 г.
450 Единственный сын Ракитиных — Никита Юрьевич (1917 – ?), организатор коммунистического кружка в русско-сербской гимназии Белграда, в 1937 г. во время поездки семьи Ракитиных в Париж выговорил у родителей разрешение остаться в Париже с дядей, братом Ю. Л. Ракитина, Сергеем Львовичем Иониным. Однако совместное житье убежденного монархиста и молодого прокоммунистически настроенного человека привело к драматическим последствиям: Никита бежал в Испанию, где вступил в интербригаду и принял участие в гражданской войне, а по слухам, дошедшим до родителей, и в советско-финской войне. На протяжении всех лет близкие оставались в неведении относительно действительной судьбы сына.
Личность С. Л. Ионина также заслуживает детализации. Вот его биография, изложенная в некрологе: «В середине мая почил в одиночестве не имевший семьи правовед 73-го выпуска Сергей Львович Ионин. По окончании Училища начал службу в Государственной канцелярии, призван с началом войны, арестован в апреле 1918 года и провел почти год в Петроградском доме предварительного заключения. По освобождению бежал в Финляндию, вступил в ряды Северо-Западной армии генерала Юденича и за бои под Петроградом награжден орденом св. Владимира 1-й степени с мечами и бантом. Проживая во Франции, вступил с началом второй мировой войны в Иностранный легион. В чине лейтенанта 21-го полка этого легиона ранен 14 мая 1941 [года] и награжден Военным Крестом со звездой. В 1942 году одним из первых вступил в ряды РОА, был военным курьером между штабом генерала А. А. Власова и его частями во Франции. Одновременно входил в подпольную группу офицеров-монархистов РОА. После войны остался в Западной Германии и принимал деятельное участие в посылке подрывных групп по разложению советских оккупационных войск, что было мало кому известно. Поддерживал связь с народными монархистами в Европе, но в последние годы за старостью отошел от боевой конспиративной работы. Был верен Главе династии. Мир праху его» (Наша страна. Буэнос-Айрес, 1971. 22 июня).
451 Веснич Радослав (1891 – 1980) — актер, режиссер, драматург, переводчик. Перевел «Живой труп» Л. Н. Толстого. В 1916 г. провел три месяца в Москве, посещая спектакли МХТ, Малого театра и т. д. Был знаком с К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко. Состоял в драматических труппах, играл и осуществлял руководящие функции во многих театрах Югославии (Зафеб, Нови Сад, Осиек, Баня-Лука, Белград). С 1924 по 1927 г. работал в сербском Национальном театре в Нови Саде. С 1931 по 1934 г. — директор и генеральный секретарь, а с 1935 по 1937 г. — директор драматической труппы Национального театра в Белграде. За время его пребывания на этом посту были поставлены «Женитьба» Н. В. Гоголя, «Дорогой цветов» В. П. Катаева, «Идиот» и «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, «На дне» и «Васса Железнова» М. Горького, «Три сестры» А. П. Чехова.
452 Милачич Душан (1892 – 1979) — поэт, театровед, историк литературы, переводчик. С 1931 по 1934 г. — литературный референт и директор Национального театра Моравской бановины в г. Ниш. С 1931 по 1939 г. — литературный референт в белфадском Национальном театре, а затем до 1942 г. — директор драматической труппы. За время его директорства на сцене этого театра игрались «Чужой ребенок» (1934) и «Ночной смотр» (1940) В. В. Шкваркина.
453 565 Тэффи Надежда Александровна (урожд. Лохвицкая, в замужестве Бучинская; 1872 – 1952) — писатель, драматург. В дореволюционной России принадлежала к числу самых печатаемых авторов. Публиковалась в сатирических журналах, среди которых ведущее место занимали «Сатирикон» (1908 – 1913) и «Новый Сатирикон» (1913 – 1918). Сохранила свою популярность в эмигрантской среде.
454 Жуков Евгений Андреевич (? — 1959) — журналист, деятель культуры. Сотрудник московской газеты «Русское слово». Во время гражданской войны работал в отделе печати при французской военной миссии в Севастополе. В Белград приехал из Праги в качестве корреспондента русской берлинской газеты «Руль» и Чехословацкого агентства печати. Бел градский корреспондент лондонских газет «Morning post» и «Daily Telegraph». Один из основателей Союза русских писателей и журналистов в Югославии. Основатель и первый директор агентства «Югоконцерт». Благодаря его усилиям в Белграде состоялись гастроли многих русских артистов. Во время оккупации гестапо депортировало его в лагерь Дахау. После освобождения Югославии вернулся в Белград и продолжал организацию концертов. Был корреспондентом русских эмигрантских газет, выходивших в Сиднее и Нью-Йорке.
455 Имеется в виду пьеса Н. А. Тэффи «Момент судьбы», показанная в антрепризе Е. А. Жукова 26 декабря 1937 г.
456 Пьеса В. В. Набокова (В. Сирина) «Событие» была показана группой русских актеров при Союзе русских актеров в январе (до 21-го) 1939 г. Режиссер Вс. Вяч. Хомицкий.
457 Строцци Тито (1892 – после 1969) — хорватский актер, режиссер, драматург. Руководил хорватским Национальным театром в Загребе. Премьера «Идиота» Ф. М. Достоевского в белградском Национальном театре состоялась 30 декабря 1937 г.
458 Греч (наст. фам. Кокинаки) Вера Мильтиадовна (1893 – 1974) — актриса, театральный деятель. В МХТ с 1916 г. Была в составе «Качаловской группы». Осталась за границей в 1922 г. и вошла в Пражскую группу. Вместе со своим мужем П. А. Павловым стояла во главе не скольких русских зарубежных трупп. Как и Павлов, умерла в Париже в доме для престарелых.
459 Павлов Поликарп Арсеньевич (1885 – 1974) — актер, театральный деятель. В МХТ с 1908 г. После смерти Р. Артема к нему перешли чеховские роли. Входил в «Качаловскую группу». В 1922 г. принял решение не возвращаться в Россию. Вместе с женой В. М. Греч стоял во главе Пражской группы после того, как ее покинула М. Н. Германова, а также других русских зарубежных трупп. 5 апреля 1936 г. Павлов и Греч приехали в Югославию. Хомицкий в письме Евреинову от 30 октября 1936 г. сообщал: «А у нас в Белграде театральный сезон начался бурно, как никогда. В октябре я почти подряд сыграл Карандышева, Барона в “На дне” и Анучкина. Последние два спектакля были гастролью Павлова и Греч, а “Бесприданница” — они же плюс Ведринская. В ноябре ждут приезда Хмары. Ракитины теперь больше не руководят театральным домом в Белграде, а главой “Русского театра” является некто Жуков, журналист по профессии и директор так называемого “Юго-концерта”, т. е. учреждения, ведающего всеми гастролями иностранцев. У Жукова, по-видимому, есть деньги, а кроме того, его поддерживают некоторые сербские организации. Достаточно того, что нам еще никогда не платили так аккуратно и так щедро. У меня, разумеется, немедленно возникла мысль о возможности и Вашего приезда в Белград, т. е. осуществления того плана, который в свое время возник у Ксюнина и у Ракитиных — и потом скандально провалился. — У Жукова совсем другие возможности, и человек он деловой» (BAR: Evreinov’s papers. Box 2). Павлов и Греч оставались в Югославии и ставили спектакли на сцене Русского дома (в основном русскую классику) вплоть до весны 1943 г., когда переехали в Берлин.
460 Тем не менее и актерское, и гражданское положение М. А. Ведринской в Югославии оставалось двусмысленным, о чем свидетельствовал Вс. Вяч. Хомицкий, хорошо знавший ее в эти годы: «Как скажешь, например, что Ведринская — несчастная, не сознающая своего возраста старушка, стремящаяся играть роли, по возможности моложе 20 лет; что над ней 566 за это зло смеются и смотреть ее не хотят; что, с другой стороны, ее нагло шантажирует Жуков, т. к., не даря никаких благ, может добиться для нее запрещения вообще выступать в Югославии на сцене, потому что М. А. Ведринская — не русская эмигрантка, а иностранка (русские эмигранты здесь не иностранцы) — латвийская подданная, и если очень захотеть, то ее можно даже выслать из Югославии, чем Жуков и козырял в прошлом сезоне и, конечно, продолжает и теперь» (BAR: Evreinov’s papers. Box 2).
461 Вс. Вяч. Хомицкий.
462 Премьера пьесы Бекеффи и Стела «Приходите первого» в постановке Ракитина состоялась 18 марта 1938 г.
463 Премьера «Вассы Железновой» М. Горького в белградском Национальном театре прошла 22 января 1938 г. Перевод К. Ф. Тарановского. Режиссеры В. М. Греч и П. А. Павлов. Художник М. Денич.
464 «Анахорет» — название корабля в пьесе Евреинова «Корабль Праведных».
465 Премьера пьесы В. Сирина «Событие» в Русском драматическом театре (Париж) состоялась 4 марта 1938 г. Режиссер Ю. П. Анненков.
466 Евреинов имеет в виду общую ориентацию труппы на традицию МХТ.
467 Возможно, Евреинов имеет в виду пьесу «Шаги Немезиды», созданную по материалам политических процессов 30-х гг. Была закончена в 1939 г. Опубликована в 1956 г.
468 Для балетов «Морской загар» («Les bronzés») и «Полуденный час в парке» Евреинов на писал либретто и диалоги. Композитор Н. Е. Штейн. Балеты были показаны в составе первой программы новой хореографической труппы Ballets de la Jeunesse. В программу также вошли «Видение юности» на музыку Ф. Шопена, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, «Благородный танец» на музыку П. Николя. Хореография Л. Н. Егоровой и Б. Бартолина. Премьера — 6 января 1938 г.
469 Премьеры «Трех сестер» А. П. Чехова и «Свадьбы Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина в белградском Национальном театре в постановке В. М. Греч и П. А. Павлова прошли, со ответственно, 2 ноября 1937 г. и 12 мая 1938 г.
470 Е. А. Жуков, директор «Югоконцерта», организовал зимой-весной 1937/38 г. серию русских спектаклей с участием Павлова и Греч. Был показан репертуар, во многом повторяющий репертуар Русского театра в Париже: «Линия Брунгильды» М. А. Алданова (1937, 5 декабря), «Момент судьбы» Н. А. Тэффи (1937, 26 декабря), «Ночной смотр» В. В. Шкваркина (1938, последние числа апреля).
471 Хомицкий, ставивший «Событие» и игравший художника Трощейкина, в письме от 23 декабря 1938 г. делился с Евреиновым: «… играю, найдя некоторое утешение в том, что пользуюсь для этой роли многими житейскими чертами Ю. Л. Ракитина (того Ракитина, которого Вы в Париже увидеть не могли). Не далее как вчера я сказал об этом самому Юрию Львовичу, и он чуть не обиделся» (BAR: Evreinov’s papers. Box 2).
472 Постановка не была осуществлена.
473 Возможно, Ракитин имеет в виду ту ситуацию, которую описал Хомицкий в письме Евреинову от 11 ноября 1937 г.: «Павлов и Греч, приехав сюда из Парижа, допустили про мах, не учтя местных настроений и не предвидя эффекта. Они дали в местные сербские газеты интервью о том, что в скором времени возвращаются в Москву, в лоно Художественного театра, и что гастроли МХТ в Париже были невиданным торжеством русского искусства, новой эпохой в театре и пр. и пр. Не знаю, насколько серьезно был поставлен у них вопрос о “возвращенстве”, но упоминание об этом, да еще в связи с восхвалением заведомо и, по всеобщему свидетельству, провалившихся гастролей МХТ в Париже очень и очень не понравилось всевозможным русским организациям в Белграде. Представительством 567 Русского дома (в котором находится и театр) им было предложено поместить в газетах опровержение, хотя бы самое краткое и мало к чему обязывающее, но они… отказались, сославшись на то, что за опровержение расстреляют их родственников в России (!!). Это через 17 лет после революции и за простое сообщение, что “слухи об их возвращении не соответствуют действительности”! Такой неудачный аргумент убедил всех окончательно в их желании вернуться в Москву» (BAR: Evreinov’s paper’s. Box 2). Существовал и другой взгляд на ситуацию. Либеральная рижская газета «Сегодня» писала: «Однако совершенно неожиданно некоторыми кругами эмиграции против В. М. Греч и П. А. Павлова поднят был поход. Поводом послужило интервью, данное артистами в сербской печати по прибытии в Белград. В этом интервью В. М. Греч и П. А. Павлов делились своими впечатлениями о гастролях Художественного театра в Париже, на которых присутствовали, рассказывали о своих встречах со старыми товарищами и о том, что получили приглашение вернуться в Москву в Художественный театр. Несмотря на категорическое заявление артистов, что вопрос об их отъезде в СССР остается открытым, так как, кроме полученного приглашения, в этом отношении никаких шагов не предпринималось, — в Белграде досужие беженские политиканы протестуют против выступления “возвращенцев” в Русском доме, носящем имя Николая II. В результате этой, ни на чем не основанной, компании русская публика лишена увидеть игру талантливых артистов, а равно и пьесы популярных авторов. Вместо этого русскому Белграду приходится довольствоваться игрой местных любителей. Это тем более досадно, что вся история с “возвращенством” В. М. Греч и П. А. Павлова, как удалось проверить, действительно лишена всякого основания» (1937. № 283. 15 октября. С. 8).
474 Косеа Алис (1897 – 1970) — французская актриса румынского происхождения, театральный деятель. В Париже с 1910 г. Училась в консерватории. На сцене с 1917 г. Выступала в опереточных спектаклях. В середине 20-х гг. вернулась в драматический театр, часто меняя труппы: «Пале-Рояль» (1926), «Ренессанс» (1928), Антуана, «Матюрен», «Мишель», «Потиньер» (1930), «Жимназ» (1931), «Ёвр» и Театр Елисейских полей. С 1937 г. периодически выступала как режиссер. На сцене парижского театра «Амбассадёр» поставила «Мизантропа» Мольера (премьера — 14 мая 1938 г.) и сыграла роль Селимены. На роль Альцеста был приглашен Ж.-Л. Барро. Художник Г. Монен.
475 Цит. по: Юзефович Л. Самодержец пустыни. М., 1993. С. 14 – 15.
476 Зритель. Театральный путь Р. А. Унгерна: К 35-летию театральной деятельности // Сегодня. Рига, 1938. № 58. 27 февраля. С. 14.
477 Рудницкий К. Л. Мейерхольд. М., 1981. С. 93.
478 Вс. Мейерхольд. Переписка. 1896 – 1939 / Сост. В. П. Коршунова и М. М. Ситковецкая. М., 1976. С. 90.
479 Зритель. Указ. соч.
480 Туркельтауб И. Вместо приветствия: О Краснозаводском театре // Художественная жизнь. Харьков, 1923. № 5 (8). 16 – 23 февраля. С. 12.
481 См.: Заявление в Ленинградское Общество драматических и музыкальных писателей от Р. А. Унгерна от 2 января 1928 г. [Автограф] // РГАЛИ. Ф. 675. Оп 2. Ед. хр. 678. Л. 7 – 8.
482 568 См.: Р. А. Унгерн в Германии // Новое слово. Берлин, 1941. № 13. 30 марта. С. 9.
483 [Некролог] // Там же. 1944. № 83. 15 октября. С. 8.
484 «Голубой глаз» — «театр художественной пародии, сатиры и миниатюры» — возник в подражании «Кривому зеркалу» в Харькове (1910 – 1911) под руководством Е. И. Чигринского и при участие Д. Г. Гутмана. В частности, здесь была впервые поставлена «Незнакомка» А. А. Блока (1909, ноябрь). Возможно, Унгерн имеет в виду более поздний театр миниатюр с участием «голубоглазовцев». Среди них могла быть, например, актриса Е. П. Чигринская, жена создателя «Голубого глаза», входившая в труппу «Молодого театра» (Харьков, 1921, конец октября — ноябрь), которым руководил Унгерн. Таким театром миниатюр с участием «голубоглазовцев» могли быть «Веселые канарейки» Ю. Л. Ракитина (1919, ноябрь – декабрь).
485 Вероятно, имеется в виду сотрудничество Ракитина с Добровольческой армией и его участие в Театре Пропаганды при ОСВАГе. Уже находясь в Константинополе, он записывает в дневнике: «Мне все больше и больше кажется, что надо ехать в Севастополь. Раз уж я пошел служить Добрармии, надо это довести до конца. Надо писать ген. Врангелю письмо, где изложить ему все планы относительно пропаганды, относительно оздоровления духа и настроения Добрармии» (30 мая / 12 июня 1920 г.). На следующий день он возвращается к этой теме: «Ночь. Сижу и пишу Врангелю письмо. Господи, помоги, чтобы из этого письма что-нибудь вышло. Чтобы я мог скорее встать в ряды новой Добровольческой армии, чтобы он (Врангель) выслушал стон души моей, переполненной истинной любовью к обожаемой России. Не могу жить так долго, я хочу что-нибудь делать для России, и делать, что я умею и могу. Театр там, на позициях. Это великая вещь, это великий двигатель духа и настроения, неужели же они не понимают, что дух — это три четверти успеха! А театр — это великий рычаг духа. Большевики это прекрасно учли и пользуют этот прием отлично. Стоит только вспомнить, как зверели красноармейцы, нашпигованные марджановской переделкой “Фуэнте Овехуны”. Какой экстаз происходил в театре, когда Юрьева обращалась с призывами к убийству и мести. Я наблюдал в Киеве, в каком настроении эти палачи красноармейцы возвращались домой после спектакля. Они шли с песнями по улицам и пели не по приказу начальства, а от подъема чувств. Почему бы нам не взять себе этот удивительный способ агитации? А что, говорят, в Харькове было после моей пьесы “Призраки славы”! Неужели же важны так ее какие-то литературные недостатки, кои в ней усмотрели “осважные идиоты”?» (Дневник Ю. Л. Ракитина. 1920. Севастополь — Константинополь. [Автограф] // Нови Сад. Театральный музей автономного края Воеводина. Архив Ю. Л. Ракитина).
486 М. А. Ведринская.
487 ЛЕФ (Левый фронт искусства) — литературная группа, возникшая в конце 1922 г. в Москве и просуществовавшая до 1929 г. Во главе группы стоял В. В. Маяковский. В нее входили: Н. Н. Асеев, С. М. Третьяков, В. В. Каменский, Б. Л. Пастернак, Н. Ф. Чужак, О. М. Брик и другие. Участники группы агрессивно выступали за создание действенного революционного искусства (искусства как «жизнестроения»).
488 Высказывания Унгерна в местной русской газете дополняют его письмо: «В своих ближайших постановках я не буду пользоваться новейшими приемами в целях внешнего оформления пьесы, так как, по моему убеждению, такое внешнее оформление пьесы неразрывно связано и прямо вытекает из внутреннего содержания пьесы. Поэтому все внешние эффекты, которые вполне соответствуют духу и внутренней структуре новейшего репертуара в России, неприменимы к пьесам нашего репертуара.
Россия пережила бурную эпоху театральных исканий, своеобразный период “бури и натиска”. Искатели поставили себе непременной задачей отыскание театра нового во что бы то ни стало, нового как по форме, так и по содержанию. Естественно, что при этом было сделано очень много ошибок и произошло много нездоровых отклонений от естественного пути развития театрального искусства. Произошло это главным образом потому, что слишком ревностные новаторы думали, что можно снести старый театр до основания. 569 А это, разумеется, невозможно. Ибо в искусстве прежде всего требуется последовательность, и этапы развития искусства всегда находятся в теснейшей связи между собой. Старый русский театр оказался живучим. <…> Даже Вс. Мейерхольд, являющийся наиболее одаренным представителем крайнего новаторского течения и раньше отвергавший первенствующее значение актера в театре, изгонявший из театра грим и внешнюю обстановку, в настоящее время требует себе и хороших актеров, и грима, и обстановки, облегчающих актеру игру. Главной причиной неуспеха крайнего новаторского течения является устранение всего внутреннего содержания театра, что выражалось в лозунге “Долой психологию!”, “Долой переживание актера!”.
В результате этого новаторский театр переродился в цирк. Все внимание было обращено на оригинальное внешнее оформление и на акробатическое воспитание тела актера. Надо признать, что в смысле формы новаторы достигли значительных результатов. Конструктивизм и архитектурный принцип постановки являются бесспорно ценными достижениями. Выработался также специальный разносторонний тип актера, прекрасного гимнаста, эксцентрика, умеющего и спеть песенку, и сыграть на любом инструменте. Зато пуст пока новаторский театр в смысле содержания. Гротеск изгнал из него подлинную драму. После нескольких лет полного отсутствия сценических авторов в России за последнее время появилось несколько несомненно талантливых и интересных драматургов, давших пьесы новой структуры, не лишенные также значительного содержания. К таким пьесам я отношу сатирическую комедию “Учитель Бубус” Файко, “Мандат” Эрдмана, “Воздушный пирог” Ромашова и хронику революционных событий “Шторм” Билль-Белоцерковского» (Сегодня. Рига, 1926. № 218. 28 сентября. С. 8).
489 Юрьев Юрий Михайлович (1872 – 1948) — актер, театральный деятель. С 1893 г. до конца жизни — в Александринском театре с перерывами (Театр Трагедии, 1918 – 1919; БДТ, 1919 – 1921; Малый театр, 1929 – 1932). С 1922 по 1928 г. возглавлял Академический театр драмы (б. Александринский).
490 Славинский Ювенал Митрофанович (1887 – 1937) — дирижер Оперного театра Зимина, в 20-е гг. — председатель ЦК Всероссийского профессионального союза работников искусств (Всерабис).
491 Петров Николай Васильевич (1890 – 1964) — режиссер. С 1910 г. — режиссер, с 1928 до 1933 г. — директор и художественный руководитель Александринского театра.
492 Радлов Сергей Эрнестович (1892 – 1958) — режиссер. С 1913 по 1917 г. посещал занятия петербургской студии Вс. Мейерхольда на Бородинской, сотрудничал в журнале «Любовь к трем апельсинам». С 1920 по 1922 г. возглавлял организованный им «Театр народной комедии», где продолжал студийные эксперименты Мейерхольда. В 1923 – 1927 гг. осуществил ряд экспрессионистских постановок в Ленинградском академическом театре драмы. В последние годы жизни был режиссером Театра русской драмы в Риге.
493 Раппапорт Виктор Романович (1889 – 1943) — режиссер. В 1923 – 1926 гг. — режиссер Ленинградского академического театра драмы. С 1925 по 1929 г. — режиссер оперной труппы Ленинградского академического театра оперы и балета (б. Мариинского).
494 Монахов Николай Федорович (1875 – 1936) — актер, театральный деятель. Один из основателей Большого драматического театра (1919), в котором работал до конца жизни. Входил в руководство театра.
495 Гастроли Театра русской драмы в Польше открылись 25 мая 1929 г. в Вильно, где было показано десять спектаклей. Уже на месте выяснилось, что в Вильно отсутствует «технически хорошо оборудованный театр», что повлекло изменения в репертуаре. Пришлось отказаться от постановок «Вишневого сада», «Братьев Карамазовых» и др. пьес, требующих больших сцен. Выступления открылись «Маскарадом» Лермонтова в постановке Е. П. Студенцова. «Спектакли посещаются как русскими, так и поляками, евреями и другими представителями многоплеменного нашего города. Польская и еврейская пресса не скупятся на похвалы <…> Каждый спектакль — это все новые 570 триумфы артистов, сумевших так быстро покорить нашу сравнительно холодную публику» (За свободу. Варшава, 1929. № 139. 30 мая. С. 5). Еще через несколько дней виленский корреспондент продолжил тему: «Такого успеха в Вильно не имел за последние годы ни один театр, за исключением разве что гастролировавшего у нас года два с половиной назад известного театра “Габима”» (Там же. № 149. 10 июня. С. 4). Затем труппа отправилась в Гродно, Белосток, Брест-Литовск, Люблин, Ковель, Барановичи и Лиду.
496 О Е. П. Студенцове см. наст. изд., с. 302 – 304.
497 Речь идет о Е. А. Третьякове — оперном артисте. В труппе Мариинского театра с 1913 г. до середины 1920-х гг. В 1929 г. принимал участие в спектаклях Русской частной оперы М. Н. Кузнецовой-Массне.
498 Несмотря на то, что в гастрольную афишу были включены «Вишневый сад», «Маскарад», «Обрыв», «Братья Карамазовы», «Бешеные деньги», ставка делалась на репертуарные шлягеры вроде «Золотой клетки» К. Острожского, «Барышни с фиалками» Т. Л. Щепкиной-Куперник, «Голубого песца» Фр. Герчега, «Процесса Мэри Дуган» Б. Вейллер, которые и прокатывали в Гродно, Белостоке, Брест-Литовске, Люблине.
499 «Нансеновский паспорт» — временное удостоверение личности, введенное для апатридов и беженцев Лигой Наций по инициативе Ф. Нансена. Выдавался в 20-х гг. на основе Женевских соглашений (1922).
500 Жена Р. А. Унгерна с 1918 г. — Елизавета Егорьевна (1878 – 1947; похоронена во Франкфурте-на-Одере).
501 Стренковский Сергей Васильевич (1886 – 1939) — актер, режиссер. Окончил тульское реальное училище. С 1907 по 1910 г. — в Театральной школе имени А. С. Суворина при театре Литературно-художественного общества, где учился вместе с Михаилом Чеховым. Принимал участие в спектаклях мейерхольдовского театрика «Лукоморье» (1908, декабрь). Работал актером и режиссером в Петербургском драматическом театре (б. Театр В. Ф. Комиссаржевской). Печатался в театральных журналах Москвы и Петрограда. Играл в провинции. В 1918 г. выступал в киевском театре «Соловцев», где поставил и сыграл «Павла I» Д. С. Мережковского. В 1921 г. эмигрировал. В 1922 – 1923 гг. принимал участие в работе Русского камерного театра в Праге. Входил наряду с А. С. Ранецким и И. Д. Сургучевым в Правление театра. Возможно, Унгерн имеет в виду предложенную Стренковским реформу театра (1923) и последовавшее вскоре его закрытие. Впоследствии Стренковский работал режиссером в итальянской труппе Татьяны Павловой (1923 – 1928), затем в римском театре Л. Пиранделло. В 1935 г. его имя эпизодически появлялось в составе Пражской группы. В том же 1935 г. он уже в Нью-Йорке, где преподавал в драматической школе Успенской и в театральной школе при Карнеги-Холл. Издавал труды по искусству на русском, итальянском и английском языках. Умер в Нью-Йорке.
502 Вивьен Леонид Сергеевич (1897 – 1966) — актер, режиссер, педагог. С 1911 г. — на сцене Александринского театра, в 1924 г. впервые выступил как режиссер. В 20-х – начале 30-х гг. руководил студиями и филиалом Госакдрамы. С 1936 г. — главный режиссер, в 1937 – 1966 гг. — художественный руководитель Ленинградского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. Именно Вивьену принадлежит инициатива приглашения Вс. Мейерхольда на работу накануне его ареста. Вплоть до середины 30-х гг. каждое лето отдыхал на Рижском взморье.
503 Вольф-Израэль Евгения Михайловна (1895 – 1975) — актриса. Начиная с 1916 г. выступала в «Летнем театре», «Интимном театре», «Кривом зеркале». С 1919 по 1922 г. — в БДТ. В 1922 – 1923 гг. — в театрах Киева и Харькова. С 1923 г. — в Госакдраме (с 1937 г. — Ленинградский академический театр драмы им. А. С. Пушкина). Жена Л. С. Вивьена.
504 Горин-Горяинов (наст. фам. Горяинов) Борис Анатольевич (1883 – 1944) — актер. После окончания юридического факультета Петербургского университета поступил в антрепризу 571 М. М. Бородая (Киев, 1904 – 1905). С 1905 по 1907 г. — в петербургском Новом театре Л. Б. Яворской, где работал как актер и режиссер. С 1908 г. — в Театре Корша, с 1911 г. — в Александринском театре. Гастроли александринцев предполагались также и в Эстонии, однако, «ввиду тяжелого экономического положения, [эстонское] правительство, желая сократить вывоз валюты, постановило отказать в выдаче разрешения иностранным труппам на устройство спектаклей в Эстонии. <…> Отказало петербургскому Александринскому театру» (Сегодня. Рига, 1932. № 66. 6 марта. С. 6).
505 Замятин Евгений Иванович (1884 – 1937), для которого пребывание в Советской России после выхода его романа-антиутопии «Мы» в Чехословакии (1927) и Франции (1929) становилось все более опасным, при содействии Максима Горького получил от Стали на разрешение на «временный» выезд за границу. В ноябре 1931 г. он ненадолго остановился в Риге. Впечатление о его тогдашних настроениях можно составить по его докладу на тему «Русский современный театр», сделанному в январе 1932 г. в Праге: «Не думай те, что те достижения русского театра, о которых сейчас говорит весь мир, созданы революцией. Революция в русском театре произошла задолго до общей революции. Последние годы по существу не дали ничего творчески нового. Русский театр развивался путем, определенным всем его прошлым. Без излишней скромности нужно согласиться с теми отзывами иностранных критиков, которые ставят русский театр на первое место. Это прежде всего относится к русскому режиссеру и актеру. <…> К сожалению, “старая гвардия”, составлявшая гордость этого театра [МХТ. — В. И.], сейчас вымирает». Далее он говорил о процветающей «красной халтуре» и об «огромном количестве пьес “недоносков” на злободневные темы. <…> Что же до театральной критики, то она вся централизована и действует по директиве» (Е. И. Замятин о театре в СССР // Сегодня. 1932. № 11. 11 января. С. 6).
506 Папазян Ваграм Камерович (1888 – 1968) — актер. В 10-е гг. играл в труппах Э. Дузе, Э. Цаккони, Д. Грассо. В 20-е гг. подолгу гастролировал в различных городах СССР. Ориентировался на классический трагический репертуар. Выступал как гастролер с труппой Театра русской драмы в феврале 1932 г.: Отелло («Отелло» У. Шекспира), Кин («Кин, или Гений и беспутство» А. Дюма), Года («Казнь» Г. Г. Ге), Уриэль Акоста («Уриэль Акоста» К. Гуцкова), Дон Жуан («Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера). Закончив гастроли в Риге 4 марта, отправился в Париж, где сыграл Отелло в театре Одеон.
507 Летом 1932 г. В. И. Качалов находился на лечении в Баденвейлере. По дороге домой дал концерты в Ковно 17-го и в Риге 22 августа. В Риге его уговорили остаться еще на один вечер. В программе первого вечера — отрывки из «Воскресенья», «Смерти Иоанна Грозного», монолог «Клейкие листочки» из «Братьев Карамазовых», стихи Маяковского и Есенина. В программе второго вечера — «Эгмонт», «Гамлет», «Лес».
508 Унгерн ошибается в написании фамилии актрисы Малого театра Гоголевой Елены Николаевны (1900 – 1993), приезда которой ожидали в Театре русской драмы в октябре 1932 г.
509 Белёвцева Наталья Александровна (1895 – 1974) — актриса. В 1913 г. поступила в Драматическую школу Е. Н. Музиль. С 1922 г. — в труппе Малого театра. Исхлопотав у дирекции Малого театра годичный отпуск (впоследствии продленный), она отправляется из Парижа через Цейлон и Индию в Харбин для работы в театре при КВЖД. Ее переписка этого времени (РГАЛИ. Ф. 2579. Оп 1. Ед. хр. 362) дышит духом путешествий и приключений. Осенью 1929 г. вернулась в Малый театр. Тогда же, с августа 1929 г., шла переписка Управления Театром русской драмы с директором Малого театра В. К. Владимировым об отпуске для Н. А. Белёвцевой, уже взявшей на себя какие-то обязательства (РГАЛИ. Ф. 2355. Оп 1. Ед. хр. 156). Однако Владимиров, разрешивший харбинские выступления Белёвцевой, отказал рижанам, несмотря на их настойчивые попытки доказать, что Театр русской драмы не является эмигрантским и главной целью своей деятельности видит сближение с советской культурой. Возможно, имеется в виду приезд Белёвцевой в связи с все еще продолжавшимися переговорами.
510 Петроградский Малый драматический театр в сезоне 1919/20 г. был вынужден из-за топливного кризиса в Петрограде работать в Костроме. В начале 1920 г. главного режиссера 572 театра Н. В. Петрова (Коля Петер) откомандировали в б. Александринский театр в качестве очередного режиссера. На пост главного режиссера Малого драматического театра был назначен Р. А. Унгерн. По возвращении из Косторомы весной 1920 г. труппа распалась.
511 Шмидт Иван Федорович (1871 – 1939) — русский и немецкий режиссер. Муж Е. А. Полевицкой. Работал в Берлине и Вене у М. Рейнхардта. Сезон 1926/27 г. — в Театре русской драмы (Рига). Организатор гастролей Полевицкой по Европе в 20 – 30-е гг. Осенью 1932 г. гастроли состоялись в Югославии. Однако инициативу по созданию новой русской труппы в Белграде перехватили И. Е. Дуван-Торцов и А. Ф. Черепов, открывшие Русский общедоступный театр (1933, 7 октября). Дуван-Торцов уже в следующем сезоне покинул Белград. Ирония судьбы заключается в том, что тот русский театр, о котором мечтал Унгерн, достался «аферисту и мелкого сорта авантюристу», как аттестовал Черепова сам Унгерн в письме от 6 июня 1929 г.
512 Премьера пьесы А. М. Файко «Человек с портфелем» в Театре Революции состоялась 14 февраля 1928 г. Режиссер А. Д. Дикий. Художник Н. П. Акимов.
513 Унгерн имеет в виду роман «Три пары шелковых чулок» П. Романова.
514 «Ведьмак» — криминальная драма Эдгара Уоллеса, лондонского журналиста, специалиста по сенсационным материалам. Написана по его же роману, переведенному на многие языки, только в 1926 г. разошедшемуся тиражом 450 000 экземпляров. Премьера «Ведьмака» в рижском Театре русской драмы состоялась 20 сентября 1927 г. в постановке Ю. Д. Яковлева.
515 Премьера «Обрыва» И. А. Гончарова в инсценировке и постановке Р. А. Унгерна состоялась 26 сентября 1930 г.
516 В 1925 г. Театр русской драмы как антреприза М. Я. Муратова и А. И. Гришина потерпел банкротство. Группа актеров вместе с частью труппы недавно закрывшегося Камерного театра Е. Н. Рощиной-Инсаровой выступила с инициативой создания Товарищества «Театр русской драмы». Его возглавлял Совет из 13 членов: А. С. Астаров, Н. С. Барабанов, И. Ф. Булатов, Ю. Л. Де Бур, Е. О. Бунчук, М. А. Ведринская, А. И. Гришин, Е. Т. Жихарева, Л. Н. Мельникова, К. Н. Незлобин, Г. М. Терехов, Ю. И. Юровский, Ю. Д. Яковлев. Все члены Товарищества вносили определенную денежную сумму — паевой взнос. Материальную поддержку оказывали также латвийское правительство и Русское общество. С 1 июня 1935 г. Товарищество прекратило свое существование и театр стал называться «Театром русской драмы в Риге». В составе сохранилась часть ведущих актеров. Режиссура сосредоточилась в руках Р. А. Унгерна и Ю. И. Юровского.
517 Раскольников (наст. фам. Ильин) Федор Федорович (1892 – 1939) — революционный деятель. В 1921 – 1923 гг. — полпред РСФСР в Афганистане. С 1924 г. — главный редактор журнала «Молодая гвардия», с 1927-го — «Красная новь», издательства «Московский рабочий». С 1928 г. — председатель Главреперткома, член коллегии Наркомпроса и с 1929 г. — начальник Главискусства, член РАПП. С 1930 по 1934 г. — полпред РСФСР в Эстонии. С 1938 г. — «невозвращенец». Умер в Ницце, Франция. Автор инсценировки романа Л. Н. Толстого «Воскресение». Премьера — 30 января 1930 г. Режиссеры Вл. И. Немирович-Данченко и И. Я. Судаков.
518 Премьера «Воскресения» Л. Н. Толстого в инсценировке и режиссуре Р. А. Унгерна состоялась в Театре русской драмы 24 октября 1930 г.
519 Премьера «Блохи» Е. Замятина по Н. С. Лескову прошла в рижском Театре русской драмы 4 января 1927 г. в бенефис художников С. Н. Антонова и Ю. Г. Рыковского. Постановка Р. А. Унгерна.
520 Речь идет о комедии в 1-м действии М. А. Стаховича «Ночное» (М., б. г.) и пьесе В. Щигрова «Помолвка в Галерной гавани» (Картинки петербургской жизни в 1-м действии; СПб., 1873).
521 573 Беляев Юрий Дмитриевич (1876 – 1918) — театральный критик и драматург, автор нескольких популярных репертуарных пьес: «Красный кабачок» (1911), «Псиша» (1911), «Дама из Торжка» (1912).
522 «Лев Гурыч Синичкин» Д. Т. Ленского (1839) на сюжет французской пьесы М. Теолона и Ж.-Ф.-А. Баяра «Отец дебютантки», музыка А. Н. Верстовского.
523 Миклашевский Олег Петрович (1903 – 1992) — актер и режиссер. В Белграде с 1929 г. Принимал участие в спектаклях русской труппы Юлии Ракитиной. Затем входил в труппу Русского общедоступного театра в Белграде, а после ухода А. Ф. Черепова (1937) возглавил театр, который продолжал работать вплоть до 3 сентября 1944 г. (Белград был освобожден от немцев 20 октября 1944 г.) С 1949 г. жил в США, где безуспешно пытался создать русский театр. Писал статьи о русском искусстве. Жена Миклашевского — Нонна Белавина, поэтесса, известная в США.
524 Унгерн имеет в виду собственную инсценировку романа Д. Фибиха «Угар», живописующего советский быт. Премьера «Угара» в постановке Унгерна состоялась 29 сентября 1931 г.
525 Скорей всего, имеется в виду пьеса А. Батая и А. Фламана «Гулящая девчонка» («Манон Леско»), Перевод и обработка С. Мятежного. (Неопубликовано. Машинописный текст. 1925.)
526 Унгерн ошибается. Пьеса «Мария-Антуанетта» принадлежит перу одного автора — Р. Пресберга.
527 Премьера «Марии-Антуанетты» в Театре русской драмы состоялась 8 октября 1935 г. в постановке Р. А. Унгерна. В главной роли выступила Т. Д. Ратгауз.
528 Премьера «Платона Кречета» А. Е. Корнейчука в Театре русской драмы прошла 1 октября 1935 г.
529 Рижская премьера пьесы М. Я. Тригера «Счастливый брак» в Театре русской драмы состоялась 5 октября 1935 г.
530 Рышков Виктор Александрович (1863 – 1926) и Потапенко Игнатий Николаевич (ок. 1856 – 1929) — драматурги, поставщики репертуарных шлягеров начала XX в.
531 Юровский (наст. фам. Саруханов) Юрий Ильич (1894 – 1959) — актер, грузин по национальности. Родился в Тифлисе, где и дебютировал на сцене в 1913 г. Играл на провинциальной сцене: Екатеринбург (1914), Пенза (1915 – 1916), Ростов-на-Дону (1916 – 1917), Тифлис (1917), Екатеринослав (1917), Одесса (1917 – 1919), Харьков (1919 – 1920). С 1920 г. исполнитель ведущих ролей и постоянный партнер Е. А. Полевицкой (Болгария, 1920; Берлин, 1921; Прага, 1923 – 1924; Берлин; 1924). В Ригу приехал из Берлина в 1924 г. по приглашению Е. Н. Рощиной-Инсаровой в созданный ею Камерный театр. После образования в 1925 г. товарищества «Театр русской драмы» стал одним из активнейших его членов. С середины 20-х гг. работал также с группой молодых актеров, составивших впоследствии ядро труппы латышского Рабочего театра, закрытого в 1934 г. после фашистского переворота в Латвии.
532 Рыковский Юрий Георгиевич (1887 – 1937) — художник. Учился на архитектурном факультете Рижского Политехнического института. С началом первой мировой войны переселился в Петроград, где поступил в артиллерийское Константиновское училище. Во время войны провел три года в немецком плену. Из Германии вернулся в Ригу, где первое время работал в Художественной мастерской художника Г. А. Гринберга. С 1923 г. — художник Театра русской драмы. Среди его лучших работ декорации к спектаклям «Блоха» Н. С. Лескова — Е. И. Замятина (1927), «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого, «Снегурочка» А. Н. Островского (1927) и др. Интересовался графикой, рисовал пером и тушью, 574 последние годы увлекся гравюрой на дереве. Выступал как дизайнер. В 1933 г. вместе с Е. Е. Климовым написал большую фреску «Святая Троица» в Иоанновском соборе (Рига). Последние пять лет болел туберкулезом легких. Умер 30 января 1937 г.
533 Мичурина-Самойлова Вера Аркадьевна (1866 – 1948) — актриса. Представительница актерской семьи Самойловых. С 1886 г. — в Александринском театре.
534 Блюменталь-Тамарина Мария Михайловна (урожд. Климова; 1859 – 1938) — актриса. На сцене с 1885 г. Выступала на провинциальных сценах. Актриса Театра Корша (1901 – 1914 и 1921 – 1933) и Малого театра (1933 – 1938). Возможно, Унгерн имел в виду отклик актрисы на присуждение звания народной артистки СССР (см.: Блюменталь-Тамарина М. М. Я счастлива, что живу в сталинскую эпоху // Ленинградская правда. 1936. № 207. 8 сентября. С. 2).
535 Жихарева Елизавета Тимофеевна (1875 – 1967) — актриса. Сценическую деятельность на чала в 1903 г. в МХТ. Играла в Театре Корша, Незлобина, Малом театре. С 1918 по 1927 г. выступала за границей, в том числе в Театре русской драмы (Рига). По возвращении игра ла в минском, тифлисском и других театрах. С 1936 г. — в труппе Ленинградского академического театра драмы.
536 Премьера «Бесприданницы» А. Н. Островского в Ленинградском академическом театре драмы состоялась 5 января 1936 г. Режиссер Н. К. Симонов. Хотя Огудалова в исполнении Мичуриной действительно представала «пьянчужкой», спектакль вовсе не сводился к бытовым или социологическим снижениям. Историк писал о том, что режиссер «трактовал Островского в приемах раннего импрессионистско-символического театра. Об этом говорили мизансценировка, приемы так называемой “барельефной сцены”: персонажи по являлись “барельефом” на боковых планах авансцены. Середина сцены давала импрессионистский “кусок природы”, окаймленный в стиле японской гравюры» (Тальников Д. Л. Сценическая история «Бесприданницы» // «Бесприданница»: Материалы и исследования. М., 1947. С. 138 – 139).
537 Унгерн соединяет два перелета через Северный полюс. Один был совершен В. П. Чкаловым вместе с Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым (Москва — Северный полюс — Ванкувер, 1937). Другой — М. М. Громовым вместе с А. Б. Юмашевым и С. А. Данилиным (Москва — Северный полюс — США, 1937).
538 Куприн Александр Иванович (1870 – 1938) в парижскую пору испытывал тяжелую материальную нужду. К тому же сама эмигрантская среда производила на него гнетущее впечатление. Еще в 1924 г. в частном письме он сетовал: «Существовать в эмиграции, да еще русской, да еще второго призыва — это то же, что жить поневоле в тесной комнате, где разбили дюжину тухлых яиц…» В 1937 г. при содействии советского посла в Париже Вл. П. Потемкина, А. Н. Толстого и И. Я. Билибина Куприным были выданы советские паспорта. 31 мая 1937 г. писатель приехал в Москву. В конце декабря 1937 г. переехал в Ленинград, где скончался от рака пищевода.
539 В 1937 г. театру было отказано в аренде помещения Латышского общества. 9 октября 1937 г. он открыл сезон в здании Общества немецких граждан.
540 Речь идет о пушкинском «Борисе Годунове», премьера которого в Театре русской драмы состоялась 11 февраля 1937 г. Режиссер Р. А. Унгерн. Художники А. И. Юпатов и М. Якоби.
541 Премьера «Бориса Годунова» в МХТ была сыграна 10 октября 1907 г. Режиссеры Вл. И. Немирович-Данченко и В. В. Лужский. Художник В. А. Симов.
542 Для раздражения у Унгерна были основания. Рецензенты прошли мимо характера и смысла предложенного им толкования пушкинской трагедии и ограничились общими комплиментами: «Русский театр блестяще справился с своей задачей и показал пушкинского “Бориса Годунова” в прекрасной художественной и проникновенной постановке. <…> Публика сразу же оценила режиссерскую изобретательность Р. А. Унгерна, очень удачно разрешившего задачу последовательного движения первых трех сцен, объединенных единством времени и действия» (Сегодня. 1937. № 43. 12 февраля. С. 6).
543 575 Премьера пьесы Я. А. Мамонтова «Розовая паутина» в Театре русской драмы состоялась 4 мая 1937 г.
544 Имеется в виду журналист Пигулевский Владимир Васильевич (1889 – 1960-е). Родился в Гродно. Закончил гимназию в Минске в 1907 г., Петербургский университет — в 1912 г. Работал редактором журнала «Трудовая мысль» (Рига). Умер в Риге.
545 Снегирев Василий Иванович (1873 – 1941). Выпускник юридического факультета Московского университета. Член партии кадетов (1910 – 1917). В 1918 г. бежал от большевиков на Украину, где сотрудничал со Скоропадским и Петлюрой. С 1922 г. жил в Латвии. С 1924 по 1925 г. ведал газетой «Вечернее время». С 1932 по 1940 г. — товарищ председателя Общества друзей русского театра в Латвии. С 1935 г. — директор Театра русской драмы. Депортирован 14 июня 1941 г. Умер в Усольлаге 26 декабря 1941 г.
546 Духовской Михаил Владимирович (1911/2 – ?) — поэт, публицист, актер, режиссер. Жил в Белграде с 20-х гг. до 1944 г. Окончил русско-сербскую гимназию в Белграде в 1930 г. Член литературного кружка «Новый Арзамас», основанного в 1928 г. учениками гимназии по примеру петербургского общества «Арзамас» (1815 – 1818). С 1935 г. — член Союза русских писателей и журналистов в Югославии. Писал в русских газетах Белграда. В первой поло вине 30-х гг. принимал участие в спектаклях русской труппы Юлии Ракитиной. Во второй половине 30-х гг. участвовал в спектаклях Театра русской драмы (Рига). С 1940 г. состоял в труппе Союза русских артистов при Русском доме, с 1941-го — в труппе Общества русских сценических деятелей в Сербии (ставили спектакли в Русском доме вплоть до последнего — 3 сентября 1944 г., в котором выступил и М. В. Духовской). В 1944 г. был арестован советскими военными властями и отправлен в Москву, где был осужден.
547 Юбилей отмечался 1 марта 1938 г. Был показан спектакль «Три сестры», по окончании которого состоялись чествования Р. А. Унгерна.
548 В газете «Сегодня» от 6 октября 1935 г. появилась заметка под названием «Русское Национальное Объединение призывает к поддержке Русского театра»: «Как известно, в конце прошлого сезона театр оказался в тяжелом материальном положении. С августа началась усиленная работа Общества друзей русского театра, которое получило концессию на Театр» (№ 276. С. 11).
549 Милюков Павел Николаевич (1859 – 1943) — историк, политический деятель. Один из лидеров конституционно-демократической партии (партии народной свободы). С 1921 до 1941 г. — главный редактор наиболее влиятельной эмигрантской газеты «Последние новости» (Париж). Тяжело переживал обострение международной обстановки накануне второй мировой войны, усиление фашистской Германии. Его осуждение «мюнхенского сговора» (1938) вызвало массовое неприятие в правых кругах русской эмиграции. Милю ков одобрил заключение советско-германского пакта (1939), но считал неизбежным нападение Германии на СССР. Доказывал, что в этом случае русская эмиграция «должна безоговорочно быть на стороне своей Родины». Публикацию в газете «Сегодня», которую имел в виду Р. А. Унгерн, выявить не удалось.
550 «Сегодня» (Рига, 1919, 17 августа – 1940, 21 июня) — независимая демократическая газета, эмигрантской себя не считала, поскольку официально именовалась «латвийской газетой на русском языке». Создателем газеты стал М. Ип. Ганфман (1882 – 1934), редактор кадетской газеты «Речь». В «Сегодня» тон задавали люди милюковского направления, близкие по духу «Последним новостям». Подводя итоги десятилетию существования газеты, Ганфман писал: «<…> “Сегодня” как газета меньшинственная, как газета русская, особенно подробно освещала все, что относится к жизни меньшинств, особенно русского и еврейского» (1929, 29 сентября). А. М. Мильруд, один из ключевых сотрудников 576 редакции, позже вспоминал: «Если подойти цинично — “Сегодня” без объявлений еврейских фирм, еврейских коммерсантов и без еврейских подписчиков, которые подписывались из года в год, не смогла бы существовать. Последних по сравнению с русскими подписчиками было значительно больше. Почему прогорела газета “Слово” — казалось, что основана на значительно более солидной платформе. “Сегодня” тогда не имела собственной типографии. А у “Слова” была своя типография “Саламандра”. Белоцветов, человек с деньгами, собрал неплохих журналистов. Но у них не было достаточного числа объявлений. И без еврейского читателя газета просуществовать не могла. Азбучная истина. Русских более или менее материально благоустроенных было значительно меньше, чем евреев. И даже на свой русский театр русские не очень хотели тратить деньги. Их давали главным образом евреи, хотя был и караим Майкапар, владелец табачной фабрики» (цит. по: Флейшман Л., Абызов Ю., Равдин Б. Русская печать в Риге: Из истории газеты «Сегодня» 1930-х годов. Кн. I. Stanford, 1997. С. 217).
551 Весной – летом 1938 г. И. А. Бунин предпринял турне по странам Балтии: Каунас — Рига — Таллинн, Гельсингфорс. В Риге он выступал в помещении Театра русской драмы два раза — 29 апреля на тему «Встречи с моими современниками (Встречи и впечатления — Толстой, Чехов, Горький, Куприн и т. д.)» и 2 мая на тему «О любви». Скандал, упоминаемый Унгерном, если и случился, то не достиг газет, которые были весьма почтительны в своих отчетах о выступлениях Нобелевского лауреата.
552 В Двинске (Даугавпилсе) 4 мая состоялось чтение Буниным своих рассказов, объединенных темой «О любви».
553 Бунчук (Бур-Бунчук) Екатерина Осиповна (1895 – 1968) — актриса. В 1916 г. окончила Харьковскую драматическую студию, выступала в антрепризах Синельникова, Суходольской, в театре К. Марджанова (Петроград). В 1923 г. приехала в Ригу. С 1924 г. и до конца жизни работала в Театре русской драмы.
554 М. В. Духовской был партнером Е. О. Бунчук в драме А. Биссона «Неизвестная». Премьера — 2 ноября 1937 г.
555 Премьера пьесы С. А. Найденова «Дети Ванюшина» в постановке Унгерна состоялась 18 января 1938 г.
556 Пастухов Всеволод Леонидович (1896 – 1967) — пианист, музыкальный педагог, журналист. В 1917 г. закончил Петроградскую консерваторию и начал карьеру концертирующего пианиста. Эмигрировал в Ригу в 1921 г. Вел музыкальную студию. Выступал с концертами. С 1926 г. сотрудничал с газетой «Сегодня», после ее закрытия в 1940 г. работал в «Русской газете» и «Трудовой газете». В 50-е гг. переехал в США, где сотрудничал с газетой «Новое русское слово».
557 Петров Н. В. 50 и 500. М., 1960. С. 2.
558 См.: Там же. С. 252 – 355.
559 Там же. С. 284.
560 Рашевская (в замуж. Петрова) Наталья Сергеевна (1893 – 1962) — актриса, режиссер. В 1914 – 1916 и 1921 – 1962 гг. — на сцене б. Александринского театра. Ее жизнь и творческие поиски в 1920 – 1930-е гг. тесно связаны с Н. В. Петровым (см.: Стронасая Е. Наталья Рашевская. 577 Л.; М., 1961). Активно участвовала в постановках советских пьес, на собраниях труппы горячо защищала новое направление в репертуарной и творческой политике. С 1934 г. выступала и как режиссер. В 1943 г. — и. о. главного режиссера, в 1944-м — главный режиссер Ленинградского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина.
561 «Балаганчик», руководимый Петровым, был филиальным отделением театра «Вольной комедии». Открылся 11 ноября 1921 г. и просуществовал до 1924 г.
После прихода к руководству б. Александринским театром Петрова (1928) были вынуждены покинуть труппу М. А. Потоцкая, Н. Л. Тираспольская, Г. Г. Ге, Ю. В. Корвин-Круковский, П. В. Самойлов, Н. Н. Ходотов, Е. П. Студенцов и Н. М. Железнова.
562 Курганов Яков Александрович — актер б. Александринского театра с 1918 г. В конце 20-х – начале 30-х гг. — содиректор театра, активный помощник Н. В. Петрова в «советизации» репертуара Александринки. «В этой работе, — писал Петров, — большую помощь мне оказывал мой заместитель Я. А. Курганов, актер нашего театра, который и до этого постоянно выступал на всех собраниях, пропагандируя советскую пьесу» (Петров Н. В. 50 и 500. С. 278.) Говоря о своих начинаниях в б. Александринском театре, Петров постоянно повторяет «мы с Кургановым».
563 В 1929 г. в системе управления академическими театрами произошли большие перемены. На смену А. В. Луначарскому пришел новый нарком просвещения, А. С. Бубнов. Было рас пущено Управление актеатрами, в связи с чем И. В. Экскузович, управляющий с 1924 г., оказался в отставке (1928). Общее руководство сосредоточилось в Главискусстве, начальником которого был А. И. Свидерский.
564 9 августа 1928 г. «Ленинградская правда» уведомила, что «согласно личной просьбе нар. арт. Ю. М. Юрьев освобожден от управления Академическим театром драмы», а вечерняя «Красная газета» пояснила мотивы: «… ввиду производимой реорганизации театра и разграничения функций художественного руководителя и управляющего труппой…» 19 августа «Ленинградская правда» сообщила, что разграничения были временными и вновь отпали, поскольку обе должности совместились в одном лице: и худруком, и управляющим труппой стал Н. В. Петров.
565 Премьера пьесы О. Уайльда «Идеальный муж» в постановке Н. В. Петрова состоялась 27 мая 1923 г. Пьеса продержалась в репертуаре театра несколько сезонов, вплоть до ухода Ю. М. Юрьева, исполнявшего роль Роберта Чилтерна.
566 Железнова Нина Михайловна (1899 – 1972) — актриса. С 1915 по 1929 г. — в труппе Александринского театра. В 1929 г. вместе со своим мужем Е. П. Студенцовым покинула Александринский театр и более туда не вернулась. Во время блокады с 1941 по 1943 г. оставалась в Ленинграде и работала санитаркой. В послевоенное время выступала с чтецкими программами.
567 Борис Владимирович, великий князь (1877 – 1943) — внук императора Александра II. Был связан с театральной богемой (в том числе с С. П. Дягилевым) и скандально известен оргиями с дамами полусвета. В 1919 г. покинул Россию. В том же году в Генуе вступил в морганатический брак с Зинаидой Сергеевной Рашевской (1898 – 1963), дочерью инженерного полковника, погибшего в Порт-Артуре, и сестрой актрисы Александринского театра Натальи Сергеевны Рашевской. В эмиграции жил и умер в Париже. Таким образом, артисты советской темы, Н. В. Петров и Н. С. Рашевская, регулярно гостили в Париже у великого князя Бориса как члены семьи.
568 Грановская Елена Маврикиевна (1877 – 1968) — комедийная актриса. Начала сценическую карьеру в Васильевском театре (СПб., 1898). Играла в Панаевском театре (1899 – 1902), Театре Корша в Москве. С 1903 г. работала в антрепризах С. Ф. Сабурова, в том числе в театре «Пассаж» (преобразован в 1925 г. в театр «Комедия»). Жена Сабурова. В 20-е гг. театр Сабурова в театральном обиходе стали называть театром Грановской.
569 В 1929 г. Папазян гастролировал в театре «Комедия», для чего труппа была усилена несколькими актерами Александринского театра. Выступления открылись 1 января спектаклем «Отелло», где его партнершей была Н. М. Железнова (Дездемона), затем последовали 578 «Кин, или Гений и беспутство» (с Железновой), «Казнь», «Гамлет», «Дон Жуан». На протяжении апреля Папазян играл «Отелло» на русском языке.
570 Премьера пьесы В. Газенклевера в переделке А. Н. Толстого «Делец» в постановке Р. А. Унгерна состоялась 2 января 1929 г. Критик писал: «В постановке есть что-то от “Турандот” <…> В главной роли Мебиуса — Студенцов, актер, малознакомый Риге, но хорошо известный Петербургу, сначала по Малому Суворинскому театру, а потом по образцовому Александринскому театру. Наряду с Юрьевым он один из его премьеров. Это актер той новой, надо добавить, прекрасной школы, которая в противоположность уверениям старых актеров-индивидуалистов учит, что нутро нутром, а театральное искусство, как всякое искусство, требует еще и большой серьезной работы, прежде всего овладения театральной техникой. Он выдержан, сдержан, с благородным, строгим жестом, не аффектирован, прост, хорошо владеет своим красивым голосом, а кстати, он еще имеет подарок от природы — хорошую сценическую внешность» (Максим Л. «Делец» Газенклевера. Театр Русской драмы // Сегодня. Рига, 1929. № 4. 4 января. С. 8).
571 Премьера пьесы М. Праги «Идеальная жена» в постановке Студенцова прошла 22 января 1929 г.
572 Тиме (в замуж. Качалова) Елизавета Ивановна (1884 – 1968) — актриса. В 1908 – 1917, 1919 – 1941, 1944 – 1959 гг. — в труппе Александринского театра. Одна из ведущих актрис александринской сцены, бессменная исполнительница роли баронессы Штраль в спектакле Мейерхольда «Маскарад». Выступала также в оперетте, на сцене театра Комической оперы и «Палас-театра».
573 Рыбников Николай Николаевич (1879 – 1956) — актер. На профессиональной сцене с 1898 г. Работал в провинции. С 1914 г. — в Театре Литературно-художественного общества (Суворинском). С 1918 г. работал в Москве, затем Харькове, Баку, позже в Театре б. Корш, с 1927 г. — в Малом театре. Возможно, что «Идеальная жена» М. Праги была поставлена Ю. Л. Ракитиным с группой актеров для гастрольной поездки.
574 Премьера «Человека с портфелем» А. М. Файко в постановке Р. А. Унгерна состоялась 24 сентября 1929 г.
575 Премьера «Горя от ума», поставленного к 100-летию со дня смерти А. С. Грибоедова, была показана 11 марта 1929 г.
576 Усачев Александр Артемьевич (1863 – 1937) — актер. Ученик Н. Ф. Сазонова по Драматическим курсам Петербургского театрального училища. В труппе Александринского театра с 1891 по 1937 г. С успехом исполнял характерные роли. Автор книги «Повесть об од ном актере» (Л., 1934). Очевидно, в конце 1920-х – начале 1930-х гг. в его службе на александринской сцене был перерыв, потому что, по документам отдела кадров, 1 марта 1931 г. он вновь был принят на службу в театр. Дата его увольнения неизвестна. После 1931 г. работал в труппе до самой смерти 21 января 1937 г.
577 Выступления александринцев в Ковно начались 22 июня 1928 г., в то время как с 19 июня на основной сцене б. Александринского театра проходили большие гастроли МХАТ. В официальной хронике гастролей Госакдрамы эти гастроли никогда не отмечались. Очевидно, это была «приватная» инициатива группы александринцев «на старый манер», когда еще с дореволюционных времен в летний период организовывались антрепризы П. Д. Ленского или К. П. Ларина с показом спектаклей в Прибалтике или Польше. На сей раз были показаны «постановки в духе старой Александринки (“Бабушка”, “Идеальный муж”) и искания нового оформления (“Мандат”). <…> Александринка впервые после семи лет приехала в Каунас, где встретила у публики радушный прием и выступления ее проходили с большим успехом» (Александринцы в Каунасе // Эхо. Ковно, 1928. № 140. 23 июня. С. 3.). Следует сказать, что в пользу «приватного» характера поездки говорит включение в репертуар комедии в 3-х действиях Г. де Кайе, Р. де Флера и Э. Рея «Бабушка», которая никогда не шла на основной сцене Александринского театра ни до, ни после революции. «Бабушка» была прерогативой Театра Корша, а также летних, дачных антре приз, в которых, конечно же, участвовали и александринцы. «Идеальный муж» О. Уайльда был поставлен в Госдраме Н. В. Петровым в 1923 г., а «Мандат» — В. Р. Раппапортом 579 в 1925 г. Приблизительно можно вычислить, что в поездке участвовали: Е. И. Тиме, Н. М. Железнова, Ю. М. Юрьев, Б. А. Горин-Горяинов, Ю. В. Корвин-Круковский, Б. Е. Жуковский, Е. П. Студенцов, Е. М. Вольф-Израэль, Е. П. Корчагина-Александровская, В. И. Воронов, Я. О. Малютин, В. Г. Киселев, Е. П. Карякина, В. Р. Стрешнева и другие.
578 Корчагина-Александровская (наст. фам. Корчагина, по мужу Александровская) Екатерина Павловна (1874 – 1951) — актриса. На профессиональной сцене с 1887 г. С 1904 по 1907 г. — в петербургском Театре В. Ф. Комиссаржевской, в 1907/08 г. — в театре Н. Д. Красова, с 1908 по 1915 г. — в Театре Литературно-художественного общества. С 1915 г. — в Александринском театре.
579 Воронов Владимир Иванович (1890 – 1985) — актер. С 1919 по 1962 г. — в труппе Ленинградского академического театра драмы. Одновременно с 1920 по 1935 г. выступал в Ленинградском Малом оперном театре, исполняя центральные партии в опереттах. Автор книги «Путь к сцене» (Л.; М., 1958).
580 Гзовская Ольга Владимировна (1883 – 1962) — актриса. С 1920 по 1932 г. — в эмиграции. В декабре 1929 г. выступала с труппой Театра русской драмы в спектаклях, которые поставила сама: «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони, «Икс, игрек, зет» Клаубанда, «Конец любви» Р. Бракко.
581 Премьера пьесы В. Мейер-Ферстера «В старом Гейдельберге» в постановке Студенцова состоялась 4 марта 1930 г. В б. Александринском театре эта пьеса ставилась в 1922 г. учителем Студенцова режиссером Н. Н. Арбатовым с участием Юрьева. Спектакль оставался в репертуаре Госакдрамы до 1924 г.
582 Н. М. Железнова.
583 Николаева Августина Николаевна (наст. фам. Красовская, по мужу Пельтенбург; 1891? – ?) — актриса. Сестра М. Н. Германовой. В 1920 г. принимала участие в спектаклях «Летучей мыши» в Париже. В 1921 г. — в труппе Театра русской драмы. Во второй половине 1920-х – 1930-е гг. — в Большом драматическом театре (Ленинград).
584 Лаврентьев Андрей Николаевич (1882 – 1935) — актер, режиссер. Воспитанник школы МХТ, в которую поступил в 1902 г. По окончании был оставлен в театре. Играл эпизодические роли, чаще всего даже без слов. С 1910 г. перешел на императорскую сцену. До 1918 г. был актером и режиссером Александринского театра. В 1919 г. стал одним из основателей и главным режиссером Большого драматического театра. В 1921 и 1922 гг. работал в рижской антрепризе М. Я. Муратова и А. И. Гришина (впоследствии Театр русской драмы).
585 Премьера «Тартюфа» в Ленинградском академическом театре драмы в постановке Н. В. Петрова, В. Н. Соловьева и Н. П. Акимова состоялась 4 декабря 1929 г. «Трактовка действительно была необычной. Тартюф — злодей, но Оргон и Эльмира, и все семейство — не жертвы продуманного обмана: сцепились две противостоящие друг другу силы, идет драка за власть, за влияние. Достойных или более или менее приличных героев в этом спектакле не было» (Струтинская Е. И. Искания художников театра: Петербург — Петроград — Ленинград. 1910 – 1920-е годы. М., 1998. С. 216).
586 Соков Александр Осипович (1878 – 1935) — бутафор. В 20-е гг. занимал ряд административных должностей в Госакдраме, был членом художественной коллегии.
587 Минаев (наст. фам. Куннос) Александр Фридрихович (1875 – ?) — суфлер б. Александринского театра с 1911 по 1931 г. (?).
588 Надеждин Степан Николаевич (1878 – 1934) — актер, режиссер. С 1908 г. — актер театра «Пассаж». Исполнял преимущественно роли простаков и светских фатов. Постоянный партнер Е. М. Грановской.
589 Корвин-Круковский Юрий Васильевич (1862 – 1935) — актер. С 1886 по 1929 г. в труппе Александринского театра. Исполнитель таких ролей, как Кречинский («Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина), Вышневский («Доходное место» А. Н. Островского), лорд Кавиршем («Идеальный муж» О. Уайльда) и др.
590 580 С появлением советской драматургии Л. С. Вивьен стал активным ее пропагандистом. В своей художественной политике поддерживал равновесие между классическим и современным советским репертуаром.
591 Лешков Павел Иванович (1884 – 1944) — актер, режиссер. Окончил Драматические курсы Петербургского театрального училища (класс А. И. Долинова). В труппе Александринского театра с 1911 по 1923 и с 1926 по 1941 г. С 1924 по 1926 г. работал в ГосТИМе.
592 Смолич Николай Васильевич (1888 – 1968) — актер, режиссер. Ученик В. Н. Давыдова и С. И. Яковлева по Драматическим курсам Петербургского театрального училища. В 1911 г. был принят в Александринский театр на ампула первого характерного актера. С 1916 г. стал работать как режиссер. В 1920 г. был назначен руководителем художественной части. Восстанавливал спектакль Мейерхольда «Шут Тантрис» Э. Хардта (1920, 1922). С 1922 г. одновременно работал оперным режиссером в Большом театре. Сезон 1924/25 г. провел в театре при КВЖД (Харбин). С 1929 г. — управляющий Малым оперным театром. С 1930 по 1938 г. — главный режиссер Большого театра.
593 Сравнивая Н. С. Рашевскую и Е. М. Вольф-Израэль, Студенцов фактически говорит об утвердившемся на сцене Госакдрамы типе героини. Внутренняя сила и напористая темпераментность Рашевской более соответствовали современному советскому репертуару, нежели лирические хрупкие героини Вольф-Израэль. Именно поэтому Студенцов, несмотря на активное неприятие «линии Петрова», все же подозревает, что эта линия может утвердиться надолго. Что касается Вивьена, который вел активную педагогическую и режиссерскую работу с начала 1920-х гг., то ему еще долгие годы не удавалось реализовать свое представление о перспективах развития александринской сцены. С конца 1920-х гг. он руководил филиалом Госакдрамы и лишь в 1937 г., после Н. В. Петрова, Б. М. Сушкевича и С. Э. Радлова, стал главным режиссером театра. Именно тогда Студенцов и возвращается на александринскую сцену.
594 Тайные планы, о которых Ракитин писал Студенцову, были оглашены в статье Е. Месснера «Помощь Югославии художественникам»: «Пражская группа Московского Художественного театра совершает сейчас турне по Югославии, турне, которое может быть названо триумфальным шествием русского театра по землям южных славян <…> Репертуар труппы состоит из пьес: “Раскольников” (“Преступление и наказание”, переработанное Г. Хмарой), “Мысль” Андреева, “Сверчок на печи”, “Бедность не порок”, “Женитьба”. К осени художественники получат возможность расширить свой репертуар благодаря содействию югославского “Культурного комитета” во главе с профессором и секретарем югославской Академии Наук А. И. Беличем. Комитет обеспечивает труппу средствами, чтобы она, по окончании турне осев на несколько месяцев в гостеприимной Югославии и не выступая на подмостках, всецело занялась постановкой нескольких пьес. К постановке намечены “Федор Иоаннович”, “Отелло” и “Ревизор”. “Культурный комитет”, оказывая внимание художественникам, выявляет те симпатии всего югославского общества к славной труппе, которые чувствуются в шумных чествованиях труппы; симпатии эти идут еще дальше — в белградской печати высказывались мнения о желательности предоставить труппе возможность обосноваться совеем в Югославии, покончив с гастрольными скитаниями по странам, где не могут понять глубин и высот славянского искусства. Осуществятся ли когда-либо пожелания, сказать трудно, но самый факт наличия таких пожеланий показывает, как сильно всколыхнули души югославского общества спектакли художественников» (Сегодня. Рига, 1930. № 40. 9 февраля. С. 3). Этим планам не суждено было осуществиться.
595 Хмара Григорий Михайлович (1882 – 1970) — актер, театральней деятель. С 1910 г. — в МХТ на эпизодических ролях. С созданием Первой студии стал одним из самых заметных ее актеров. Покинул Россию в 1923 г. Сделал карьеру в немом кино. С появлением 581 звукового кино вернулся в театр. Играл и ставил в русских труппах Риги; Парижа и др. Был женат на актрисе Асте Нильсен.
Сезон 1929/30 г. Пражская группа работала в Белграде. Вопрос о Переносе со следующего сезона базы труппы в Белград казался окончательно решенным, поддержкой югославского правительства и русских кругов удалось заручиться. В связи с упрочившимся Положением труппы Павлов был «озабочен приглашением в состав ее всех прежних сотрудников, членов МХТ» (Там же). Возвращение в труппу прежних сотрудников могло значительно потеснить положение нынешнего состава. Такая перспектива вела к конфликтам. Так или иначе, но по неизвестным причинам белградский проект не был осуществлен.
596 В создании Большого драматического театра (БДТ), который открылся 15 февраля 1919 г., принимали участие А. М. Горький, А. А. Блок, М. Ф. Андреева.
597 Н. Ф. Монахов завоевал популярность как опереточный артист. Принял участие в создании БДТ, в спектаклях которого запомнился В трагических и драматических ролях. Студенцов упрощает реальный драматизм творческих исканий БДТ в 20-е гг.
598 Резкие оценки Студенцова не вполне справедливы. На сцене б. Александринского театра В. Р. Раппапорт ставил пьесы У. Шекспира, Б. Шоу, Н. Р. Эрдмана В постановке «Антония и Клеопатры» Студенцов и Железнова играли Цезаря и Октавию; в «Святой Иоанне» Студенцов играл Дофина.
599 Павлова (урожд. Пистолькорс) Марианна Эриковна (1890 – 1976) — актриса. Ее мать Ольга Валерьяновна (урожд. Карнович; 1865 – 1929), известная светская красавица, состояла в морганатическом браке с сыном Александра II, великим князем Павлом Александровичем (1860 – 1919). Желая помочь морганатическому браку, король Баварии пожаловал Ольге Валерьяновне титул графини Гогенфельзен. Парижский особняк Павла Александровича и Ольги Валерьяновны стал притягательным центром для европейской элиты, путешествующих русских артистов, художников, писателей. Здесь бывал С. П. Дягилев, пели Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов. Сохранилась переписка Ольги Валерьяновны с Франсуа Коппе, Полем Бурже, Марселем Прево. Марианна Эриковна (в первом браке за полковником Генерального штаба П. П. Дурново, во втором — за штаб-ротмистром лейб-гвардии Конного полка И. Х. Дерфельденом, в третьем — за графом Н. В. Зарнекау, в четвертом — за Михаилом Павловым) принимала участие в любительских спектаклях. С 1918 г. связала свою судьбу с А. Н. Лаврентьевым. С 1919 по 1921 г. входила в труппу БДТ. С 1921 г. — в Театре русской драмы. В 1926 – 1928 гг. принимала участие в русских спектаклях в Париже, в том числе в спектаклях Пражской группы. Умерла в Нью-Йорке.
600 Гришин Александр Ильич (? — 1940) — актер, театральный предприниматель. Начинал свою деятельность в Народном театре (Казань), затем перешел в труппу Н. И. Собольщикова-Самарина. С 1906 г. — антрепренер в Тифлисе, затем в течение 10 лет в Ростове-на-Дону. В 1919 – 1921 гг. — управляющий труппой БДТ. Вместе с М. Я. Муратовым был антрепренером Театра русской драмы (1921 – 1925). Много лет работал директором, затем администратором Театра русской драмы.
601 К середине 1930 г. репертуар Госакдрамы существенно изменился. В сезоне 1929/30 г. «Огненный мост» Б. С. Ромашова Прошел 32 раза, «Делец» В. Газенклевера — 41, «Мятеж» Д. А. Фурманова — 18, «Рельсы гудят» В. М. Киршона — 22. Между тем «Горе от ума» А. С. Грибоедова — 1, «Живой труп» Л. Н. Толстого — 1, «Ревизор» Н. В. Гоголя — 10. Единственный спектакль, который конкурировал с советскими пьесами, была комедия А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся». В сезоне 1930/31 г. в репертуар театра входило всего во семь названий. Из классики остались только «Свои люди — сочтемся» (31), «Ревизор» (11) и вновь поставленный «Тартюф» (12). Лидерами «проката» стали новые спектакли: «Ярость» Е. Г. Яновского (56), «Чудак» А. Н. Афиногенова (70).
602 Соловьев Владимир Николаевич (1887 – 1941) — режиссер, драматург, педагог, историк театра, критик. Вел занятия в студиях Мейерхольда на Троицкой И Бородинской, Пре подавал на курсах мастерства сценических постановок. Автор пьес на темы комедии дель 582 арте. В 1925 – 1926 и 1929 – 1933 гг. — режиссер Ленинградского академического театра драмы, где поставил: «Делец» В. Газенклевера (1928, с Петровым), «Тартюф» Ж.-Б. Мольера (1929, с Петровым). Из советских пьес в ту пору им был поставлен только «Командарм 2» И. Л. Сельвинского (1930).
603 Синельников Николай Николаевич (1855 – 1939) — режиссер, актер, антрепренер, театральный деятель. В 1910-е гг. его харьковская антреприза завоевала признание как одно из культурных театральных предприятий российской провинции. Его 57-летний юбилей сценической (или, как в те годы было принято говорить, трудовой) деятельности был отмечен 4 января 1930 г.
604 Премьера пьесы Г. Рейфиша и В. Герцога «Дело Дрейфуса» в постановке Е. П. Студенцова прошла 1 апреля 1930 г.
605 Премьера пьесы Г. Г. Ге «Казнь» состоялась 8 апреля 1930 г. Режиссер указан не был.
606 Яковлев Юрий Дмитриевич (1888 – 1938) — актер и режиссер. С 1924 по 1933 г. — в Театре русской драмы. Среди его постановок: «Ревизор», «Дети Ванюшина», «Двенадцать стульев», «Страх»; среди ролей: Плюшкин, Епиходов, Остап Бендер, Мышлаевский и другие. Затем работал в Болгарии.
607 Одни из самых известных ролей М. А. Ведринской: Нина («Маскарад»), Бетси («Плоды просвещения»), Луиза («Коварство и любовь»), Кети («В старом Гейдельберге») и другие. Практически репертуар Железновой повторял репертуар Ведринской.
608 Жданова Мария Александровна (1890 – 1944) — актриса. С 1907 по 1924 г. — в МХТ. По окончании американских гастролей ей не нашлось места ни в Художественном театре, ни в его студиях. После нескольких лет душевного нездоровья оказалась в Прибалтике. Умерла в Париже.
609 Гастроли ГосТИМа в Германии начались в Берлине 1 апреля 1930 г.
610 Бабанова Мария Ивановна (1900 – 1983) — актриса. В 1920 г. закончила студию под руководством Ф. Ф. Комиссаржевского. С 1920 г. — в Театре РСФСР I, затем в Театре Актера, Театре ГИТИС, с 1923 по 1927 г. — в Театре им. Мейерхольда. С 1922 г. одновременно работала в Театре Революции.
611 Райх Зинаида Николаевна (1894 – 1939) — актриса. С 1917 по 1921 г. была женой С. А. Есенина. С 1922 г. — жена Вс. Э. Мейерхольда. С 1923 по 1938 г. — актриса Театра им. Мейерхольда.
612 Премьера пьесы Г. Кайе, Р. де Флера и Э. Рея «Бабушка» в Театре русской драмы в постановке Г. М. Терехова игралась 19 января 1926 г. Кроме того, Студенцов напоминает Ракитину более раннюю постановку этой пьесы в Суворинском театре, где главную роль сыграла Е. П. Корчагина-Александровская. Премьера — 20 апреля 1915 г. Режиссер М. П. Муравьев.
613 Премьера пьесы А. Н. Толстого «Любовь — книга золотая» в постановке Ю. Д. Яковлева состоялась 4 февраля 1930 г., а пьесы В. В. Шкваркина «Шулер» в постановке Р. А. Унгерна — 12 ноября 1929 г.
614 См. наст. изд., с. 569 и 570, примеч. 1 и 4 к письму 2 [В электронной версии — 495 и 498].
615 Г. Л. Теляковская — жена В. А. Теляковского, иногда выступала как театральная художница.
616 Премьера «Лукреции Борджиа» В. Гюго в Александринском театре состоялась 28 марта 1916 г. Режиссер Ю. Л. Ракитин. Композитор М. А. Кузмин. Студенцов играл роль Д’Эсте. Спектакль был показан на сцене Михайловского театра как «спектакль для учащейся молодежи».
617 Премьера «Нахлебника» И. С. Тургенева в Александринском театре с участием В. Н. Давыдова (Кузовкин), Е. П. Студенцова (Елецкий), Н. Г. Коваленской (Елецкая) была дана 12 ноября 1915 г. Режиссер Ю. Л. Ракитин. Костюмы Г. Л. Теляковской. Спектакль играли по преимуществу в один вечер с «Провинциалкой».
618 583 Польские гастроли Театра русской драмы начались 9 мая 1930 г. в Вильно, затем последовали Варшава, Лодзь, Белосток и Гродно. По сообщению варшавского корреспондента «Последних новостей», «5 июня закончились двухнедельные гастроли в Варшаве русской драматической труппы из Риги. Эти две недели были настоящим праздником русской культуры в Варшаве. Почти все спектакли прошли с аншлагами, тогда как в это же самое время польские театры пустовали. И знаменательно еще то, что большинство зрителей были поляки и евреи. “Гроза”, “Три сестры”, “Дворянское гнездо”, “Преступление и наказание” и две пьесы из подсоветского быта — “Человек с портфелем” Файко и “Зойкина квартира” Булгакова — вот пьесы, прошедшие перед варшавскими зрителями. Польская пресса дает очень благоприятные отзывы о спектаклях русской труппы, особенно подчеркивая прекрасный ансамбль труппы. Целый ряд выдающихся артистов входит в эту труппу — Ведринская, Бунчук, Мельникова, Чаадаев, Булатов, Барабанов, Яковлев, Юровский, но и все остальные артисты являются достойными их партнерами» (1930. № 3300. 13 июня. С. 2).
619 Ю. М. Юрьев пробыл в труппе Малого театра с 1929 по 1932 г. Однако и здесь ему приходилось сталкиваться с аналогичными проблемами советизации репертуара. В сезоне 1930/31 г. он выступает на концертной эстраде с программой «Вечер классического монолога», куда входят сцены и монологи из «Горя от ума», «Маскарада», «Отелло», «Дон Карлоса» и др. В следующем сезоне выступает с «Маскарадом» в концертном исполнении.
620 Любош (наст. фам. Любошиц) Александр Семенович (1880 – 1954) — актер. В труппе Александринского театра с 1918 по 1924 г. и с 1933 по 1954 г. В конце 1920-х – начале 1930-х гг. руководил театром в Тифлисе.
621 Вронский Василий М. (1885 – ?) — актер, антрепренер. Начинал сценическую деятельность в Одессе. В 1910-е гг. выступал в Театре С. Ф. Сабурова, Невском фарсе и Литейном театре. После революции в эмиграции. В начале 20-х гг. работал в Театре русской драмы. Затем долгие годы — в Румынии, где держал русскую труппу, игравшую фарсовый репертуар. Руководил русской труппой в оккупированной Одессе (1943). По сообщению В. М. Гайдебуры, был арестован в Румынии. Отбывал заключение в Николаевской области, работал в шахтах. Умер в заключении.
622 Муратов Михаил Яковлевич (1885 – 1944) — актер, режиссер, антрепренер. Работал в провинции. Затем в Петербурге в Новом драматическом театре, где с успехом сыграл заглавную роль в «Анатэме» Л. Н. Андреева (1909). Был приглашен в труппу Малого театра. В 1916 г. создал театр «Эрмитаж». После революции работал режиссером в Харькове у Синельникова. Получив большое наследство, эмигрировал в Болгарию, где пытался создать русский театр. С 1921 по 1925 г. вместе с А. И. Гришиным держал антрепризу в Риге (Театр русской драмы). Затем переехал в Париж. Работал в Русском интимном театре Д. Кировой (1930), в Пражской группе (1930), в Русском зарубежном камерном театре под управлением Б. Эспе (1931). Несколько сезонов провел в Кишиневе, тогда входившем в состав Румынии. В годы Великой Отечественной войны вернулся в Россию, работал в провинциальных театрах.
623 Каракаш Михаил Николаевич (1887 – 1937) — оперный солист и режиссер. С 1911 по 1918 г. — в Мариинском театре. Умер во время гастролей в Бухаресте. Попова Елизавета Ивановна (1889 – 1967) — оперная артистка. В 1910-е гг. — примадонна Мариинского театра. В 1920 г. супруги Каракаш и Попова уехали в Италию, где выступали в театрах Рима, Флоренции, Милана («La Scala»). Затем гастролировали в Югославии, Испании, Венгрии, пели в спектаклях Русской частной оперы М. Н. Кузнецовой-Массне (1929), в антрепризе князя А. А. Церетелли и полковника де Базиля «Русская опера» (1930 – 1931). Каракаш принимал участие в драматических спектаклях Пражской группы (1931), Русского общедоступного театра И. Е. Дуван-Торцова (Белград, 1933). Е. И. Попова вернулась в СССР в 1948 г.
624 Имеются в виду спектакли «русского сезона» в Барселоне, организованного князем Церетелли в театре «Лисео» и открывшегося 16 ноября 1929 г. «Сказанием о невидимом граде 584 Китеже» в постановке А. А. Санина, дирижер М. О. Штейман. Каракаш и Попова в спектаклях не выступали. Позже в качестве режиссера Каракаш участвовал в спектаклях «Русской оперы» под управлением князя Церетелли и полковника де Базиля, открывшей парижский сезон 17 мая 1930 г.
625 Летом 1929 г. актеры Театра б. Корш Николай Мариусович Радин (1872 – 1935) и его жена Елена Митрофановна Шатрова (1892 – 1976) с коммерческой пьесой Л. Вернейля «Ложь» гастролировали по Среднему Поволжью, Белоруссии, Украине и Северному Кавказу.
626 Актеры Малого театра Н. Н. Рыбников и Наталья Александровна Розенель-Луначарская (1902 – 1962) летом 1929 г. гастролировали по СССР с пьесой Л. Вернейля «Ложь» («Господин Ламбертье») в переводе Н. А. Розенель под названием «Кто убил?». Но сначала спектакль был показан московским зрителям на сцене МХАТ Второго.
627 Нильсен Аста (1881 – 1972) — датская актриса. С 1902 г. — в театре. Дебютировала в кино в 1910 г. Долгое время работала в Германии. С наступлением нацизма вернулась на родину. Выступала до 1939 г.
9 мая 1929 г. А. Нильсен и Гр. Хмара в ходе прибалтийских гастролей дали в Театре русской драмы единственное представление пьесы «Господин Ламбертье». Газета «Сегодня», обычно весьма благосклонно рецензировавшая спектакли Театра русской драмы, на этот раз промолчала, что можно рассматривать как подтверждение правоты Студенцова.
628 Орлов Всеволод Андреевич (? — 1944) — актер. Рижская пресса аттестовала его, как участника студии Художественного театра. Упоминался в письме К. С. Станиславского Л. А. Сулержицкому (ноябрь 1910 г.) как «студент Орлов, который покидает нас сегодня (который раз мы сиротеем)» (Собр. соч.: В 9 т. М., 1998. Т. 8. С. 210 – 211). С 1929 по 1941 г. — в Театре русской драмы. Пароход, на котором он пытался эвакуироваться из Латвии, пошел ко дну в результате бомбардировки.
629 Возможно, имеется в виду открывший сезон в Париже 23 ноября 1930 г. Русский зарубежный камерный театр под управлением Б. Эспе, в создании которого Н. П. Асланов принимал участие.
630 Публикатор считает своим приятным долгом поблагодарить International Research Exchange Board и American Council of Teachers of Russian (Research Scholars Program) за финансовую поддержку, оказанную ему во время подготовки этой публикации, и выражает особую благодарность И. Л. Багратион-Мухранели за помощь в редактировании.
631 См.: Moody С. Nikolai Nikolaevich Evreinov. 1879 – 1953 // Russian Literature Triquarterly. 1975. № 13. P. 659 – 695; Camicke Sharon Marie. The theatrical Instinct. Nikolai Evreinov and the Russian Theater of the Early Twentieth Century. New York, 1989; Golub Spencer. Evreinov. The Theatre of Paradox and Transformation. Ann Arbor, 1984; Иванов Вл. Николай Евреинов: между будуаром и эшафотом // Театр. 1993. № 5. С. 95 – 100.
632 585 Имеется в виду Зинаида Афанасьевна Венгерова (1867 – 1941), тетя Сазоновой-Слонимской по материнской линии, переводчица, жена поэта Н. Н. Минского.
633 Письмо Ю. Л. Сазоновой-Слонимской И. А. Венгеровой. Без даты. [Автограф] // Рукописный отдел. Институт русской литературы (Пушкинский Дом). Ф. 89. Ед. хр. 1099. Л. 11.
634 Арабажин Константин Иванович (1866 – 1929) — историк литературы, критик. Двоюродный брат Андрея Белого. Окончил историко-филологический факультет Киевского университета. После переезда в Санкт-Петербург занялся журналистикой, редактировал газету либерального направления «Северный курьер». Сочинения: «Публичные лекции о русских писателях» (СПб., 1909), «Леонид Андреев. Итоги творчества» (СПб., 1910) и др. После революции эмигрировал. В Риге основал университетские курсы. Похоронен в Риге.
635 Сазонов П. П. Воспоминания. 1967. [Машинопись с правкой автора] // РГАЛИ. Ф. 2610. Оп 2. Ед. хр. 2. Л. 61 – 62. Воспоминания Сазонова полностью в печати до сих пор не поя вились, выдержки из разных редакций были опубликованы: Конечный А. М., Мордерер В. Я., Парнис А. Е., Тименчик Р. Д. Артистическое кабаре «Привал комедиантов» // Памятники куль туры: Новые открытия. 1988. М., 1989. С. 96 – 154; Сазонов П. О театре Ю. Слонимской // Что же такое театр кукол? Сб. ст. СПб., 1990. С. 19 – 27.
636 См.: Proffer Ellendea (Ed.). Evreinov. Photo-biography. From Materials collected by Anna Evreinova. Ann Arbor: Ardis, 1981. P. 16. Сазонов сидит четвертый слева, Евреинов — седьмой слева. См. также: Петровская К., Сомина В. Театральный Петербург. СПб., 1994. С. 310.
637 Евреинов Н. Театральные новации. Пг., 1922. С. 101.
638 Записная книжка Ю. Л. Сазоновой хранится в личном архиве Дмитрия Сазонова (Париж).
639 Сазонова Ю. Уличный театр // Последние новости. Париж, 1937. № 5901. 22 мая. С. 4.
640 Слонимская Ю. Актриса // Театр и искусство. 1913. № 1. С. 15 – 17. Сохраняя фамилию мужа, она подписывала все публиковавшиеся статьи в России своей девичьей фамилией. В эмиграции, хотя к этому времени ее муж, оставшийся в Советской России, уже вторично женился, она подписывалась фамилией мужа или иногда двойной: Сазонова (Слонимская).
641 С[азонова] Ю[лия]. Актеры // Встречи. Париж. 1934. Т. 1. № 4. Апрель.
642 С[азонова] Ю[лия]. Книга Евреинова о театре [Рец. на кн.: Evreinov Nicolas. Histoire du théâtre russe. Préface et adaptation française de G. Welter. Paris: Editions du Chêne, 1947] // Новоселье. Париж, 1949. № 39 – 41. С. 208.
644 С[азонова] Ю[лия]. Книга Евреинова о театре // Новоселье. Париж, 1949. № 39 – 41. С. 208 – 210.
645 Письмо Ю. Л. Сазоновой-Слонимской А. А. Евреиновой-Кашиной от 23 августа 1955 г. [Автограф] // РГАЛИ. Ф. 982. Оп 1. Ед. хр. 454. Л. 24. Остальная часть письма посвящена бытовой теме, письмо не включено в публикуемую здесь подборку.
646 Дебюро (Deburau) Жан-Батист Гаспар (1794 – 1846) — французский актер-мим. О нем писала Слонимская в статье «Пантомима» (Аполлон. 1914. № 6 – 7. С. 35 – 65).
647 Мистангетт (наст. имя и фам. Жанна Буржуа; 1875 – 1956) — французская актриса, «королева мюзик-холла». Дебютировала в 1895 г. Стала знаменитой к 1911 г., но окончательно ее стиль определился после первой мировой войны; тогда же к ней пришла слава.
648 Мальский (наст. фам. Нечаев) Николай Петрович (18747 – 1906) — петербургский актер. По данным Евгения Гершуни, Мальский родился в 1869 г.
649 Евреинов Н. Н. Театр как таковой (Обоснование театральности в смысле положительного начала сценического искусства и жизни). СПб., 1912; М., 1923; Берлин, 1923; Его же. Театр для себя. Ч. 1 – 3. Пг., 1915 – 1917; Его же. Театр у животных (О смысле театральности с биологической точки зрения). Л.; М., 1924.
650 586 В октябре 1920 г. Сазонова эмигрировала из Ялты, где она жила с 1917 г., в Константинополь, затем последовали скитания через Софию, Белград, Мюнхен, Шварцвальд, Сан-Ремо в Париж, где она осела в 1924 г.
651 Казанский Б. В. Метод театра (Анализ системы Н. Н. Евреинова). Л., 1925; Каменский В. В. Книга о Евреинове. Пг., 1917; Swierczewski E. Teatr rosyjski. 1, Jewreinow. Warszawa, 1924; Бруксон Я. Проблема театральности (естественность перед судом марксизма). Пг., 1923.
652 Волконский С. Театр в жизни. [Рец. на кн.: Evreinoff Nicolas. Le Théâtre dans la vie. Paris: Stock, 1930] // Последние новости. Париж, 1930. № 3298. 3 апреля. С. 3; Его же. Евреинов в иностранном репертуаре // Там же. 1929. № 2956. 20 апреля. С. 5.
653 Гуревич Л. [Рец. на кн.: Евреинов Н. Н. Театр для себя. Ч. 3] // Речь. Пг., 1916. 6 июня. Скорее всего, ирония связана с тем, что Л. Я. Гуревич была последовательной сторонницей искусства Московского Художественного театра и утверждаемой им правды жизни.
654 Бенуа А. Художественные письма: Речь Арлекина // Речь. СПб., 1913. № 45. 15 февраля. С. 2.
655 См.: Евреинов Н. Н. Театрализация жизни // Против течения. СПб., 1911. № 25. 17 сентября. С. 2; № 27. 30 сентября. С. 3; № 31. 29 октября. С. 3; № 34. 19 ноября. С. 2; 1912. № 43. 21 января. С. 3; № 44. 28 января. С. 3; а также в кн.: Он же. Театр как таковой. СПб., 1912. С. 23 – 59.
656 Обыгрывается название пьесы Евреинова «Самое Главное», впервые поставленной и опубликованной в 1921 г.
657 В парижском архиве Евреинова в Отделе зрелищных искусств библиотеки «Арсенал» при Национальной библиотеке [Bibliothèque nationale, Bibliothèque de l’Arsénal, Département des arts du spectacle, Fonds Evreinoff] хранятся две машинописные неподписанные копии этого письма (коллекция 22, коробка 21).
658 Диалог о танце [лат.: De saltatione] Лукиана (ок. 117 – ок. 190 н. э.) написан в Антиохии около 163 – 164 н. э. См.: Лукиан. О пляске // Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1935. Т. 2. С. 49 – 80. Диалог «О пляске» переведен А. И. Малеиным в «Ежегоднике Императорских театров», с которым постоянно сотрудничала Слонимская. Текст издания 1935 г. основан на переводе Малеиного. В 7-м разделе диалога Лукиан высказывает Кратону общепринятое мнение о том, что танец, появляясь вместе с эросом, возник с первоначального основания все ленной (С. 53). В 19-м разделе Лукиан утверждает, что Протей является прототипическим танцором, потому что мог превращаться в любую форму, подражая текучести воды и ост роте огня (С. 57 – 58). О сравнении у Лукиана танцора с облаками Слонимская ошибается. Диалог «О пляске» лежит в основе вышеуказанной статьи Слонимской о зарождении античной пантомимы.
659 Статья появилась не в 1911, а в 1914 г.: Слонимская Ю. Зарождение античной пантомимы // Аполлон. Пг., 1914. № 9. С. 25 – 60. См. также ее статьи на ту же тему: Пантомима // Там же. № 6 – 7. С. 35 – 65; Искусство молчания // Ежегодник Императорских театров. Пг., 1914. № 7. С. 1 – 14.
660 Евреинов обыгрывает название своей статьи «Оригинальность за чужой счет» (Журнал журналов. Пг., 1915. № 1. С. 15 – 16), в которой он обвинял Мейерхольда в плагиате.
661 Evreinov N. The Theatre in Life. N Y: Brentano, 1927. В хрестоматию вошли статьи и главы из книг, уже напечатанных Евреиновым в России; Idem. The Theatre in Life. London: G. G. Harrap, 1927; Idem. Il teatro nella vita. Milano: Alpes, 1929; Idem. Le Théâtre dans la Vie. Paris: Stock. 1930.
662 Айхенвальд Ю. И. Отрицание театра // В спорах о театре: Сб. ст. М., 1914.
663 Василевский Илья Маркович (псевд. Не-Буква; 1882 – 1938) — журналист, писатель. Редактор журналов «Образование» (1908 – 1909), «Журнал журналов» (1915 – 1917), газеты «Утро» (1908 – 1909). С 1919 по 1923 г. — в эмиграции. После возвращения в СССР опубликовал 587 исторические памфлеты «Романовы» (т. 1 – 2, 1923 – 1924) и «Николай II» (1923). В книге памфлетов «Что они пишут? Мемуары бывших людей» (1925) полемизировал с А. В. Амфитеатровым, И. А. Буниным и другими.
664 Евреинов Н. Н. Апология театральности // Утро. СПб., 1908. № 18. 8 сентября.
665 Райлян Фома Родионович (1870 – 1930) — художник, журналист. С 1904 по 1912 г. — действительный член общества «Мюссаровские понедельники» (СПб.), член-учредитель Общества учителей рисования (СПб., 1901 – 1917). Редактор-издатель «Свободным художествам: Ежемесячный иллюстрированный художественно-литературный и научный журнал», а также еженедельного иллюстрированного приложения «Против течения» (1910 – 1913). В письме к А. В. Амфитеатрову Максим Горький характеризовал Райляна следующим образом: «Художник и автор, кажется, всех академических скандалов, наиболее громких. Его имя связано также и с недавним самоубийством пейзажиста [К. А.] К[рыжицкого]». См.: Горький и русская журналистика начала XX века: Неизданная переписка // Литературное наследство. М., 1988. Т. 95. С. 355 – 359.
666 Об этом спектакле см.: Золотницкий Д. И. Зори театрального Октября. Л., 1976. С. 276.
667 Речь идет об анонимном программном манифесте «Товарищи! Формовщики жизни!», появившемся за подписью «ЛЕФ» на первой странице второго номера редактированного Владимиром Маяковского журнала, где говорится: «Так называемые режиссеры! / Скоро ли бросите, вы и крысы, возиться с бутафорщиной сцены? / Возьмите организацию действительности жизни! Станьте планировщиками шествия революции!» // ЛЕФ. М., 1923. № 2. С. 3.
668 Миклашевский К. М. Гипертрофия искусства. Пг., 1924. С. 53. Миклашевский принимал участие в спектаклях «Старинного театра» Евреинова и Дризена, планировал сезон театра эпохи Возрождения, ездил в Италию в 1913 г. (через год после поездки Сазоновых) для изучения итальянского театра марионеток.
669 Арватов Борис Игнатьевич (1896 – 1940) — автор книг: Социологическая поэтика. М., 1928; Искусство и классы. М., 1923; Искусство и производство: Сб. ст. М., 1923; статьи: Актер и режиссер // О театре. Тверь, 1922.
670 Арватов Б. Евреинов и мы // Эрмитаж. М., 1922. № 13. С. 6. Статья вошла в кн.: Его же. Об агит- и пролискусстве. М., 1930.
671 Первая статья Сазоновой в газете «Последние новости» появилась в 1923 г., но постоянно театральную рубрику в этой газете она вела только с 1929 по 1939 г. См. об ее журналистской деятельности: Юбилейный альбом газеты «Последние новости». Париж, 1930.
672 О роли, сыгранной Евреиновым в истории театра абсурда, см.: Esslin M. The Theater of the Absurd. Garden City, New York: Doubleday, 1969. P. 43 – 44. О значении Евреинова для Франца Теодора Чокора и немецкого экспрессионизма см.: Weber W. Csokor in Russland. Franz-Theodor-Csokor-Symposion. Vienna: Oesterreichisches P. E. N.-Zentrum, 1995. S. 52 – 57. О влиянии Евреинова на Пиранделло существует большая литература, см. среди проч.: Poggi Т. Baikova. Ludwig Tieck, un anello di congiunzione tra Nikolaj Evreinov i Luigi Pirandello // Elemente der Literatur. Beitrage zur Stoff-, Motif- und Themenforschung. Elizabeth Frenzel zum 65 Geburtstag, eds. Herbert A. Frenzel, Adam J. Bisanz und Raymond Trousson. Stuttgart: Alfred Kronern, 1980. Bd 2. S. 132 – 148. Влияние Евреинова сказалось и в театральном искусстве французских режиссеров Ж. Копо, Ш. Дюллена и американского театрального декоратора Р. Э. Джоунса.
673 Слонимская писала о В. Ф. Комиссаржевской в рецензиях: Сборник памяти В. Ф. Комиссаржевской под редакцией Евтихия П. Карпова. Пб., 1911. [«Новости русской театральной литературы»] // Ежегодник Императорских театров. Пб., 1911. № 4. С. 90 – 95; Алконост. Кн. I. Памяти Веры Федоровны Комиссаржевской. Пб.: Изд. Передвижного театра П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской. 1911. [«Новости русской театральной литературы»] // Ежегодник Императорских театров. Пб., 1911. 4. С. 86 – 90; а также в ст.: Алконост — птица печали (Памяти 588 В. Ф. Комиссаржевской) // Искорки. 1911. № 9. С. 5 – 6. Публикатор приносит благодарность К. М. Азадовскому, любезно указавшему на эту статью.
674 «L’Ours et le Pacha» («Медведь и паша»), комедия-буфф в трех действиях, по пьесе Э. Скриба в переделке Г. Паскар и Ш. Вильдрака была поставлена вместе с инсценировкой «Детской» М. Мусоргского в Театре Матюрэн труппой «Театр Скарамуш» в декабре 1936 г. (см.: Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques. Bibliographie théâtrale. Exercice 1936 – 1937. P. 30). В своей рецензии Ю. Сазонова вспомнила давнюю работу Евреинова в театре «Веселая сцена» (премьера — не позднее 2 декабря 1933 г.): «Составляющий центр программы пьеса Скриба “Медведь и паша” знакома парижской публике по прекрасной постановке Евреинова несколько лет тому назад» (Последние новости. Париж, 1937. № 5761. 1 января. С. 6).
675 Точные даты послевоенной поездки Кашиной-Евреиновой в Нью-Йорк остались нам неизвестными, но предположительно поездку можно датировать 1950 г. См. письма Евреинова Департаменту драмы в Нью-Йорке о своем приезде для чтения лекций (19 августа – 10 октября 1950) // РГАЛИ. Ф. 892. Оп 1. Ед. хр. 135.
676 Прегель Софья Юльевна (1897 – 1972) — русская поэтесса, в эмиграции с 1922 г., жила сначала в Берлине, а с 1932 г. — в Париже. Во время войны переехала к брату в Нью-Йорк, где основала в 1942 г. журнал «Новоселье», в котором постоянно сотрудничала Сазонова. Вернулась в 1948 г. в Париж, где выходили последние номера «Новоселья». В одном из них (1949. № 39 – 41. С. 208 – 210) появилась рецензия Сазоновой на книгу Евреинова «История русского театра». В архиве Прегель при библиотеке Университета штата Иллинойс (г. Урбана) находится одно письмо Сазоновой более позднего периода.
677 В нью-йоркской газете «Новое русское слово» под названием «Петербург нашего времени» появилась следующая анонимная заметка об этом вечере: «30 октября в отеле Риверсайд Плаза, 253 Вест 73 ул., состоится литературный вечер, устраиваемый по случаю 250-летия основания Петербурга. Вечер устраивается Обществом приехавших из Европы под названием “Петербург нашего века”. Участвуют в программе: Вл. Лебедев “Вступительное слово”; Марк Слоним “Петербург в поэзии символистов”; Ю. Л. Сазонова “Театр начала нашего столетия”; Вячеслав Завалишин “Петербургское в ленинградском”; проф. К. Г. Криптон (автор книги “Осада Ленинграда”) “Влияние Петербурга-Петрограда в Ленинграде”. Артистка Лариса Гатова — декламация произведений, посвященных Петербургу. Начало в 8.30 веч.» (1953. № 15146. 15 октября. С. 3).
678 Имеется в виду Симмонс Эрнест Джозеф (Simmons Ernest Joseph; 1903 – 1972), который защитил докторскую диссертацию в Гарвардском университете в 1928 г., стал доцентом Колумбийского университета в 1945 г., профессором в 1946 г., ушел в отставку в 1960 г. Автор книг на английском языке: Английская литература в России (Кембридж, 1931), Пушкин (Лондон, 1937), Достоевский: Становление романиста (Нью-Йорк, 1940), Лев Толстой (Бостон, 1946), Русская художественная литература и советская идеология: Введение в Федина, Леонова, Шолохова (Нью-Йорк, 1958), Чехов: Биография (Бостон, 1962), Введение в русский реализм (Блумингтон, 1965). В годы жизни Сазоновой в Нью-Йорке (1942 – 1955) Симмонс занимал должность заведующего кафедрой славянских языков и литератур при Колумбийском университете. Сазонова слушала лекции Симмонса, когда училась в аспирантуре в Колумбийском университете. Симмонс был научным руководителем Сазоновой, пока она писала докторскую диссертацию о Сумарокове (не окончена). В университетском архиве Симмонса при Колумбийском университете 589 (University Archives and Columbiana Collectipn 1.1.301 – 11.303) нет писем ни от Сазоновой, ни от Евреиновых.
679 В 1954 г. часть парижского архива Евреинова была куплена Колумбийским университетом для Бахметьевского архива; см. опись фонда Nikolai Nikolaevich Evreinov Papers. 742 – 762, p. 1. Дополнительно материалы поступили в фонд в 1956 и 1960 гг. В фонде 5400 единиц хранения, охватывающих 1905 – 1965 гг.
680 К сожалению, эту мечту осуществить не удалось. В связи с десталинизацией в Советском Союзе и прекращением финансовой поддержки со стороны компании «Форд», Издательство имени Чехова с 1956 г. перестало существовать. См.: Раев М. Зарубежная Россия. СПб., 1994. О возможности издания мемуаров Евреинова «В школе остроумия» и «История русского театра» нью-йоркским издательством сохранились письма Евреинова Н. Р. Вредену и В. А. Александровой, 25 марта – 27 августа, 1953 г. (РГАЛИ. Ф. 982. Оп 1. Ед. хр. 136).
681 Александрова Вера Александровна (1895 – 1966) — главный редактор Издательства имени Чехова; литературный критик газеты «Новое русское слово»; автор посмертно изданного собрания эссе: Литература и жизнь: Очерки советского общественного развития до второй мировой войны. Избранное / Сост. С. Шварц. Нью-Йорк, 1969. О ней см.: Шварц С. [муж Александровой]. Биографический очерк // Александрова В. Литература и жизнь. С. 3 – 13.
682 Сазонова имела договоренность с Сергеем Лифарем, что Для написания его творческой биографии ее обеспечат билетом на корабль из Нью-Йорка в Париж и квартирой на несколько месяцев. В связи с болезнью, которая привела к ее смерти в ноябре 1957 г., Сазонова потратила на эту книгу гораздо больше оговоренных трех месяцев. Книга вышла только посмертно (Laurent J., Sazonova J. Serge Lifar. Rénouvateur du ballet français (1919 – 1960). Paris: Buchet / Chastel, 1960).
683 Сазонова Ю. История русской литературы: Древний период: В 2 т. Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1955. Один из редакторов, Николай Вреден, задержал появление книги более чем на год, требуя исправления в тексте.
684 Об этом театре см.: Старк Э. Старинный театр. СПб., 1911; 2-е доп. изд. Пг., 1922. См. также: Moody С. The Ancient Theatre in St. Petersburg and Moscow, 1907 – 08 and 1911 – 12 // New Zealand Slavonic Journal. 1976. №. 2. P. 35.
685 Театр «Кривое зеркало» был создан в Петербурге в 1907 г. Евреинов стал главным режиссером театра в 1910 г. См.: Хроника // Театр и искусство. СПб., 1910. № 36. С. 658. Об этом театре-кабаре см.: Евреинов Н. Н. В школе остроумия: Воспоминания о театре «Кривое зеркало» / Под ред. А. Дейча, А. Кашиной-Евреиновой; Примеч. Е. Д. Уваровой. М., 1998; Тихвинская Л. Кабаре и театры миниатюр в России. 1908 – 1917. М., 1995. С. 45 – 66, 205 – 292; Moody С. The Crooked Mirror // Melbourne Slavonic Studies. № 7. 1972. P. 25 – 37.
686 «Мир наизнанку», пьеса Евреинова.
687 Холмская (наст. фам. Тимофеева) Зинаида Васильевна (1866 – 1936) — актриса, директор театра «Кривое зеркало», жена критика А. Р. Кугеля. О ней см.: З. Холмская, «Кривое зеркало» // Рабочий и театр. Л., 1937. № 9. С. 52 – 56; Театр «Кривое зеркало» (из мемуаров) // Петербургский театральный журнал. 1994. № 5. С. 5 – 11.
688 Имеется в виду неопубликованный перевод на английский двухтомника Сазоновой «История русской литературы: Древний период». В 1970 г. сын Сазоновой, Д. П. Сазонов, пишет своему дяде Н. Л. Слонимскому, что в 1956 г., по просьбе матери, он отправил почтой из Нью-Йорка в Париж машинопись этого перевода Борису Шлецеру для публикации на французском языке издательством Галлимар. Шлецер передал текст сотруднику издательства Брису Парэну (Brice Parain), и машинопись исчезла. См. письмо от 19 января 1970 г. — Собрание Н. Л. Слонимского, Отдел зрелищного искусств, Библиотека конгресса, ящик 152, папка 25, лист 6.
689 Анненков Ю. П. Портреты. Пг., 1922. Текст Е. И. Замятина, М. А. Кузмина, М. В. Бабенчикова.
690 590 Письмо Вс. Вяч. Хомицкого С. С. Макаеву от 19 сентября 1937 г. Белград. [Автограф] // РГАЛИ. Ф. 2645. Оп 1. Ед. хр. 11. Л. 13, 13 об.
691 Евреинов Н. Н. Памятник мимолетному. Париж, 1953. С. 65.
692 См.: РГАЛИ. Ф. 982. Оп 2. Ед. хр. 60 – 66.
693 «Новое слово» (Берлин, 1933, июль — 1944, ноябрь) — еженедельная газета, выходившая по воскресеньям. Основана как независимая газета русской колонии в Германии, но уже с самого начала финансировалась ведомством А. Розенберга. Редактор-издатель — Е. Кумминг. С сентября 1934 г. главным редактором стал В. М. Деспотули. Задачи газеты новый редактор видел в том, чтобы сказать «новое слово о старых задачах борьбы с большевизмом», вскрывать «роль иудеев в большевизме, связь с масонством и разрушительную работу последнего».
694 Хомицкий имеет в виду сообщение в номере от 21 сентября (№ 39. С. 6): «В воскресенье, 28 сентября на сцене Русского драматического театра (зал Шопена в доме Плейель) будет представлена впервые в Париже комедия А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева “Женитьба Белугина”. Для постановки этой пьесы дирекция пригласила режиссера Н. Н. Евреинова».
695 Плаксин Борис Николаевич (1878 – 1972) — товарищ Евреинова по Училищу правоведения. С начала 20-х гг. жил в Германии.
696 Блюменталь-Тамарин Всеволод Александрович (1881 – 1945) — актер, принадлежал к известной театральной семье. Дед, Эдуард Карлович Блюменталь, выходец из Германии, открыл первое фотоателье в России. Отец, Александр Эдуардович (1859 – 1911) — крупнейший опереточный актер и один из первых русских опереточных режиссеров. Мать, Мария Михайловна (урожд. Климова; 1859 – 1938) — актриса, входила в труппу Театра Корша (1901 – 1911, 1921 – 1933). С 1933 по 1938 г. — одна из лучших «комических старух» Малого театра. Всеволод Александрович был актером Театра Корша, Театра Синельникова, Малого театра, МГСПС, выступал в провинции (подробнее см.: Бахтарова Г. Последний гастролер: О Всеволоде Блюменталь-Тамарине // Московский наблюдатель. 1993. № 7. С. 50 – 53). В годы гражданской войны участвовал в агитационной поездке армии Деникина в Ростове-на-Дону. В 1941 г. во время осеннего наступления на Москву вместе с женой И. А. Лащилиной перебежал на сторону немцев, выступал по немецкому радио для жителей России. Зимой 1942 г. добрался до Берлина. Обстоятельства своего побега изложил в интервью русской нацистской газете «Новое слово» (Берлин, 1942. № 11. 8 февраля. С. 11). На протяжении нескольких месяцев на страницах той же газеты регулярно появлялись его воспоминания («Из моей записной книжки»). Деградацию русского театра 20 – 30-х гг. связывал с «еврейским засильем», символами которого для него были А. Я. Таиров, Вс. Э. Мейерхольд, Е. О. Любимов-Ланской и другие. Освобождение русского общества от этого засилья, по его убеждению, началось 22 июня 1941 г. Дату и обстоятельства смерти Блюменталь-Тамарина удалось установить Вяч. П. Нечаеву (Падение кумира // Вечерняя Москва, 1995. № 184. 5 октября. С. 6), который смог ознакомиться с материалами уголовного дела Н-16687, хранящегося в Центральном архиве ФСБ. Уже 27 марта 591 1942 г. Блюменталь-Тамарин был заочно приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР по статье 58-1 «а» УК РСФСР (измена Родине) к высшей мере наказания — расстрел с конфискацией имущества. 10 мая 1945 г. он был убит неизвестными в городе Мюнзинген, где и похоронен на русском кладбище. В деле имеется справка от 11 февраля 1993 г. о реабилитации Блюменталь-Тамарина на основании пункта 3 статьи 5 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий от 18 октября 1991 года»: «Судебной инстанцией допущены нарушения закона, в суд никого не вызывали. О преступной деятельности Блюменталь-Тамарина против СССР в материалах дела сведений нет».
697 Загребельский Юрий Петрович (? – 1957, Прага) — актер. Участвовал в спектаклях Пражской группы МХТ (1935), а также во многих русских начинаниях в Париже: Русском за рубежном камерном театре под руководством режиссера Б. Н. Эспе (1930 – 1932), Камерном театре (1934), Русском драматическом театре, где сыграл заглавную роль в пьесе Хомицкого «Эмигрант Бунчук» (1936), Русском театре (1937 – 1938), Русской драме и комедии Ксении Питоевой (Коралли) (1941 – 1943), Театре без занавеса И. Д. Сургучева (1943 – 1944), Театре русской драмы (1943 – 1944). В апреле 1938 г. был приглашен в труппу «Летучей мыши».
698 Чернявский В. И. — актер. Участвовал в спектаклях «Летучей мыши» (1933, 1937 – 1939), Пражской группы МХТ (1934), а также во многих русских начинаниях в Париже: Камер ном театре (1934 – 1935), Русском зарубежном камерном театре (1935), Русском драматическом театре (1936), Русском театре (1937 – 1938), Русской драме и комедии Ксении Питоевой (Коралли) (1941 – 1943), Театре без занавеса И. Д. Сургучева (1943), Театре русской драмы (1943 – 1944).
699 Перед началом второй мировой войны продолжали функционировать остатки труппы «Летучей мыши» под руководством А. А. Архангельского, куда входили Загребельский и Чернявский. Планировавшиеся гастроли в Англии оказались невозможны в связи с на чалом войны. Если артисты оперы и балета еще смогли как-то устроиться, то драматические актеры — особенно Загребельский и Чернявский — бедствовали. На исходе войны в Париже (1944) была предпринята попытка возродить «Летучую мышь» (Парижская группа «Летучей мыши»). Труппу возглавил Загребельский, литературную часть — Н. А. Тэффи, Чернявский стал заведующим художественной частью. Спектакли давались с апреля по июль.
700 На протяжении 1933 – 1934 гг. Ракитины разрабатывали планы гастрольной поездки Евреинова в Югославию, которым не суждено было осуществиться. См. наст. изд. Переписка Николая Евреинова с Юрием и Юлией Ракитиными.
701 В 1942 – 1943 гг. Ракитин отчаянно бедствовал: голодал, тяжело болел, перенес две операции. Ему пришлось распродать все имущество вплоть до одежды и простыней. В 1943 г. он записал: «Вчера какой-то серб хотел мне подать кусок хлеба, думая, что я нищий. Это по моему небритому и неопрятному виду… Сидим без хлеба, жиров и без дров» (цит. по: Арсеньев А. Б. У излучины Дуная: Очерки жизни и деятельности русских в Новому Саду. М., 1999. С. 201). Далее знаток ракитинского архива Арсеньев пишет, что «Ракитин лелеял надежду уехать в Берлин, но так и не дождался приглашения от русской театральной труппы» (Там же). Остается неясным, отдавал ли режиссер себе отчет в том, о какого рода труппе идет речь.
702 С конца 1930-х гг. по 1942 г. П. А. Павлов и В. М. Греч работали в Югославии, выступая в составе русской труппы и занимаясь постановками в белфадском Национальном театре.
703 592 Возможно, в письме Евреинова высказывались сомнения в проходимости кандидатур Ракитина, Павлова и Греч в берлинских инстанциях. Сын Ракитина Никита в составе интербригад принимал участие в гражданской войне в Испании. Жива была еще и память о скандале, вызванном постановкой Юрием Ракитиным «Зойкиной квартиры» (1934), когда левые круги как эмигрантского, так и сербского общества обвиняли режиссера в «белой» трактовке пьесы, а правые еще более агрессивно — в «красной». Сомнения Евреи нова в связи с Павловым и Греч могли быть связаны со скандалом по поводу их возможного возвращения в Москву (см. наст. изд., с. 566, примеч. 5 к письму 35 [В электронной версии — 473]).
704 «Синяя птица» — театр-кабаре под руководством Я. Д. Южного (1883 – 1938). Открыт в Бер лине 20 декабря 1921 г. в помещении бывшего кинотеатра на Гольцштрассе, 9. Среди режиссеров: Я. Д. Южный, И. Е. Дуван-Торцов, А. А. Санин. В качестве художников в разные годы выступали: А. Т. Худяков, К. Л. Богуславская, Г. А. Пожедаев, Л. С. Бакст и другие. В апреле 1929 г. «Синяя птица» переезжает в помещение бывшего Театра в Пальмовом доме на Курфюрстендам, центральной и одной из самых красивых улиц города. В 30-е гг. выступления театра становятся редкостью (1931, март и 1937, апрель). Подробнее см.: Колязин В. Ф. Таиров, Мейерхольд и Германия. Пискатор, Брехт и Россия: Очерки истории русско-немецких художественных связей. М., 1998. С. 247 – 248.
705 Ю. П. Загребельский и В. И. Чернявский были опытными актерами, завоевавшими признание русской публики в Париже. Уклончивость Евреинова, возможно, связана с тем, что на их участие в «Щелчке» рассчитывать не приходилось. Так, Загребельский если и не вернулся в Россию после войны, то все же уехал в Прагу, находившуюся в зоне советского влияния, где и умер в 1957 г.
706 В субботу 13 июня 1942 г. в Зале Баха (Берлин) состоялся «спектакль-концерт» Блюменталь-Тамарина. В первом отделении актер читал эпопею «Москва татарская, Грозного, петровская, Пушкина, еврейская и кроваво-сталинская» собственного сочинения. Во втором исполнял два отрывка из «Гамлета»: монолог «Быть или не быть?» и сцену с королевой (королеву играла И. А. Лащилина, Офелию — Т. Г. Соколова). В третьем читал «Медведя» А. П. Чехова. Перед началом спектакля со словом о творчестве Блюменталь-Тамарина выступил А. Ф. фон Шлиппе (см.: Новое слово. Берлин, 1942. № 43. 31 мая. С. 8). На протяжении лета и осени 1942 г. Блюменталь-Тамарин давал концерты мелодекламации и играл в спектакле «Без вины виноватые» (Незнамов).
707 См. наст. изд., с. 553, примеч. 6 к письму 3 [В электронной версии — 353].
708 Фильм по пьесе Евреинова «Самое Главное», больше известной в Европе под названием «Комедия счастья», был снят по сценарию Ж. Кокто в Риме известным французским режиссером М. Л’Эрбье в 1941 г. и показывался в Италии, Болгарии и других странах.
709 Брешко-Брешковский Николай Николаевич (1874 – 1943) — беллетрист, журналист. Сын Е. К. Брешко-Брешковской, одного из организаторов и лидеров партии эсеров, «бабушки русской революции». Начал печататься в 1896 г. Его романы, повести, рассказы, публиковавшиеся на страницах газет и «тонких» журналов, были «чтивом», адресованным невзыскательному читателю. После 1920 г. — в эмиграции. Жил в Сербии, Польше, с 1921 г. — 593 в Париже. С приходом к власти нацистов перебрался в Германию. Активно сотрудничал в органах фашистской пропаганды. Погиб во время бомбежки.
710 Reichsdramaturgie — Имперский литературный отдел (нем.); Reichstheaterkammer — Имперская палата по вопросам театра (нем.) — органы цензурного контроля Третьего рейха, входившие в структуру Министерства пропаганды.
711 Возможно, речь идет о разрешении на публикацию или постановку сочинений Евреинова.
712 Чехова Ольга Константиновна (1897 – 1980) — актриса. Племянница О. Л. Книппер-Чеховой. Жена М. А. Чехова (1914 – 1917). С 1921 г. жила в Германии, где сделала головокружительную актерскую карьеру в немецком кинематографе. Среди ее поклонников — Гитлер, Геринг, Геббельс.
713 Борис Плаксин, отгородившийся от нацизма корректной брезгливостью, был более сдержан по отношению к задуманному театральному предприятию. Возможно, в отличие от Хомицкого он яснее видел сомнительность нового дела, призванного обслуживать фашистскую пропаганду. В подцензурном письме от 13 апреля 1943 г. он остерегал Евреи нова: «Когда несколько месяцев тому назад я услышал о твоем возможном — и даже будто бы неизбежном — приезде в Берлин, я очень удивился и усомнился, но, разумеется, не выражая. Лично мне это было бы радостно, а, вообще говоря, вся затея с театральной антрепризой казалась мне совсем в другом виде, чем хотя бы Хомицкому. Я не говорю уже о том, что тут, может быть, пришлось бы столкнуться с интригами такого гнусного клопа, как твой недоброжелатель Брешко-Брешковский. <…> В Берлине русская общественная жизнь почти замерла. Бывают по временам и собирают полные залы (что не удивительно ввиду наплыва русских в Берлин) русские спектакли, но я почти никогда на них не бываю — уж больно скучно смотреть все тех же и все то же!» (РГАЛИ. Ф. 982. Оп 1. Ед. хр. 236. Л. 3 – 3 об).
714 Весной 1943 г. Вера Греч и Поликарп Павлов приехали в Берлин из Белграда. 26 и 27 апреля приняли участие в «Вечере Чехова», устроенном В. Павловой и М. Егоровой. Затем приступили к организации собственных спектаклей. 9 мая состоялось выступление, составленное из чеховских миниатюр: «В нотном магазине», «Могиканша», «Мыслитель», «Хороший конец». На протяжении 20 – 30-х гг. использование марки Художественного театра бывшими актерами и сотрудниками, оказавшимися в эмиграции, приняло эпидемический и коммерческий характер. Это было то, что Ю. Л. Ракитин называл «гомункулусами Художественного театра». Все попытки Станиславского и Немировича-Данченко обуздать эту эксплуатацию серьезных результатов не дали. Использование имени Художественного театра в фашистском Берлине придавало коммерции очевидную политическую остроту и моральную двусмысленность.
715 Хомицкий имеет в виду объявление в газете «Новое слово»: «Зал Шумана. В субботу 15 мая в 18 ч. и в воскресенье 16 мая в 16 ч. на закрытых спектаклях группы арт-ов Моск. Худ. Театра “Женитьба”. Участв.: С. Болоховский, А. Вырубов, В. Греч, М. Егорова, Н. Ключарев, И. Новосильцев, В. Павлова, П. Павлов и Вс. Хомицкий. Реж-ры П. Павлов и В. Греч» (Берлин, 1943. № 38 (524). 12 мая. С. 7).
716 594 Чушкин Н. Формирование принципов изобразительной режиссуры: Страницы творческой юности В. В. Дмитриева // Театр. 1979. № 9. С. 97 – 105.
717 См.: Чушкин Н. Юный Дмитриев. (1916 – 1917) // Театральная правда / Сост. Э. Гугушвили, Б. Любимов. Тбилиси, 1981. С. 200 – 201.
718 Автобиография может быть датирована 1944 г., на основании перечисленных спектаклей, оформленных В. В. Дмитриевым.
719 Премьера балета «Пламя Парижа» состоялась в ГАТОБ 7 ноября 1932 г. (балетмейстер В. И. Вайнонен, режиссер С. Э. Радлов, художник В. В. Дмитриев, либретто В. В. Дмитриева и Н. Д. Волкова); в Большом театре спектакль был показан впервые 6 июля 1933 г. (балетмейстер В. И. Вайнонен, художник В. В. Дмитриев).
720 Дмитриев учился у К. С. Петрова-Водкина живописи сначала в школе Е. Н. Званцевой (1916 – 1917), затем на Курсах мастерства сценических постановок (Курмасцеп) и в Академии художеств (1918 – 1921).
«Зори» Э. Верхарна (1920, Театр РСФСР I, режиссер Вс. Э. Мейерхольд) — первая крупная театральная работа Дмитриева. О работе над постановкой «Зорь» см.: Чушкин Н. Владимир Дмитриев // Театр. 1975. № 8. С. 81 – 90.; Березкин В. И. В. В. Дмитриев. Л., 1981. С. 27 – 40. Свидетельств о посещении Петровым-Водкиным спектакля «Зори» нет.
721 Петров-Водкин оформил «Орлеанскую деву» Ф. Шиллера (1913, Театр К. Н. Незлобина), «Дневник Сатаны» по Л. Андрееву (1923) и «Женитьбу Фигаро» Бомарше (1935) в Ленинградском государственном академическом театре драмы (роль Фигаро исполнял Б. А. Горин-Горяинов). Неосуществленные постановки: «Борис Годунов» А. С. Пушкина (1922, БДТ), «Братья Карамазовы» по Ф. М. Достоевскому (1927, Госакдрама).
722 Первая работа Дмитриева над драматургией А. Н. Островского датируется 1918 г. На Курсах мастерства сценических постановок по учебному заданию он сделал эскизы к «Снегурочке», следующая встреча произошла спустя десять лет, в 1928 г.; но спектакль «Бесприданница» (МХАТ, режиссер В. Г. Сахновский), для которого художник сделал эскизы декораций, не был осуществлен.
723 «Егор Булычов и другие» М. Горького (1932, Театр им. Евг. Вахтангова, режиссер Б. Е. Захава).
724 К. А. Сомов с 1906 по 1916 г. преподавал в школе Е. Н. Званцевой.
725 «Эуген Несчастный» Э. Толлера (1923, Госакдрама, режиссер С. Э. Радлов).
726 «Нора» Г. Ибсена (1918, Театр Дома рабочих или Театр Коммуны второго городского рай она (бывший «Луна-парк»), Петроград, режиссер Вс. Э. Мейерхольд).
727 595 Первый вариант оформления пьесы Мигеля Сервантеса де Сааведра «Театра чудес» Дмитриев сделал для Мастерской сценической техники (Цех мастеров сценической техники). Подробнее об этой работе см.: Чушкин Н. Юный Дмитриев. (1916 – 1917). С. 208 – 211.
728 Нивинский Игнатий Игнатьевич (1880 – 1933) — театральный художник, график, офортист. С Е. Б. Вахтанговым осуществил постановки спектаклей: «Эрик XIV» А. Стриндберга (1921, Первая студия МХТ) и «Принцесса Турандот» К. Гоцци (1922, Третья студия МХАТ).
729 Экстер (урожд. Григорович) Александра Александровна (1882 – 1949) — живописец, график, театральный художник, модельер, педагог. В 1915 г. знакомится с А. Я. Таировым. Создает оформление к спектаклям Камерного театра «Фамира Кифаред» И. Анненского (1916), «Саломея» О. Уайльда (1917), «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (1921), декорирует интерьеры Камерного театра (1916).
730 Урванцев Николай Николаевич (1865 – 1929) — режиссер, актер, драматург. Работал в Театре В. Ф. Комиссаржевской, «Веселом театре для пожилых детей», «Кривом зеркале» и др.
731 Тверской (наст. фам. Кузьмин-Караваев) Константин Константинович (1890 – 1944?) — режиссер, педагог, театральный критик. Работал с Мейерхольдом в Студии на Бородинской, в Товариществе артистов, художников, писателей и музыкантов (Териоки). Ставил спектакли в театрах Петрограда-Ленинграда: «Луна-парк», Лиговском, «Новой драмы», «Красном» и др. С 1927 г. — режиссер, с 1929 по 1935 г. — главный режиссер БДТ.
732 Коваленская Нина Григорьевна (1888 – ?) — актриса. После окончания Императорских драматических курсов в 1909 — принята в Александринский театр. Роли: Эльвира («Дон Жуан», 1910), Вера Лиговская («Два брата», 1915), Дон Фернандо («Стойкий принц», 1915), Катерина («Гроза», 1916), Нина («Маскарад», 1917).
733 Любош Александр Семенович (1885 – 1954) — актер Александринского театра.
734 Мгебров Александр Авельевич (1884 – 1966) — актер, режиссер. В 1912 г. участвовал в спектаклях Мейерхольда в Товариществе артистов, художников, писателей, и музыкантов (Териоки). В Студии на Бородинской исполнил роль Звездочета в спектакле «Незнакомка» (1914). Пророк в «Зорях» Э. Верхарна (1920, Театр РСФСР I).
735 Герасимов Александр Михайлович (1881 – 1963) — живописец, представитель официозной тематики в советской живописи (напр., картина «Ленин на трибуне», 1930). В 1947 – 1957 — президент Академии художеств СССР.
736 Студия Вс. Э. Мейерхольда (1913 – 1917). Открылась осенью 1913 г. на Троицкой ул., в начале 1914 г. переехала на Бородинскую, д. 6 (Зал Института инженеров путей сообщения). Цели Студии — разработка техники актерского исполнения (пластика, освоение приемов разных школ мирового театра), а также изучение устройства и освещения сцены, костюма и грима. В Студии преподавали Мейерхольд, В. Н. Соловьев, К. А. Вогак, М. Ф. Гнесин, Ю. М. Бонди и другие. Более подробно о Студии см.: Мейерхольд и другие: Документы и материалы. М., 2000. Раздел III. С. 233 – 476.
737 Инкижинов Валерий Иванович (1895 – 1973) — актер и режиссер театра и кино. Принимал участие в работе Студии на Бородинской. Был помощником Мейерхольда при постановке кинофильма «Навьи чары» по Ф. Сологубу (1917). Сыграл главную роль в фильме Вс. Пудовкина «Потомок Чингис-хана» (1928). Член комитета по организации юбилейного чествования Мейерхольда в 1923 г. Эмигрировал.
738 Кулябко-Корецкая Анна Ильинична (1890 – 1972) — драматическая актриса. Лучшая «шутиха» Студии на Бородинской. См.: Мейерхольд и другие. С. 349.
739 Соловьев Владимир Николаевич (1887 – 1941) — историк театра, режиссер, педагог, критик. Вел занятия на Курсах мастерства сценических постановок. Сотрудничал в журнале «Любовь к трем апельсинам», псевдоним Вольмар Люцинус.
740 596 Грипич Алексей Львович (1891 – 1983) — режиссер. В 1913 – 1915 гг. посещал Судию Мейерхольда на Троицкой и Бородинской. После демобилизации из армии (1918) по приглашению Мейерхольда ведет занятия по макету и сценическому движению в Курмасцепе. С 1921 по 1924 г. ставит спектакли в Лиговском театре, театрах «Новой драмы» и Пролеткульта, привлекая к работе учеников Мейерхольда по Студии на Бородинской и Курмасцепу.
741 Алперс Борис Владимирович (1894 – 1974) — историк театра, критик, педагог. Посещал Студию на Бородинской. С 1918 по 1921 г. жил в Новороссийске. В Петрограде с 1921 по 1924 г. — художественный руководитель театров: Лиговского, Новой драмы, Пролеткульта.
742 Рыков Александр Викторович (1892 – 1966) — театральный художник, педагог. Оформил первый вечер Студии на Бородинской. В 1918 – 1920 гг. преподавал в Курмасцепе. Работал в петроградских — ленинградских театрах.
743 Бонди Юрий Михайлович (1889 – 1926) — театральный художник, режиссер, драматург, педагог. Театральную деятельность начал в 1912 г., оформив спектакли Мейерхольда в Товариществе артистов, художников, писателей и музыкантов (Териоки) «Поклонение кресту» П. Кальдерона и «Виновны — невиновны?» А. Стриндберга. Сотрудник Студии на Троицкой и Бородинской, оформил «Блоковский спектакль» («Незнакомка» и «Балаганчик», 1914). Автор обложки к № 1 – 7 журнала «Любовь к трем апельсинам» за 1914 г. (в остальных номерах — с № 1 за 1915 г. по № 3 за 1916 г. — обложка работы А. Я. Головина).
744 Радлов Сергей Эрнестович (1892 – 1958) — режиссер, теоретик театра, педагог, поэт, драматург. В 1913 – 1917 гг. посещал Студию на Бородинской. С 1918 по 1920 г. преподавал в Курмасцепе. В 1923 – 1939 гг. совместно с Дмитриевым осуществил постановки девяти спектаклей в театрах Петрограда-Ленинграда.
745 Чернявский Н. А. (1892 – 1942) — поэт, чтец.
746 Роль Пьеро в пантомиме А. Шницлера «Шарф Коломбины» («Привал комедиантов», постановка Вс. Э. Мейерхольда) исполнял Н. А. Щербаков. См.: Конечный А. М., Мордерер В. Я., Парнис А. Е., Тименчик Р. Д. Артистическое кабаре «Привал комедиантов» // Памятники культуры. Новые открытия. 1988. М., 1989. С. 110 – 113.
747 Нотман (Энритон) Генрих Федорович (1889 – ?) — режиссер.
748 Курсы мастерства сценических постановок (Курмасцеп, 1918 – 1920), созданные по инициативе Вс. Э. Мейерхольда, были своеобразным учебным заведением, где предполагалось совместное обучение актеров, режиссеров, художников и техников театра на основе принципиально новой системы. В основу программы Курмасцепа заложены идеи, опробованные Мейерхольдом и его соратниками на занятиях Студии на Бородинской.
После закрытия Студии на Бородинской осенью 1917 г. в том же помещении начинает функционировать Мастерская сценической техники (Цех мастеров сценических постановок. См.: В. Э. Мейерхольд. Переписка. 1896 – 1939. С. 193). В июне – августе 1918 г. открываются краткосрочные Инструкторские курсы по обучению мастерству сценических постановок, а в октябре начинаются занятия в Курмасцепе. См.: Мейерхольд В. Э. Лекции. 1918 – 1919 / Сост. О. М. Фельдман. М., 2000.
749 Державин Константин Николаевич (1903 – 1956) — историк театра, актер, драматург, режиссер. Учился у Мейерхольда на Курсах мастерства сценических постановок. Поставил спектакль «Необыкновенное приключение Э.-Т.-А. Гофмана», пьеса написана Державиным по мотивам новелл В. Ирвинга и А. Дюма (1922). Актер театра Новой драмы (1921 – 1922).
750 Вольфила — Вольная философская ассоциация (1919 – 1924). Подробнее см.: Из истории литературных объединений Петрограда — Ленинграда 1910 – 1930-х годов. Т. 1. СПб., 2002. С. 197 – 247.
751 Мовшенсон Александр Григорьевич (1895 – 1965) — историк театра и балета, театральный критик, переводчик, коллекционер театрально-декорационной живописи.
752 Е. Н. Званцева в 1899 г. открыла в Москве художественную школу, в которой преподавали В. А. Серов, К. А. Коровин, Н. П. Ульянов. В 1906 г. школа была переведена в Петербург, закрылась в 1917-м. Преподаватели: Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, К. А. Сомов, К. С. Петров-Водкин, И. Е. Репин.
753 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические записки: В 3 т. М., 1974. Т. 1 – 2. С. 386.
754 597 Подробнее о «Привале комедиантов», его убранстве и художественно-артистической жизни см.: Конечный А. М., Мордерер В. Я., Парнис А. Е., Тименчик Р. Д. Артистическое кабаре «Привал комедиантов». С. 96 – 154; Тихвинская Л. Кабаре и театры миниатюр в России. 1908 – 1917. М., 1995. С. 121 – 134.
755 Казароза Бела Георгиевна (1893 – 1929) — эстрадная певица.
756 Премьера 2-й редакции «Шарфа Коломбины» А. Шницлера (режиссер Вс. Э. Мейерхольд, художник С. Ю. Судейкин) состоялась 18 апреля 1916 г.
757 См.: Дмитриев В. Карло Гоцци и «Привал комедиантов» // Жизнь искусства. Пг., 1919. № 60. С. 2.
758 Статья Ю. М. Юрьева о спектакле «Макбет» опубликована в журн. «Звезда». 1947. № 11. С. 191 – 288. В частности, там говорится: «Вот, скажем, начиная с ведьм: первую изображала М. А. Дмитриева — мать известного театрального художника В. В. Дмитриева, бывшая моя ученица, актриса сочного и яркого дарования (одно время она была артисткой Александринского театра)» (С. 197). В «Театральном альманахе» статьи Юрьева с упоминанием «Макбета» нет.
759 Маяковский В. Открытое письмо А. В. Луначарскому // Вестник театра. М., 1920. 30 ноября. № 75. С. 11.; Он же. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1979. Т. 12. С. 17.
760 См.: Беседа о «Зорях». В театре РСФСР // Вестник театра. М., 1920. № 75. С. 14.
761 См.: Кузмин М. Эмоциональность и фактура // Условности: Статьи об искусстве. Пг., 1923. С. 178 – 179. В статье Кузмина речь идет о дипломной работе В. В. Дмитриева «Мадонна на фоне московского пейзажа».
762 Дмитриев В. Моя работа во МХАТе // Искусство. 1938. № 6. С. 40 – 46.
763 Дмитриев В. Право художника // Театр. 1940. № 3 – 4. С. 45 – 46; Его же. Чувство нового // Театр. 1945. № 3 – 4. С. 48 – 50.
764 Дмитриев В. Декорации Головина // Советское искусство. 1945. № 28. С. 3; А. Я. Головин: Встречи и впечатления. Письма. Воспоминания о Головине. Л.; М., 1960. С. 338 – 340.
765 Дмитриев В. Памяти П. В. Вильямса // Театр. 1948. № 1. С. 61 – 64.
766 Статья Дмитриева «Работа художника», посвященная работе над спектаклем «Последняя жертва» и оценке декораций М. В. Добужинского к «Николаю Ставрогину», была впер вые опубликована Е. М. Костиной в сб.: Советские художники театра и кино’76. М., 1978. С. 194 – 197.
767 Рецензия Дмитриева на рукопись книги А. А. Бартошевича «Художники советского театра» опубликована Е. М. Костиной в сб.: Советские художники театра и кино’76. С. 198 – 206. Экземпляр рукописи А. А. Бартошевича находится в собрании Государственного центрального театрального музея им. А. А. Бахрушина.
768 Малый театр не принял эскизы Дмитриева к «Ревизору» (1937). Оформление было осуществлено К. Ф. Юоном, режиссер Л. А. Волков, премьера — 6 февраля 1938 г.
769 Эскизы декораций к «Униженным и оскорбленным» Дмитриев сделал в 1946 г., спектакль был поставлен только в 1956-м — режиссер Г. А. Товстоногов, Театр им. Ленинского комсомола, Ленинград.
770 «Бесприданница» А. Н. Островского (1948, БДТ, режиссер И. Ю. Шлепянов).
771 Пожарская Милица Николаевна.
772 «Великий государь» В. Н. Соловьева (1945, Ленинградский театр драмы им. А. С. Пушкина, режиссер Л. С. Вивьен).
773 «Дядя Ваня» А. П. Чехова (1947, МХАТ, режиссер М. Н. Кедров).
774 598 Речь идет о первой постановке спектакля «Дядя Ваня» в МХТ (1899, режиссеры К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко, художник В. А. Симов).
775 Имеется в виду портрет Мейерхольда, написанный Б. Д. Григорьевым в 1916 г. (ГРМ).
776 Речь идет о совместной поездке Дмитриева и Мейерхольда в Киев для прослушивания оперы Б. Н. Лятошинского «Щорс» (1938, Киевский театр оперы и балета), предполагав шейся к постановке в Оперной студии К. С. Станиславского. Во время спектакля, на ко тором присутствовали Мейерхольд и Дмитриев, за пультом умер дирижер В. А. Дранишников (1893 – 1938).
Дмитриев работал с Дранишниковым над постановками опер «Любовь к трем апельсинам» (1926) и «Борис Годунов» (1928) в ГАТОБе и «Нос» (1930) в Малом оперном театре.
777 Дмитриев работал над оформлением «Ревизора» в ГосТИМе в 1925 – 1926 гг., но не ус пел вовремя закончить эскизы. Подробнее см.: Березкин В. И. В. В. Дмитриев. С. 87 – 106.
778 На афише спектакля значилось: В. Э. Мейерхольд (проект вещественного оформления). В. П. Киселев (костюмы, грим, вещь, свет). Часть эскизов, предложенных И. Ю. Шлепяновым, были осуществлены, но его фамилия на афише не упомянута.
779 Шнейдерман Исаак Израилевич (1910 – 1991) — историк театра, критик.
780 Роль Пьеро в «Шарфе Коломбины» в «Доме интермедий» исполнял В. И. Шухаев, в «Привале комедиантов» — Н. А. Щербаков, сведениями об исполнении этой роли Извековым мы не располагаем.
781 «Падение Елены Лей» А. И. Пиотровского (1922, режиссер А. Л. Грипич, художник М. З. Левин). О театре Новой драмы см.: Грипич А. Петроградский театр Новой драмы 1921 – 1924 // Мнемозина. Вып. 1. М., 1996. С. 79 – 110.
782 «Виновны — невиновны?» А. Стриндберга (1923, режиссер К. К. Тверской).
783 «Утраченные иллюзии» Б. В. Асафьева (1936, ГАТОБ, балетмейстер Р. В. Захаров, оформление и либретто В. В. Дмитриева).
784 Выставка называлась «Художники советского театра за XVII лет» и проходила в Москве в декабре 1934 г. К 15-летию Советской власти театрально-декорационная выставка не проводилась.
785 «Стойкий принц» П. Кальдерона (1915, Александринский театр, художник А. Я. Головин).
786 Речь идет об альбоме «Азбука в картинках Александра Бенуа». СПб., 1905.
787 Перечислены листы из альбома «Азбука в картинках Александра Бенуа»: Т — театр; В — волшебство; Ф — фантасмагория, фокусник, фейерверк, фонтан.
788 В 1924 – 1927 гг. Н. П. Акимов сделал иллюстрации к 19 томам собрания сочинений Анри де Ренье (издательство «Academia». Отв. ред. М. Кузмин, А. Смирнов, Ф. Сологуб).
789 Предположительно на картине изображен Л. Д. Троцкий.
790 После начала первой мировой войны Р. Штейнер переезжает из Германии в нейтральную Швейцарию, где в Дорнахе по его проекту возводится антропософский храм Гетеанум, 599 постройка которого велась его последователями и учениками из разных стран. Среди них были А. Белый, О. Форш, М. Волошин и другие.
791 В. В. Сафонова — дочь пианиста и дирижера Василия Ильича Сафонова, посещала школу Е. Н. Званцевой и Студию на Бородинской.
792 Автопортрет воспроизведен в монографии: Березкин В. И. В. В. Дмитриев. С. 15.
793 «Нос» Д. Д. Шостаковича (1930, Малый оперный театр, режиссер Н. В. Смолич, художник В. В. Дмитриев).
794 Дмитриев и балет — тема многогранная. В юности художник был страстно увлечен О. А. Спесивцевой, ее облик запечатлен во многих этюдах 1918 – 1919 гг. Письма Дмитриева к Спесивцевой хранятся в отделе рукописей Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. Подробнее об их взаимоотношениях см: Слонимский Ю. Чудесное было рядом с нами. Л., 1984. С. 121 – 128.
В. В. Дмитриеву и Б. М. Эрбштейну принадлежала идея создания группы «Молодой балет», объединившей хореографов — Г. М. Баланчивадзе, В. И. Вайнонена, П. А. Гусева, Л. М. Лавровского, артистов — А. Д. Данилову, В. С. Костровицкую, А. Н. Ермолаева, Ф. В. Лопухова, М. М. Михайлова, Н. М. Стуколкину и других, художников — Т. Г. Бруни, Б. М. Эрбштейна, В. В. Дмитриева, Г. Н. Коршикова, музыканта В. А. Дранишникова, искусствоведа Ю. И. Слонимского.
В 1920 – 1940-е гг. Дмитриев принимает участие не только в оформлении балетов, но и в создании либретто для них.
795 Знакомство Дмитриева с П. Н. Филоновым состоялось в 1932, а не в 1931 г. В дневнике Филонова есть запись от 12 мая 1932 г.: «По предложению т. Глебовой ходили с дочкой в Михайловский [Малый оперный театр. — Е. С.] смотреть “Мейстерзингеры” в постановке тт. Глебовой и Дмитриева. В антракте познакомился с Дмитриевым. Эту постановку можно отнести к левой части центра изофронта, хотя художники исходили из основ аналитического искусства. Их проекты значительно урезаны дирекцией театра — это повредило постановке, кроме того, им пришлось торопиться. Но и при учете слабых мест постановки — постановка крепкая, а в последнем действии сконцентрирована замечательная еще небывалая изобразительная сила.
В этом действии, где задником является гигантская панорама Нюрнберга, написанная по принципам сделанной картины, художникам удалось достигнуть почти одинаковой степени напряжения цвета и формы в костюмах и в декорациях и тем создать динамическое единство того и другого». См.: Филонов П. Дневник. СПб., 2000. С. 146 – 147.
Филонов записывал в дневнике о каждом, кто приходил к нему заниматься и знакомиться с его методом аналитического искусства, но больше фамилия Дмитриева там не упоминается.
796 Поэма «Первое свидание» была написана Андреем Белым в Петрограде в 1921 г. (см.: Белый Андрей. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 236 – 270). Эскиз Дмитриева — фантазия, навеянная некоторыми образами поэмы, а не иллюстрация к тексту.
797 «Сеча при Керженце» (1911) — эскиз панно Н. К. Рериха для Казанского вокзала в Москве. Сюжет взят из народной легенды о граде Китеже, стоявшем на берегу озера Светлояр среди Керженских лесов. Напавшие на Русь татары не могли найти прекрасный город Китеж, затерянный в лесных чащах. Но предатель указал дорогу к городу. Дружина 600 князя, вышедшая на защиту города, полегла в битве на реке Керженец. Город не достался татарам, он стал невидим. На основе этой легенды в 1904 г. Н. А. Римский-Корсаков написал оперу «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». В 1948 г. Дмитриев сделал эскизы к этой опере.
798 Триптих «Александр Невский» был создан П. Д. Кориным в 1942 – 1943 гг.
799 Спор о том, кому принадлежит идея синего бархата как основного фона в оформлении «Анны Карениной», вероятно, так и останется неразрешенным. В тексте письма Вл. И. Немировича-Данченко от 20 августа 1935 г. (Музей МХАТ Н-Д № 1451) нет никаких приписок. Предположение Чушкина, что В. Г. Сахновский в своих письмах Немировичу-Данченко сообщил об идее Дмитриева сделать основным фоном синий бархат, также не подтвердилось. В двух письмах, написанных Сахновским в Берлин (Музей МХАТ Н-Д № 5645/1 и № 5645/2), нет упоминаний о бархате. В них Сахновский сообщает Немировичу-Данченко, что «Дмитриев под Ленинградом. Завтра пишу ему короткое письмо с расспросами, что он сделал и сейчас же напишу Вам» (из письма от 27 августа 1935 г.). В следующем письме, датированном 6 сентября 1935 г., Сахновский сообщает: «От Дмитриева пока нет никакого ответа. Я просил Шверубовича дополнительно к моему письму ему телеграфировать».
800 Письмо Вл. И. Немирович-Данченко В. Г. Сахновскому от 20 августа 1935 г., см.: «Анна Каренина» в постановке Московского ордена Ленина Художественного академического театра Союза ССР имени М. Горького. М., 1938. С. 10.
801 Сахновский В. Г. Работа над спектаклем «Анна Каренина» // «Анна Каренина» в постановке… С. 144.
802 Там же. С. 148.
803 Там же. С. 152.
804 Существует и другая версия о причинах изменения оформления «Кармен». Е. С. Булгакова записала в своем дневнике 20 ноября 1936 г.: «Вечером премьера “Кармен” в Большом. Дирижировал Клейбер. Очень сух, по-немецки сдержан. Декорации Дмитриева хороши, особенно первая картина. Сначала-то у Дмитриева было задумано гораздо интереснее — все в черных, серых и красных тонах. Но Керженцеву — и главное, его жене (присутствовавшей при разговоре!) не понравилось. Отсюда — компромисс Дмитриева, жизнерадостное решение» (Булгакова Е. Дневник Елены Булгаковой. С. 125).
П. М. Керженцев (Лебедев) в 1936 – 1938 гг. руководил Комитетом по делам искусств.
805 «Кармен» была возобновлена в Большом театре с новыми декорациями П. П. Кончаловского в 1945 г.
806 Чушкин упоминает испанского живописца Игнасио Сулоага, основными темами живописных работ которого были сцены из народной жизни.
807 Речь идет о спектакле Музыкальной студии МХАТ «Карменсита и солдат» по Ж. Бизе (1924, режиссер Вл. И. Немирович-Данченко).
808 После закрытия ГосТИМа в 1938 г. Мейерхольд был приглашен Станиславским в руководимый им Оперный театр в качестве режиссера. Мейерхольд собирался поставить оперу П. И. Чайковского «Пиковая дама», но работу прервал арест режиссера в июле 1939 г.
809 См.: Березкин В. И. В. В. Дмитриев. С. 160.
810 Опера И. И. Дзержинского «Надежда Светлова» была поставлена в 1943 г. в Московском музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
811 601 См.: Березкин В. И. В. В. Дмитриев. С. 232.
812 В. В. Дмитриев был в Тбилиси в 1933 г.
813 «Гроза» А. Н. Островского (1944, Театр им. Евг. Вахтангова, режиссер Б. Е. Захава).
814 В 1940 г. Немирович-Данченко начал работу над постановкой «Гамлета» — работа не была завершена. Художник спектакля В. В. Дмитриев.
815 12 мая 1948 г. умерла Ольга Сергеевна Бокшанская — секретарь дирекции МХАТ и личный секретарь Вл. И. Немировича-Данченко с 1919 г., сестра Е. С. Булгаковой.
816 В анкете из личного дела В. В. Дмитриева (Музей МХАТ), заполненной художником 2.Х.1944, указано, что в Академии художеств он учился с 1918 по 1921 г.
817 Грищенко А. Русская икона как искусство живописи // Вопросы живописи. Вып. 3. М., 1917.
818 Пути Н. Пути современного искусства и русская икона // Аполлон. 1913. № 10. С. 44 – 50.; Он же. Андрей Рублев // Там же. 1915. № 2. С. 1 – 23.; Он же. Выставка церковной старины в музее Штиглица // Там же. 1915. № 4 – 5. С. 93 – 94.
819 Журнал «Русская икона» выходил в 1914 г. в Петербурге при ближайшем участии Общества изучения древнерусской иконописи. Редактор-издатель С. К. Маковский. Было заявлено шесть номеров в год. Вышло три номера 1 (янв.) – 3 (авг.). Тираж 1000 экз.
820 К первой годовщине Октябрьской революции Петров-Водкин делает проект оформления Театральной площади и вместе с учениками выполняет панно «Стенька Разин», «Микула Селянинович», «Жар-птица», «Царевна-лягушка». Панно (каждое 8,5 х 15 м) были установлены по сторонам Мариинского театра и Консерватории.
821 На Подьяческой находились Инструкторские курсы.
822 См.: Мейерхольд В. Э. Лекции. 1918 – 1919.
823 На картине изображена В. С. Костровицкая.
824 Пастухова Марина Владимировна — жена В. В. Дмитриева.
825 «Фармацевты» — презрительное прозвище, данное буржуазной публике, посещавшей артистические кабаре «Бродячая собака» и «Привал комедиантов»; для «фармацевтов» вход в эти кабаре был платным.
826 хорнада (исп.) — термин испанской драматургии XVII в., обозначает акт драмы.
827 инфант, инфанта (исп.) — титул принцев и принцесс в Испании и Португалии.
828 «Летучий Голландец» — по средневековой легенде, корабль-призрак, обреченный никогда не приставать к берегу, его появление предвещает кораблекрушение и гибель.
829 Агасфер (Вечный жид) — герой средневековых сказаний, еврей-скиталец, осужденный Богом на вечную жизнь и скитания по свету за то, что не позволил Христу отдохнуть или, по другим версиям, ударивший его по пути на Голгофу.
830 В спектакле «Стойкий принц» П. Кальдерона (1915) стационарный занавес Александринского театра был поднят. А. Я. Головин и В. Э. Мейерхольд использовали для смены картин «переносной занавес». См.: Мейерхольд в русской театральной критике. 1892 – 1918. М., 1997. С. 312.
831 Мандельштам О. Стихотворения. Л., 1974. С. 93.
832 Ошибка памяти Дмитриева — Коваленская исполняла роль инфанта Фернандо.
833 Мандельштам О. Указ. соч. С. 93.
834 В. И. Инкижинов сыграл главную роль в фильме Вс. Пудовкина «Потомок Чингис-хана» (1928).
835 Занавес из спектакля Студии «Незнакомка», художник Ю. М. Бонди.
836 «Фамира Кифаред» И. Ф. Анненского (1916, режиссер А. Я. Таиров, художник А. А. Экстер). Иннокентий Анненский каждой сцене в драме предпослал особую характеристику, которая являлась одновременно и ремаркой, и символическим образом: «Сцена первая. 602 Бледно-холодная», «Сцена III. Еще багровых лучей», «Сцена IV. Голубой эмали», далее идут: «Темно-сапфировая», «Белых облаков», «Черепаховых облаков», «Темно-золотого солнца», «Сухой грозы», «Сквозь облака пробивающегося солнца», «Розового заката», «Лунно-голубая», «Пыльно-лунная», «Ярко-лунная», «Белесоватая», «Заревая». Перед Таировым встала проблема освещения сценической площадки, которая могла бы соответствовать авторскому замыслу. Нужную и по тем временам новаторскую систему освещения предложил художник-электрик А. А. Зальцман, она и была использована Таировым в спектакле. См.: Таиров А. Я. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. М., 1970. С. 171 – 172.
837 «Jeux de la Reine» (франц.) — букв, «карточная игра у королевы», сюжетный момент из по вести А. С. Пушкина «Пиковая дама» и оперы П. И. Чайковского.
838 Тема Медного Всадника пронизывает роман Андрея Белого «Петербург». Медный Всадник возникает в разных эпизодах романа то как фантастический призрак, преследующий героев, то как персонаж, то как знаменитый памятник Петру.
По всей видимости, Дмитриев имел в виду описание из главы «Чердак»:
«Конь слетел со скалы.
Понеслось тяжелозвонкое* цоканье — через мост: к островам. Пролетел Медный Всадник; напружились мускулы металлических рук; на булужники конские обрывались копыта; раздался конский хохот, напоминающий свистки паровоза; пар ноздрей обдал улицу: световым кипятком; кони, фыркая, зашарахались, а прохожие — закрывали глаза. [* Пушкин — примеч. автора]» (Белый Андрей. Соч. Т. 2. С. 211).
839 Байрейтский театр — оперный театр в г. Байрейте (Северная Бавария), создан по инициативе Рихарда Вагнера для исполнения его произведений. Открыт в 1876 г. постановкой тетралогии «Кольцо Нибелунга». В театре регулярно проводятся Вагнеровские фестивали.
840 Французский композитор Клод Дебюсси был противником «идеологических» опер Вагнера.
841 Фридрих Ницше под влиянием идей Вагнера написал трактат «Рождение трагедии из духа музыки» (1872), где противопоставил два начала бытия — «дионисийское» (жизненно-оргиастическое) и «аполлоновское» (созерцательно-упорядочивающее).
842 В «Идиоте» дом Рогожина, где произошла трагическая развязка романа, «был большой, мрачный, в три этажа, без всякой архитектуры, цвета грязно-зеленого». См.: Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 10 т. М., 1957. Т. 6. С. 231.
843 Можно предположить, что речь идет о Михаиле Николаевиче Тухачевском. См. предисловие к данной публикации.
844 Премьера «Страха» А. Н. Афиногенова в Ленинградском академическом театре драмы состоялась 31 мая 1931 г. Режиссер Н. В. Петров. Художник Н. П. Акимов, он же автор знаменитой афиши, на которой буква «х» в слове «Страх» была крестом, перечеркивающим само слово. Репетиции «Страха» в Акдраме шли в нервной обстановке. На прогоне спектакля перед аудиторией Комакадемии И. Н. Певцов в роли профессора Бородина неожиданно «переиграл» Е. П. Корчагину-Александровскую (роль старой большевички Клары), превратив пьесу в политически неблагонадежную. «Мы живем в эпоху великого страха, — говорил Бородин. — Страх ходит за человеком. Человек становится недоверчивым, замкнутым, недобросовестным, неряшливым и беспринципным». Репетиции проходили под личным контролем С. М. Кирова. (См.: Петров Н. 50 и 500. М., 1960. С. 315 – 317).
845 Возможно, Акимов имеет в виду рецензию Эм. Бескина «Приспособленчество к большевистской теме» (Вечерняя Москва. 1931. № 77. 1 апреля) на спектакль «Путина» 603 Ю. Л. Слезкина в Театре им. Евг. Вахтангова в оформлении Акимова. В частности, Бескин писал: «Не раз уже обнаруженная художником Акимовым склонность к некоторой слащавости, эстетизму сказалась и на этом спектакле. Вряд ли, например, гармонирует с идеей путины, с идеей труда и одолением водной стихии такое кокетливое, такое балетное под игрой рефлекторов море из блестящей жести. Тут речь идет о другом, суровом и трудном море. Впрочем, и на всем спектакле нет этой суровости, соли и ветра рыбацкого поселка, — очень он уж “красивый”, чистенький, эстетный и потому в целом лишен характерности и силы. Политическому значению путины он никак не соответствует».
846 Письмо Н. П. Акимова Н. В. Петрову. Без даты. [Автограф] // РГАЛИ. Ф. 2358. Оп 1. Ед. хр. 524. Л. 2, 2 об.
847 См.: Акимов Н. П. Доклад о постановке «Гамлета» У. Шекспира в Театре имени Евг. Вахтангова. [Авторизованная машинопись] // РГАЛИ. Ф. 2737. Оп 1. Ед. хр. 1.
848 Акимов Н. П. О постановке «Гамлета» в Театре им. Вахтангова в 1932 г. // Наша работа над классиками / Ред. и вступит, ст. А. А. Гвоздева. Л., 1936. С. 164.
849 Стенограмма собрания работников искусств, посвященного обсуждению статей в газете «Правда» «О борьбе с формализмом». 9 апреля 1936 г. [Машинопись] // РГАЛИ. Ф. 962. Оп 3. Ед. хр. 80. Л. 34.
850 Цит. по: Морозов М. М. Избранные статьи и переводы. М., 1954. С. 60.
851 Чушкин Н. Н. Гамлет — Качалов. М., 1966. С. 217, 219.
852 Вендровская Любовь Давыдовна (1903 – 1993) — театровед, завлит Театра им. Евг. Вахтангова, на протяжении многих десятилетий была хранителем и публикатором вахтанговского наследия, при определяющем ее участии были изданы все вахтанговские сборники (1939, 1959, 1984).
853 Морозов Михаил Михайлович (1897 – 1952) — шекспировед, театральный критик и переводчик. Из семьи известных промышленников Морозовых. Учился в Московском университете. С 1937 по 1947 г. возглавлял Кабинет Шекспира и западноевропейского театра при Всероссийском театральном обществе.
854 Горюнов (наст. фам. Бендель) Анатолий Иосифович (1902 – 1951) — артист комедийного амплуа, работал в Театре им. Евг. Вахтангова, в частности, исполнял роль Гамлета в акимовском спектакле.
855 «Антишекспировские теории» — имеется в виду вечный спор историков об истинном авторе драматических произведений, приписываемых Шекспиру.
856 Бэкон Фрэнсис (1561 – 1626) — английский философ, переводчик Библии. По одной версии, был инициированным розенкрейцером, зашифровал в пьесах Шекспира секретное учение братства Розенкрейцеров и истинные ритуалы масонского ордена. Альфред Фрейд пытался расшифровать символы Бэкона в «Филострате», видя Бэкона философским Геркулесом, «потрясающим копьем» (то есть Shake-spear). См.: Manly P. Hall. An Encyclopedic Outline of Masonic, Germetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy. San Francisco. H. S. Crocker Company, Incorporated. MCMXXVII. P. 641 – 659. (Мэнли П. Холл. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. СПб., 1994. С. 638 – 656).
С 1923 г. «Общество Бэкона» выпускало журнал «American Baconian» — New York. Так же с 1943 г. выходил журнал Университета штата Айова «The Baconian Lectures».
857 Стороженко Николай Ильич (1836 – 1906) — русский литературовед, историк западноевропейской литературы, профессор Московского университета. Автор «Опытов изучения Шекспира» (М., 1902), куда, в частности, вошли его статьи «Дилетантизм в шекспировской 604 критике (В. Чуйко “Шекспир, его жизнь и произведения”. — СПб., 1889: Изд. А. С. Суворина)» и «Модная литературная ересь».
858 Соколовский Александр Лукич (1837 – 1915) — переводчик, исследователь творчества Шекспира. Был знаменит тем, что перевел все пьесы Шекспира — этого больше не уда лось сделать никому в России. См.: Шекспир в переводе и объяснениях А. Л. Соколовского. СПб., 1894.
859 Именно таков смысл статьи Н. И. Стороженко «Шекспир — бэконовский вопрос», опубликованной в пятом томе собрания сочинений Шекспира, выпущенного издательством Брокгауза — Ефрона (СПб., 1904. С. 498 – 519). Буквальный источник цитаты обнаружить не удалось.
860 Люнней — установить не удалось. Скорее всего, ошибка стенографиста.
861 Д. Д. Шостаковичем была написана музыка к «Гамлету» в постановке Акимова. Портрет (1931, тушь) относится к поре их совместной работы над спектаклем. Воспроизведен в кн.: Хентова С. М. Шостакович в Петрограде-Ленинграде. Л., 1981. С. 113.
862 Саксон Грамматик (1140 — ок. 1208) — датский историк, автор «Деяний данов», в которых впервые изложена повесть о принце Амлете.
863 Возможно, «Гамлет — женщина» — отголосок теории Эдварда Вайнинга (1847 – 1920), вы пустившего в 1881 г. в США книгу «Тайна Гамлета. Попытка решить старую проблему». См. комментарии С. Хоружего в кн.: Джойс Дж. Улисс. М., 1993. С. 574.
864 Скорее всего, речь идет все-таки не об американской, а о немецкой экранизации «Гамлета» с Астой Нильсен в заглавной роли (Студия «Арт-фильм», 1920). Режиссеры Свен Гад и Хайнц Халль.
865 Москаленко (Москаленко-Судиенко) Семен Григорьевич — автор ряда сочинений о творчестве Шекспира: «О трагедии Шекспира “Гамлет”». Тверь, 1909; «Поддельная сцена в трагедии У. Шекспира “Гамлет”». СПб., 1901.
866 РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) — литературно-политическая организация (1925 – 1932), которая руководствовалась марксистско-ленинской философией и претендовала на командное положение в литературе и искусстве. Коммунистическая схоластичность и сектантская непримиримость превратили ее в одно из наиболее одиозных явлений 1920-х гг.
867 Репертком, или Главрепертком — Главный комитет по контролю за репертуаром и зрелищами. Учрежден в 1923 г. Постановлением Совнаркома РСФСР при Главном управлении по делам литературы и издательств (Главлит). Цель — контроль за репертуаром всех зрелищных предприятий и эстрадно-концертных организаций (театры, кино, цирк, концерты, художественное радиовещание и т. д.). В 1933 г. реорганизован в Главное управление по контролю за зрелищами и репертуаром — ГУРК. После организации в 1936 г. Все союзного комитета по делам искусств ГУРК перешел в его ведение.
868 Об этом писал и говорил сам Акимов в режиссерской экспликации «Гамлета». В частности, о гетевской теории, (И. Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера», 1795), а также у Гервинуса, Брандеса и других.
869 Эразм Роттердамский (Erasmus Roterdamus; называл себя также Дезидерий, Desiderius; 1469 – 1536) — писатель, богослов. Автор «Похвалы глупости» (1509). М. Л. Лозинский сделал специальный перевод некоторых отрывков из «Разговоров» («Colloquia») Э. Роттердамского для вставок в текст акимовского «Гамлета». Об этом подробно говорит сам Акимов в режиссерской экспликации «Гамлета» (См.: Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. Л., 1978. Т. 2. С. 128 – 131). К слову сказать, Лозинским же была дописана интермедия «Смерть Гонзаго», поскольку ее целиком проигрывали актеры под присмотром Гамлета во время репетиции. В сцене «Мышеловки» спектакль «разыгрывался» за сценой и отражался лишь в реакциях короля (Р. Симонов) и его окружения.
870 Акт III, сцена 1. Пер. М. Л. Лозинского.
871 Акт III, сцена 2. Пер. М. Л. Лозинского.
872 В. З. Масс в соавторстве с Н. Р. Эрдманом написал злободневные куплеты к «Гамлету» в постановке Акимова на манер вахтанговской «Принцессы Турандот». Через год после 605 премьеры они сочинили пьесу-пародию на акимовского «Гамлета» (см.: Вопросы литературы. М., 1989. № 5. С. 142).
873 «Он размышлял о тучках, об идеях…» — текст Эразма Роттердамского в переводе М. Л. Лозинского.
874 Премьера «Путины» Ю. Л. Слезкина в Театре им. Евг. Вахтангова состоялась 26 марта 1931 г. Постановщик Б. Е. Захава, режиссер И. М. Рапопорт, художник Н. П. Акимов.
875 Премьера «Пятого горизонта» П. Маркиша в Театре им. Евг. Вахтангова прошла 3 февраля 1932 г. Постановщик И. М. Толчанов, режиссер Б. В. Щукин, художник И. М. Рабинович.
876 Захава Борис Евгеньевич (1896 – 1976) — актер, режиссер, педагог. Ученик Е. Б. Вахтангова и Вс. Э. Мейерхольда.
877 Щукин Борис Васильевич (1894 – 1939) — актер. С 1920 г. в Третьей студии МХАТ.
878 См.: Морозов М. Шекспир на советской сцене // Избр. М., 1979. С. 405 – 444.
879 Премьера «Гамлета» во МХАТ Втором состоялась 20 ноября 1924 г. Художественный руководитель постановки М. А. Чехов. Режиссеры В. С. Смышляев, В. Н. Татаринов, А. И. Чебан; художник М. В. Либаков. Подробнее о спектакле см.: Иванов Вл. МХАТ Второй в работе над «Гамлетом»: Михаил Чехов — Гамлет // Шекспировские чтения: Сб. 1985. М., 1987. С. 216 – 243.
880 Загорский Михаил Борисович (1885 – 1951) — театральный критик и историк театра. В 20-е гг. — один из самых агрессивных приверженцев новых идеологических канонов. К концу 30-х гг. отошел от активной критической деятельности.
881 Троицкий Захарий Леонтьевич (1889 – 1947) — театровед, исследователь творчества Шекспира. Автор рукописи Кабинета Шекспира ВТО «Очерк по сценической истории комедии Шекспира “Двенадцатая ночь”». Член актива ВТО.
882 Корпус критической литературы на акимовского «Гамлета» составляет около 130 статей. Но существенны и неопубликованные отзывы. Так, сохранились материалы выступления Вс. В. Вишневского во Всероскомдраме (весна 1932): «Порок акимовской работы (и прежних его работ: “Коварство и любовь”, “Робеспьер”) — эстетическое костюмное реставраторство. <…> Надо было брать за горло XIII век <…> дать парня, который вырос на вине и молоке. <…> Шекспир дает ощущение холода. Эльсинор — ветер. Постановщик, демонстрируя цветистые костюмы ландскнехтов, не желает вспомнить даже о плащах, употребляемых воинами еще со времен архаических. А мизансцена объяснения короля и Гамлета. Оба разъярены. Обоих держат на руках — один рвется, полный злобы, его опутывают веревки. Сцена напряженная. Но — Акимов, подержав обоих вздыбленно на воздухе (на руках стражи и придворных), — опускает их. Трюк показан, и дальше все напряжение сцены пропадает — вдруг вот так ни с того ни с сего. <…> Вы сделали ряд тяжелейших ошибок социально-политического порядка, поэтому первая задача нашей критики — прийти на помощь и объяснить… Перед вами, т[оварищи], работа т. Акимова. Она бросается в глаза своими красками. Мне кажется, эти краски стоят много. Вот постановка Акимова — это Брокгауз и Ефрон. Там на букву “К”, стоит этот том 3 р. Вы берете и переносите на сцену все эти персонажи. Персонажи перенесены не критически, нет даже попытки дать в каком-нибудь выступлении социальный акцент. <…> Акимов не дал подлинного лица эпохи даже в костюмах. <…> Это не натуралистические, а художественные картины, которые позволяют сделать вам максимум театральной выразительности. Я лет 20 отдал военной службе, и я нигде не встречал таких глупых солдат, что бы в Альсиноре [так в тексте. — М. З.], стоя на посту в холодную ночь, в бурю, чтобы они не завернулись в плащи, а стоят в перьях. Эта деталь очень характерна для ваших ошибок» (РГАЛИ. Ф. 1038. Оп 1. Ед. хр. 629. Л. 4 – 6).
883 Голышева Елена Михайловна (1906 – 1984) — литератор, известная переводчица. Принадлежала к тем, кто вошел в историю советского общества как «люди оттепели», впоследствии часто смыкавшиеся с диссидентским движением.
884 Премьера спектакля «Сирано де Бержерак» Э. Ростана в Театре Ленинского комсомола состоялась 25 сентября 1943 г. Режиссер С. Г. Бирман, художник Ю. И. Пименов.
885 Клейнер Исидор Михайлович (1891 – 1970) — театровед, автор книг о Камерном театре (1930), Мольере (1927, 1934), Сухово-Кобылине (1960).
886 606 Шапс Александр Леонтьевич (1911 – 1965) — режиссер. В 1930 г. закончил ГИТИС, после чего работал актером в провинциальных театрах. С 1931 по 1933 г. — в ЦТКА, где начал режиссерскую работу. С 1941 г. до конца жизни работал в Театре им. Моссовета.
887 Чушкин Николай Николаевич (1906 – 1977) — театровед, историк МХАТ.
888 Премьера «Гамлета» в Александринском театре состоялась 29 марта 1911 г. Режиссер Ю. Э. Озаровский, художник князь А. К. Шервашидзе. Гамлет — Н. Н. Ходотов. Жизнь спектакля была скоротечна, а отзывы рецензентов убийственны: «Тусклый и серый спектакль. Такой же серый, как сукна, беспомощно висевшие по бокам и в глубине сцены… Кому нужен был такой “Гамлет”? Смею думать, что ровно никому, и даже не дирекции, ко торой стыдно ведь будет занести “Гамлета” в мартиролог “провалившихся” пьес» (Театр и искусство. СПб., 1911. № 14. С. 288).
889 Премьера «Гамлета» в МХТ была сыграна 23 декабря 1911 г. Постановщик Эдвард Гордон Крэг, режиссеры К. С. Станиславский, Л. А. Сулержицкий, художник по костюмам К. Н. Сапунов, композитор И. А. Сац.
890 Премьеру «Гамлета» в постановке А. Я. Таирова в Передвижном общедоступном театре П. П. Гайдебурова сыграли в декабре 1907 г. (возобновлен в 1919, 1928 гг.); Гамлет — Гайдебуров, Лаэрт — Таиров.
891 Начиная с организации Театр РСФСР I и в течение всего существования в Москве театра, руководимого Вс. Мейерхольдом (1920 – 1938), в его планах значился «Гамлет». Подробнее см.: Февральский А. В. Мейерхольд и Шекспир // Вильям Шекспир: К четырехсотлетию со дня рождения: Исследования и материалы. М., 1964. С. 374 – 402.
892 Премьера «Эрика XIV» А. Стриндберга в Первой студии МХТ прошла 29 марта 1921 г. Режиссер Е. Б. Вахтангов, художник И. И. Нивинский.
893 Бельфоре Франсуа (1530 – 1583) — французский писатель, автор «Трагических историй», где, в частности, пересказана сага о принце Амлете, впервые изложенная Саксоном Грамматиком.
894 Бебутов Валерий Михайлович (1885 – 1961) — режиссер. С 1912 по 1917 г. — в труппе МХТ. В 1918 г. — в Театре-студии Художественно-просветительного союза рабочих организаций, где был сорежиссером Комиссаржевского в спектакле «Буря». В 1920 г. принял совместное с Мейерхольдом участие в организации Театра РСФСР I. С 1923 по 1924 г. — в Театре МГСПС. С 1924 г. возглавлял Театр музыкальной буффонады, где в июне 1926 г. по ставил «Дон Жуана» Моцарта. Впоследствии труппа была переименована в Театр музыкальной комедии.
895 Хотя Бебутов часто выступал в печати, в том числе и в соавторстве с Мейерхольдом, на звать его театроведом можно было только оговорившись.
896 Премьера спектакля «Египетские ночи» в постановке Таирова состоялась 14 декабря 1934 г. Художник В. Ф. Рындин, композитор С. С. Прокофьев. Весьма характерно сближение Шоу с Шекспиром в это время: в Англии драматург сам переписывает Шекспира для постановки на сцене. См.: Бартошевич А. В. Шекспир. Англия. XX век. М., 1994. С. 124.
897 В связи с завершением работы над спектаклем «Египетские ночи» Таиров опубликовал в «Правде» статью «Как мы работали над Шекспиром» (1934, 11 декабря).
898 Речь идет о спектакле «Горячее сердце» А. Н. Островского в Казанском Большом драматическом театре. Премьера — 23 апреля 1943 г. Постановщик А. Д. Дикий, художник А. А. Осмёркин. Перед началом репетиции Дикий манифестировал: «Все можно делать на сцене. Можно показать живую лошадь? Можно. Можно лошадь сделать зеленой? Можно. Надо лишь провести это через искусство» (цит. по: Мацкин А. Дикий и его книга // Дикий А. Повесть о театральной юности. М., 1957. С. 14).
899 Премьера «Горячего сердца» во МХАТе состоялась 23 января 1926 г. Режиссеры К. С. Станиславский, М. М. Тарханов, И. Я. Судаков, художник Н. П. Крымов. М. М. Тарханов играл роль Градобоева, И. М. Москвин — Хлынова.
900 «Гамлет». Трагедия Александра Сумарокова (1748, СПб. Первое сообщение о «Гамлете» в русской литературе). На обвинения В. К. Тредиаковского в плагиате Сумароков писал: «Гамлет мой, кроме монолога в окончании третьего действия и клавидиева на колени падения, на шекспирову трагедию едва ли походит» (Сумароков А. Полн. собр. соч. в стихах 607 и прозе. Ч. X. М., 1782. С. 117). При написании пьесы Сумароков пользовался «Рассуждением об английском театре» Лапласа, где тот впервые излагает содержание Гамлета (La Place P.-A. de. Le Théâtre anglais. T. 1. Londres, 1745).
901 Литовский Осаф Семенович (псевд. Уриэль; 1891 – 1971) — театральный критик, драматург. С 1930 по 1937 г. — председатель Главреперткома. В 1940-е гг. написал ряд пьес.
902 Постановка «Сида» П. Корнеля не была осуществлена, опубликована лишь режиссерская экспликация. См.: Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. Л., 1978. Т. 2. С. 258 – 271.
903 В 1943 г. во МХАТе шли репетиции «Гамлета». Постановка не осуществлена. Еще 17 мая 1940 г. Немирович-Данченко в беседе с труппой говорил: «Мечта моя поставить Шекспира так, чтобы бросить вызов и нанести сокрушительный удар традициям якобы романтической школы. Потому что это не живые люди, не настоящая поэзия, а подслащенный лживый пафос… Я пойду смелей к Шекспиру…» Из выступления 29 августа 1940 г.: «Шекспир — величайший творец театрального самочувствия, театрального впечатления. У Шекспира сильное столкновение глубочайших страстей. Это все дорого. Но есть у Шекспира черты, которые я не принимаю. Почему современный театр всегда должен идти к Шекспиру, пусть и Шекспир к нему подойдет!» (Немирович-Данченко Вл. И. Рецензии. Очерки. Статьи. 1877 – 1942. М., 1980. С. 367).
904 В XI в. университетов еще не было. Первые университеты появились в XII – XIII вв. в Италии, Испании, Франции, Англии.
905 Акимов подразумевает, что его «Гамлет» — первая режиссерская работа, хотя еще в 1929 г. вместе с А. Н. Лаврентьевым он поставил «Врагов» Б. А. Лавренева на сцене ленинградского БДТ.
906 Катилина — политик Древнего Рима. Организованный им в 63 г. до н. э. заговор был разоблачен Цицероном.
907 В 1933 г. Акимов возглавил экспериментальную Студию при Ленинградском мюзик-холле, с 1935 г. — главный режиссер Ленинградского Театра Комедии.
908 С некоторыми неточностями приводится реплика Селии из комедии Шекспира «Как вам это понравится» в переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник: «Хорошо сказано: прямо как лопатой прихлопнул» (Шекспир У. Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1959. Т. 5. С. 16).
909 Возможно, Морозов имеет в виду Михаила Аветовича Арутчьяна (1897 – 1961), главного художника Драматического театра имени Г. Сундукяна (Ереван), где он оформил «Отелло» (1940).
910 В Театральной энциклопедии нет статьи о творчестве Калмакова. Сведения о нем можно найти в кн.: Художники народов СССР: Био-библиофафический словарь. СПб. 1995. Т. 4, кн. 2. С. 94 – 95; Северюхин Д. Я., Лейкинд О. Л. Биографический словарь: Художники русской эмиграции (1917 – 1941). СПб., 1994. С. 227 – 229 (далее — Северюхин Д. Я., Лейкинд О. Л.); Собрание Лобановых-Ростовских: Художники русского театра. 1880 – 1930. Каталог-резоне. Статьи / Сост. Дж. Боулт. М., 1994. С. 146 – 148 (далее — Дж. Боулт); Энциклопедия «Русский драматический театр». М., 2001.
К сожалению, все эти издания расходятся между собой в некоторых фактических сведениях, датировке премьер и биографических данных о художнике.
911 Мгебров А. А. Жизнь в театре: В 2 т. Л., 1929. Т. 1. С. 362 – 365.
912 Письмо Н. К. Калмакова к С. П. [Крачковскому] от 12 января 1915 г. // РНБ. Отдел рукописей. Ф. 124. Ед. хр. 1896. Л. 1 – 2.
913 Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987. С. 294.
914 608 В кн. Северюхин Д. Я., Лейкинд О. Л. С. 229 указано, что в 1922 г. Калмаков был в Константинополе «товарищем председателя Союза русских художников, позднее перебрался в Европу. В 1922 – 1924 гг. провел самостоятельные выставки в Таллинне, Хельсинки и Брюс селе». Представляются более правдоподобными сведения из кн.: Художники народов СССР… С. 94 – 95, о том, что он непосредственно из Петрограда в 1920 г. перебрался в Ревель. Французский каталог: KALMAKOFF. L’Ange de l’Abime. 1873 – 1955. Et les peintres du Mir Iskousstva. 26 mars — 17 mai 1986. Musee-galerie de la Seita. Paris, 1986. P. 7, 99 (далее — KALMAKOFF), отмечает, что он до 1923 г. находился «на бывших границах российской империи», выставлялся в Ревеле в 1922 и 1923 гг., Гельсингфорсе в 1923 г.; Константинополь там не упоминается.
915 ГРМ. Сектор рукописей. Ф. 71. Степанов И. М. Ед. хр. 46. Л. 5 – 6.
916 Там же. Л. 8.
917 Эрберг Конст. К. А. Сюннерберг. Воспоминания / Публ. С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С. 120.
918 Спандиков Э. Н. К. Калмаков // Красная газета. Л., 1925. 18 апреля. № 94. С. 5. Веч. вып.
919 KALMAKOFF. Р. 27.
920 Ibid. P. 15.
921 Бенуа А. Дневник художника // Московский еженедельник. М., 1907. 17 ноября. № 45. С. 43 – 44.
922 См.: Евреинов Н. Н. Художники в театре Комиссаржевской // Pro scena sua. Режиссура. Лицедеи. Последние проблемы театра. СПб., 1913. С. 153.
923 Смоленский. Драматический театр // Биржевые ведомости. СПб., 1908. 18 октября. № 10765. С. 3. Веч. вып.
924 Евреинов Н. К постановке «Саломеи» // Театр и искусство. СПб., 1908. № 43. С. 749 – 752.
925 Там же. С. 750.
926 Там же.
927 Там же. С. 751 – 752.
928 Там же. С. 752.
929 Там же.
930 Там же.
931 Там же.
932 Цит. по: KALMAKOFF. P. 18.
933 Дж. Боулт. С. 147.
934 Там же. С. 146.
935 Там же. С. 147.
936 Измайлов А. Инцидент с «Саломеей» // Русское слово. М., 1908. 30 октября. № 252. С. 3.
937 Там же.
938 В отчете о генеральной репетиции «Царевны» «Биржевые ведомости» привели высказывание цензора драматических сочинений барона Н. В. Дризена: «На наш вопрос Н. В. пояснил, что, собственно, преследование пьесы происходит отнюдь не от цензурного ведомства. Драматическая цензура довольствовалась известного рода изменениями в пьесе и в таком виде считает ее неспособною оскорбить чье бы то ни было религиозное чувство» ([Б. п.] Около рампы: На генеральной репетиции «Саломеи» // Биржевые ведомости. СПб., 1908. 28 октября. № 10781. С. 3. Веч. вып.).
Уже после запрещения спектакля «Биржевые ведомости» привели два противоположных высказывания членов Думы: графа Уварова, не увидевшего в спектакле ничего крамольного, и Пуришкевича, который сказал следующее: «Начав действовать против постановки “Саломеи”, я выступил не как депутат, а как русский человек, обязанный стоять на страже православия. Мы и впредь будем действовать так же: если бы пьеса пошла, “Союз Михаила Архангела” скупил бы первые ряды кресел и мы бы заставили прекратить спектакль» ([Б. п.] Кулисы // Там же. 30 октября. № 10785. С. 5.).
Журнал «Театр и искусство» также откликнулся на запрещение спектакля. В передовой статье Кугель писал: «Г-же Комиссаржевской, которой запретили “Царевну” (“Саломею” Уайльда), “приспособленную” к требованиям русской цензуры, остается жаловаться 609 на г. Пуришкевича. Оказывается, что редакция газеты “Колокол” стоит “на страже правосудия” и в качестве такого “стража” имеет право “ревизии” действий и распоряжений цензуры. Устанавливается, по-видимому, просто такой порядок вещей, при котором г. Пуришкевичу достаточно крикнуть “слово и дело”, как действия не только частных лиц, но и официальной власти берутся под “сомнение”. Г. Пуришкевич объяснил сотруднику “Нов. вр.”, что он располагает, в случае, если бы его сыскной возглас не возымел настоящего действия, средствами “понуждения”. “Союз Михаила Архангела”, от имени которого раздаются восклицания “слово и дело”, “скупил бы места и заставил бы прекратить спектакль”» (Театр и искусство. СПб., 1908. 2 ноября. № 44. С. 761).
Почти одновременно с Комиссаржевской «Саломею» собиралась ставить в Михайловском театре Ида Рубинштейн (режиссером спектакля был Вс. Мейерхольд, танцы ставил М. Фокин, оформлял Л. Бакст). Несмотря на первоначальное разрешение, спектакль был запрещен на стадии репетиций. Иде Рубинштейн постановка обошлась в 30 тысяч рублей. Так как Михайловский театр — казенный, то для снятия спектакля не нужно было официального запрета со стороны Цензурного комитета, для этого достаточно было решения Конторы Императорских театров, чем бы или кем бы, по сути, оно ни было инспирировано. Это косвенно подтверждает тот факт, что запрет спектакля у Комиссаржевской был вызван отнюдь не сценографией Калмакова, а, скорее, общим характером самой пьесы — ведь в Михайловском театре постановку оформлял Бакст, и к тому же здесь спектакль был снят еще до генеральной репетиции. (Ида Рубинштейн не отступилась от своего замысла и все-таки исполнила танцы Саломеи в костюмах работы Бакста в Большом зале Петербургской консерватории 20 декабря 1908 г.)
Московская «Рампа» сообщала: «… г-же Рубинштейн удалось испросить разрешения на постановку той же пьесы на Михайловской сцене. Были сотни анонсов о том и другом представлении, тратились деньги на постановку. <…> И вот, г. Пуришкевич срывает все это единым махом! <…> Журналисты обратились по телефону к обеим антрепренершам. Выяснилось, что г-же Рубинштейн действительно запретили, придравшись к тому, что сцена казенная, но к Комиссаржевской это не относилось» (Шмель. Петербургские письма // Рампа. М., 1908. № 11. С. 178 – 179).
«Рампа» перепечатала также заявление труппы театра, разосланное в петербургские газеты в связи с запрещением «Саломеи» и содержавшее историю снятия спектакля: «26 августа 1908 года драматическая цензура разрешила к представлению на сцене драматического театра В. Ф. Комиссаржевской пьесу “Царевна”, трагедию Оскара Уайльда “Саломею”, приспособленную к русской сцене Бутковской. 7 октября цензором экземпляр этой пьесы был представлен петербургскому градоначальнику, как того требует закон, с просьбой разрешить ее к представлению, 8 октября разрешение было получено, и на афише было помещено объявление, что пьеса готовится к постановке. С этого дня, по 28 октября, с-петербургскому градоначальнику ежедневно представлялась афиша, на которой был помещен анонс о готовящимся представлении пьесы “Царевна”. 18 октября градоначальник разрешил продажу билетов на эту пьесу [к 28 октября на первые три спектакля все билеты были проданы. — Е. С.]. Все афиши, разрешающие постановку пьесы Оскара Уайльда на сцене драматического театра Комиссаржевской, подписаны помощником градоначальника Лысогорским. 27 октября Лысогорский присутствовал на генеральной репетиции пьесы “Царевна”, где мог убедиться, что пьеса поставлена в рамках, разрешенных цензурой, а 28 октября, в день представления пьесы, за несколько часов до спектакля, по докладу Лысогорского пьеса распоряжением канцелярии градоначальника была запрещена к представлению» ([Б. п.] // Там же. С. 177). Под обращением стояло сто шесть подписей артистов и сотрудников театра.
Любопытно, что Лысогорский после генеральной репетиции публично утверждал, и это высказывание было помещено в отчетах о генеральной репетиции, что решительно ничего противоцензурного в спектакле не усмотрел.
К моменту постановок в Петербурге «Саломея» уже имела свою сценическую историю. Она прошла в Берлине в Deutsches Theater и в Kammerspiele М. Рейнхардта, а также в Гельсингфорсе (в финском переводе и в исполнении финской труппы). Но в Англии 610 пьеса не ставилась именно по причинам религиозного и нравственного характера. Уайльд написал пьесу (1893) на французском языке (с французского и переводили на русский), и предназначалась она Саре Бернар, только через год автор перевел драму на английский.
939 Джон Э. Боулт ошибается, утверждая, что для музыкального оформления спектакля использовалась музыка Кристофа Виллибальда Глюка (см.: Дж. Боулт. С. 146). Под музыку Глюка шла пастораль «Королева мая», которая исполнялась в один вечер с «Царевной».
940 [Б. п.] Около рампы. На генеральной репетиции «Царевны» // Биржевые ведомости. СПб., 1908. 28 октября. № 10781. С. 3. Веч. вып.
941 Мгебров А. А. Жизнь в театре. Т. 1. С. 377.
942 Мгебров А. А. Указ. соч. Т. 1. С. 361 – 362.
943 Там же. С. 376.
944 Измайлов А. Указ. соч. С. 3.
945 Вейконе М. На генеральной репетиции «Саломеи» в театре В. Ф. Комиссаржевской // Алконост. Кн. 1. СПб., 1911. С. 140.
946 Измайлов А. Указ. соч. С. 3.
947 [Б. п.] Около рампы. С. 3.
948 Мгебров А. А. Указ. соч. Т. 1. С. 377.
949 Измайлов А. Указ. соч. С. 3.
950 Там же.
951 А. Измайлов, высоко оценив все решение сцены танца, не принял сам танец: «Самый танец Саломеи не оправдывает ожиданий. Артистке здесь приходится конкурировать с фантазией зрителя и читателя. Мы помним, как этот танец описан в “Иродиаде” Флобера. И как бы красива ни была пляска, все-таки она никогда не даст того выражения грации и страсти, каких ждет воображение» (Там же. С. 3).
952 Мгебров А. А. Указ. соч. Т. 1. С. 375 – 376.
953 [Б. п.] Около рампы. С. 3.
954 Вейконе М. Указ. соч. С. 141.
955 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические заметки: В 3 т. М., 1974. Т. 1. С. 404 – 405.
956 [Б. п.] Около рампы. С. 3.
957 Топорков А. Творчество и мысль: По поводу книги А. Бергсона «Творческая эволюция» // Золотое руно. М., 1909. № 5. С. 52.
958 Там же. С. 54.
959 Цит. по: Брусянин В. В. Леонид Андреев: Жизнь и творчество. М., 1912. С. 75.
960 Цит. по: Радищева О. А. Станиславский и Немирович-Данченко. История театральных отношений. 1897 – 1908. М., 1997. С. 403.
961 Кугель А. Театральные заметки // Театр и искусство. 1911. 25 сентября. № 39. С. 727.
962 В 1913 г. В. Маяковский написал свою первую пьесу, предназначавшуюся для «Первого в мире футуристов театра» (премьера — 2 декабря 1913 г., режиссер и исполнитель главной роли В. Маяковский, художники П. Филонов и И. Школьник). На титульном листе пьесы, представленной в Цензурный комитет, значилось: «Владимир Маяковский. Трагедия». Автор, в спешке заканчивавший свой драматический опус, не придумал названия, обозначил только жанр. Цензура утвердила написанное на титуле как название пьесы.
963 Леонид Андреев о «Черных масках» (письмо в редакцию «Рампы и жизни») // Рампа и жизнь. М., 1909. № 36. С. 821.
964 Там же. С. 822.
965 Зеон. «Черные маски» у Ф. Ф. Комиссаржевского [беседа с Ф. Ф. Комиссаржевским] // Биржевые ведомости. СПб., 1908. 26 ноября. № 10830. С. 5.
966 Мгебров А. А. Указ. соч. Т. 1. С. 365 – 366.
967 А. Кос-тов [А. Косоротов] Драматический театр // Театр и искусство. СПб., 1908. 7 декабря. № 49. С. 865.
968 Мгебров А. А. Указ. соч. Т. 1. С. 366.
969 [Б. п.] Кулисы: «На масках» // Биржевые ведомости. СПб., 1908. 3 декабря. № 10842. С. 5.
970 611 Старый друг [Н. Эфрос]. «Черные маски»: Письмо из Петербурга // Театр. М., 1908. 6 декабря. № 346. С. 5.
971 Измайлов А. «Черные маски» в Театре Комиссаржевской // Русское слово. М., 1908. 5 декабря. № 282. С. 2.
972 Там же.
973 Старый друг [Н. Эфрос]. Указ. соч. С. 6.
974 Там же.
975 Там же. С. 5 – 6.
976 Там же. С. 6.
977 Яблоновский С. «Юдифь» // Русское слово. М., 1909. 11 сентября. С. 3.
978 Измайлов А. «Ночные пляски» (шарж) // Биржевые ведомости. СПб., 1909. 10 марта. № 11000. С. 3.
979 Там же. С. 4.
980 С. А. [С. Ауслендер]. «Ночные пляски» Федора Сологуба // Золотое руно. М., 1909. № 4. С. 92.
981 Там же.
982 Измайлов А. «Ночные пляски» (шарж). С. 4.
983 С. А. [С. Ауслендер]. Указ. соч. С. 92.
984 Измайлов А. «Ночные пляски» (шарж). С. 4.
985 См. Немирович-Данченко Вл. И. Избранные письма: В 2 т. [1879 – 1943]. Т. 1. М., 1979. С. 475 – 476.
986 Ауслендер С. Петербургские театры // Аполлон. СПб., 1909. № 3. С. 38.
987 Евреинов Н. О постановке «Анатэмы» // Там же. С. 39.
988 Кугель А. Театральные заметки // Театр и искусство. 1909. № 48. С. 864.
989 Там же.
990 Мамонтов С. Другой Анатэма // Рампа и жизнь. М., 1910. № 1. С. 9.
991 Азов Влад. «Анатэма» // Речь. СПб., 1909. 29 ноября. № 328. С. 3.
992 См.: СПб ГМТиМИ. ГИК 17823/3.
993 В. А. Старинный театр: «Благочестивая Марта». — «Великий князь Московский» // Речь. СПб., 1911. 30 ноября. № 329. С. 4 – 5.
994 Старк Э. (Зигфрид). «Старинный театр». Пг., 1922. С. 52.
995 Бенуа А. Художественные письма: «Старинный театр» I // Речь. СПб., 1911. 10 декабря. № 338. С. 5.
996 Бенуа А. Художественные письма: «Старинный театр» II // Там же. 23 декабря. С. 4.
997 Мгебров А. А. Указ. соч. Т. 2. С. 98.
998 Бенуа А. «Старинный театр» II. С. 3.
999 Бенуа А. «Старинный театр» I. С. 5.
1000 Тамарин Н. Театр «Комедия и драма» // Театр и искусство. 1912. 12 февраля. № 7. С. 147 – 148.
1001 В. А. Театр «Комедия и драма»: «Мечта-победительница» Федора Сологуба // Речь. 1912. 4 февраля. № 34. С. 5.
1002 Там же.
1003 Тамарин Н. Указ. соч. С. 148.
1004 Там же.
1005 Homo novus [А. Р. Кугель]. Заметки // Театр и искусство. СПб., 1913. 15 декабря. № 50. С. 1036.
1006 Евреинов Н. Н. К постановке «Хильперика» [реф.]. СПб.: изд. Дирекции «Палас-театра» 1913. С. 40.
1007 Игнатьев С. Камерный театр: «Сакунтала». «Жизнь есть сон» // Любовь к трем апельсинам. СПб., 1914. № 6 – 7. С. 104.
1008 В журнале «Любовь к трем апельсинам» № 1, за 1916 г. в разделе «Хроника» (С. 97) со общалось, что в квартире художника А. Ф. Гауша на Английской набережной открылся представлением спектакля «Силы любви и волшебства» кукольный театр. Портал и кукла в прологе сделаны по эскизам М. Добужинского, остальные куклы — по эскизам Н. К. Калмакова.
612 В 1918 г. «Силы любви и волшебства» были возобновлены режиссером А. Голубевым (Петроградский кукольный театр) и игрались в помещении «Народного дома» по три-четыре раза в неделю.
1009 Е. Данько. О Петроградском кукольном театре [Рукопись; 1918] // ГРМ. Сектор рукописей. Ф. 32. Э. Ф. Голлербах. Ед. хр. 146. Л. 1 – 2.
1010 Бенуа А. Марионеточный театр // Речь. СПб., 1916. 20 февраля. № 50. С. 2.
1011 Автор выражает особую благодарность Ноэль Гибер, директору Отдела зрелищных искусств Национальной библиотеки Франции, а также Анн Сильви Боно, сотруднице исследовательской лаборатории театрального искусства Национального центра научных исследований в Париже.
1012 «Елену Спартанскую» сыграют с 1 по 10 мая 1912 г. в постановке А. Санина и в декорациях Л. Бакста. «Саломея» пройдет в театре Шатле с 11 по 20 июня 1912 г. в постановке Санина, с хореографией М. Фокина, музыкой А. Глазунова и в декорациях Бакста. Речь идет о «большом парижском сезоне», когда русские балеты обрамляли эти два гала-спектакля И. Рубинштейн.
1013 Телеграмма И. Рубинштейн к Г. Д’Аннунцио от 23 октября 1912 г. // Depaulis J. Ida Rubinstein: une inconnue jadis célèbre. Paris, 1995. P. 163.
1014 Сведения получены от Мартины Кахан, директора культурной службы Парижской национальной оперы.
1015 См., напр.: Schouvaloff A. L. Bakst. Paris, 1991.
1016 Schlumberger J. Le théâtre: «La Pisanelle ou La Mort Parfumée» // Nouvelle Revue Francaise. Paris, 1913. 1 Juliet.
1017 Левинсон А. «Пизанелла, или Душистая смерть» (Письмо из Парижа) // Речь. СПб., 1913. 9 июля.
1018 Фрагменты пьесы опубликованы в газете «Figaro» 13 июня 1913 г., и здесь же помещен анонс о скором выходе пьесы в «La Revue de Paris» (15 июня, 1 и 15 июля).
1019 В окончательном варианте название пьесы изменено, еще более приближено к средневековым канонам: «Пизанелла, или Игра Розы и Смерти».
1020 Apollinaire G. Une répétition de «La Pisanelle» // Oeuvres en prose complètes. Paris, 1993. T. 3. P. 148 – 149.
1021 Ida Rubinsteine in Italia // La Stampa. 1926. 12 febbraio.
1022 Georges-Michel M. «La Pisanelle ou La Mort Parfumée» // Comoedia. 1913. 17 Mai. Текст воспроизведен в программке спектакля.
1023 Georges-Michel M. «La Pisanelle ou La Mort Parfumée»: M. Gabriele d’Annunzio lit son oeuvre nouvelle à Mile Ida Rubinstein // Ibid., 25 Avril. Обзор прессы по спектаклю хранится в Отделе зрелищных искусств Национальной библиотеки Франции, в фонде Ронделя (Re 5276, 5278). В случаях, когда вырезки не содержат указаний на издание, ссылки даются на коллекцию Ронделя.
1024 Спектакль «Мученичество Святого Себастьяна» шел в театре Шатле с 21 мая по 2 июня 1911 г.
1025 Когда разразилась первая мировая война, Рубинштейн оставила артистическую деятельность и ушла на фронт медсестрой. Впрочем, у нее была авантюрная жилка: в свободное от театра время она охотилась на диких зверей в экзотических странах. Ее любовные связи проходили на виду у парижского общества. После войны она вновь стала актрисой; сыграла «Федру» Расина (1917), «Песочные часы и сосуд для благовоний» Монтескью (1918), «Саломею» Робера Юмьера в Опера (1919). В 1920 г. со своей труппой 613 поставила «Антония и Клеопатру» Жида. В 1923 г. представила «Федру» Д’Аннунцио на музыку Пиццетти и «Даму с камелиями» Дюма-сына. В 1925 г. сыграла в инсценировке «Идиота» Достоевского, а в 1926-м — во «Франческе да Римини» Д’Аннунцио. В конце 1920-х гг. опять вернулась к танцу, организовав собственную компанию, где хореографом была Бронислава Нижинская, а артистическим директором (после смерти Бакста) Александр Бенуа. До 1934 г., своего последнего сезона, представила в Опера множество балетов, большинство из которых были созданы ею и крупнейшими композиторами эпохи (Онеггер, Мило, Стравинский, Равель и т. д.). Затем начала сотрудничать с Полем Клоделем, что не привело, однако, ни к каким результатам. После второй мировой войны Рубинштейн жила в полном уединении на юге Франции, в Вансе, до самой своей смерти в 1960 г.
1026 Из письма Мейерхольда видно, что он познакомился с Д’Аннунцио 24 мая. Если только Н. Волков, цитируя это письмо, не ошибся в датировке: Волков Н. Мейерхольд: В 2 т. М.; Л., 1929. Т. 2. С. 283. Но это мало вероятно, так как время описанной Мейерхольдом встречи определяется точно — после долгой репетиции.
1027 Georges-Michel M. «La Pisanelle ou La Mort Parfumée»: M. Gabriele d’Annunzio lit son oeuvre nouvelle a Mile Ida Rubinstein // Comoedia. 1913. 25 Avril.
1028 Georges-Michel M. Un demi siècle de glories théâtrales / Ed. André Bonne. Paris, 1950. P. 254.
1029 Giannatoni M. La vita di Gabriele d’Annunzio // Depaulis J. Ida Rubinstein: une inconnue jadis célèbre. Paris, 1995. P. 294.
1030 Заметка без подписи в газете «Figaro» от 10 июня 1913 г.
1031 Письмо Вс. Э. Мейерхольда О. М. Мейерхольд от 7 июня 1913 г. // Волков Н. Указ. соч. С. 284.
1032 Гладков А. Мейерхольд: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 326.
1033 Письмо Вс. Э. Мейерхольд О. М. Мейерхольд от 20 июня 1913 г. // Волков Н. Указ. соч. С. 291.
1034 Apollinaire G. Op. cit. P. 149.
1035 Письмо Вс. Э. Мейерхольда О. М. Мейерхольд от 18 июня 1913 г. // Волков Н. Указ. соч. С. 283.
1036 Georges-Michel M. Wsévolode Meyerhold // Comoedia. 1913. 19 Mai.
1037 Ibid.
1038 Известно имя лишь одного из его переводчиков, который, предположительно, сделал его портрет. Он происходил из русской семьи и в конце концов эмигрировал в США. Речь идет о Georges Serreck De Kervilly. Некоторые считают, что вторым переводчиком мог быть А. Левинсон.
1039 Bois J. Enquete sur un Art théâtral nouveau // Le Figaro. 1913. 29 Mai. Жюль Буа присутствовал на репетиции 18 мая, исключительно удачной, если верить письму Мейерхольда жене (см.: Волков Н. Указ. соч. С. 282 – 283).
1040 Ginoux R. Avant le rideau: «La Pisanelle ou La Mort Parfumée» // Le Figaro. 1913. 10 Jum.
1041 Apollinaire G. Op. cit. P. 149.
1042 Henriot E. Figures contemporaines. Gabriele d’Annunzio et la Pisanelle. — Коллекция Ронделя.
1043 См. также письмо Ю. К. Балтрушайтиса, где он предлагает Мейерхольду перевод других, лучших пьес писателя: Вс. Э. Мейерхольд. Переписка. 1896 – 1939. С. 53.
1044 Письмо Вс. Э. Мейерхольда И. Л. Рубинштейн от 11 июля 1912 г. // Там же. С. 144. См. также: Письма и телеграммы Иды Рубинштейн Вс. Мейерхольду / Публ. Н. Панфиловой // Театр. М., 1993. № 5. С. 78 – 82.
1045 См.: Письмо Вс. Э. Мейерхольда И. Л. Рубинштейн от 6 октября 1912 г. // Вс. Э. Мейерхольд. Переписка. С. 147.
1046 Письмо Л. С. Бакста Вс. Э. Мейерхольду от 1 декабря 1912 г. // Там же. С. 149.
1047 Gesamtkunstwerk — одно из центральных понятий вагнеровской теории искусства, рассматривающей художественное произведение как единство на основе синтеза искусства. См.: Picon-Vallin В. Meyerhold, Wagner et la synthèse des arts // L’Euvre d’art totale, ouvrage collectif dirigé par D. Bablet. Paris, 1995. P. 129 – 156.
1048 Письмо Вс. Э. Мейерхольда О. М. Мейерхольд от 16 мая 1913 г. // Волков Н. Указ. соч. С. 282.
1049 Письмо Вс. Э. Мейерхольда О. М. Мейерхольд от 18 мая 1913 г. // Там же. С. 282 – 283.
1050 Речь идет о постановке Шарля Бурге в Ницце в марте 1913 г. и о возобновлении в Шатле 28 мая 1913 г.
1051 Письмо Вс. Э. Мейерхольда О. М. Мейерхольд от 24 мая 1913 г. // Волков Н. Указ. соч. С. 283.
1052 614 Письмо Вс. Э. Мейерхольда О. М. Мейерхольд от 1 июня 1913 г. // Там же. С. 284.
1053 Письмо Вс. Э. Мейерхольда О. М. Мейерхольд от 7 июня 1913 г. // Там же.
1054 Там же.
1055 Пиццетти Ильдебрандо (1880 – 1968) — итальянский композитор. Учился в Пармской консерватории (1895 – 1901). Преподавал во Флоренции (1908 – 1924), в Милане (1924 – 1936) и в римской Академии св. Цецилии (1936 – 1958); среди его учеников — Марио Кастальнуово-Тедески, Сигфрид Науман, Нино Рота и другие. Гибкий ариозный стиль Пиццетти отмечен влиянием Вагнера, Дебюсси, Мусоргского. Особенно примечательны первые две оперы Пиццетти, «Федра» и «Дебора и Иаиль», и масштабная музыкальная драма «Убийство в соборе» по одноименной пьесе Томаса С. Элиота. Во время работы над «Пизанеллой» Пиццетти было 33 года.
1056 Позже сын Габриеле Д’Аннунцио — Габриелино — снял по пьесе «La Nave» («Корабль») фильм с Идой Рубинштейн в главной роли (один из двух ее фильмов, дошедших до нас).
1057 См.: Театр. М., 1993. № 5. С. 83; а также: Бачелис Т. Линии модерна и «Пизанелла» Мейерхольда // Там же. С. 62 – 77.
1058 Dorgeval R. La soirée // L’Excelsior. 1913. 12 Juin. Среди зрителей можно назвать еще Опоста Ронделя, Эдмона Ростана с женой, Жоржет Леблан, Мориса де Ротшильда, Анри де Ренье, Леона Блюма, Эмиля Анрио, Ж. Л. Форэна, Рола Дюка, Жака Эберто, Жюля Роша, Ричиото Канудо и других.
1059 Письмо Вс. Э. Мейерхольда О. М. Мейерхольд от 11 июня 1913 г. // Волков Н. Указ. соч. С. 290 – 291.
1060 Письмо Вс. Э. Мейерхольда О. М. Мейерхольд от 20 июня 1913 г. // Там же. С. 291.
1061 Chavance R. Avant premières // Le Figaro. 1913. 10 Juin.
1062 Schneider L. La mise en scène et les décors // Comoedia. 1913. 13 Juin.
1063 Flers R. de. «La Pisanelle» // Le Figaro. 1913. 13 Juin.
1064 Schneider L. Op. cit.
1065 Мейерхольд Вс. Э. Предложения художнику спектакля. [Конспект письма] / Публ. Н. Панфиловой // Театр. М., 1993. № 5. С. 83.
1066 Schneider L. Op. cit.
1067 Левинсон А. Указ. соч.
1068 Schneider L. Op. cit.
1069 Un Monsieur de l’Orchestre. La Soirée: «La Pisanelle ou La Mort Parfumée» au Châtelet // Le Figaro. 1913. 13 Jiun.
1070 Flers R. de. Op. cit.
1071 Ibid.
1072 Hermant A. Châtelet. «La Pisanelle ou La Mort Parfumée» // Le journal. 1913. 13 Jiun.
1073 H. Q. [без названия] // Le Figaro. 1913. 13 Jiun.
1074 Партитура «Пизанеллы» не была издана, за исключением вступления к третьему акту. Дополнительно см.: Castelnuovo-Tedesco M. «La Pisanella» d’Ildebrando Pizzetti // Critica Musicale. Florence, 1919. P. 157; Tomelleri L. «La Pisanelle ou La Mort Parfumee»: d’Annunzio e Pizzetti // Tomelleri L. e. a. Gabriele d’Annunzio e la musica. Milano, 1939; repr. In Rivista musicale italiana. 1939. P. 223. В 1917 г., опираясь на оригинальную партитуру, Пиццетти сочинил оркестровую сюиту, которая получила известность, поскольку вошла в репертуар Артуро Тосканини, но тем не менее была забыта за пределами Италии. В 1955 г. Пиццетги сочинил ораторию по мотивам музыки, созданной для спектакля 1913 г. Существует запись его оркестровой сюиты на CD (BBC, Scottish Symphony Orchestra), включающая следующие фрагменты: «Сир Юге», «Пристань в Фамагусте», «Во дворце беспощадной королевы», «Танец Нищеты и совершенной Любви», «Танец Любви и благоуханной Смерти».
1075 Lara I. de. Au Théâtre du Châtelet: La musique de «La Pisanelle» // Gil Bias. 1913. 14 Juin.
1076 Левинсон А. Указ. соч.
1077 Duquesnel F. Les Premières // Le Gaulois. 1913. 13 Juin. В то же время некоторые подсмеивались над ней: «В любом случае м-м Иде Рубинштейн судьбой было предназначено сыграть в пьесе Д’Аннунцио, поскольку она в полной мере воплощает ту особенность, которую предвидел Верлен: “Говорить по-итальянски с русским акцентом”» (Beaujeu L. [без названия] // Action Française. 1913. 15 Juin).
1078 615 Duquesnel F. Op. cit.
1079 Georges-Michel M. Wsévolode Meyerhold // Comoedia. 1913. 19 Mai.
1080 Un Monsieur de l’Orchestre. Op. cit.
1081 Duquesnel F. Op. cit.
1082 Выражение де Флера.
1083 Emery. «La Pisanelle ou La Mort Parfumée» au Théâtre du Châtelet: Comment ils ont joué // Comoedia. 1913. 13 Juin.
1084 Ibid.
1085 Hermant A. Op. cit.
1086 Bois J. Op. cit.
1087 Flers R. de. Op. cit.
1088 Georges-Michel M. Wsévolode Meyerhold // Comoedia. 1913. 19 Mai.
1089 Chardon L. Les premières // Action Française. 1913. 13 Juin.
1090 Hermant A. Op. cit.
1091 Souday P. Châtelet: «La Pisanelle ou La Mort Parfumée» // L’Eclair. 1913. 13 Juin.
1092 Левинсон А. Указ. соч.
1093 Souday P. Op. cit.
1094 Noziere. La semaine dramatique // 1913. 16 Juin (Dossier Re 5276).
1095 Chavance R. Avant premières // Le Figaro. 1913. 10 Juin.
1096 Duquesnel F. Op. cit.
1097 Nion F. de. «La Pisanelle ou La Mort Parfumée» // L’Echo de Paris. 1913. 13 Juin.
1098 AdererA. Châtelet: «La Pisanelle ou La Mort Parfumée» // L’Excelsior. 1913. 12 Juin.
1099 См.: Пикон-Валлен Б. Русский авангард на сценах Парижа // Пинакотека. М., 2002. № 13 — С. 178 – 185.
1100 Souday P. Op. cit.
1101 Ibid.
1102 Un Monsieur de l’Orchestre. Op. cit.
1103 Schlumberger J. Le théâtre: «La Pisanelle ou La Mort Parfumée» // Nouvelle Revue Française. 1913. 1 Juillet. P. 126 – 129.
1104 Chavance R. Avant premières // Le Figaro. 1913. 10 Juin.
1105 Левинсон А. Указ. соч.
1106 Там же.
1107 Письмо Вс. Э. Мейерхольда О. М. Мейерхольд от 20 июня 1913 г. // Волков Н. Указ. соч. С. 291.
1108 Un Monsieur de l’Orchestre. Op. cit.
1109 Ibid.
1110 Pawlowski G. de. «La Pisanelle ou La Mort Parfumée» au Théâtre du Châtelet // Comoedia. 1913. 13 Juin.
1111 Dullin Ch. Rencontres avec Meyerhold // Souvenirs et notes de travail. Paris, 1946. P. 66.
1112 Письмо Вс. Э. Мейерхольда О. М. Мейерхольд от 20 июня 1913 г. // Волков Н. Указ. соч. С. 291.
1113 Эренбург И. Старший друг // Встречи с Мейерхольдом: Сборник воспоминаний / Ред.-состав. Л. Д. Вендровская. М., 1967. С. 352.
1114 Un Monsieur de l’Orchestre. Op. cit.
1115 Статья написана по плану исследовательской работы Российского института истории искусств.
1116 См., напр.: Михаил Чехов: Литературное наследие: В 2 т. Изд. 1. М., 1986 (Изд. 2. М., 1995. Ссылки на М. Чехова даются в статье по этому изданию). Уроки Михаила Чехова в Государственном театре Литвы. 1932 год. М., 1989. Michael Chekhov’s. To the Director and Playwright. Compiled and written by Charles Leonard. Ed. 1. N. Y., 1963; Ed. 2. N. Y., 1984; Chekhov M. Lessons for the Professional Actor. From a collection of notes transcribed and arranged 616 by Deirdre Hurst du Prey. N. Y., 1985; Idem. On the Technique of Acting. N. Y., 1991; Michael Chekhov: On Theatre and the Art of Acting. The Six Hours Master Class. N. Y., 1992. (Аудиозапись собственных лекций на англ. яз., сделанная М. Чеховым в Америке в 1955 г.) В этой же связи можно упомянуть и переводные издания наследия М. Чехова, осуществленные в Германии и Эстонии, французский перевод его книги «To the Actor», различные публикации писем, статей, лекций Чехова и т. д. и т. п.
1117 Кнебель М. О. Процесс становления режиссера: Автореферат… доктора искусствоведения. М., 1966; Ее же. Вся жизнь. М., 1967; Ее же. Михаил Чехов об искусстве актера // Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 2. С. 5 – 30; Вертман Ю. Д. Театрально-педагогическая деятельность М. А. Чехова: Автореферат… кандидата искусствоведения. М., 1975.
1118 За 27 лет за границей помимо ролей прежнего московского репертуара и участия в инсценировках рассказов А. П. Чехова М. Чеховым были сыграны в театре лишь пять новых больших ролей.
1119 См.: Чехов М. А. О системе Станиславского; О работе актера над собой // Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 2. С. 31 – 47, 47 – 58. Из текста, напечатанного в двух номерах журнала, видно, что по замыслу Чехова публикация эта должна была продолжаться.
1120 См.: Протоколы репетиций «Гамлета» В. Шекспира // Там же. С. 378 – 433.
1121 Чехов М. А. Ответы на анкету по психологии актерского творчества // Там же. С. 65 – 75.
1122 Чехов М. А. Загадка творчества // Там же. С. 80 – 82.
1123 Занятия М. А. Чехова в Педагогическом Совете МХАТ 2. 1926/27 // РГАЛИ. Ф. 2046. Оп 1. Ед. хр. 275. Материалы эти до сих пор не публиковались. Из текста конспекта видно, что специальные занятия с актерами МХАТ 2 по своей системе Чехов проводил и раньше. В перспективе актеры-слушатели должны были вместе с М. Чеховым стать преподавателями его метода в собственной студии МХАТ 2, однако, проект этот так и не был осуществлен.
1124 См.: Чехов М. А. О театральных амплуа: Постановка «Ревизора» в Театре имени В. Э. Мейерхольда // Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 2. С. 84 – 85, 86 – 90.
1125 Чехов М. А. <Размышления о Дон Кихоте> [В газетном оригинале публикация эта озаглавлена «Чехов и Дон Кихот»]; Дневник о Кихоте // Там же. С. 82 – 84, 99 – 111.
1126 «Наши репетиции, в особенности вначале [в начальный период руководства М. Чехова Первой студией — МХАТ Вторым. — А. К.], носили характер экспериментов больше, чем профессиональной работы в обычном смысле слова. Каждая новая постановка давала нам случай исследовать и проработать новые приемы игры и режиссуры» (Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 1. С. 181). В меньшей степени это относится к постановке «Дела» А. В. Сухово-Кобылина, режиссером которой был Б. М. Сушкевич, находившийся в тот период в известной оппозиции поискам Чехова в МХАТ 2. См., напр.: Чехов С. М. Три двоюродных брата // Вокруг Чехова. М., 1990. С. 517 – 520, 524 – 527.
1127 Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 1. С. 336.
1128 См.: Там же. Т. 2. С. 456.
1129 Чехов М. А. О системе Станиславского; О работе актера над собой // Там же Т. 2. С. 31 – 58.
1130 См., напр.: Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1989. Т. 2. С. 467 – 468; 1990. Т. 3. С. 496 – 497; 1991. Т. 4. С. 382.
1131 См.: Станиславский репетирует «Чайку» // Станиславский репетирует: записи и стенограммы репетиций. М., 1987. С. 196 – 206; Кириллов А. А. Театр Михаила Чехова // Русское актерское искусство XX века. СПб., 1992. С. 276 – 277.
1132 О высокой степени художественного самосознания коллектива свидетельствует и то, что уже в 1919 г. при реорганизации Художественного театра и его студий и Вахтангов, и другие студийцы подтвердили свою принадлежность Первой студии, отказавшись от персональных предложений руководства войти в основной состав МХТ. Чехов, в 1919 г. выбравший метрополию, уже весной 1920 г. вернулся в Первую студию.
1133 См.: Чехов М. А. Жизнь и встречи // Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 1. С. 158 – 159; Письмо М. А. Чехова В. А. Подгорному // Там же. С. 337 – 339.
1134 «То, что я предлагаю, не есть моя собственная теория… излагаемое не есть личное измышление. <…> Это литая, гармоничная, единственно возможная театральная дорога» (Занятия М. А. Чехова в Педагогическом Совете МХАТ 2. Л. 16.).
1135 617 Здесь уместно отметить, что в данной статье взгляды Станиславского рассматриваются лишь в их «системно»-педагогическом аспекте, далеко не исчерпывающем театральное наследие выдающегося художника. Подобный ракурс, обусловленный темой настоящего исследования, ни в коей мере не касается художественной значимости сценического творчества актера и режиссера Станиславского.
1136 Станиславский К. С. Собр. соч. Т. 2. С. 402.
1137 «Боже мой, — восклицал во мне голос сомнения, — да неужели мы, артисты сцены, обречены, из-за материальности своего тела, вечно служить и передавать только грубореальное?» (Там же. 1988. Т. 1. С. 356).
1138 Рискуя, подобно М. Чехову, писавшему о «системе» в 1919 г., навлечь на себя упреки в нарушении целостности и небрежении контекстом ради отдельных ее положений, при ведем все же наиболее показательные формулировки. «Эмоциональный материал особенно ценен потому, что из него складывается “жизнь человеческого духа роли”» (Там же. Т. 2. С. 182); «только через них [через эмоции. — А. К.] можно до некоторой степени воз действовать на вдохновение» (Там же. С. 293); «дух прежде всего познается чувством», чувства же и есть подлинное творчество актера (Там же. С. 463).
1139 Также как «природная» анатомия, например «пространственна», и эта ее «пространственность» и «пластичность» относительно сценического искусства, безусловно, существеннее природной «анатомичности».
1140 Там же. Т. 2. С. 458.
1141 См.: Там же. Т. 2. С. 457 – 458; Т. 3. С. 379.
1142 «Эта игра <…> прекрасна своей смелой нелогичностью. Ритмична аритмичностью, психологична своим отрицанием обычной общепринятой психологии. <…> Она нарушает все обычные правила, и это-то именно и хорошо, это-то и сильно» (Там же. Т. 3. С. 380).
1143 Необходимо подчеркнуть, что речь идет не о всяком переживании, не о переживании вообще, а о личностном переживании исполнителя, восходящем к его «эмоциональной памяти».
1144 На это указывает и хронологическое совпадение первого педагогического опыта, и первого теоретического выступления М. Чехова, и «практический» крен интерпретации «системы», вызвавший недовольство Е. Вахтангова (См.: Вахтангов Е. Пишущим о «системе» Станиславского // Евгений Вахтангов: Сборник / Сост. Л. Д. Вендровская, Г. П. Каптерева. М., 1984. С. 300 – 303).
1145 См., напр.: Львов Н. Студия М. Чехова. Дом Печати — 20-го ноября // Экран. М., 1921. № 10. С. 8.
1146 Например, Чехов утверждает, что внешние формы чаще «изобретаются» актером и лишь потом им отыскивается внутреннее оправдание; что рождение «аффективной жизни» по рой возникает от внешних черт образа… (См: Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 2. С. 42 – 43).
1147 См.: Там же. С. 47.
1148 Вахтангов Е. Пишущим о «системе» Станиславского. С. 301.
1149 Существенно при этом свидетельство Вахтангова о том, что Чехов руководим «добрыми намерениями» и «хорошо чувствует и понимает учение К. С.» (Там же. С. 302).
1150 Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 2. С. 47.
1151 Публикуя вторую часть статьи, Чехов подчеркивал, что излагаемое им является его индивидуальной версией развивающейся и становящейся «системы» (Там же. С. 47).
1152 Станиславский К. С. Собр. соч. Т. 2. С. 114 – 115.
1153 См.: Там же. С. 127.
1154 Там же. С. 113 – 114.
1155 Чехов полагал, что чувства как «материал для фантазии» не могут быть ни новыми, ни фантастическими; «не соответствующий действительности» результат таила возможность их свободного бесконечного комбинирования (Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 2. С. 54).
1156 См.: Кириллов А. А. Театр Михаила Чехова // Русское актерское искусство XX века. С. 274 – 278.
1157 Подобным образом он впоследствии вел занятия и с коллегами по МХАТ 2, объединяя учебные и исполнительские задачи в процессе репетиций спектакля. В пору преподавания по собственному методу Чехов не признавал отдельный технический тренинг актеров, 618 всегда сопрягая его с обязательным художественным заданием. В отличие от системы Станиславского, метод Чехова исключает деление на стадии работы актера «над собой» и «над ролью».
1158 Статья Чехова «О системе Станиславского» и продолжившая ее публикация «О работе актера над собой» были напечатаны в февральском и мартовском номерах журнала.
1159 Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 2. С. 473.
1160 Напротив, как раз накануне, занятый интенсивным параллельным репетированием двух своих больших и принципиальных ролей, Эрика и Хлестакова, в Первой студии и во МХАТе, Чехов, по свидетельству его студийки М. О. Кнебель, работал с учениками много и напряженно.
1161 Работу по литературному изложению и оформлению своей театральной системы Чехов начал еще в Европе, задолго до переезда в Америку. В 1942 г. в США с помощью учеников он подготовил англоязычный вариант текста — первый, специально предназначенный для публикации, но отвергнутый издателями. На основании этого текста Чехов написал и издал в 1946 г. за свой счет на русском языке книгу «О технике актера». На английском языке книга Чехова впервые была опубликована в 1953 г. под заглавием «To the Actor». Авторский текст в этой редакции был перекомпонован, сокращен и адаптирован издателем. Вопросы, связанные с воображением (imagination), утратили здесь первоначальное определяющее значение. В последнее время американские и европейские специалисты и преподаватели метода все в большей степени отдают предпочтение начальной редакции текста. Одна из главных причин такого выбора — потребность в «реабилитации» и восстановлении понятия и раздела «воображение» в подлинном смысле и полном объеме. В результате в 1991 г. в США Малой Пауэре (Mala Powers) и Мелом Гордоном (Mel Gordon) был издан вариант 1942 г., озаглавленный «On the Technique of Acting» (английский перевод русского заглавия «О технике актера», использованный в издании 1953 г. в виде подзаголовка). Разумеется, русскоязычная редакция, полностью выполненная самим Чеховым, является наиболее авторской версией. Чехов, хорошо владевший английским, тем не менее отмечал определенные трудности при написании иноязычной вер сии и был вынужден пользоваться посторонней помощью. Сравнительный анализ различных вариантов книги на английском и русском языках представляется интересной и плодотворной исследовательской задачей на ближайшую перспективу.
1162 См., напр.: Вертман Ю. Д. Театрально-педагогическая деятельность М. А. Чехова: Автореферат… С. 11.
1163 Протоколы репетиций «Гамлета» В. Шекспира // Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 2. С. 418.
1164 В известной статье для Британской энциклопедии, написанной Станиславским в 1928 г., автор подробно описывает функции и механизм воображения (еще не отделенного в его теории от фантазирования), призванного проникать в хранилище «аффективной памяти», добывая оттуда базовые личные чувства и переживания исполнителя — важнейший материал и вожделенную цель актерского творчества. (Станиславский К. С. Искусство актера и режиссера // Собр. соч.: В 8 т. М., 1959. Т. 6. С. 236 – 241). Очевидно, что самый процесс воображения у Станиславского и Чехова принципиально различается по цели и результату, способствуя проявлению переживания в первом случае и образа — во втором.
1165 Государственная Академия Художественных наук.
1166 Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 2. С. 65. Вопрос № 5.
1167 «Творческое внеличное переживание не переходит в жизненное личное» (Там же. С. 72 – 73. Вопросы № 51, 53, 55).
1168 Там же. С. 378.
1169 Там же. С. 398.
1170 См.: Там же. С. 403.
1171 См.: Там же. С. 402.
1172 Занятия М. А. Чехова в Педагогическом Совете МХАТ 2. Л. 35 – 36. Последнее утверждение Чехова напоминает не менее радикальную в своей полемической остроте уже упоминавшуюся концепцию «актера-марионетки», характерную для периода первоначального самоопределения 619 и становления режиссуры, совпавшего с принципиальной «символизацией» сценического искусства.
1173 Там же. Л. 40. Примечательно, что Чехов, выступивший в ранней публикации в «Горне» на защиту системы Станиславского от критических суждений Ф. Ф. Комиссаржевского, позднее приходит к последовательной критике тех же положений метода своего учителя, что и его оппонент (недооценка Станиславским фантазии и ограничение актерского творчества сферой «аффективной памяти»), хотя и исходит из иных театрально-мировоззренческих посылок. См. об этом также: Комиссаржевский Ф. К. С. Станиславский и душевный натурализм в Московском Художественном театре // Комиссаржевский Ф. Творчество актера и теория Станиславского. Пг., [б. д.]
1174 См.: Занятия М. А. Чехова в Педагогическом Совете МХАТ 2. Л. 81.
1175 Там же. Л. 61.
1176 Там же. Л. 89 – 93.
1177 Там же. Л. 31.
1178 Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 2. С. 168.
1179 Заметим, что отчуждение это распространяется лишь на сферу личности актера.
1180 Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 2. С. 379.
1181 Говоря о процессе «проявления» образа в воображении актера, Чехов подчеркивает, что образ готов дать видимый ответ практически на любой вопрос: «Все, что может волновать вас… стиль автора и данной пьесы, ее композиция, основная идея… — все это вы можете превратить в вопросы [образу. — А. К.]» (Там же. С. 170).
1182 Там же. С. 381.
1183 Там же. С. 66. Вопрос № 6.
1184 См.: Там же. С. 378 – 379.
1185 «Меня удивляет этот человек…» (Письма Андрея Белого к Михаилу Чехову) / Публ. М. Г. Козловой // Встречи с прошлым. Вып. 4. М., 1982. С. 239.
1186 Волков Н. Театральные вечера. М., 1966. С. 228.
1187 Занятия М. А. Чехова в Педагогическом Совете МХАТ 2. Л. 34.
1188 См.: Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 2. С. 65. Вопрос № 1.
1189 См.: Там же. Вопрос № 2.
1190 См.: Занятия М. А. Чехова в Педагогическом Совете МХАТ 2. Л. 29.
1191 Там же. Л. 69.
1192 Там же. Л. 32.
1193 Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 2. С. 82 – 83. В позднейшей лекции «Characterization» («Характеризация»), первой из записанных им на пленку в лекционном цикле 1955 г., Чехов призывал всякую работу актера над образом неизменно начинать с отыскания различий с собственной личностью и ни в коем случае не сбиваться на качества и черты общие. Чем более персонаж похож на вас лично, тем необходимее искать и находить отличия, настаивал Чехов, иначе вы легко попадете в плен собственной личности, блокирующей творческий процесс. Дистанция между образом и личностью актера в системе Чехова призвана объективировать и раскрепостить процесс творчества. Той же цели служат в системе Чехова и многочисленные репетиционные приспособления, такие как «воображаемый центр образа», «воображаемое тело образа» и т. п., всегда находящиеся вне собственных «центров», собственного тела, личных черт и качеств исполнителя. Только после того, как качества образа достаточно прояснятся в воображении актера «во вне», исполнителю разрешается ступить в «воображаемое тело», «присвоить» «воображаемый центр» и т. д. При этом следует различать перечисленные чеховские «приспособления» и сам образ, никогда не присваиваемый исполнителем (Chekhov M. Characterization, Part I // Michael Chekhov: On Theatre and the Art of Acting. The Six Hours Master Class. Cassette 1).
1194 Занятия М. А. Чехова в Педагогическом Совете МХАТ 2. Л. 27.
1195 Там же. Л. 88. Не следует при этом путать «существо актера» с его психологией.
1196 Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 2. С. 379.
1197 Там же. С. 68. Вопрос № 22.
1198 620 Характерен пример, когда в процессе продумывания и фантазирования образа Дон Кихота Чехов, среди прочих невоплотимых физически черт, представляет его «рассыпающимся» в финале спектакля (Там же. С. 106).
1199 Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 1. С. 43 – 44.
1200 В антропософской же среде, напротив, Чехову уделяется значительное внимание. В результате антропософский аспект театрального мировоззрения актера если и интерпретируется, то весьма однобоко. Автору не раз приходилось встречаться с попытками использовать авторитет Чехова как косвенное доказательство преимуществ антропософских художественных дисциплин перед профессиональными дисциплинами «светского» театра. С другой стороны, среди театральных людей, недооценивающих идеалистическую природу самого искусства и не слишком сведущих в антропософии, порой бытует мнение, что именно и только антропософия и является магическим ключом к усвоению чеховского метода. Обе эти крайние точки зрения восходят к одному корню. По-видимому, имеет смысл прежде всего учитывать опыт самого Чехова. Глубокое и искреннее увлечение антропософией не повлекло его расставания с профессиональным театральным искусством, не превратило его в эвритмиста. Вместе с тем многие художественные идеи Р. Штейнера, переосмысленные и переработанные в собственном исполнительском, теоретическом и педагогическом опыте Чехова, были использованы и самостоятельно развиты им в переводе на язык театра и в применении к нуждам профессионального сценического искусства.
1201 Надо сказать, что и в своих книгах, и в собственных практических занятиях Чехов вовсе не стремился к обращению учеников в антропософов, не видя в этом никакой необходимости.
1202 Занятия М. А. Чехова в Педагогическом Совете МХАТ 2. Л. 63 – 68, 76 – 78.
1203 Там же. Л. 92.
1204 Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 2. С. 66. Вопрос № 9. Интересно, что позднее мотив «идеи» стал сквозным и в статьях об актере, принадлежащих П. А. Маркову, записывавшему со слов Чехова его ответы на вопросы анкеты ГАХН.
1205 Там же. С. 73. Вопрос № 52. Понятно, что эта «самозабвенность» не имеет ничего общего с перевоплощением.
1206 Там же. С. 74. Вопрос № 61. Показательно замечание Чехова по поводу Розенкранца и Гильденстерна на репетициях «Гамлета»: «Они совершенно без лица, потрясающе одинаковы <…> страшно, когда отсутствует “я”, индивидуальность» (Там же. С. 386).
1207 Там же. С. 74. Вопрос № 63.
1208 Там. же. С. 397.
1209 Занятия М. А. Чехова в Педагогическом Совете МХАТ 2. Л. 27 – 28.
1210 Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 2. С. 71. Вопрос № 36. Чувство, ощущение легкости (feeling of ease) и в дальнейшем будет непременным требованием Чехова к актеру, работающему по его методу.
1211 Занятия М. А. Чехова в Педагогическом Совете МХАТ 2. Л. 29.
1212 См.: Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 2. С. 67. Вопрос № 17.
1213 Занятия М. А. Чехова в Педагогическом Совете МХАТ 2. Л. 33. От исполнителей «Гамлета» Чехов упорно добивался, чтобы его партнеры «созерцали» образ вне зависимости от собственных личных свойств. См., напр.: Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 2. С. 418.
1214 Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 2. С. 84.
1215 Там же.
1216 См. сноску 80 [В электронной версии — 1195]. Болезненный вопрос о перераспределении авторских прав между актером и режиссером решается Чеховым замечательно просто. Переадресуйте каждое задание режиссера образу, советует он, и образ, не изменяя себе, подскажет (покажет), как выполнить это задание (Михаил Чехов: Литературное наследие Т. 2. С. 397 – 398). «Если актер не понимает режиссера, значит у актера в душе протест и головное восприятие образа, а не видение и слышание образа» (Занятия М. А. Чехова в Педагогическом Совете МХАТ 2. Л. 29).
1217 Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 2. С. 99.
1219 Занятия М. А. Чехова в Педагогическом Совете МХАТ 2. Л. 49, 57.
1220 Там же. Л. 47.
1221 Там же. Л. 37.
1222 Следует уточнить, что термин «жест» толкуется Чеховым как всякое движение любой интенсивности и амплитуды, включая движение всего тела. Раздел чеховской системы о «жестикуляционной» пластической природе речи построен на основе идей Р. Штейнера. См. об этом: Лекции Рудольфа Штейнера о драматическом искусстве в изложении Михаила Чехова: Письма актера к В. А. Громову / Вступ. текст В. В. Иванова; Публ. С. В. Казачкова и Т. Л. Стрижак; Коммент. С. В. Казачкова, Т. Л. Стрижак и В. Г. Астаховой // Мнемозина: Исторический альманах. Вып. 2 / Сост. В. В. Иванов. М., 2000, С. 85 – 142.
1223 Михаил Чехов: Литературное наследие. Т. 2. С. 394.
1224 Там же. С. 422.
1225 Занятия М. А. Чехова в Педагогическом Совете МХАТ 2. Л. 37. Многое роднит здесь метод М. А. Чехова с методом В. Э. Мейерхольда и, в частности, с принципом «предыгры», опробованным Мастером на спектакле «Учитель Бубус» по одноименной пьесе А. Файко в 1925 г.
1226 Михаил Чехов: Литературное наследие Т. 1. С. 103.
1227 Белый А. Ветер с Кавказа. М., 1928. С. 245. Отзыв Белого спровоцировал знаменательное признание Чехова: «Я прочел… не дочел… и (сознаюсь) — заревел, как мальчишка. <…> … В первый раз я почувствовал и пережил, что живое существо — Вы, Борис Николаевич, Вы были у меня внутри и изнутри мне меня же рассказали» (Письмо М. А. Чехова Андрею Белому // Михаил Чехов: Литературное наследие Т. 1. С. 351).
1228 Занятия М. А. Чехова в Педагогическом Совете МХАТ 2. Л. 23 – 27. «Ритм — особое видение художника в целом. <…> Ритм — целое, оживляющее части. <…> Нашел роль — значит, нашел чувство ритма, чувство целого» (Там же. Л. 23). Приведенные суждения Чехова обнаруживают близость, а порой и буквальные совпадения с идеями других современных ему художников, таких, например, как А. Белый, В. Мейерхольд и другие.
1229 Занятия М. А. Чехова в Педагогическом Совете МХАТ 2. Л. 23 – 24.
1230 Бирман С. Судьбой дарованные встречи. М., 1971. С. 103.
1231 Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1976. Т. 3. С. 392.
1232 «Меня удивляет этот человек…». С. 227.
1233 См.: Занятия М. А. Чехова в Педагогическом Совете МХАТ 2. Л. 20.
1234 Там же.
1235 Там же. Л. 37.
1236 Михаил Чехов: Литературное наследие Т. 2. С. 422.
1237 Там же. С. 380, 399.
1238 Там же. С. 402.
1239 Занятия М. А. Чехова в Педагогическом Совете МХАТ 2. Л. 60 – 61.
1240 Там же. Л. 24.
1241 Там же. Л. 25.
1242 Там же. Л. 96.
1243 Там же. Л. 19.
622 УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН52*
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я A – Z
Абаза А. А. 536
Аверченко А. Т. 558
Авраам Йошуа Хешель 58
Агранов Я. С. 540
Азадовский К. М. 588
Азов В. (В. А. Ашкинази) 459
Айдаров (Вишневский) С. В. 523
Айхенвальд Ю. И. 322
Акива 58
Акимов Н. П. 349, 363, 393 – 397, 399 – 415, 420 – 423, 572, 579, 598, 602 – 605, 607
Алданов (Ландау) М. А. 566
Алекин (Пуль) Б. А. 251, 252, 288, 555, 556
Александр I Карагеоргиевич, король Югославии 255, 271, 557, 563
Александр II, российский император 190, 577, 581
Александр Иванович см. Сумбатов-Южин А. И.
Алперс Б. В. 354, 361, 396, 596
Аль А., де ла 561
Альберт I, король Бельгии 265, 561
Альшвонг 241
Амфитеатров А. В. 587
Андреев Л. Н. 8, 12, 13, 88, 198, 301, 434, 439, 448 – 450, 452, 454, 457 – 459, 470, 562, 580, 583, 594
Андреева (Юрковская, по мужу Желябужская) М. Ф. 161, 280, 307, 527, 581
Анисфельд Б. И. 434
Аничков Е. В. 247, 256, 553, 557
Анна, Анна Александровна см. Кашина-Евреинова А. А.
Анненков Ю. П. 241, 330, 432, 546, 547, 556, 566
Анрио Э. 614
Ан-ский (Раппопорт) С. А. 9 – 17, 517, 518
Антокольский П. Г. 393
Антонов С. Н. 572
Аполлинер Г. 474, 476, 478, 480, 481, 494
Аргутинская-Долгорукова 354
Арзамасцева И. Н. 65
Арутюнов (Арутчьян) М. А. 425, 607
Архангельский А. А. 242, 546, 547, 591
Арцыбушева М. А. 547
Асафьев Б. В. (псевд. Игорь Глебов) 598
Асеев Н. Н. 568
Асланов Н. П. 242, 310, 548, 584
Астаров А. С. 572
Астрюк Г. 482
Атилла 279
Ахойр (Ахер) 58
Бабенчиков М. В. 556
Бабич-Иованович М. 563
Багратион-Мухранели И. Л. 584
Багров М. Ф. 547
Базиль, де, полковник (В. Воскресенский) 583, 584
Байдуков Г. Ф. 574
Байрон Дж.-Г. 361
Бакрылов В. В. 355
Бакст (Розенберг) Л. С. 438, 439, 455, 471, 472, 475, 478, 479, 481 – 484, 494, 592, 596, 609, 612, 613
Баланчин (Баланчивадзе) Дж. 560, 599
Балиев (Балян) Н. Ф. 7, 214, 236, 239, 243, 542 – 551
Балиев Ф. Б. 216
Балиева Е. 214
Бальмонт К. Д. 67, 311, 445, 447
Баранович К. 554
Баррес М. 482
Барро Ж.-Л. 567
Бартолин Б. 566
Басаргина Л. Д. см. Блок Л. Д.
Батай А. 573
Бедный Демьян (Е. А. Придворов) 212, 541
Бежар М. 9
Бекеффи 566
Белавина Н. 573
Белинский В. Г. 270
Белоцветов Н. А. 576
Белый Андрей (Б. Н. Бугаев) 366, 369, 371, 383, 390, 392, 496, 498, 509, 514, 515, 585, 599, 602, 621
Беляев Ю. Д. 64, 290, 562, 573
Беляков А. В. 574
Бен-Азай (Бен-Аззай) С. 59
Бен-Ами Я. 244
Бен-Зома (Бен-Зоймо) С. 59
Бен Соломон Ашкинази Лурия Исаак 62
Бен Шолем Шахна Фридман Исраэль 61
Бен Элиэзер Баал Шем Това Исраэль (Бешт) 59, 63
Бенуа А. Н. 319, 357, 362, 364, 379, 434, 462, 463, 469, 470, 613
Берберова Н. Н. 331
Бердичевер Лейви-Ицхок 60
Бешт см. Бен Элиэзер
Бизе Ж. 600
Билль-Белоцерковский В. Н. 281, 569
Биссон А. 576
Блок А. А. 64, 65, 67, 280, 311, 352, 353, 363, 369, 376, 381, 389, 434, 439, 568, 581, 596
Блок (урожд. Менделеева) Л. Д. 353, 366
Блох Н. 554
Блюм Л. 614
Блюменталь А. Э. 590
Блюменталь Э. К. 590
Блюменталь-Тамарин Вс. А. 333, 340, 590, 591, 592
Блюменталь-Тамарина (урожд. Климова) М. М. 294, 574, 590
Боборыкин П. Д. 545
Богуславская Кс. Л. 592
Бокаж Б.-К., дю 433
Болоховский С. 593
Большакова Е. И. 520
Бомарше (П.-О. Карон) 524, 529, 594
Бондарин С. А. 518
Бонди Ю. М. 354, 595, 596, 601
Боно А.-С. 612
Борис Владимирович, великий князь 304, 577
Борисов (Гурович) Б. С. 243, 551
Бородай М. М. 571
Боханов А. Н. 304
Бравич (Баранович) К. В. 238, 450, 545
Бракко Р. 579
Брандес Г. 604
Брехт Б. 495
Брешко-Брешковская Е. К. 592
Брешко-Брешковский Н. Н. 342, 592, 593
Броджи А. 553
Броневский (Боянус) С. К. 183, 532
Бруни Т. Г. 599
Буа Ж. 479, 481, 483, 490, 491, 613
Бубнов А. С. 577
Буденный С. М. 392
Буланже М. 482
Булгаков М. А. 209, 266 – 268, 307, 350, 561, 562, 583
Бунин И. А. 300, 301, 576, 557
Бунчук (в замужестве Бур-Бунчук) Е. О. 301, 572, 576, 583
Бур А. 475
Бураковская (урожд. Сабурова) Е. А. 242, 548
Бурге Ш. 613
Бурджалов (Бурджалян) Г. С. 12
Бурже П. 581
Бутковская Н. И. 244, 245, 332, 445, 460, 470, 609
Бухарин Н. И. 210, 211, 540, 542
Вавич (Плешков) М. И. 242, 550
Вагнер Р. 391, 476, 479, 488, 602, 613, 614
Вайнинг Э. 604
Валентей-Мейерхольд М. А. 349
Валери П. 561
Валернстайн Л. 9
Вальтер В. Т. 534
Ван Гог В. 354
Василевский И. М. (псевд. Не-Буква) 323, 586
Вахтангов Е. Б. 9, 16, 313, 352, 403, 410, 495, 496, 498, 499, 503, 595, 604 – 606, 616, 617
Вебер К.-М. 560
Ведекинд Ф. 434
Ведринская М. А. 199, 268, 275, 282, 283, 285, 288, 289, 291, 293, 298, 303, 309, 536, 561, 565, 566, 568, 572, 582, 583
624 Вейконе М. А. 438, 440, 447
Вейллер Б. 570
Вейсблат Н. Л. 227
Венгеров С. А. 11
Венгерова И. А. 311
Вендровская Л. Д. 396, 398, 404 – 406, 408, 409, 413, 418, 603
Верди Дж. 266
Верещагин А. А. 554
Вернейль Л. 584
Верстовский А. Н. 573
Вертман Ю. Д. 495
Верхарн Э. 64, 351, 472, 594, 595
Веселовский А. Н. 545
Вивьен Л. С. 287, 303, 306, 307, 309, 570, 580, 597
Вильгельм II, германский император 230, 544
Вильдрак Ш. 588
Вилье А. 9
Вильи К. 482
Вишневский Вс. В 605
Владимир Аркадьевич см. Теляковский В. А.
Владимиров В. К. 571
Власов А. А. 564
Власова Т. И. 283
Вогак К. А. 595
Войинович Б. 258, 274, 275, 558
Войнич Э.-Л. 281
Волков (Зимнюков) Л. А. 597
Волков Ф. Г. 528
Волконский С. М., князь 151, 158, 168, 169, 252, 318, 525, 528, 547, 556
Волохова (Анцыферова) Н. Н. 445, 448
Волошин М. А. 599
Вольтер (М.-Ф. Аруэ) 459
Вольф П. 482
Вольф-Израэль Е. М. 287, 303, 306, 308, 570, 579, 580
Воробьев Н. С. 456
Воротников А. П. 480
Востряковы 544
Вреден Н. Р. 589
Всева см. Хомицкий Вс. В.
Всеволод см. Мейерхольд Вс. Э.
Вырубов А. А. 593
Высоцкая Н. Г. 12
Выспяньский С. 64
Г. М. 558
Гагарина (урожд. Оболенская) М. Д., княгиня 530
Гагарина С. А., княжна 177, 530
Гад С. 604
Газенклевер В. 305, 578, 581, 582
Гайдебура В. М. 583
Гайдебуров П. П. 606
Галилей Г. 415
Галлар П. 482
Ганди М.-К. 321
Гандурин К. Д. 518
Ганс А. 471
Ганфман М. Ип. 575
Гарин Э. П. 541
Гатова Л. 588
Гафдзинский И. Ф. 465
Ге Г. Г. 303, 308, 571, 577, 582
Геббель (Хеббель) К.-Ф. 8, 454
Геббельс Й. 593
Гейер Б. Ф. 562
Гейерманс Г. 518
Гейне 465
Гервинус Г. 604
Гервье О. 539
Геринг Г. 593
Германова (Красовская) М. Н. 8, 242, 306, 548, 565, 579
Герцог В. 582
Герчег Фр. 570
Гинцбург В. Г., барон 10, 11, 16, 517
Гиппиус З. Н. 275
Гительман Л. И. 302
Гитлер (Шикльгрубер) А. 593
Гладков А. К. 478
Глазунов А. К. 612
Глебова Т. Н. 599
Глебова-Судейкина (урожд. Глебова) О. А. 464, 465
Гликерия Николаевна см. Федотова Г. Н.
Глюк К.-В. 610
Гнедич П. П. 552
Гогенцоллерны, династия 539
Гоголева Е. Н. 571
Гоголь Н. В. 268, 269, 524, 529, 550, 562 – 564, 581
Гойя Ф.-Х., де 374, 375, 451, 452
Голенищев-Кутузов И. Н. 254 – 256, 269, 332, 556, 558, 563
Головин А. Я. 178, 179, 198, 348, 351, 356, 384, 520, 530, 535, 596, 598, 601
625 Головин С. А. 155, 522, 524
Голубовский Е. 518
Гомер 392
Гончаров И. А. 572
Гончарова Н. С. 367
Гордон М. 618
Горева 242
Горин-Горяинов (Горяинов) Б. А. 287, 305, 309, 310, 352, 570, 579, 594
Городецкий Ю. В. 242, 547, 548
Горький Максим (А. М. Пешков) 154, 159, 161, 187, 209 – 211, 275, 281, 301, 420, 523, 540, 542, 564, 566, 571, 576, 581, 587, 594
Горюнов (Бендель) А. И. 397, 420, 425, 603
Гофман Э.-Т.-А. 353, 358, 361, 362, 368, 382, 387, 426
Гофмансталь Г., фон 434
Гоцци К. 205, 281, 385, 387, 388, 595
Гранж Е. 281
Грановская Е. М. 304, 577, 579
Грассо Д., ди 571
Греков В. 67
Гремиславский И. Я. 347
Греч (Кокинаки) В. М. 275, 277, 278, 332, 337, 338, 344, 555, 560, 561, 563, 565, 566, 567, 591 – 593
Грибоедов А. С. 235, 305, 529, 545, 578, 581
Григорьев Б. Д. 355, 358, 375, 385, 386, 598
Григорьев-Истомин Н. А. 243, 551
Гримм, братья 426
Гринберг Г. А. 573
Грипич А. Л. 354, 361, 596, 598
Гришин А. И. 307, 308, 562, 572, 579, 581, 583
Грищенко А. В. 380
Громницкая Х. (псевд. Ядвига Дыгатувна) 89, 519
Гросс Г. 459
Гротовский Е. 495
Грундт-Дюмэ К. Ф. 259, 260, 272, 558
Грушвицкая Е. И. 7
Гукасов А. О. 562
Гурли Логиновна см. Теляковская Г. Л.
Гусев П. А. 599
Гутман Д. Г. 568
Гюго В. 582
Д’Аннунцио Г. 7, 471 – 478, 480 – 484, 490 – 492, 494, 613, 614
Д’Аннунцио Г., сын 614
Давид (Довидл), раби 62
Давид, царь Израильско-Иудейского государства 61
Давыдов (Левенсон) А. М. 242, 549
Давыдов В. Н. (И. Н. Горелов) 190, 198, 279, 309, 313, 533, 559, 580, 582
Далматов (Лучич) В. П. 279
Данилин С. А. 574
Данилова А. Д. 599
Данте Алигьери 390
Данько Е. Я. 469
Да Парма см. Пиццетти И.
Дарский (Псаров) М. Е. 178, 199, 530
Де Бур Ю. Л. 572
Дебюсси К. 391, 475, 476, 488, 489, 560, 602, 614
Деваль Ж. 557
Деникин А. И. 590
Денисов В. И. 434
Денич М. 566
Деспотули В. М. 590
Джонс С. 543
Джоунс Р.-Э. 587
Джунковский В. Ф. 543
Дзержинский И. И. 600
Дике О. 459
Дмитриев В. В. 346 – 382, 594, 595, 597 – 602
Дмитриев Д. А. 560
Дмитриева М. А. 597
Добровольская 292
Добужинский М. В. 177, 281, 312, 351, 355 – 357, 366, 367, 370, 377 – 379, 381, 429, 431, 432, 434, 530, 596, 597, 611
Д’Оссонвиль 482
Достоевский Ф. М. 363, 381, 390, 564, 565, 594, 613
Дранишников В. А. 383, 598, 599
Дризен (Остен-Дризен) Н. В., барон 14, 261, 265, 285, 311 – 313, 324, 463, 559, 560, 587, 608
Дуван-Торцов И. Е. 260, 262, 269, 559, 562, 572, 583, 592
Дунаев см. Мирович Е. А.
Дунаевский И. О. 64
Духовской М. В. 298, 301, 302, 575, 576
Дымов (Перельман) О. И. 455
Дюк Р. 614
Дюма А., отец 361, 571, 596 (?)
Дягилев С. П. 475, 482, 577, 581
Евреинов Н. Н. 7, 8, 87, 89, 201, 239, 243 – 248, 250 – 259, 261, 263, 265 – 267, 269 – 274, 276 — 626 278, 311 – 314, 318 – 324, 326 – 333, 335, 336, 338, 340 – 345, 426, 433 – 439, 444, 445, 448, 450, 454, 455, 458, 460, 463, 465, 468, 470, 471, 548, 552 – 564, 566, 585 – 590, 592, 593
Евреиновы 589
Егоров В. Е. 545
Егоров Н. В. 464
Егорова Л. Н. 566
Егорова М. 593
Ентин Б. А. 517
Ермолаев А. Н. 599
Ермолова М. Н. 156, 159, 182, 183, 186, 227, 233, 240, 524, 525, 536, 544
Ермольев И. Н. 554
Есенин С. А. 301, 309, 571, 582
Жедринский В. И. 555, 556, 563
Железнова Н. М. 302 – 306, 308 – 310, 577 – 579, 581, 582
Жемчужниковы, братья см. Козьма Прутков
Жемье Ф. 550
Жеребков Ю. С. 333
Жид А. 613
Жилинский А. М. 549
Жинистри П. 482
Жихарева Е. Т. 153, 183, 282, 294, 522, 572, 574
Жорж-Мишель М. 476, 478, 479, 481
Жубе Р. 471
Жуков Е. А. 274, 275, 332, 561, 565, 566
Жуков Н. К. 545
Жуковский Б. Е. 579
Жюссом Л. 482
Заболотняя М. В. 8
Завалишин Вяч. 588
Загорский М. Б. 395, 404, 413, 422, 424, 605
Загребельский Ю. П. 335, 338, 591, 592
Зак Л. 553
Залесская (в замуж. Эйхенвальд) Е. И. 242, 306, 308, 309, 549
Зальцман А. А. 602
Замятин Е. И. 287, 290, 571, 572, 573
Зарнекау Н. В. 581
Захава Б. Е. 393, 403, 594, 601, 605
Захаров Р. В. 598
Званцева Е. Н. 355, 366, 367, 369, 370, 377 – 381, 594, 596, 599
Звенигородская Н. Э. 494
Зиновьев (Радомысльский) Г. Е. 209, 211, 539
Золя Э. 308
Зонов А. П. 426, 435, 450, 468, 470, 471
Зощенко М. М. 563
Зулоага И. см. Сулоага И.
Зуся Аннопольский (Аннипольский) 59
Иван IV Грозный, русский царь 592
Иванов А. А. 364, 365, 369, 380
Иванов В. В. 518
Иванов Вяч. И. 383
Иванов Г. В. 469
Иванова М. К. 517
Извольская (урожд. Толь) М. К. 254, 255, 557
Извольский А. П. 555
Измайлов А. А. 439, 445, 452, 455, 456, 610
Ильнарская (урожд. Ильина, по мужу Мунштейн) В. Н. 242, 548
Ильф Илья (И. А. Файнзильберг) 260, 559
Ингельбрехт Д.-Э. 489
Инкижинов В. И. 354, 355, 367, 385, 595, 601
Ионин С. Л. 564
Иосиф Флавий 63
Ирецкий М. Я. 281
Каверин Ф. Н. 531
Кадельбург Г. 559
Казанский Б. В. 245, 318, 319, 322
Кайзерлинг Г. 321
Каллаш В. В. 545
Калмаков Н. К. 8, 426 – 434, 437 – 439, 441, 448, 451 – 470, 607 – 609, 611
Кальдерон де ла Барка П. 384, 429, 468, 469, 471, 476, 596, 598, 601
Каменев (Розенфельд) Л. Б. 209, 211, 539, 540
Каменок А. 554
Каминкер Ш. 63
Канудо Р. 614
Капю А. 482
Каро И. 61
Карякина Е. П. 579
Кассиан Преподобный 237
Кастальнуово-Тедески М. 614
Катаев В. П. 65, 209, 259, 518, 559, 563, 564
Каталина Луций Сергий 419, 607
Кахан М. 612
Качалов (Шверубович) В. И. 12, 181, 287, 348, 422, 457, 458, 571
Кашина-Евреинова (урожд. Кашина-Кашкина) А. А. 247, 261, 265, 274, 275, 277, 278, 313, 314, 326 – 329, 335 – 337, 339 – 345, 437, 438, 554, 555, 559, 560, 588
Кашук М. Э. 549
Кедров М. Н. 597
Керенский А. Ф. 301
Керженцев (Лебедев) П. М. 209, 213, 518, 540, 600
Кириллов А. А. 8
Киров (Костриков) С. М. 602
Кирсанова Н. В. 557
Киршон В. М. 581
Киселев В. Г. 579
Клаубанд 579
Клейбер Э. 600
Кленовский Н. С. 549
Климов Е. Е. 574
Клодель П. 613
Ключарев Н. 593
Книппер-Чехова О. Л. 593
Князев Б. А. 560
Коваленская Н. Г. 303, 353, 382, 384, 385, 582, 595, 601
Кокто Ж. 592
Колумб Х. 215
Колупаев Н. А. 545
Коля Петер см. Петров Н. В.
Комаров Н. П. (Ф. Е. Собинов) 209, 540
Комиссаржевская В. Ф. 183, 267, 280, 317, 325, 353, 434, 437 – 439, 454, 483, 561, 587, 608
Комиссаржевский Ф. Ф. 241, 426, 434, 439, 450, 452, 454, 470, 532, 546, 556, 606, 619
Константинович 472
Конхита 560
Кончаловский П. П. 367, 374, 600
Коолюс Р. 482
Копейкин Н. 560
Копо Ж. 587
Корвин-Круковский Ю. В. 306, 577, 579
Коровин К. А. 160, 198, 526, 527, 535, 553, 596
Корчагина-Александровская Е. П. 305, 579, 582, 602
Корш Ф. А. 561
Коршиков Г. Н. 599
Костина Е. М. 597
Котляревский Н. А. 151
Котрелев Н. Вс. 539
Кохран Ч.-Б. 548
Кочергин И. А. 559
Красов (Некрасов) Н. Д. 579
Красовская И. В. 188, 189, 533
Крачковский С. П. 428
Криптон К. Г. 588
Кроммелинк Ф. 531
Круассе Ф., де 476
Крыжановская М. А. 262, 265, 266, 268, 270, 290, 560
Крыжицкий К. А. 587
Крыленко Н. В. 543
Крылов В. А. 562
Крылов И. А. 162
Крылов С. 543
Крымов Н. П. 606
Крэг Г.-Э. 236, 322, 410, 411, 459, 464, 476, 480, 493, 544, 545, 606
Ксюнин А. И. 255, 263, 265, 269, 270, 277, 554, 557, 565
Кугель А. Р. 450, 458, 468, 545
Кугульский (Кегулихес) С. Л. 536
Кузмин М. А. 356, 368, 379, 481, 582, 597
Кузьмин-Караваев К. К. см. Тверской К. К.
Кузнецов Е. М. 191 – 193, 195, 528, 534
Кузнецова-Массне (Кузнецова-Бенуа) М. Н. 247, 285, 310, 553, 570, 583
Кулунджич Й. 559
Кулябко-Корецкая А. И. 354, 355, 595
Кумминг Е. 590
Купер Э. А. 553
Куприн А. И. 198, 295, 301, 557, 574, 576
Куртилет Л. 434
Кустодиев Б. М. 352, 356, 367, 368, 455
Кшесинская М. Ф. 190, 313, 534
Л’Эрбье М. 592
Лабинский А. И. 250, 264, 553, 555, 560
Лавренев Б. А. 607
Лаврентьев А. Н. 306, 307, 579, 581, 607
Лавров П. Л. 10
Лавровский Л. М. 599
Ламбалль Л. 560
Ламздорф В. Н. 543
Лангаард Г. 436
Лаплас П.-А., де 607
Лаппа Т. Н. 209
Лаппо-Данилевский А. А. 380
Ларин К. П. 578
Ларионов М. Ф. 367
Лебедев Вл. 588
Левин М. З. 598
Левинсон А. Я. 472, 473, 485, 489, 490, 492, 613
Левитан И. И. 378
Левшина (Чулкова) А. А. 156, 524
Лекок Ш. 550
Ленин (Ульянов) В. И. 244, 266, 384, 538 – 540
Ленский (Вервициотти) А. П. 199, 536, 537
Ленский Д. Т. 573
Ленский П. Д. 578
Лентулов А. В. 556
Леонардо да Винчи 428
Лермонтов М. Ю. 569
Лешковская Е. К. 156, 186, 524
Либаков М. В. 605
Липкин (Липкен) Г. И. 554
Липпи Ф. 446
Литовский О. С. (псевд. Уриэль) 416, 607
Лифарь С. М. 264, 313, 560, 589
Ллойдина Е. М. 160, 162, 164, 166, 167
Лоло см. Мунштейн Л. Г.
Лопе де Вега (Лопе Феликс де Вега Карпьо) 281, 460, 462, 529
Лопухов Ф. В. 599
Лубенская 89
Лужский (Калужский) В. В. 457, 545, 574
Луначарский А. В. 67, 154, 155, 157, 162, 166, 167, 169, 180, 181, 185, 187 – 189, 196, 213, 244, 284, 351, 356, 518, 522, 523, 532, 541, 577
Любавина (Подгорная) Н. И. 446
Любимов-Ланской (Гелибтер) Е. О. 590
Любовь Давыдовна см. Вендровская Л. Д.
Любош (Любошиц) А. С. 310, 353, 583, 595
Лятошинский Б. Н. 598
М. Т., Миша Т. см. Тухачевский М. Н.
Майкапар 576
Майкель М. 286 – 288, 296, 298
Макарова Г. В. 201
Макс Э., де 471, 477, 481 – 483, 490, 492
Максимова В. А. 8
Малеин А. И. 586
Малли Л. 283
Малиновская Е. К. 154, 522, 523
Мальборо, герцог 543
Мальковати Ф. 539
Мальрезон 482
Мальский (Нечаев) Н. П. 317, 325, 585
Малютин С. В. 545
Малютин Я. О. 579
Мамедова Ш. 549
Мамонтов Я. А. 575
Мандельштам О. Э. 65, 209, 355
Марджанов (Марджанишвили) К. А, 450, 568, 576
Марина см Пастухова М. В.
Марион Л. 471
Мария Андреевна см. Ведринская М. А.
Мария Николаевна см. Сумбатова М. Н.
Мария Федоровна см. Андреева М. Ф.
Марке А. 362
Маркс К. 241
Мартине М. 531
Маршан Л. 555
Массалитинов Н. О. 548
Машков И. И. 367
Маяковский В. В. 64, 89, 209, 323, 351, 355, 356, 410, 450, 518, 568, 571, 587, 610
Мгебров А. А. 427, 439, 440, 444, 448, 451, 462, 595
Мейер-Ферстер В. 579
Мейерхольд Вс. Э. 178, 179, 182, 183, 187 – 189, 208 – 213, 242, 252, 267, 280, 282, 284, 288, 307, 309, 313, 322, 323, 346, 350 – 356, 358 – 362, 364, 366 – 368, 375, 376, 381 – 383, 385, 386, 389, 410, 434, 452, 458, 459, 464, 471 – 473, 476 – 484, 488 – 494, 499 – 501, 530 – 533, 540 – 542, 545, 550, 556, 561, 569, 570, 578, 580 – 582, 586, 590, 594 – 598, 600, 601, 605, 606, 609, 613, 621
Менжу А. 550
Мережковский Д. С. 198, 260, 281, 559, 570
Мерт Д., де ля 482
Месснер Е. 580
Метерлинк М. 64, 434, 476, 481, 561
Миклашевский К. М. 312, 323, 360, 385, 587
Милачич Д. 273 – 275, 277, 564
Мило Д. 613
Милочка см. Пожарская М. Н.
Милошевич В. 263
Мильруд А. М. 575
Милюков П. Н. 300, 301, 319, 324, 575
Минаев (Куннос) А. Ф. 306, 308, 579
Минский Н. Н. 585
Мистангетт (Ж. Буржуа) 315, 585
Митурич М. П. 67
Михаил Михайлович см. Морозов М. М.
Михайлов М. М. 599
Михайлова А. А. 348
Михоэлс (Вовси) С. М. 281
Мичурина-Самойлова В. А. 294, 574
Миша см. Добровольский М.
Младенович Р. 246, 274, 275, 277, 552
Моисси А. 245
Мологин (Мокульский) Н. К. 210, 541
Мольер (Поклен) Ж.-Б. 154, 277, 281, 307, 476, 523, 532, 567, 571, 582, 605
Монахов Н. Ф. 285, 307, 569, 581
Монтескью Ш.-Л. 612
Морозов М. М. 395, 396, 398, 404 – 406, 413 – 416, 423, 603, 607
Морозовы, семья 603
Москаленко-Судиенко С. Т. 398, 604
Мосолова Е. А. 558
Музиль Е. Н. 571
Мунштейн Л. Г. (псевд. Lolo) 242, 548
Муравьев М. П. 582
Муратов М. Я. 269, 310, 562, 572, 579, 581, 583
Мюнт С. 471
Мятежный С. 573
Набоков В. В. (псевд. В. Сирин) 274 – 277, 332, 565, 566
Навуходоносор II, царь Вавилонии 63
Нальди-Олькеницкая (Naldi) Р. Г. 247, 553
Нансен Ф. 570
Нарбут В. И. 65
Науман С. 614
Негри П. 550
Недошивин Г. А. 348
Незлобин (Алябьев) К. Н. 212, 541, 572
Нелидов В. А., композитор 247, 340, 341, 553
Нелиус 356
Немирович-Данченко Вл. И. 12 – 15, 150, 154, 157, 183, 193 – 196, 199, 221, 229 – 233, 235, 307, 347, 351, 372 – 376, 449, 457, 458, 525, 534 – 537, 545, 548, 562, 564, 572, 574, 593, 598, 600, 601, 607
Немирович-Данченко Вас. И. 557
Немчинова В. Н. 553
Нестеров М. В. 378
Нивинский И. И. 352, 353, 595, 606
Нижинская Б. Ф. 613
Николаева (Красовская, по мужу Пельтенбург) А. Н. 306, 579
Николай II, российский император 438, 567
Николай Николаевич см. Евреинов Н. Н.
Николай Павлович см. Акимов Н. П.
Ни коля П. 566
Никулин (Ольконицкий) Л. В. 243, 550, 551
Никулина Т. (псевд. Тамара Шайна) 550
Нина Михайловна, Ниночка см. Железнова Н. М.
Новосильцев И. 593
Нотари У. 281
Нотман (Энритон) Г. Ф. 354, 361, 596
Нувель В. Ф. 455
О. С. см. Бокшанская О. С.
О’Нил Ю. 550
Оболенский Н. Д., князь 530
Озаровский Ю. Э. 475, 558, 606
Олеша Ю. К. 64, 65, 67, 68, 89, 281, 518
Онеггер А. 613
Орленев (Орлов) П. Н. 551
Осинский Н. (В. В. Оболенский) 212, 542
Оскомон 560
Осмеркин А. А. 606
Островский А. Н. 352, 414, 531, 550, 560, 562, 573, 574, 579, 581, 590, 595, 597, 601, 606
Острожский К. (К. С. Гогель) 570
Остроумова-Лебедева А. П. 355, 439, 440, 447
Остужев (Пожаров) А. А. 156, 524
Отан-Матье М.-К. 245
Офросимов Ю. В. 559
Оффенбах Ж. 547
Павел Александрович, великий князь 581
Павлов М. 581
Павлов П. А. 252, 253, 269, 275, 277, 278, 307 – 310, 332, 337, 338, 344, 555, 556, 560, 561, 563, 565, 566, 567, 581, 591 – 593
Павлова В. 593
Павлова (Зейтман) Т. П. 243, 306, 551, 553, 554, 570
Павлова (Пистолькорс) М. Э. 307, 581
Павловски Г., де 493
Папазян В. К. 287, 304, 305, 571, 577, 578
Паскар Г. 588
Пастернак Б. Л. 568
Пауэре М. 618
Певцов И. Н. 602
Перцова З. А. 545
Петер см. Петров Н. В.
Петипа М. 560
Петлюра С. В. 575
Петров Евгений (Е. П. Катаев) 260, 559
Петров Н. В. 285, 287, 302 – 309, 322, 394, 569, 572, 576 – 580, 582, 602
630 Петров-Водкин К. С. 346, 348, 350 – 352, 355, 357, 363 – 371, 376 – 380, 389, 594, 596, 601
Петровский А. П. 558
Петровский М. С. 575
Петр I, российский император 428
Петр III, российский император 279
Пешкова Е. М. 540
Пикассо П. 350, 360, 363, 364, 366, 368, 380
Пикон-Валлен Б. 8
Пименов Ю. И. 605
Пинеро А. 532
Пиотровский А. И. 598
Пиранделло Л. 88, 245, 253, 556, 570, 587
Пистолькорс (урожд. Карнович) О. В., графиня
Гогенфельзен 581
Питоев Ж. (Г. И.) 242
Питоевы, семья 548
Пиццетти И. (псевд. Ильдебрандо да Парма) 482, 483, 488, 613, 614
Плаксин Б. Н. 333, 335, 339, 342, 344, 590, 593
Платон И. С. 155, 180, 183, 522 – 524
Пожарская М. Н. 347, 349, 357, 597
Пожедаев Г. А. 592
Позерн И. А. 527
Полевицкая Е. А. 282, 288, 572, 573
Поляков С. Л. 532
Потемкин Вл. П. 574
Потемкин П. П. 455
Потоцкая М. А. 577
Правдин (Трейлебен) О. А. 153, 154, 522, 523, 524
Правдухин В. П. 281
Пресберг Р. 573
Пресняков В. И. 465
Пронин Б. К. 355
Пунин Н. Н. 380
Пуришкевич В. М. 439, 608, 609
Пуччини Дж. 482
Пушкин А. С. 163, 234, 241, 297, 327, 363, 364, 376, 378, 384, 389, 390, 392, 414, 527, 545, 574, 592, 594, 602
Пчелов Е. В. 304
Равель М. 613
Радин (Казанков) Н. М. 310, 584
Радлов С. Э. 285, 354, 360, 396, 460, 569, 580, 594, 596
Райх З. Н. 208 – 211, 309, 540 – 542, 582
Ракитин (Ионин) Ю. Л. 7, 87, 89, 239, 245 – 247, 249 – 254, 256, 258 – 260, 263 – 265, 267, 268, 270 – 276, 278, 282 – 302, 304 – 306, 308, 309, 337, 338, 345, 545, 546, 549, 552, 553, 555 – 557, 559, 561 – 564, 566, 568, 578, 580, 582, 591 – 593
Ракитин Н. Ю. 266, 276, 278, 547, 564, 592
Ракитина (урожд. Шацкая) Ю. В. 251, 255 – 257, 259 – 261, 263 – 266, 270 – 273, 276, 278, 287, 288, 290 – 293, 298, 302, 332, 546, 547, 557 – 560, 562, 563, 573, 575
Ракитины 243, 271, 565, 565, 591
Раковский (Станчев) Х. Г.
Рамозай И. 560
Ранецкий А. С. 570
Рапопорт И. М. 393
Раппапорт В. Р. 285, 307, 569, 578, 581
Расин Ж. 612
Раскольников (Ильин) Ф. Ф. 290, 540, 572
Распутин Г. Е. 264
Ратгауз Т. Д. 573
Рафалович С. Я. 481
Рафаэль 428
Рашевская (в замуж. Петрова) Н. С. 303, 304, 306, 576, 577, 580
Рашевская З. С 577
Рашильд (М. Эмери, в замуж. Валлет) 434, 435
Резвани, чета 560
Рейнхардт М. 252, 322, 436, 480, 547, 555, 556, 572, 609
Рейфиш Г. 582
Ремизов А. М. 16, 432, 434, 439, 455
Ренье А.-Ф.-Ж., де 363, 482, 598, 614
Рескин Дж. 435
Римский (Курмашев) Н. А. 250, 554
Римский-Корсаков Н. А. 250, 491, 549, 553, 600
Роббинс Дж. 9
Ровина Х. Д. 15
Ровинский Д. А. 380
Розенберг А. 590
Розенель-Луначарская Н. А. 310, 584
Рокко Л. 9
Романов Б. Г. 547
Романов П. С. 256, 557, 558, 572
Ронсар П. 561
Ростан М. 482
Ростоцкий Б. И. 348
Росций (П. Д. Лобунько) 64, 518
Рота Н. 614
Рош Ж. 614
Рощина-Инсарова Е. Н. 183, 217, 242, 270, 286, 303, 333, 532, 542, 543, 548, 549, 561, 572, 573
Рубинштейн И. Л. 438, 471, 472, 474 – 478, 480 – 483, 488, 489, 494, 609, 612 – 614
Руше Ж. 478
Рыбакова Ю. П. 282
Рыбников Н. Н. 305, 310, 578, 584
Рыжов И. А. 522
Рындин В. Ф. 606
Рютбеф 561
Рютин М. Н. 542
Рязанов (Гольдендах) Д. Б. 212, 542
Сабуров С. Ф. 550, 559, 577, 583
Савина (урожд. Подраменцева-Стремлянова) М. Г. 190, 533
Садовский П. М. 155, 522, 524, 531
Сазонов Д. П. 589
Сазонов Н. Ф. 578
Сазонова (Слонимская) Ю. Л. 311 – 314, 318, 320, 326, 328 – 330, 469, 471, 585 – 589
Саксон Грамматик 398, 411 – 413, 421, 604, 606
Самойлов П. В. 577
Самойловы, династия 574
Самосуд С. А. 374
Санин (Шенберг) А. А. 13, 426, 457 – 460, 470, 523, 524, 584, 592, 612
Саничка см. Яблочкина А. А.
Сарду В. 490
Сафонов В. И. 599
Сафонова В. В. 366, 367, 385, 599
Сафонова О. В. 385
Сахновский В. Г. 372 – 374, 556, 594, 600
Северянин Игорь (И. В. Лотарев) 67, 557
Седых Андрей (Я. М. Цвибак) 550
Сейфуллина Л. Н. 281
Сельвинский И. Л. 582
Семенов Ю. Ф. 562
Сервантес М., де 64, 162, 352, 559, 595
Сергеева И. А. 16
Сидэри Ш. 560
Симов В. А. 347, 348, 358, 457, 459, 460, 545, 574, 598
Симонов Н. К. 574
Синельников Н. Н. 280, 308, 547, 559, 562, 576, 582, 583
Сирин В. см. Набоков В. В.
Скворцов-Степанов И. И. 212, 542
Скоропадский П. П. 575
Слоним М. Л. 588
Слонимская Ю. Л. см. Сазонова Ю. Л.
Слонимский Н. Л. 589
Слонимский Ю. И. 599
Смелянский (Альтшуллер) А. М. 8
Смилгис Э. 554
Смирнов А. П. 541
Смолич Н. В. 306 – 308, 580, 599
Смышляев В. С. 605
Собольщиков-Самарин Н. И. 581
Соколова Е. Г. 540
Соколова Т. Г. 592
Соловцов (Федоров) Н. Н. 559
Соловьев В. Н. (псевд. Вольмар Люцинус) 307, 354, 360, 383, 579, 581, 595
Соловьев В. Н., драматург 597
Соловьев В. С. 371
Соловьев Н. Я. 590
Соловьева (Базилевская) И. Н. 8
Соловьева В. В. 549
Сологуб (Тетерников) Ф. К. 13, 311, 434, 439, 455, 457, 463 – 465, 470, 471, 480, 553
Соломон, царь Израильско-Иудейского государства 63
Сольский (Сосновский) Л. 88, 89, 519
Сомов К. А. 352, 353, 370, 377 – 379, 594, 596
Софокл 475
Софья Юльевна см. Прегель С. Ю.
Спалайкович (Сполайкович) М. 255, 557
Спандиков Э. К. 432
Спесивцева О. А. 599
Спинелли А.-Р. 482
Сталин (Джугашвили) И. В. 201, 244, 300, 320, 540, 542, 571
Станиславский (Алексеев) К. С. 12, 13, 15, 154, 183, 193, 196, 221, 230 – 233, 235, 236, 238, 240, 262, 347, 348, 372, 375, 410, 495 – 506, 508, 510, 511, 513, 516, 536, 537, 545, 548, 562, 564, 584, 593, 598, 600, 606, 617 – 619
Стахович А. А. 158, 235, 525, 536, 545
Стахович М. А. 158, 189, 525, 572
Степанов В. Я. 359
Стодол Й. 559
Столыпин П. А. 470
Стороженко Н. И. 397, 603, 604
Стрешнева В. Р. 579
Стриндберг А. 361, 362, 596, 598, 606
Струве П. Б. 562
Струтинская Е. И. 346
Студенцов Е. П. 7, 285, 287, 302 – 306, 308 – 310, 569, 570, 577 – 582, 584
Стуккен Э. 468
Стуколкина Н. М. 599
Суворин А. С. 280
Судейкин С. Ю. 355, 379, 434, 597
Сулержицкий Л. А. 13, 14, 410, 497, 498, 545, 584, 606
Сумароков А. П. 313, 415, 420, 424, 588, 606, 607
Сумбатова (урожд. Корф) М. Н. 163 – 165, 192, 526
Сумбатов-Южин А. И. 7, 150 – 154, 156 – 160, 162, 163, 165, 167, 170, 172 – 177, 183, 186, 188, 189, 191, 192, 195, 197, 199, 238, 521 – 526, 528, 529, 531 – 537, 543
Сухарев В. А. 552
Сухово-Кобылин А. В. 566, 579, 605, 616
Суходольская Е. 576
Сюннерберг К. А. (псевд. К. Эрберг) 431
Таиров (Корнблит) А. Я. 242, 280, 313, 322, 410, 414, 495, 550, 556, 590, 595, 601, 602, 606
Танеев С. И. 549
Тарановский К. Ф. 566
Тарасов Н. Л. 226, 229, 230, 237, 543
Тарханов (Москвин) М. М. 414, 606
Тассо Т. 473
Татаринов В. Н. 605
Тверской (Кузьмин-Караваев) К. К. 353, 354, 361, 595, 598
Теляковская (урожд. Миллер) Г. Л. 154, 156, 157, 162, 165, 167, 173, 177, 309, 522, 523, 524, 525, 530, 582
Теляковский А. В. 533
Теляковский В. А. 7, 150 – 166, 169 – 172, 174 – 179, 181, 182, 184, 187 – 190, 192, 194, 196 – 198, 200, 267, 307, 520 – 530, 532 – 537, 561, 582
Теляковский Вс. В. 150, 155, 520
Теолон М. 573
Тибу Л. 281
Тиме (в замуж. Качалова) Е. И. 303, 305, 308, 578, 579
Тираспольская Н. Л. 577
Тирсо де Молина (Габриэль Тельес) 64, 281, 471
Титтони 482
Товстоногов Г. А. 597
Толстой А. К. 13, 154, 230, 281, 523, 529, 544, 573
Толстой А. Н. 281, 305, 311, 317, 455, 574, 576, 578, 582
Толстой Л. Н. 215, 216, 228, 237, 301, 327, 351, 373, 562, 564, 572, 581
Толчанов И. М. 605
Толь М. К. см. Извольская М. К.
Тосканини А. 614
Тредиаковский В. К. 606
Тресго А. 433
Триббл К. 8
Тростянецкий Г. Р. 16
Троцкий (Бронштейн) Л. Д. 208, 212, 244, 539, 540, 598
Труа К. де 561
Туркельтауб И. 281
Тухачевский М. Н. 351, 392, 393, 602
Тышлер А. Г. 376
Тэффи (урожд. Лохвицкая, в замужестве Бучинская) Н. А. 274, 275, 311, 439, 558, 565, 566, 591
Тютчев Ф. И. 378
Уайльд О. 434 – 438, 445, 447, 448, 454, 460, 470, 471, 577 – 579, 595, 608 – 610
Уилсон Р. 492
Ульянищев В. М. 554
Умемойо Р. 560
Унгерн В. 279
Унгерн Г., фон 279
Унгерн Е. Е. 570
Унгерн К. К. 279
Унгерн Р., мальчик 279
Унгерн Р., пират 279
Унгерн фон Штернберг Р. А. 7, 64, 65, 250, 278 – 282, 285 – 293, 298, 299, 302, 304, 308, 518, 557, 561, 568, 570 – 576, 578, 582
Унгерн-Штернберг Р. Р. 250, 555
Унгерн-Штернберги, род 279, 296
Уоллес Э. 572
Урусов, князь 14
Файко А. М. 281, 569, 572, 578, 583, 621
Федор Иванович см. Шаляпин Ф. И.
Федосова Е. М. 7
Федотов И. С. 556
Федотова (урожд. Познякова) Г. Н. 151, 154 – 156, 158, 164, 165, 172, 177 – 179, 183, 186, 193, 194, 520, 521 – 525, 529, 530, 534
Фербенкс Д. 550
Фессинг Л. А., фон 544
Фибих Д. 573
Фигнер В. Н. 540
Фламан А. 573
Флер Р., де 484, 578, 582, 615
Флобер Г. 610
Фокин М. М. 455, 456, 471, 475, 479, 483, 560, 609, 612
Фольмеллер К. 547
Фонвизин Д. И. 531
Фор П. 482
Фореггер фон Грейфентурн Н. М. 556
Форш (урожд. Комарова) О. Д. 366, 599
Форэн Ж.-Л. 614
Фредерикс Б. В., барон, граф 196, 536
Фрейд А. 603
Фридрих II (Фридерикус), прусский король 205, 539
Фурманов Д. А. 581
Халль Х. 604
Хамелюк см. Кармалюк У. Я.
Хардт Э. 580
Хенкина Л. Я. 543
Хмара Г. М. 307, 310, 565, 580, 584
Ходотов Н. Н. 13, 303, 577, 606
Ходунова Е. М. 396
Холмская (Тимофеева) З. В. 327, 589
Хомицкий Вс. В. 7, 269, 273 – 278, 330 – 333, 335, 337, 339 – 345, 563 – 566, 590, 591, 593
Христина, шведская королева 279
Христич С. 553
Худяков А. Т. 592
Цаккони Э. 571
Цакони А. И. 258, 269, 271, 562
Цемах Н. Л. 15
Церетелли А. А., князь 310, 583, 584
Чаадаев, актер 583
Чайкин Дж. 9
Чайковский П. И. 223, 390, 560, 600, 602
Чебан А. И. 605
Чеботаревская Ан. Н. 13
Чебышев Н. Н. 252, 258, 260, 547, 556, 558, 559
Чепуров А. А. 8
Черепнин Н. Н. 560
Черепов А. Ф. 269, 285, 286, 288, 559, 562, 572, 573
Чернявский В. И. 335, 338, 354, 591, 592, 596
Чехов А. П. 176, 214, 234, 277, 279, 340, 348, 544, 546, 564, 566, 576, 592, 597, 616
Чехов М. А. 182, 202, 407, 408, 410, 411, 494 – 501, 503 – 516, 531, 547, 548, 560, 570, 593, 605, 616 – 621
Чигринская Е. П. 568
Чигринский Е. И. 568
Чириков Е. Н. 311
Читау-Кармина М. М. 560
Чокор Ф.-Т. 587
Чужак (Насимович) Н. Ф. 568
Чупятов Л. Т. 365 – 367, 378 – 380
Чушкин Н. Н. 8, 346 – 351, 382, 395, 409, 424, 600, 606
Шаванс Р. 492
Шаляпин Ф. И. 155, 159, 161 – 165, 167 – 171, 179, 190, 194, 198, 227, 238, 243, 301, 520, 527, 531, 535, 544, 549, 551, 581
Шаляпина И. И. 520
Шварц Е. Л. 395
Шверубович В. В. 600
Шекспир У. 64, 201, 241, 319, 395 – 399, 401, 404, 405, 407 – 409, 411 – 413, 416, 418, 421 – 425, 498, 508, 515, 524, 529, 552, 571, 581, 595, 603 – 607
Шервашидзе (Чачба) А. К., князь 246, 552, 606
Шиллер Ф. 88, 205, 524, 525, 594
Шифман А. 519
Шкваркин В. В. 563, 564, 566, 582
Школьник И С. 610
Шлецер Б. Ф. 589
Шлиппе А. Ф., фон 592
Шлюмбергер Ж. 492
Шмельке Никельсбургский (Никольсбургский) см. Горовиц Ш.
Шмитт М. 471
Шнейдер Л. 483
Шопен Ф. 566
Шопенгауэр А. 319
Шостакович Д. Д. 394, 398, 402, 407, 599, 604
Шоу Б. 88, 31, 414, 562, 581, 606
Шрайбер И. М. 201
Штейн Н. Е. 566
Штейнер (Штайнер) Р. 202, 366, 496, 498, 598, 620, 621
Штрандтман (Штрандман) В. Н. 254 – 256, 258 – 260, 557
Шуберт, братья, Дж. и Л. 241, 547
Шумский (Чесноков) С. В. 182
Щеголев П. Е. 281
Щекатихина А. В. 553
Щепкина-Куперник Т. Л. 570, 607
Щигров В. 572
Эберто Ж. 614
Эйзенштейн С. М. 200 – 202, 207, 538, 539
Эйслер Ф. 480
Эйхенвальд А. А. 308, 309, 549
Эйхенвальд Е. И. см. Залесская Е. И.
Эккерман И.-П. 205
Экскузович И. В. 177, 198, 284, 304, 306, 307, 530, 577
Экстер (Григорович) А. А. 353, 595, 601
Элиот Т.-С. 614
Энгель Ю. Д. 10
Энритон Г. Ф. см. Нотман Г. Ф.
Эразм Роттердамский 400, 401, 411, 421, 424, 604, 605
Эрбер М. 482
Эрбштейн Б. М. 350, 356, 366, 377, 379, 380, 599, 601
Эренбург И. Г. 494
Эспе (Петров) Б. Н. 548, 555, 562, 583, 584, 591
Эфрос Н. Е. 451, 452, 544, 545
Эффклидис А. 8
Юденич Н. Н. 564
Юдовин С. Б. 10
Южин, Южин-Сумбатов см. Сумбатов-Южин А. И.
Южный (Менделевич) Я. Д. 592
Юлия Валентиновна см. Ракитина Ю. В.
Юлия Леонидовна см. Сазонова Ю. Л.
Юмашев А. Б. 574
Юмьер Р. 612
Юон К. Ф. 597
Юпатов А. И. 574
Юрий, Юрий Львович см. Ракитин Ю. Л.
Юровский (Саруханов) Ю. И. 292, 572, 573, 583
Юрок С. 551
Юрфе О., де 473
Юрьев Ю. М. 284, 285, 288, 302, 304, 307 – 309, 356, 568, 569, 577 – 579, 583, 597
Юшкевич С. С. 11 – 13, 281, 434
Юшкевич (Юскевич) И. 559
Яблоновский С. (С. В. Потресов) 454
Яворская (Гюббенет, в замуж, кн. Барятинская) Л. Б. 311, 475, 571
Якоби М. 574
Якобсон Р. 313
Яковлев А. Е. 355
Яковлев С. И. 580
Яковлев Ю. Д. 307, 308, 572, 582, 583
Якулов Г. Б. 556
Якунина Е. П. 380
Якушкин В. В. 545
Яновский Е. Г. 581
Ярач С. 519
Яхонтов В. Н. 209
Albini см. Альбини
Binički см. Бинички
Bois J. см. Буа Ж.
Botten см. Боттен С.
Cocéa A. см. Косеа А.
Cohen G. см. Коэн Г.-Д.
Dalize R. 481
Dullin Ch. см. Дюллен Ш.
Geoiges-Michel M. см. Жорж-Мишель М.
Gest M. см. Гест М.
Kachina A. см. Кашина-Евреинова А. А.
Kervilly G. S., de 613
Lolo см. Мунштейн Л. Г.
Mendelkern J. см. Менделькерн Дж.
Michel см. Жорж-Мишель М.
Miserocchi Manlio см. Мизерокки М.
N. E. см. Евреинов Н. Н.
Naldi R. см. Нальди-Олькеницкая Р. Г.
Nazaroff A. I. см. Назаров А. И.
Noziere см. Нозьер Ф.
Parain B. см. Парэн Б.
Preditsch см. Предич М.
635 УКАЗАТЕЛЬ ДРАМАТИЧЕСКИХ, МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И КИНОФИЛЬМОВ
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я A – Z
«Адвокат Пателен» 312
«Аминта» Т. Тассо 473
«Анатэма» Л. Н. Андреева 12, 449, 457, 459, 460, 470
«Анго» см. «Дочь мадам Анго» Ж. Оффенбаха
«Анна Каренина», по Л. Н. Толстому 352, 356, 372, 373, 600
«Антоний и Клеопатра» А. Жида 613
«Антоний и Клеопатра» У. Шекспира 414, 581
«Бабушка» Г. Кайе, Р. де Флера и Э. Рея 309, 578, 582
«Балаганный Прометей» А. Мортье 435
«Балаганчик» А. А. Блока 64, 361, 452, 596
«Бальтазар» Л. Маршана 251, 555
«Барышни с фиалками» Т. Л. Щепкиной-Куперник 260, 570
«Бег» М. А. Булгакова 307
«Бедность не порок» А. Н. Островского 580
«Без вины виноватые» А. Н. Островского 592
«Белая гвардия» М. А. Булгакова 252, 267, 556
«Бесприданница» А. Н. Островского 294, 332, 352, 357, 565, 573, 574, 594, 597
«Бешеные деньги» А. Н. Островского 570
«Благородный танец», на музыку П. Николя 566
«Блоха» Е. И. Замятина по Н. С. Лескову 290 – 292, 572, 573
«Бог под микроскопом» см. «Любовь под микроскопом» Н. Н. Евреинова
«Борис Годунов» А. С. Пушкина 296, 297, 574
«Борис Годунов» М. П. Мусоргского 598
«Братья Карамазовы», по Ф. М. Достоевскому 569, 570, 594
«Буря» У. Шекспира 606
«В кулисах души» Н. Н. Евреинова 264, 553, 555
«В старом Гейдельберге» В. Мейер-Ферстера 306, 309, 579, 582
«Ванька-Встанька» Вс. В. Хомицкого 332
«Василиса Мелентьева» А. Н. Островского и С. А. Гедеонова 260
«Васса Железнова» М. Горького 275, 564, 566
«Ведьмак» Э. Уоллеса 289 – 292, 572
«Великий государь» В. Н. Соловьева 357, 597
«Великий князь Московский» Лопе де Вега 460, 462, 464, 469, 470
«Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка 182, 531, 540
«Веселая смерть» Н. Н. Евреинова 259, 264, 272, 553, 555, 558
«Весна священная» И. Ф. Стравинского 476
«Видение розы», на музыку К.-М. Вебера 560
«Видение юности», на музыку Ф. Шопена, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова 566
«Вилла вдовы Туляковой» Вс. В. Хомицкого 269, 332, 563
«Виновны — невиновны?» А. Стриндберга 361, 598
«Виринея» Л. Н. Сейфуллиной и В. П. Правдухина 281
«Витамин» Вс. В. Хомицкого 332
«Вишневый сад» А. П. Чехова 230, 231, 258, 569, 570
«Воздушный пирог» Б. С. Ромашова 281, 569
«Война» Н. Н. Евреинова 311
«Воровка детей» Е. Гранж и Л. Тибу 281
«Воскресение», по Л. Н. Толстому 290 – 292, 351, 356, 572
«Враги» Б. А. Лавренева 607
«Враги» М. Горького 352
«Гадибук» см. «Меж двух миров» С. Ан-ского
«Гамлет», кинофильм 604
«Гамлет» А. П. Сумарокова 606
«Гамлет» У. Шекспира 88, 236, 340, 359, 360, 376, 394 – 399, 403 – 413, 415 – 417, 420, 421, 423, 424, 464, 496 – 498, 506, 508, 509, 513 – 515, 544, 545, 548, 571, 578, 592, 601, 604 – 607, 620
«Генрих IV» У. Шекспира 425
«Главна ствар» см. «Самое Главное» Н. Н. Евреинова
«Голубой песец» Фр. Герчега 570
«Горе от ума» («Горе уму») А. С. Грибоедова 175, 235, 307, 309, 384, 529, 545, 578, 581, 583
«Горячее сердце» А. Н. Островского 414, 606
«Госпожа Смерть» Рашильд 435
«Графиня Эльвира, или Шелковый платок» 217
«Графиня Эльвира. Шарж в 2-х действиях на солдатский спектакль в Н-ском полку» 543
«Гроза» А. Н. Островского 376, 583, 601
«Гулящая девчонка» («Манон Леско») А. Батая и А. Фламана 291, 573
«Давид Копперфильд», по Ч. Диккенсу 260, 559
«Дама из Торжка» Ю. Д. Беляева 573
«Дама с камелиями» А. Дюма-сына 266, 384, 561, 613
«Дар мудрых пчел» Ф. К. Сологуба 480
«Два болтуна» М. Сервантеса 559
«Два брата» М. Ю. Лермонтова 595
«Двенадцатая ночь» У. Шекспира 552
«Двенадцать стульев», по И. Ильфу и Е. Петрову 260, 559, 582
«Дворянское гнездо», по И. С. Тургеневу 583
«Дебора и Иаиль» И. Пиццетти 614
«Девушка с мышкой» И. А. Кочергина 260, 559
«Действо о Теофиле» Рютбефа 265, 561
«Делец» В. Газенклевера 305, 578, 581, 582
636 «Дело» А. В. Сухово-Кобылина 616
«Дело Дрейфуса» Г. Рейфиша и В. Герцога 582
«Демон» А. Г. Рубинштейна 553
«День и ночь» Ш. Лекока 550
«Дети Ванюшина» С. А. Найденова 301, 576, 582
«Дети солнца» М. Горького 281
«Детская», на музыку М. П. Мусоргского 588
«Дибук» см. «Меж двух миров» С. Ан-ского
«Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» А. Н. Островского 523
«Дневник Сатаны», по Л. Н. Андрееву 594
«Доктор Штокман» Г. Ибсена 230, 544
«Дон Жуан» В.-А. Моцарта 413, 414, 606
«Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера 491, 571, 578, 595
«Дон Карлос» Ф. Шиллера 88, 583
«Дорога в ад» Г. Кадельбурга 260, 559
«Дорогой цветов» В. П. Катаева 564
«Доходное место» А. Н. Островского 579
«Дочь мадам Анго» Ж. Оффенбаха 535, 547
«Дракон» Е. Л. Шварца 395
«Драма жизни» К. Гамсуна 545
«Дуралей» Н. А. Тэффи 558
«Дядя Ваня» А. П. Чехова 231, 358, 367, 544, 597, 598
«Евгений Онегин» П. И. Чайковского 358
«Евреи» Е. Н. Чирикова 311
«Египетские ночи», по А. С. Пушкину, У. Шекспиру и Б. Шоу 414, 606
«Егор Булычов и другие» М. Горького 352, 594
«Елена Спартанская» Э. Верхарна 472, 489, 612
«Женитьба Белугина» А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева 333, 590
«Женитьба Фигаро» Бомарше 352, 523, 524, 529, 594
«Женитьба» Н. В. Гоголя 332, 345, 564, 580, 593
«Женщины в народном собрании» Аристофана 280
«Живой труп» Л. Н. Толстого 581
«Жизель» А. Адана 370
«Жизнь есть сон» П. Кальдерона 429, 468, 469, 471
«Жизнь за царя» М. И. Глинки 553
«Жизнь Человека» Л. Н. Андреева 449, 457, 458, 464
«Жирофле-Жирофля» Ш. Лекока 550
«Заговор императрицы» А. Н. Толстого и П. Е. Щеголева 281
«Заговор чувств» Ю. К. Олеши 89
«Заложники жизни» Ф. К. Сологуба 553
«Звезда Севильи» Лопе де Вега 281
«Зеленое кольцо» З. Н. Гиппиус 275
«Земля дыбом» С. М. Третьякова по М. Мартине 182, 531
«Зойкина квартира» М. А. Булгакова 266, 268, 269, 558, 561, 562, 583, 592
«Золотая клетка» К. Острожского 570
«Зори» Э. Верхарна 351 – 353, 356, 359, 370, 594, 595
«Игра в плаху» Ю. К. Олеши 64 – 68, 281
«Игры» К. Дебюсси 476
«Идеальная жена» М. Праги 305, 578
«Идеальный муж» О. Уайльда 304, 577 – 579
«Идиот», по Ф. М. Достоевскому 274, 564, 565, 613
«Измена» А. И. Сумбатова-Южина 155, 175, 280, 524
«Икс, игрек, зет» Клаубанда 579
«Казнь» Г. Г. Ге 308, 571, 578, 582
«Казнь Сальва» С. С. Прокофьева 281
«Как вам это понравится» У. Шекспира 423, 607
«Кармен» Ж. Бизе 374, 375, 535, 600
«Карменсита и солдат», по Ж. Бизе 375, 600
«Карьера Йошки Пучека» Й. Стодола 260, 559
«Катарр души» («Такая женщина») Н. Н. Евреинова 264
«Каэры» А. П. Матвеева 275, 563, 564
«Квадратура круга» В. П. Катаева 259, 559, 563
«Кин, или Гений и злодейство» А. Дюма-отца 260, 571, 578
«Клеопатра», на музыку русских композиторов 475
«Клоп» В. В. Маяковского 89
«Князь Игорь» А. П. Бородина 489, 553
«Коварство и любовь» Ф. Шиллера 305, 582, 605
«Когда женщина хочет» А. Т. Аверченко 558
«Кольцо Нибелунга» Р. Вагнера 602
«Комедия воскресений» Тирсо де Молины 64
«Комедия счастья» см. «Самое Главное» Н. Н. Евреинова
«Комедия счастья», кинофильм 341, 592
«Конец любви» Р. Бракко 579
«Контрабас» А. Соге 547
«Корабль Праведных» Н. Н. Евреинова 244, 273 – 275, 332, 563, 564, 566
«Корабль» («La Nave») Г. Д’Аннунцио 482, 614
«Коринфское чудо» А. И. Косоротова 537
«Королева мая» К.-В. Глюка 610
«Король на площади» А. А. Блока 65
«Король Ричард III» У. Шекспира 523, 524, 529
«Кошка», на музыку А. Соге 560
«Красный кабачок» Ю. Д. Беляева 64, 290, 291, 573
«Кремлевские куранты» Н. Ф. Погодина 352
«Крещенский вечер, или Все, что хотите» см. «Двенадцатая ночь» У. Шекспира
«Крылья Федора Ивановича» Вс. В. Хомицкого 332, 563
«Кто убил?» см. «Ложь» Л. Вернейля
«Кукольный дом» см. «Нора» Г. Ибсена
«Лебединое озеро» П. И. Чайковского 418
«Лев Гурыч Синичкин» Д. Т. Ленского 291, 573
«Лекарь поневоле» Ж.-Б. Мольера 532
«Лес» А. Н. Островского 307, 571
«Лизистрата» Аристофана 535, 540, 550
«Линия Брунгильды» М. А. Алданова 566
«Ложь» («Господин Ламбертье») Л. Вернейля 310, 584
637 «Лукреция Борджиа» В. Гюго 309, 582
«Любовь — книга золотая» А. Н. Толстого 309, 582
«Любовь к трем апельсинам» С. С. Прокофьева 598
«Любовь под вязами» Ю. О’Нила 550
«Любовь под микроскопом» Н. Н. Евреинова 87 – 89, 248 – 250, 254, 256, 259 – 263, 265, 271, 273 – 276, 332, 554, 555
«Мадемуазель» («Mademoiselle») Ж. Деваля 255, 258, 557
«Макбет» У. Шекспира 241, 546, 597
«Мандат» Н. Р. Эрдмана 569, 578
«Манон Леско» см. «Гулящая девчонка» А. Батая и А. Фламана
«Мария-Антуанетта» Р. Пресберга 292, 573
«Мария Магдалина» М. Метерлинка 481
«Мария Стюарт» Ф. Шиллера 523 – 525
«Маскарад» М. Ю. Лермонтова 178, 179, 302, 303, 305, 494, 569, 570, 578, 582, 583, 595
«Маскарад жизни» см. «Театр вечной войны» Н. Н. Евреинова
«Медведь» А. П. Чехова 340, 592
«Медведь и паша» Э. Скриба 326, 588, 560, 588
«Меж двух миров» С. Ан-ского 9, 10, 12, 15 – 17
«Мейстерзингеры» см. «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р. Вагнера
«Мендель Спивак» С. С. Юшкевича 11
«Мертвые души», по Н. В. Гоголю 268, 373, 561
«Месть Ву-ли Чанга» 562
«Мечта-победительница» Ф. К. Сологуба 463, 464, 471
«Мещанин во дворянстве» Ж.-Б. Мольера 281
«Мизантроп» Ж.-Б. Мольера 277, 278, 567
«Миракль» К. Фольмеллера 547
«Мир на изнанку» Н. Н. Евреинова 589
«Много шума из ничего» У. Шекспира 64
«Момент судьбы» Н. А. Тэффи 565, 566
«Морской загар» («Les bronzés») Н. Е. Штейна 276, 566
«Мученичество Святого Себастьяна» Г. Д’Аннунцио 472, 475, 483, 488, 489, 491, 612
«Мысль» Л. Н. Андреева 580
«Мятеж» Д. А. Фурманова и С. Поливанова 304, 581
«На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского 332, 523
«Надежда Светлова» И. И. Дзержинского 376, 600
«На дне» М. Горького 280, 332, 544, 564, 565
«На полпути» А. Пинеро 532
«Нахлебник» И. С. Тургенева 309, 582
«Неф» Ю. О’Нила 550
«Недоросль» Д. И. Фонвизина 180, 531
«Нежданчик» Н. А. Григорьева-Истомина 243, 551
«Незнакомка» А. А. Блока 361, 568, 595, 596, 601
«Неизвестная» А. Биссона 301, 576
«Необычайные приключения Э. Т. А. Гофмана в Париже», по В. Ирвингу и А. Дюма (?) 361, 596
«Николай Ставрогин», по Ф. М. Достоевскому 356, 357, 597
«Навьи чары», кинофильм 595
«Нора» Г. Ибсена 281, 352, 353, 454, 594
«Нос» Д. Д. Шостаковича 598, 599
«Ночное» М. А. Стаховича 290, 291, 572
«Ночной смотр» В. В. Шкваркина 564, 566
«Ночные пляски» Ф. К. Сологуба 455, 457, 470
«Нюрнбергские мейстерзингеры» Р. Вагнера 599
«Обрыв», по И. А. Гончарову 289, 570, 572
«Огненное кольцо» С. А. Полякова 532
«Огненный мост» Б. С. Ромашова 581
«Огонь над пеплом» Г. Д’Аннунцио 480
«Операция профессора Фора» см. «Любовь под микроскопом» Н. Н. Евреинова
«Орлеанская дева» Ф. Шиллера 594
«Отелло» У. Шекспира 175, 424, 571, 577, 578, 580, 583, 607
«Отец дебютантки» М. Теолона и Ж.-Ф.-А. Баяра 573
«Отче наш» Ф. Коппе 560
«Павел I» Д. С. Мережковского 281, 570
«Падение Елены Лей» А. И. Пиотровского 361, 598
«Партизанские дни» Б. В. Асафьева 351
«Первая муха» В. А. Крылова 562
«Первый винокур» Л. Н. Толстого 215
«Перикола» Ж. Оффенбаха 535, 547
«Песочные часы и сосуд для благовоний» Ш.-Л. Монтескью 612
«Петербург», по А. Белому 496 – 498
«Петр и Алексей» Д. С. Мережковского 260, 559
«Пигмалион» Б. Шоу 562
«Пизанелла, или Благоуханная смерть» («Пизанелла, или Игра Розы и Смерти») Г. Д’Аннунцио 471 – 476, 478, 480 – 484, 488 – 490, 492 – 494, 612, 614
«Пиковая дама» П. И. Чайковского 223, 352, 375, 600, 602
«Пиковая дама», по А. С. Пушкину 239, 241
«Пир жизни» С. Пшибышевского 532
«Письмо» С. Моэма 271, 272, 563
«Пламя Парижа» Б. В. Асафьева 351, 352, 370, 594
«Платите дьяволу», кинофильм 550
«Платон Кречет» А. Е. Корнейчука 292, 573
«Плоды просвещения» Л. Н. Толстого 228, 279, 582
«По ту сторону любви» см. «Любовь под микроскопом» Н. Н. Евреинова
«Поклонение кресту» П. Кальдерона 596
«Половчанские сады» Л. М. Леонова 373
«Полуденный час в парке» Н. Е. Штейна 566
«Полуночные колокола», кинофильм 550
«Помолвка в галерной гавани» В. Щигрова 290, 291, 572
«Посадник» А. К. Толстого 154, 523, 529
«Последняя жертва» А. Н. Островского 356, 597
«Послеполуденный отдых фавна» К. Дебюсси 560
«Потомок Чингис-хана», кинофильм 385, 595
«Потонувший колокол» Г. Гауптмана 281
«Потоп» Г. Бергера 14
«Праздник крови» («Овод») Э.-Л. Войнич 281
638 «Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха 547
«Преступление и наказание», по Ф. М. Достоевскому 548, 564, 580, 583
«Призраки славы» Ю. Л. Ракитина 568
«Принцесса Турандот» К. Гоцци 281, 353, 403, 410, 499, 578, 595, 604
«Приходите первого» Бекеффи и Стела 275, 566
«Проделки Скапена» Ж.-Б. Мольера 154
«Процесс», кинофильм 550
«Процесс Мэри Дуган» Б. Вейллера 570
«Псиша» Ю. Д. Беляева 562, 573
«Путина» Ю. Л. Слезкина 403, 406, 408, 602, 605
«Пятый горизонт» П. Маркиша 403, 406, 605
«Раскольников» см. «Преступление и наказание», по Ф. М. Достоевскому
«Ревизор» Н. В. Гоголя 212, 251, 252, 279, 307, 309, 357 – 359, 497, 505, 509, 523, 524, 529, 550, 555, 556, 580 – 582, 597, 598
«Рельсы гудят» В. М. Киршона 581
«Робеспьер» Ф. Ф. Раскольникова 605
«Рогоносец» см. «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка
«Роза и Крест» А. А. Блока 64, 553
«Розовая паутина» Я. А. Мамонтова 297, 298, 575
«Романтические приключения итальянской маркизы», на музыку В.-А. Моцарта 547
«Ромео и Джульетта» У. Шекспира 595
«Рыцарь Гаван» Э. Стуккена 468, 471
«Саломея» О. Уайльда 433 – 440, 444, 447, 448, 454, 455, 460, 468, 470 – 472, 475, 595, 608, 610, 612
«Саломея» Р. Юмьера 612
«Самое Главное» Н. Н. Евреинова 89, 244 – 251, 253 – 255, 259, 265, 274, 332, 548, 552 – 555, 586, 592
«Самозванец» см. «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» А. Н. Островского
«Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина 277, 566, 579
«Свадьба» М. М. Зощенко 563
«Сверчок на печи», по Ч. Диккенсу 580
«Свои люди — сочтемся» А. Н. Островского 581
«Святая Иоанна» Б. Шоу 581
«Севильский обольститель» Тирсо де Молины 281
«Сестра Беатриса» М. Метерлинка 561
«Силы любви и волшебства» Тирсо де Молины 312, 469, 471, 611
«Сильварина, или Живая Смерть» О. д’Юрфе 473
«Синяя птица» М. Метерлинка 449
«Сирано де Бержерак» Э. Ростана 405, 605
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. А. Римского-Корсакова 583, 600
«Скупой» Ж.-Б. Мольера 154
«Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстого 571
«Смерть Тентажиля» М. Метерлинка 352
«Снегурочка» А. Н. Островского 180, 352, 531, 573, 594
«Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова 247, 553
«Собака садовника» Лопе де Вега 529
«Событие» В. В. Набокова 332, 565, 566
«Соломенная шляпка» Э. Лабиша 281, 418
«Список благодеяний» Ю. К. Олеши 211
«Спичка между двух огней» 505
«Степь» А. А. Эйхенвальда 242, 549
«Степик и Манюрочка» Н. Н. Евреинова 264, 560
«Сто дней» Б. Муссолини 88
«Стойкий принц» П. Кальдерона 362, 382, 384, 595, 598, 601
«Страх» А. Н. Афиногенова 304, 394, 582, 602
«Судьи» С. Выспяньского 64
«Счастливый брак» М. Я. Тригера 292, 573
«Таланты и поклонники» А. Н. Островского 560
«Тамара» М. А. Балакирева 489
«Тартюф» Ж.-Б. Мольера 306, 307, 579, 581, 582
«Творения Прометея», на музыку Л. ван Бетховена 560
«Театр вечной войны» Н. Н. Евреинова 247, 250, 253, 553, 554
«Театр чудес» М. Сервантеса 64, 352, 353, 356, 595
«Ткачи» Г. Гауптмана 353
«Только не в рот», кинофильм 250, 554
«Тонкая психология» Н. А. Тэффи 558
«Тот, кто получает пощечины» Л. Н. Андреева 88
«Травиата» Дж. Верди 266
«Трагедия» В. В. Маяковского 450
«Три вора» М. Я. Ирецкого по У. Нотари 281
«Три пары шелковых чулок», по П. Романову 256, 258, 289, 557, 558
«Три сестры» А. П. Чехова 279, 282, 352, 356, 544, 548, 564, 566, 575, 583
«У царских врат» К. Гамсуна 236, 545
«Убийство в соборе» И. Пиццетти по Т.-С. Элиоту 614
«Угар», по Д. Фибиху 291, 292, 573
«Униженные и оскорбленные», по Ф. М. Достоевскому 357, 597
«Уриэль Акоста» К. Гуцкова 281, 571
«Утраченные иллюзии» Б. В. Асафьева 351, 362, 598
«Учитель Бубус» А. М. Файко 281, 569, 621
«Фамира Кифаред» И. Ф. Анненского 353, 386, 595, 601
«Федра» И. Пиццетти 482, 613, 614
«Фельдмаршал Кутузов» В. Н. Соловьева 352
«Франческа да Римини» Г. Д’Аннунцио 613
«Фронт» А. Е. Корнейчука 352
«Фуэнте Овехуна» Лопе де Вега 568
«Хам против Ноя» Н. Н. Евреинова 264
«Хильперик» Ф. Эрве 465, 468, 471
«Хозяйка гостиницы» К. Гольдони 418, 579
«Хонце ин Америке» 11
«Царевич Алексей» см. «Петр и Алексей» Д. С. Мережковского
639 «Царевна» см. «Саломея» О. Уайльда
«Царь Голод» Л. Н. Андреева 449
«Царь Салтан» Н. А. Римского-Корсакова 247, 553
«Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого 230, 281, 544, 573, 580
«Цезарь и Клеопатра» Б. Шоу 414
«Цепи» А. И. Сумбатова-Южина 175, 529
«Чайка» А. П. Чехова 234, 499, 544
«Человек воздуха» С. С. Юшкевича 281
«Человек с портфелем» А. М. Файко 288, 305, 572, 578, 583
«Черная опасность» Г. М. 558
«Черные маски» Л. Н. Андреева 449, 450, 452, 458, 470
«Чудак» А. Н. Афиногенова 581
«Чудо святого Антония» М. Метерлинка 64
«Чужой ребенок» В. В. Шкваркина 563, 564
«Шаги Немезиды» Н. Н. Евреинова 566
«Шарф Коломбины» А. Шницлера 354, 361, 596 – 598
«Шестеро персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло 253, 556
«Шехеразада» Н. А. Римского-Корсакова 475, 489
«Школа этуалей» Н. Н. Евреинова 264
«Шпанская мушка» С. Ф. Сабурова 260, 559
«Шторм» В. Н. Билль-Белоцерковского 281, 569
«Шулер» В. В. Шкваркина 309, 582
«Шут Тантрис» Э. Хардта 580
«Щелкунчик» П. И. Чайковского 352, 418
«Щорс» Б. Н. Лятошинского 598
«Эгмонт» И.-В. Гете 571
«Эмигрант Бунчук» Вс. В. Хомицкого 275, 332, 563, 564
«Эрик XIV» А. Стриндберга 410, 595, 606
«Эуген Несчастный» Э. Толлера 281, 352, 371, 375, 381, 594
«Юдифь» К.-Ф. Геббеля 454, 470
«Ярость» Е. Г. Яновского 304, 581
«Jeu de Robin et Marion» («Игра о Робине и Марион») А. де ла Аля 265, 561
«L’Ours et le Pacha» см. «Медведь и паша» Э. Скриба
«La lettre» см. «Письмо» С. Моэма
«Les bronzés» см. «Морской загар» Н. Е. Штейна
«Miserere» С. С. Юшкевича 12
«Pas sur la Bouche» см. «Только не в рот»
ПОСТРАНИЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
1* С. Ан-ский для названия пьесы взял ивритское слово «Гадибук», состоящее из артикля «га» и существительного «дибук»; в русскоязычной версии он отбросил артикль. Тем не менее русская театральная традиция, которой мы и следуем, закрепила полное ивритское написание: «Гадибук», а при обозначении самого феномена вселения духа в чужое тело используется форма «дибук». При цитировании сохраняется форма написания автора документа.
2* Еврейские буквы имеют численное значение.
3* Небесный сад.
4* По еврейскому летосчислению, год — лунный — имеет 355 дней. К каждому третьему году прибавляется месяц.
5* Ошибка журнала. Автор пьесы «Театр чудес» — Сервантес.
6* «Нужно не смеяться, но понимать» (лат.).
7* Этот пациент может быть представлен статистом, исполнявшим роль больного рабочего с забинтованной головой. — Примеч. Н. Н. Евреинова.
8* Кость кобчиковая (лат.).
9* Кости трехгранная, крючковидная, ладьевидная, гороховидная (лат.).
10* «Более роялист, чем король» (франц.).
11* У. Шекспир. Сонет № 149. Пер. А. М. Федорова.
12* У. Шекспир. Сонет № 138. Пер. А. М. Федорова.
13* «Подобное излечивается подобным» (лат.).
14* Я перешел совсем на службу Николаевск[ой] ж[елезной] д[ороги] в материальную службу — и в банке остаюсь лишь временно.
15* больше перемен, меньше изменений (франц.).
16* Прекрасная Италия! (итал.).
17* Дурак (англ.).
18* От dactylographe (франц.) — машинистка, переписчик на машинке; юр. — исполнитель машинописного текста.
19* Кьянти (итал.) — сухое красное вино.
20* Плотный завтрак с мясным блюдом (франц.).
21* Преферанс (франц.), бридж (англ.) — карточные игры.
22* Закуски, добавочные блюда (франц.).
23* «Железка», азартная игра (франц.).
24* Потерпевший поражение (англ.).
25* Блин, оладья (англ.).
26* Букв, «ужасный ребенок»; человек, смущающий окружающих своим поведением, бестактной непосредственностью (франц.).
27* Ставок больше нет (франц.).
28* «Чего стоит слава?» (англ.).
29* служебный вход в театр (англ.).
30* вахтер (англ.).
31* «я слишком хорошо воспитан, чтобы говорить о политике» (франц.).
32* императрица (нем.).
33* фюрер, вождь (нем.).
34* «Ура» (нем.).
35* «Да здравствует Гитлер» (нем.).
36* на цыпочках (англ.).
37* встреча высшего света (франц.).
38* «Комедия счастья» (франц.).
39* Это — успех (франц.).
40* По-русски это гораздо глубже, чем по-французски (франц.).
41* От французского слова agence — агентство.
42* Проспект прилагаю. Прочтите и сообщите мнение. Нет ли у Вас пьес для юношества.
43* Только что был поставлен с огромным успехом в здешнем снобистическом «Studio des Champs Elysées» с декорациями, костюмами и гримом под старинную фотографию.
44* От французского слова «charrette» — двухколесная тележка.
45* Занимается шитьем (франц.).
46* Ед. число «ведетта» — здесь в переносном смысле: центральная фигура, знаменитость, видный актер (франц.).
47* Уговор, условие, сделка; уроки учителя в частных домах (франц.).
48* Целесообразно, от греч. εωτελ — цель.
49* Если эта история вам досаждает (франц.).
50* Чрезвычайные обстоятельства, которые не могут быть предусмотрены, предотвращены; непреодолимое препятствие (франц.).
51* рыба (греч.).
52* В указатель не внесены бегло упомянутые лица, чьи имена и фамилии несущественны для понимания материалов, включенных в книгу. Курсивом даны страницы в Примечаниях, полужирным курсивом отмечены страницы, где приводятся основные биографические сведения.